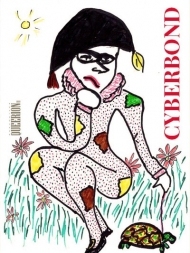Cyberbond
Чисто Лирика
Аннотация
Что ж, будем считать это пародией на женскую прозу.
Все ашипки на совести рассказчицы.
Что ж, будем считать это пародией на женскую прозу.
Все ашипки на совести рассказчицы.
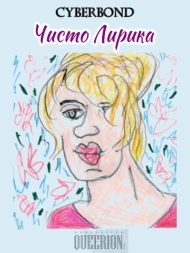 Мося пришел, грит: иди давай, там один, он таких любит. Грю: а что за хер-то ваще? Он грит: водила, дальнобойщик, немолодой уже, грит — бабу дай жеваную какую; грят, есть у вас.
Мося пришел, грит: иди давай, там один, он таких любит. Грю: а что за хер-то ваще? Он грит: водила, дальнобойщик, немолодой уже, грит — бабу дай жеваную какую; грят, есть у вас.Ну, я бля, обиделась, что про жеваную, но вообще-то ведь да. Ну, я оделась, как не очень тепло уже было, утряк осенний, я ватник Моськин с зоны еще, клифт, напялила, а под ним, как наши все мужики любят, рваный, бля, тельник и я в дырки сисеря выставила, раз им, козлам, нравится. И на мне треники (драные тоже меж ног) были, и резинухи короткие. Губы накрась, шины — сосать идешь, Моська подсказывает. Ну я пумадой наваксила губищи себе. Когда молодая была, к нам солдаты в общагу бегали, после, грят, разглядывали, у кого где следы от пумады. Ну, козлы ж.
Ну, пошла такая шалава рваная, завлекательная, а Мося под тулуп завалился, мною нагретый, наперженный. Мося мой как бы сожитель, но он пидр опущенный, просто вот пригрела его; его мужики тоже, бывает, пользуют. Так-то он ничего, мохнатку там полизать да и палку сунуть. Потом, мы же тут не просто хуй знает задаром живем, мы ж тут работаем, это есть наше рабочее место, скотный, короче, двор. Мы убираемся за скотиной, ходим за ней. Надо — кому на селе и сортир почистим, кому косить-полоть, картоху копать. Нас с ним кормят, с Моськой-то, а мне и денежку плотят, стольник в месяц. Ну и мужики приносят чего пожрать, и че-ниче на грядке накопаем, картох, морквы. — разрешили нам грядочку. Мужики и пацаны, которые остались в деревне, нас пользуют, меня во все дыры, а Мосю тоже, но больше над им прикалываются. Ну, пидор, чмырдяй, куда ж.
Мося все голодный насчет недоеба таскается, на зоне у него по десять рыл, в смысле, хуев, за день было, а тут ну два. Некомплект, грит. Он на трассу выходит, там его знают уже, которые водилы, и пользуют. Моська на десять лет моложе, его еще там берут, а меня уже нет, редко кто, а раньше я на трассу ходила тож. А еще раньше на заводе работала и в часть в городе, бля, таскалась к солдатикам. Но тогда я была молодая, кровь с молоком, тогда на меня у всякого хуй стоял. Иной раз и отделениями принимала в себя, а отсосы и не считала как за интим, ведь не по разу каждый подходил, которые и спасибо говорили, которые вежливые. Даже и баловали, даже и прапоры брали под стол сосать, если пьянка у них на праздник была. Которые из них и в пизду ебли, но больше, конечно, за щеку давали, потому как им лень. Но конфеты, шоколадки кидали от полноты своего удовольствия. В общем, жила.
Очень люблю вспоминать и Моське рассказывать. И мужикам, если спрашивают. Они угорают, а мне-то лирика. А Моська завидует, бля, дрочит и аж вставляет порой. Двинутый он на ебле, на зоне, говорю, его спортили. А так ничего, тридцать лет ему, что ли, или двадцать пять. Кучерявый и черненький. И по всему телу такую срамотищу накололи ему, уссышься разглядывать. Мужики которые любят, чтоб он вовсе голяком ходил и даже коровник чистил так же вот. А то дерьмом заставляют намазаться всего коровьим или каким, и так чтобы день ходил. И мухи вокруг него тучами!
А вся одежа у нас с ним на двоих общая, и телаги, и треники рваные, и резинухи, и тельник вот тоже рваненький, и футболки. И свитера есть, тоже все рваные. Кто что даст, то и носим, люди у нас на деревне, бывает, добрые. Он грит: унисекс, что ли, называется. Зубов нету у него, все повыбили, а у меня то же самое, но просто сами повыпадали, но нам же и удобней: ротак свободный, не укусишь впопыхах чужое хозяйство-то.
Ну, короче, живем — не тужим. Как все, грю, живем, с жиру не бесимся.
Все вам про нас обсказала и, короче, пошла на трассу тут неподалеку у нас, там, Моська сказал, ждет меня один, он, Моська, обсказал ему про меня. Я сама не то что иду волнуюсь, но интересно же. Новый человек как-никак, да еще ему такие, как я, видать, нравятся. Или, может, ему нравится измываться, бля? Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Ну да Моська вроде сказал: мужик положительный, вроде без припезди. Ну, и — думаю — заработаю. Стольничек или полтинник (ну, пятьдесят-то рублей!) отвалит за удовольствие. Они, водилы — не то, что мы, голытьба: люди башлястые.
День тоже выдался ничего, солнце такое сивое через облака, хотя иней местами на траве, ну да и осень же.
А машина у него хорошая, большая, длинная — не по-нашему и на капоте и на кузове написано. Типа мебель везет или чего еще. Я издали увидала, как он стоит, а самого его не видала, он в кабине сидел. Ну, подошла, в дверку постучалася, говорю: здравствуйте! Культурная, не хамло.
И тут дверка его отъезжает медленно, и я вижу: ну да, мужик уже немолодой, за сорок, щетина на морде широкой сивая, куртка кожаная коричневая хорошая, вся на молниях, даже карманы — небось, не на рынке-то брал. Могучий куртяк, хоть куда в таком. А он на меня глядит прииистально. И вдруг:
— Ты?! Соска-Машка, бля?
Я тут вся такая — растерялась стою. Гляжу: ну да, че-то такое знакомое.
А он:
— За хуями рожу мою забыла? 96-й, Лисичаны, бля. Ну! Автобат!
Я тут руками всплеснула:
— Автобат который? Ты, что ли, там ведь сержантом был? Колян, Коля вроде б тебя?
Я, конечно, обалдела тут, но и чуть не заплакала. Он-то меня узнал! А я его — нет. Значит, не очень и изменилась.
— Ты такая ж растыка была, шалава солдатская, «елочка», только тощей. С тех пор и снишься. Лучшее было ж времечко! Я — кум королю, хер с горы, старший сержант, ебать, а ты сама на хер просишься, была всегда на еблю такая голодная. Я свое отделение по размеру хуев к тебе выстраивал, чтобы по нарастающей.
— А саму после любил, в каптерке, когда ото всех у меня прям лилось с дырочек, вся была склизкая.
— Не пизди: я каждый раз сперва тебя при всех, а после всех уже наедине, в каптерке еще разок, да. Зажигало, пока другие месили тебя, а ты прям визжишь, прямо совсем животное.
Сказал даже с тоской.
Я:
— Молода была! И ты — молодой, строгий такой, решительный! Были ведь отношения…
— Какие, бля, с тобой еще «отношения»?! Драл тя, как все.
— Как скажете…
Перешла на «вы», а про себя думаю: не забыл! Я стала позабывать, а он — вот нет. Значит, корябнула.
— Ишь, шины наваксила. Красава-малява, бля… — проворчал. — Много у тебя тут бывает-то?
— Деревенские которые — все почти. Пацаны особенно, тренятся. А на трассе — Мося шустрит, у меня из ваших двое только напостоянку-то. Один соплежуй совсем, Шурик, меж сисек спускает мне всегда, говнюк, а другой — нахал, на изврат всякий охоч. Так они к самому скотному нашему двору подкатывают. А другие водилы — нет, не берут уже. Я сюда на трассу и не хожу, только за вами вот.
— Тиражная! — как-то даже с удовольствием подчеркнул пальцем в воздухе Николай.
То есть, ему тиражная и нужна, как и тем двоим. Он и тогда, вспомнила, говорил, в солдатах: ему шалашовочку подавай, начал с них еще в ПТУ. Каждому свое!
Чисто ведь Лирика.
Подвез меня после к самому скотному двору, прямо барыня. Говорит: у меня от твоей пумады все яйцы и хер, и труханы, — всё, как в кетчупе, красное. Больше не маж губищи, когда приеду.
Я:
— А приедете, Николай?
Он не ответил. Много, мол, чести — шалашовочке отвечать. Но ясно: приедет. Никуда не денется. Шурик меня вовсе ведьмой зовет. Манкая я для них, козлищ, для некоторых. (Про Шурика-соплежуя вам рассказывала).
У самого скотного двора грязища — чуть не увяз. Обматерил меня, но совсем уже как родную.
Такая вот встреча. Именно: Лирика.
Проводила я машину его, вслед помахала. Молодость вспомнила, вздохнула и в хлев наш вошла, мы ж там за загородкой живем, печурка у нас с Моською, чайник, кастрюльки, — все дела.
*
Я сама с Тверской ваще Области, там есть такая деревня Хряповка, вот там я и родилась, но отца не знаю. Отец вроде летчик был, мать говорила, тока я теперь думаю, что танкист скорее: там танковая часть рядом стояла. А отчим у меня был прапорщик с той же части, Ермолаенко Федор Бронеславович. Так что у него, у короеда, и отчество как бы бронетанковое.
Так-то он был и при жизни ничо мужик, тока жирненький, в танке не помещался уже, а выдавал вещимущество, а с матерью моей дояркой он чуть не каждую ночь шалил. А как именно шалил, я-то в деталях не представляла еще, хотя была уже взрослая: пятый год в седьмом классе зевало рвала, девятнадцать лет, ничо плохого вы ни подумайте.
Я, значит, за шкапом лежу, за гардеропом, я ж и перднуть ни смею, до чего внимательно слушаю, вся в соках снизу уже: мокрая, рано созрела я. А мать моя знай себе этак повизгивает, а он хихимля, говорит, хихихифля. Бронеславович. Вроде ласковый.
Я не знала, что он пальцем ее тока. Я, дурища, думала: он ухарь купец в койке с нашей Сестрой, хоть и толстый боров на вид. Думала: у всех мущин всегда, когда захочешь, то есть Женчина захочет, так и пожалуйста вам, как в магазе прям. Типа гвоздь забит и торчит, хоть фуфайку вешай в любой момент.
Это и подвело меня, потому что я стала за ним приглядывать и как бы наедине с ним задерживаться: дескать, ни хуя мне в школу вроде не надо, или Звездочку доить, или за Пиндосом-поросенком говно убирать. А он, собака Бронеславович, отчим, Федя-то, прочухал тотчас, что у меня между ног к нему вопрос преет, зреет и тикет. И вот как-то днем матери не было, он стал меня обминать через трусы и колготы на кухне. Еще не говорил: ты разденься, а так просто, хи-хи-мля, ха-ха-бля, платье, мол, тесное. Но рожа у него красная, жирная сделалась, блестит, а не тока как всегда один только нос. Нос тоже блестит и соплюха из него на усы ползет немаленькая. А я стою, думаю: ну-ка, чо дальше-то будет?
Мне чо, его стесняться: я его и в трусах каждый день вижу и на всякий праздник облеванным — родной человек, не хер собачий! Да и с парнями мы в школе обжимались давно, с Исмаилам, братом его Хабибуло, они меня для этого на чердак водили, а также с Ашотом Мкртчяном, но в гараже, потому что Ашот был сыном директора. Попробуй с ним ни пойди, но тоже пока были и с ним одни обжиманчики, но он обещался уже, что на этом не остановится.
А отчим Бронеславович мне: ты мамане ни говори, Марея, пусь это будет наша с тобой Взрослая Тайна! Ты ж взрослая уже баба смотри. Хочешь, мармыгу покажу, подержишь хоть. Я говорю: я борща поесть в кухню шла ваще-то, пять уроков было, чего ж, я голодная, и Пиндоса кормить еще. А он: мармыга вкуснее, гляди! Марея — не прогадай!
Ну я раскраснелась вся, чую, что вся горю, но не со стыда, а волнуюсь. Я когда волнуюсь, у меня и в жопе мокро становится, не то что в пизде: там вовсе не подходи, даже самой ужасно от запаха.
А он привстал на тубаре и хоп — труселя приспустил себе, он в трусах был в сатиновых в черных аж до колен. И херак, мне своего каркадила прям в руку сует!
Тут мне взаправду страшно стало, но я терплю. Херок-то маленький был и вовсе не каркадил, но твердый, видом совсем грибок. И такой же склизкий, как из банки масленок соленый. Но не масленок, а вроде боровичок.
Бронеславович видит, что я держу петуха его и не прячу руку, и не убегаю, и борща есть не прошу уже, и грит: ты понюхай-ка, дурочка! И по голове погладил. Никогда не гладил, а тут нате вам влюбился! Ну, лирика!
Ну я наклонилась, понюхала. А он: ты лизни! Я: да он у тебя вонявый! Я борща лучше поем! А он опять за свое: ты хуями-то не разбрасывайся, Марея, грю тебе чисто по-родственному! Помочь хочу воспитанию подрастающему поколению, мля, я ж тебе не чужой! А так тебя какой-нить пидарас в школе черножопый прокомпостит, и чо? В подоле еще принесешь нам с матерью Махмудика. На хер мне лишний рот да еще и Махмудик, мля? Я же, мля, мужек опытный, не сроню тебе.
И заржал снова про рот цинично: рот типа лишний в доме нам ни к чему, раз твой вот имеется. Ну, я зажмурилась зачем-то, и хлюп — лизнула, будучи в общем от природы послушная. Лучше уж лизнуть, чем в подоле Махмудика или, еще того хуже, Абрашу какого-нибудь…
Впрочем, пожив, я против явреев ниче плохого не стала думать как раз. Там потом в стройбате один был яврей Саша, так очень воспитанный, я прям всегда трусы меняла на чистые, когда он приходил. Но, правда, он трахал меня в очках, потому что имел дефект зрения, а видеть хотел все в подробностях, чтоб запомнить. Был очень внимательный, вдумчивый. Он тогда уже в ИзраИль собирался свой. Ему надо было Родину Расею крепко запомнить на все остальное грядущее! У низ, говорят, война, а тут сплошное одно удовольствие.
Но я сильно забежала вперед про ИзраИль. Вернусь к Бронеславовичу. Он тогда проявил смекалку, чтоб мне не стремак было ему лизать. Хлопнул сметаны на свой дрынок, чтоб мне было типо вкуснее, приятнее. Еще мне тогда подумалось: борщ со сметаной и хуй со сметаной, Сметанный День!
И стала облизывать, а после и в рот взяла, будучи, говорю, любопытная от природы, любознательная. А он меня, сволочь, мнет, грит: ой, ты мокрая — обоссалась, лять! Ну, мне стало совсем как-то совестно перед мужиком, что он такое про меня думает, будто бы я маленькая еще. И я стала стараться сосать. А он пальцы свои нюхает с-под меня и руководит важно, будто бы я солдат ему: «Губешки тесней напружь, моя ласочка! Язычок в вершинку ни забывай сувать, девушко! Теперь яички всоси осторожненько: одно, второе, вот та-ак, ласково».
Тут беда немножко стряслась: Пиндос со двора завижал: жрать запросил. Но отчим меня к нему не пустил, за затылок взял грубо — и давай мою голову на свой хер насаживать. Я прямо тут чуть не задохлась, бля! Тока и я ему праздник спортила: куснула, лять! Ну он матом меня пустил и грит:
— Буду учить тебя, неумеху, эсэсовку-палача советского народа!
Полчаса учил, но тогда не кончил, потому что калитка хлопнула: мать пришла — и сразу на дворе еще матом меня обложила, что Пиндос-то, поди, некормленый, раз визжит. А мне смешно: сама типа ем, не до Пиндоса мне сейчас. Сметанные брызги с труселей отчиму обсосала, успела, потому чего ж мужика перед бабой страмить? Еще мать подумает, что он без нее трухает, устроит Скандал.
Пошла я Пиндоса кормить, а сама про отчима весь вечер думаю. А он веселый ходит, и что-то в нем, чую, зреет, зудит. Думаю: хренушки он отлез от меня уже! Я сметанку-т в пузырек отлила, и ну ждать.
Мать ночью поохала и храпит. А он тут же ко мне за шкап, и грит: не докончили ни хера, Марея, днем тогда нашего Разговору, не договорили мы! Вредно это, Марея, грит, если мужек не докончил: как камень на шее, понимаешь ли, у него висит или как грызь. Давай, дескать, постарайся уж, Девонька, чтоб килы у меня не было! Родные ведь!
А я тут хлоп с-под подушки — и пузырек со сметанкай. Ну он так обрадовался, аж до слезы его пробуравило. Милая, шепчет, и целует в маковку. А в губы нет уже, раз я сосу. Мужаки иные не целуют из принципа которые Женчины им сосут. Западло, как сказал, один. Если любишь, то не сразу пердиле соси, мущине-то — пусть он тебя по-человецки сперва домогается. Помни себя: ты ж ведь Женчина!
Накормил, короче, отчим меня — и сметана не занадобилась.
Но го-орькая у него самого малафья оказалась! Я тогда подумала, дура: потому и кричат «горько» на свадьбе, что у всех мужаков конча горькая. После уж поняла, что разная.
Так и пошло у нас с моим Бронеславовичем, и поехало. Я удивлялась еще недели через две, что мать соседке жалилась, будто хер у отчима последнее время не стоит. «Еще как стоит!» — себе думаю. А соседка теть Нюра Страшная тож удивилась: военный, а не стоит — как, мол, так? И я смекнула и поняла, что мне по жисти ближе будет с военными.
Но тут началась конверсия и танкистов на хер послали всех по домам. Бронеславович наш в совхоз устроился, но ходил в военном во всем: привык. И мне весело было на него, такого, смотреть. И я сама всхотела, чтоб он меня, а никакой не Мкртчян. В смысле: по-настоящему, бабой бы сделал, Женчиной!
Он, Бронеславович мой, удивился. Грит: стремак же, но глазенки заблестели, забегали, и мой довод про Мкртчяна его, как русского человека, пронял. Потому что в школе как меня ему контролировать? На чердак затащат, и всех делов. Думал Бронеславович, думал, решался все. И все нежней со мной делался: валенки принес офицерские, спер со складу. Я уж и бабой себя посерьезке почувствовала. Тоже внутренне волновалась,
Готовилась.
*
Как-то пошли мы с ним в часть в его, уже тогда сильно заброшенную.
Пришли в казарму бывшую. Я еще удивилась: зачем в казарму, тут в части всякие закуточки поуютней ведь есть! А он за мной идет и носом шмурыгает и так неслышно ступает будто крадучись, чтоб не спугнуть кого. А кого? Там и крысы поразбежались уже.
Я тут даже спугалась сама: не Маньяк ли он? В смысле: душегуб ненормальный и чокнутый.
Вошли мы в казарму: гулкая, промороженная, в окна разбитые поземка метет! Нехорошо стало мне, неуютно здесь. А он, Бронеславович, Федя мой, тянет меня на койку в самой средине, и вижу: на койке матрас разослат, не то что другие пустые все койки стоят. Значит, готовился мой Бронеславович, заранее постелил, чтобы пружинами жопу Девушке не порвать. Именно — Лирика!
Подошли мы к матрасу, а Бронеславович за плечи меня берет, на себя разворачивает и говорит:
— Ты уж не обессудь, Марея, а тока раздеться б тебе!
Я:
— Холодно ж!
А он:
— Я тя согрею, девонька, и вот это надень, ага?
И вынает с-под бушлата платьишко тонкое желтоватое, в мелких таких колокольчиках и с рюшкой у ворота, ничего себе.
И фляжку достал, сам всосался, мне потом в рот слил, не касаясь фляжкой чтоб губ: после меня ведь нельзя ему, раз я сосу — так у них, у мужаков, полагается.
Ну, глотнула, закашлялась. И жарко мне сделалась. И я ну с себя и фуфайку, и платок, и юбку, и всё. А он:
— Трусы не сымай, родимая.
Родимая я ему! Чисто Лирика!
Ну, а мне-то хи-хи да ха-ха-мля: любопытно да весело, и жарко от водки, от Чувств. Я платьишко и надень. Кручусь-верчусь: дескать, как я тебе — КРАСИВАЯ?
И поземки не замечаю. А он стоит, красный весь прям, и дышит так, что сопли по обоим усам, как поезда, ползут.
А платьишко на мне ветхое треснуло аккурат по шву с-под мышки и поползло. Крупная я для его платьишка оказалась. Ой, грю, звиняйте, жалко-то как! А он на меня: ты чооооо???!!! И хрясть-хрясть-хрясть по мордам меня. И пиханул на матрас.
Я на него упала, лежу беспомощною растыкой, думаю: ну, прирежет ведь, мля!
А он на меня ватной всей кучей своей военной обрушился, и ну возить меня под собой по матрасу-то. А лапой все в рот норовит залезть, все оттуда чо-то вынуть будто пытается.
А после кричит:
— Стамескин, Беридзе, Федорчук! Тяните жребий, спички, сука! Ща уж кончаю, мля!
И мне:
— Ты визжи, визжи, чо ты молчком все, пизда неумытая?! Сука-развратница!
И хрясть меня по мордасам-то, хрясть да хрясть! И я тихо заплакала, потом завыла в голос от Обиды и Ужаса, но не визжу: от природы я сдержанная. А он:
— Чо ж ты меня, сучара-Марейка, обламываешь — визжи! Найн, мол, и найн, будто ты немочка.
Чо за мужек пошел? Чо за театр ему, я же Девушка! Ну, стала я «найн, найн», как в кино, голосить. Повою-повою по-русски и это фашистское «найн» выдаю. Потом выть устала, сцать захотела, по ногам же ведь холодно, а он все возится, из своих ватных военных штанов никак, гад, не выползет.
И все-то лопочет, ровно с кем-то мимо меня переговаривается: какой-то там Стамескин-Беридзе-Федорчук, а Мирзоева не пускать.
Я ему:
— Чо ты мучишься и меня мучаешь, Феденька, какой Мирзоев-Стамескин, давай подсосу, как всегда, да пойдем уже, мамка нас хватится, Пиндоса уж кормить надо, и замерзла, замерзла я!
А он хлоп, своего вытаскивает и с меня подол окончательно вздел.
Ну, я тут спугалась, зажмурилась — до того рожа у него зверская и свекольная сделалась. Чисто разбойник, бандит! Лежу, думаю: Женчиной стану щас, если не мертвенькой. А он хряп — и чо-то на сторону завалился.
Я разжмурилась, его типо торкаю, а он на пол ползет и остывает уже. Чувств, видать, что ко мне испытывал, не выдержал, а вроде сперва такой ведь циничный был!
Ну, я в рев сперва, а после оделась и убежала через лес к нам, в родную деревню, и матери ничо не сказала, потому что ну а чего ж тут и скажешь-то? У нее с ним тоже ведь Отношения были.
Но хватились его искать уж под вечер. Нашли на другой день. Я и смареть не пошла: я ж чо ж, без Сердца вам? Мать на ночь напилась, выла по нем, волосы рвала на себе и на мне заодно, а после уснула.
Я тоже легла. И тока я свет затушила, а он тут как тут: в бушлате и шапке, но без штанов цинично, и мармыжка гвоздком — как живой. Не договорили, грит, Марея, опять! Нельзя так, кила а то будет. Я грю:
— Чо ж, ты ж мертвяк уже, Феденька, перед Богом и без штанов?
А он:
— Нет, Марея, не пускает Бог меня до себя, пока мы с тобой не договоривши, одевайся давай!
И то платьишко с-под бушлата мне тянет.
Ну, я чо ж, я Послушная от природы, оделась ему в платьишко в это в его. А он, видать, хоть мертвяк, поговорить со мной ему тоже ведь напоследки охота. Гвоздок торчком, а язык помелом, чешется. Ты, грит, не волнуйся, Марея, я тя все одно к утру бабой заделаю, а про платьишко — прости — это Сувенир и вот какая История.
И он мне про жись свою всю рассказал. Что был в Группе Наших Войск в ГыДыеРе, то есть в Германии, и там они, солдаты-то, одну девку местную заловили, разложили, и он с ней мужаком, собственно, сделался по-настоящему, а до того тока Мирзоев ему подсасывал, как и всем, он у них общим на всю казарму был пидаром. Но они его к той девке, Мирзоева-то, тоже потом допустили, последнего, хоть мой Федя был против сперва, потому что Мирзоев салага еще.
А потом их судить хотели да отправили от Греха подальше пускать ракеты на Байконур и строить свинарник там. Это была прямо каторга. Но Девку-немку он очень запомнил, и платье похожее купил там же на Байконуре после уж Дембеля. Потом он снова в армию пошел и на вещсклад удачно устроился, но девок больше ему не попадалось, тока вот я, а так уже всякие опытные Женчины. А девок он за версту обходил, боялся, что снова в свинарник на Байконур.
Тока вот я попалась ему такая на все для него дура согласная, он уж и не чаял удачи такой и помер на мне от этого нежданного Большого Личного Щастия. Ну, короче, сплошная, бля, Лирика.
Тут мне стало жалко его. Я грю:
— Ты заходи давай-ка, не забывай меня, Феденька! Хучь какой заходи, даже приздрачный. И Женчиной давай делай уж окончательно, я ничо, потерплю.
Вовсе забыла тут, что он мертвенький. Ну а он тоже, видать, забыл: носом пошмыгал и меня завалил на койку, и подол платьишка вздел опять, и прям грит:
— «Найн» тока ти-ихохонько шепчи, девонька, чтоб мать не услышала.
И херак в меня чем-то тверденьким, и БО-ОЛЬ! А после захлюпало, зачавкало, как Пиндос у корыта, и он на мне елозит, возится, шапка с него упала ко мне на Грудь, а он чавкает, значит, мной, как лужею, и сам тока выдыхает это фашистское «найн», будто не он меня, а я его Ебу. Но приятненько вроде, чикотна так. И я тоже освоилась: хер у Федяхи-то не велик — стала ему «найн» говорить да подпрыгивать. Пружины скрыпят, как бешеные, а мать пьяная в горе во вдовьем спит и не слышит, а мы знай себе, будто Родные, возимся.
Да родные и есть: куда уж роднее Женчине, чем первый ее Мужек?!..
А спустил на живот мне Федянечка, на самое даже на платьишко и платьишком все обтер, понюхал его, платьишко, и самый подол и мне на рожу его, подол-то, полОжил, будто от срама прикрыл, заботливый. И такой запах меня с подола пробил!.. Круче нашатыря пожалуй, забористей.
Потом я платьишко-то сняла ему, отдала, он все его спрятал за пазуху бережно. А меня в Голову поцеловал и грит:
— Буду к тебе ходить, Марея, не обессудь! Не против ты? Там таких нету, все постное кушают да Богу с утра до вечера молятся, а сами — мослы одни, смотреть не на что.
И еще поцеловал в башку в Маковку и грит торжественно:
— Женчина!
И исчез с платьишком-то за пазухой.
И я тоже подумала: «Ну ведь Женчина я теперь, Женчина! УЖАС-ТО КАКОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ!..»
И той же ночью мне приснилось все, что Было Меж Нами, но тока вокруг еще солдаты зимней своей ватной зеленой кучей толпились и все с хуями наперевес, и те почему-то тоже все в Шапках по-зимнему. И хуи все какие-то разноцветные и блестят и сверкают, и переливаются, будто буквы на магазе в городе — я в Твери на многих магазах такое видела. И на душе так сладко у меня сделалось, так празднично!.. Прямо, мля, Новый Год!
*
Однако ж Тоска меня забрала ближе к весне. Хоть он исправно меня Ебал, Федюшко мой, но чо-то его мне мало вдруг сделалось. Вдруг чего-то захотелось Несбыточного, Непризрачного.
Я ему так и сказала, будучи Честная:
— Чо делать, ты тока ночью приходишь, а я весь день как шальная хожу, хоть под Мкртчана залазь, но ведь противно под сопляка. Да еще и нерусского!
А он:
— Днем, звиняй, не могу я, Марея! Не вполне я в себе, дух я бесплотный днем! Каюсь: все про тебя, дуру, думаю, как ты дальше-то будешь Жить. И знаешь, Марея, честно тебе скажу: мало мне тебя, хоть ты и жаркая! Хочется, чтоб как тогда, в ГеДеэРе, солдаты вокруг тесной ватной кучей стояли и тоже участвовали. По-особому это заводит, понимаешь ли, Марея, военного мужака! Такие мы, Мареюшка. сложные, ты тока не обижайся, а надо тебе в казарму какую прибиться. Давай-ка, Марея, швартуйся к солдатикам. Так и наша любовь крепче получится.
А мне от этих слов его так хорошо сделалось, ведь разрешил он мне новые Отношения! Без него как-то стремак мне было, не пизда ж я на проволоке, а считай что почти замужняя. Муж вот тока ночной, преходящий, — зато есть не просит, да и не пьет.
Не сказала я матери ничего, штып ее не расстраивать, хоть и поняла бы она меня, сама без мужака мается каждую ночь, я же слышу: койка скрипит да баба в ней пальцем терзается, стоном охает.
Вышла на трассу я с сумкой и жду попутки. И тут будто Бог увидел меня и подмог: машина почти сразу подъехала, брезентом крытая, а в ней морды солдатские в бушлатах и шапках, прям как бы из сна. В кабине водила и сержант, а в кузове остальных человек восемь, я ни считала потом, не до того уже сделалось.
Водила бывалый, рожа хитрая, усатая. Те куда, говорит, красава?
Я:
— До Шебатайки подбросите?
А он, хулиган:
— А платить чем будешь?
И ухмыляется.
Я растерялась, будучи Честная. А он:
— Влазь давай, в тесноте да не в обиде!
И я меж ним и сержантом села, сумку свою на пизду полОжила, будто прикрылась Решительно. Сижу не дышу, вся красная. А сержант мелкий, неприятный, белобрысый такой, смотрит на меня надсмешливо, бытто я голая или дурочка, или сказала чо-то не то. Он, Николаша, вредный и дальше ведь оказался. Но сразу это я поняла: нехороший он человек, чо-то в нем такое, типо злой пакостник. Ногу закинул, сапог об меня, об ногу-то, бытто трет, а сапог пахучий, я тику будучи Чуткая.
А который водила хи-хи-ха-ха и поглядывает на меня, и про музон свой рассказывает, про группу «Кино»: типо, ждем перемен, не хуё-моё. То есть, с намеками, но тока без сапога: ноги у него педалями заняты. А я чую локтем-то: у сержанта такой стояк, бытто я вовсе голая.
Даже жалко его, хоть он мне, наглец, и не нравится. Я люблю, штып внимание было бы к Женчине или хи-хи-ха-ха хотя бы, и угостил бы хахаль хоть чем. А сержант чует, что я боюсь, и бытто взглядом режет меня назло. И грит вдруг цинично так:
— Лех, поебацца бы!
Я краснею совсем, сумку знай тока крепко держу. А он:
— Лех, тормозни-ка, надо отлить!
А тебе, грит, девушка, не надо ничо? — Нет, грю, спасибо, я давеча писала… — Пока незачто.
А выскочил он и вовсе не ссать, а в кузов сразу полез. Тут я поняла, что будет как раз сейчас. А водила закурил и тепло на меня так смотрит:
— Не еблась еще?
Я: как, мол, сказать. Вроде б смеюсь.
А он:
— А тут как ни скажи — третьего не дано!
Ну, я молчу, вся и сверьху и снизу уж мокрая. Жду перемен.
Но как я ни волновалась, а все ж подумала: «Лучше, штып солдатики. Солдат — человек казенный, не обидит Рускую Женчину, не урка ж он и не ханурик какой: выебет да еще, поди, влюбится! Чо ш они всегда галодные, бедные наши солдаты, на передок».
А он вдруг и грит — водила, Леха то:
— Ты, если целочка, сразу скажи, я тебя защитю как-нибудь.
Я молчу, бытто стыдно мне. А он:
— В рот уж точняк ни брала, за щеку?
Я грю:
— Ой!
Он опять на меня смотрит, но с подозрением. Я грю:
— Защити, но не очень чтоб, а то поколотят и тебя и меня. Я же понимаю, без этого вы не отвяжитесь.
А он тока хмыкнул, бытто в нем проснулось чего, ерзнул на сиденьи и сапогом тоже мне па ноге проехал, голенищем.
Тут дверка настежь, и снова этот сержант: тю, грит. я думал, вы уж работаете. А водила грит:
— Коляныч, поосторожней бы! Может, тока пососет она?
А сержант:
— И это, само собой! А Гвоздидзе ей и жопец, поди, просифонит — да девушко?
Ну, водила выпрыгнул, а Николай-сержант свистнул, тут и солдатики подошли, шесть сперва вроде штук, и я сразу Гвоздидзе угадала, увидела: грузин такой рослый и серьезный, усастенький и подборадок, хоть брит, а чернущ. И так глянул строго-вимательно.
Я, конечно, про жопу заволновалась, но подумала: он же опытный, ни с первой, поди, со мной. Я как-то им сразу вся и доверилась, Лехе-водиле особенно, и вся бытто сама ватная сделалась. Бытто это не со мной происходит и ни про меня говорят, а я как бы вещь, но Желанная. Тока сержант этот меня беспокоил. Не ждала я от него ничо хорошего.
Гвоздидзе сурово и с интересом смотрел, Николай усмехался так слегонца, посмеивался, гнустная он душа. А остальные сами волновались, мне кажется: смурные стояли, бытто в штаны нафурили. А Леха не знаю: я спиной к нему повернулась. А тут один с крупной харей и говорит: пусть ляжет на сиденье, штоп по двое с обоих дверок, побыстрей тогда отстриляемся.
Но мужаке были все ж таки напряженные, не засмеялись в ответ, а Николай возразил:
— Ты, Шкаф, куда-то торопишься, пастроение стремак проебать?
Шкаф — его фамилия Шкафов была, Ярослав, ничо между прочим мужек, мы потом очень часто с ним, но он молодой был еще, и ему не терпелось тогда, он три месяца без бабы маялся, а сам женатик и невтерпеж ему стало, нервничил.
И Леха тут его поддержал: мужаки, грит, а поскорее давайте, точила моя простынет. Это он обо мне думал и беспокоился, штып я лежала не совсем на холодном сидении. Я потом поняла, что он тока с виду нахал усастый, а так даже жалеет нашу Сестру, но против коллектива куда ж?..
И он так мягко меня за плечи взял и полОжил на сидение вдоль, заботливо. И грит мне тоже заботливо, так тепло:
— Ну, ты рейтузы-то сама, может, сымешь?
Ну, я рейтузы спустила с трусами прям, а там вся тику, запах, мля!
— Ху, запаханчик! — Шкаф грит. — Хочет она.
Раз женатик, значит, и опытный.
Но Николай тоже опытный был, как и Леха, и у Лехи еще как у водилы были гандоны на всякий случай: в смысле один, но большого размера. Но он пра гандон тогда не сказал, не хотел с парнями делится, это ж был тогда дефицит, Совецкая Голожопая Власть, а в нашем глухом углу гандоны и вовсе ведь почти невидаль. Если чо, спускали бабе в пупок или куда уж придется. Но это, если ты опытный, как Шкаф или Леха, или сержант, а остальные бздели малька. В смысле: что не успеют перед всеми-то, парни еще засмеют, ведь смотрит сержант Николай, рядом следит.
Он ваще горазд был прикалыватся, измыватся. Потому что шибздик. Чо он после армии, кому он нужен, такой? Тока здесь и герой, раз начальник вот.
А я как легла, глаза закрыла и вижу: мой-то Федя тут как тут, евова свекольная рожа, и подмигивает, довольный. Чо ж, дорвался, свинья!
Ну, я ему язык показала, и тут Леха-водила засмеялся, что я ненапряжная и все типо путем. И грит:
— Ну чо, тогда в рот я пока?
Я ротак отворила, а глаза — то закрою то открою: то Федькина рожа передо мной мелькнет, то штаны и трусняк, и кальцоны и хуй Алешкин, тяжелый. сильно немаленький.
Тут Николай возражает так:
— Сука-мля, хуля?! Здесь армия, я сержант, старший, мля, первый, мля!
А Леха:
— Ну ты, мля, у тебя их две штуки, да?
А Николай грит:
— Чо ж я буду ее паять и твой хер обнюхивать?
А Леха тут засмеялся и грит:
— Лана, раз ты старшОй, давай, сука, куда хотишь. Но после дай уж людЯм пожить тоже, как они захотят!
А Николай тогда еще боялся, штып в рот, печальный имел на этот счет еще школьный опыт.
А Леха:
— Давай-давай, сержант, а то Гвоздизде вон уже пять раз в трусняк выстрелил, пока мы тут, мля, телешимся. Будет ходить и греметь кальцонами засохшими, как Айвенга доспехами, мля.
И Николай тут лег на меня, вдел и грит:
— Ой, сука, жаааркыяооо!
И давай шмулять-пилить бодренько. А я то глаза закрою и Федьке моему типа подмигиваю мысленно, то открою, и его сержантскую харю белобрысую вижу, зло перекошенную. А шапка его ушитая совсем на лоб ему съехала. Он, штып видеть меня, башкой так мотнул, что шапка упала на меня. Ну прям как во сне у мово Феденьки! Вот и не верь снам после этого!..
И какие мужаке в чем-то все одинаковые!
А как кончать стал, зубами заскрежетал и вдруг, ровно заяц, взвизгнул и облил весь мне живот и все между ног Хозяйство.
Тряпка есть? — Лехе грит. — А то в конче все изгвоздаемся.
А Шкаф:
— Тока утирка у Бегункова у Ботана но он, падла, в кузове, суко, остался.
Тогда Николай сплюнул на дно кабины и грит:
— Тащи его, мля, сюда, мля! Шкаф, теперь ты давай!
Шкаф подошел, грит:
— Чо она мокрая?!
А сам уже распатронился.
— Голенищем оботри, если хезаться стремак о мое командирское! — командует сержант.
Тут даже Леха надо мной захихикал и в рот мне вложил, а так я просто до этого его хер облизывала. А этот Шкаф шершавым чем-то провел мне вокруг мохнатки и по ногам, а после уже вломил свово большого, злого, мне тогда еще непривычного.
Я аж подпрыгнула, но Лехиного не выпустила, будучи от природы Ответственная — никак иные прочие! Зубом даже не цапанула Лешкиного! Я с ним особенно ответственная всегда и после была: заботливый он, хоть мог бы и бушлатик тогда подстелить.
Ну, мужаке не очень такое все про удобства Женчин обдумывают, им бы раз — и головой в таз, как говорится.
Ох, на мне трудился Шкаф долго, елозил, мля! Сержант тут ему грит:
— Я тя щас самого в жопу Выебу, в голую! Или Гвоздидзе вон.
А он хитрый был, Шкаф, он два раза подряд кончил, не выная — они даже и не заметили!
Тут Бегункова притаранил Гвоздидзе, сам злой, как черт, и у Бегункова вырвали утирку и кинули Шкафову. А он и сапоги обтер себе и меня, опытный, домовитый мужек, взрослый уже, а после отдал Гвоздидзе утирку и тоже отдал ему меня. А Леха все шпилит в ротак и шпилит, и тепло так, товарищецки посмеивается, чисто по-Родственному. Хорошо ему! Водила натренированный.
Но кончил он все ж таки до Гвоздидзе, а тут Николай-сержант опять к роже мне подошел, использовал свое положение во второй раз. Но далеко ему до Лехи, быстро спустил.
А Бегункову вернули потом платок, да он его тут же и выбросил. А так сам из ся симпотный такой парнишечка-шатен. Но тогда со мною не стал, гордый был. Может, и образованный.
*
Ну, я про все Подробности не буду, я ж Женчина. Не хочу быть в ваших глазах назойливая, нескромная.
Поэтому продолжу опять. После всего пережитого я говорю ребятам:
— Чо мне делать: я из дома ушла? В армию не возьмете?
— Кем? — спросил ядовито сержант Коляха. И я покраснела для себя неожиданно.
А Леха грит:
— Чо, возьмем, потом на месте куда-нить устроишься. Тока и ты старайся, мы ж рискуем, мля, с тобой, с козой, ты прикинь?
Я обещалась стараться, будучи Трудолюбивая от природы, хотя у меня все там в пизде жгло от кончи ихней молодой, застоявшейся. А в попе нет.
Тут и Гвоздидзе сказал, думая про свое:
— Я, как все. А то в жопу, хулэ, вдруг мыть потом — а где?
На это сержант Николай ухмыльнулся, будучи весь душой гнида гнилая, гиена прям огненная, и мы дернулись и поехали. По дороге я закемарила, будучи усталая охуенно от стольких вдруг Отношений на жестком сидении, и на нем еще ямины от водильских Солдатских жоп. И мне приснился, конечно, Федяка мой оглашенный, очень довольный, и тоже полез во сне меня трахать. Он грит: у него семя теперь после смерти особое сделалось, всю заразу выжгет после солдат, и ребеночка не понесу, он тоже, если чо, его кончей прижгет. То ись, он как бы и гандон заочный при мне и призрак для Траханья. Золото — не мужек!
Пыхтел-кряхтел, ворчал, что сильно уже разнесли, козлы. Ну да это его мужские промблемы: мне главное, штып он выжег во мне всё, если чо, нехорошее.
А после я вовсе во тьму, как в космос, ушла. А пришла, потому шта меня Николай пиханул грубо в грудь локтем и грит:
— Подъезжаем, Манька. Давай-ка на дно мыряй!
Ну, я и спустилась на дно к ихним сапогам да в грязюку натоптанную окунулась опять же ногами и всей моей тада еще ненадеванной Задницей. А Николай, вредный, на руку мне наступил и другим сапогом прижал рожу мою к голенищу себе, и я как ему пленная сделалась. Леха тока зубом цыкнул, осудил грубость его все ж таки со мной, то есть с Женчиной.
Но хер и у Лехи на взводе торчал, это я после заметила. Чо ж, мужек же он, хоть и жалеет меня как Девушку, Человека видит во мне, не то, что Николай-говнюк.
А я носом в кирзу уперлась в вонючую и опять мокрая снизу сделалась, не тока потому шта лужа на дне, но и сама из себя как бы подбавила, от чувств выплеснулась. Даже лизнула слегка, будучи Любознательная. Но Николай не заметил, и слава Богу. А там, слышу, матом их пропустили на территорию ихней Части.
Парни вон попрыгали, мне сказали на дне сидеть, не торкаться в окошки рожей-то, штып не увидели. Мне сидеть холодно сделалось, сцать хочу ужас прям, взорвусь уже — а куда? Я дверку приоткрыла и высунулась жопкой наружу украдкой, на подножку посикала.
А Николай неподалеку стоял и на ус намотал. Подбежал, дал поджопника прям по голой, подлец! Но на ус, говорю, намотал для будущего, гнилая душа.
Ох, до того в нем говнища этого!..
После меня по-бырому прогнали в какую-то комнатку, чулан с шинелями и бушлатами по стенам, и на лавке бушлатики. Мягко и жарко, и тесно, я даже платок сняла. А тут стали подходить всё солдатики. Девять, что ли, сперьва, или двенацать штук, как апостолов, сбилась я. И давай — но гандон был на всех один. Как кто кончит, на пол с него сольет, так что стало очень склизко, один даже подсклизнулся и Ёбнулся, но не на спину, а на коленку тока упал. Но все не обратили на это внимания, будучи сами заняты.
Я была в Центре Внимания, и все кружилось передо мной, как у Наташи Ростовой в фильме «Война и мир», на балу, я по телеку видела.
Конечно, я откликалась на Еблю эту всю почти, и кричала, и рычала аж, будучи Страстная вся уже. Почему, когда Леха хавчик принес, я есть сама не могла, он в меня ложкой вливал и суп и компот, а котлету в рот запихнул рукой и коленкой заботливо. Кто-то ему сказал:
— А хуй?..
Но Леха тока гыгыкнул и остальные все, сытые. Но не было Николая, и пакостей больше до самой ночи не делали. Тока заходили по делу потрахаться, и то не тормошили, когда я уснула бессильная. Небось, Леха всех отогнал лишних ебарей. Во сне опять Федька ко мне пришел, промокашка моя и Гандонище Охранительное, ну да вы это все уже знаете, Женску Тайну мою.
А проснулась я, когда уже ночь была. Лежу: трусы спущены, корка прямо по ногам засохлая, а сама я бушлатом прикрыта заботливо, но корка и на бушлате такими повсюду пятнами. Прямо, как дикий я леопард.
Видать, когда я уснула, солдаты заходили просто дрочить, будучи все на бабу тогда сильно голодные.
А ночью стряслось вот чего. Влез тихохонько Шкафов и меня разбудил. Я уже думала: он снова хочет на меня, женатик такой, залезть. Но он грит:
— Пошли, Марея, дело есть!
И мы пошли с ним вниз, он впереди, я, очумелая, сзади. Думала, меня, может, убьют — такой он был мдрачный, бытто надроченный.
И вокруг все было мдрачное: стены темно-зеленые, почти черные, красные огнетушители везде понатыканы, сетки и решетки, бытто тюрьма, трубы по стенам и над нами, и запах горячий пара, и жарко, бытто мы в преисподнюю спускались или в баню какую-то. А меня еще от стены к стене гоняет, шатает от Пережитого накануне.
И я чувствую: я между ног вся ведь снова мокрая, но то ли обосцалась, то ли волнение, что снова будут Ебать. И запахло так, что даже Шкаф оглянулся и грит:
— Ты чо?
Я грю:
— Ничо, куда идем-то?
А он задышал, задышал, ноздри у него стали круглые, хоть кулак сувай, и грит:
— Сукой несет охуеть! Ща прям палку, прям здесь, мля, кину!
Ну, Женатик же.
Я, конечно, уже не против была, тока вокруг трубы горячие, не прислонись. Я грю:
— В рот давай!
А он:
— Нет, в жопу хочу, с проворотиком! Никогда туда не ебал, жена была против, и Теща, и другие все, а щас ХОЧУ- НЕ-МОГУ!
Ну, я чо ж: ладошку в себя окунула, там всё Промазала у себя в Заду, в перилы вцепилась:
— Давай!
А тут сверху бух-бух-бух: идут!
К нам тоже, что ли на запах, спускаются: Бегунков впереди в сапогах и в трусах и в майке. Такой весь худой, майка на нем, как платьишко болтается, а за ним Гвоздидзе высоченный, кадыкастый, шерстистый по телу, как Зверь, мдрачный как Жопа!
Гвоздидзе заржал вдруг и грит:
— Мля, ты чо, Шкаф, побереги кончу-то!
А Бегунков тока горлом булькнул, как поршень, у него в горле кадык прошел. И я все поняла, ужаснулась. Ну а Шкаф злой прям сорвался, со ступенек вперед летит, а мы за ним.
И дверь перед нами красная бу-бух: настежь. Оттуда — пар, и мы в этот пар вошли, как прям ангелы в облако.
*
Мы, как ангелы, в облако-то вошли, почему сделались сразу мокрые, все блестим. В общем, даже, наверно, красиво со стороны. А Николай, изверг, уже сидит, прижопился на зеленый ящик, бытто король тут и всем заправляет он. А мне-то что, я-то одна здесь, и Женчина! Он мне грит:
— Ложись-ка, Машуха, сюда — и на брезент у своих самых ног на полу показывает.
Ну я легла, раз Власть теперь ихняя. Он грит:
— Покажь салаге Бегункову Игоряну мандень, а то он стремается бабу отодрать, сделай мужаку наглядное Удовольствие!
Ну, я куда ж денусь-то? Приспустила рейтузы с трусами. Все типа меж нами по чиснаку. Но Николай грит:
— Ты бревном не лежи, Марея, ты класс покажь, ты себя обомни, подрочи. Мне ли тя, лярву, учить?
А солдаты вокруг стоят и не ржут, а тока в кулаки как-то прыскают, бытто парни на перемене в сортире у нас в школьном, и с чего-то это мне напряженность делает. Дрочиться я горазда, да не в таких похоронных условиях.
Но дрочусь и завожусь немножечко, даже язык наружу высунула, потому от природы Старательная.
— Ну, это все заебись, — говорит Николай, — тока ты на Бегункова, на женишка смари, че ты на мой хер уставилась? Штука тебе незнакомая?
Все тут заржали, наконец, а я стала на Бегункова глядеть. А у него трусы широченные, но в облипочку щас, потому шта пар: мы ж все, как мыши, мокрые здесь. А сам Бегунков стоит, и вид у него какой-то немущинский, бытто сто рублей потерял или больше, или его обкакали. Но хер в труселях очень даже живой оказался, колбаска такая сквозь ткань виднеется, прямо нате-вам-вещь, прям на глазах большая делается, бытто в ней электричество проведено!
Тут Гвоздидзе грит:
— Вах, парни! Не могу, мужаке, идите на хер все!
И хлоп на меня, жопа махровая, прям мохеровая. И тык-потык в меня, бытто меж нами ничего до этого не было и семени накопилось в ем за Неделю аж. А Николай ногу в сапоге мне прямо к роже подставил, и Гвоздидзе стал мордой шорхать по сапогу.
Два раза шорхнул, а потом на сапог — шлеп, срыгнул. Это как так он: с Женчиной и рыгает еще, успевает, такой молодец! На всё их, грузин, хватает, сильные мужаке!
А Николай отставил сапог, но с каким-то, чую, намереньем. Я его почему-то больше всех других чуять стала, Николая этого, а в подвале тада особенно. Как главный черт в аду он был здесь. Бес и есть!
Тут я Феденьку увидала в стороне и спрашиваю:
— Ну, ты рад ли, харя бесстыжая?
Он мне мигнул и палец показывает. А хера я ни его, ни Бегункова из-за Гвоздидзе не видела да и будучи занята, да и Визг подняла, будучи на вский хер теперь страстная. И в Визге том я Федю снова увидела, как он крутится возле с хером напиривес. Потому шта Женчина свово первого Мужака помнит всегда, при всех даже и Обстоятельствах.
Но так меня в тот раз Гвоздидзе допек, что стала я на ем майку зубами рвать, бытто я мимо Гвоздидзе к Федьке вся рвусь. Это ж правильно Николай, между прочим, сказал:
— Ты, мол, Гвоздь, Электропиздомешалка, а вовсе не человек!
Тут Гвоздидзе кончил, рыча, и отлез. А я лежу, вся теку, горячая, и еще, еще ХОЧУНЕМАГУМУЧАЮСЯ-ААА! А Федька-призрак, гусь лапчитый, куда-то в сторону свалил, потому шта, как и все мужаке, он тоже Подлец всякий ведь раз, када нужен, оказывается!
Тут Николай грит:
— Чо, боец Бегунков Игорян, хули бздишь, баба легли и просют! И ваще тебе путь Гвоздь пролОжил — как по рельсам, бля, полетишь!
Тут Шкаф грит:
— Не, давай, лучше сперьва я, Коляха, лучше будет скользить этому оползню.
А Коляха ему:
— Иди давай, Ярик, подмойся, ты хуже нее воняешь, бздец-пиздец ведь конкретный, да и Бегунок после тя ваще там утопнет, как черепашка — помните? — в нашем в солдатском, мля, сральнике.
Оссподи, думаю, они не тока друг дружку и Женчин, они и животных бедненьких мучают! УПЫРИ!!!!!!! Но лежу и жду Продолжения.
Николай грит:
— Давай, Бегун, на длинную, бля, дистанцию! Покажь класс, москвич! Время пошло!
Шкаф в сердцах на меня Бегункова толкнул, бытто я виноватая, отчего тот упал, и хер у него то же самое сделал. Стала я Бегункова жмать, проявлять с моей стороны Женское половое участие. Я его жмаю, а Шкаф с него трусы сзади дерет, как с неживого уже. Я шепчу:
— Сама, мол, найду и вставлю хозяйство твое — давай, парень, бытто уж в деле ты, дергайся!
И обымаю его коленками мокрыми, будучи вся в пене, конечно, после Гвоздидзе-то.
Ну, он дерг-подерг, вяло так. Вставила я в себя хозяйство его, будучи Честная. Вот тут у него прям мучительно встало вдруг, будучи все ж мужек.
Стал он, как положено, дергаться. А тут Николай ему обратно сапог под рожу подставил, как давеча Гвоздидзе, да еще и с его, с Гвоздидзе, блевотинкой. До того гнилой, скажи, человек! А Бегунок зажмурясь был и мордой в самою в блевоту въехал аж. И тут с ним такое сделалось: как взвоет он сквозь зубы, как плюнет мне в хавальник, а после каждый ведь раз на сапог Николаю плевал, как рожей возле оказывался. Прям в открытую, бытто отдерет меня — и жизнь вся навеки для него сразу закончится! Прям и не знаешь, трахать ему Женчину всласть или больше на сапоги сержанту харкать-плевать.
Даже обидно, если с нашей с Женской точки зрения поглядеть. Нету Любви, короче, а только одно у каждого мужака со мной Наслаждение.
Тут на нас полилось сверху чо-то. Это Николай, гнилая душа, стал сверьху сцать, обмывать себе заплеванные сапоги. Всю бОшку и мне и Бегункову обосцал, и плечи, мля, и грудя. Но нам не до того было, потому как у него, у Бегункова, хер еще больше стал и еще тверже, как, скажи, корешок, прям Ковыряло такое в человеке образовалось, впору для огорода аж! И он чегой-то такое во мне своим Ковырялом саданул, чего раньше и не было больше ни с кем у меня. Как бы кость какую-то там задел, так шта искры с глаз, и я вопить начала ревом почти мужским. И все у меня кувырком завертелось и в башке и перед глазами. Бытто я с горы прям лечу, а в грудях воздуху вовсе нет, одна тока щекотка ужасная.
Я и не знала, шта такое у меня в мандешке имеется! Прям Брильянт! Век живи — век учись, как говорится. И главное, ведь под кем — под Ботаником, как этого Бегункова Николай называл!..
Ту я уж вовсе евонная сделалась, сцы не сцы на нас, а с одного лукошка мы теперь ягодки!
И Николай говорит:
— Эй, мужаке, вы тоже давайте шампанского новобрачным вон в сапог жениху нацедите, мля! А то стоите, мармыги себе теребените, как под окном бабской бани, мля, колхозная мелюзга.
Но не успели они нацедить: Бегунок мой тут как раз выстрелил, хотя стока было соков, што не сразу я поняла, с чего это он зубами у меня в ухе заскрежетал.
— Вах, гад! — Гвоздидзе после сказал. — Я бы как раз его в жопу прободал, пока он эту лярву дерет…
Я аж сомлела от такого даже и Предложения и Предчувствия: это ж как он мне еще интересней косточку в манде хером почешет, Ботаник-то мой, если его тоже хером в заднице подгонять?!..
Но мучения наши с Игоряшкой, с Бегунковым-то, и на том не закончились. Подают ему Шкаф с Гвоздидзе сапог, а в нем как бы чо-то живое плещется, как рыбка прям. Это они нарочно сапог бултыхают в руках, штып плескался звук. А Бегунков стоит надо мной, и ниче парень даже не понимает, будучи обалдевши, што стал со мной наконец Мужаком. А рот-то открыт все равно. Гвоздидзе и налил ему на бошку с сапога, и, конечно, в рот натекло. А Шкаф с другого сапога мне на бошку, хоть и так я была вся уже мокрая.
Вот так солдатики, как Николай тогда же сказал, и «повенчали» нас.
А Леха-водила забрезгал с сцаками это все и даже ушел и про нахуй вас всех закричал, и дверью так с лязгом хлопнул. И Бегунков бытто тока щас понял, што сцак хлебанул. И его на меня, гад он эдакой, выдрало!
Вот и делай людям Хорошее после этого!
*
Солдатики с части меня уж не выпускали, всегда я при них и как бы жена Бегункова считаюся. Получалось я двоемужняя, и Федька призраком вечно крутится, и Бегунков, тока мы с ним виделись после Отбоя обычно уже. Потому как днем он везде, бедный, работает, а я в каптерке лежу за бушлатами, штып офицерье не заметило. Если какому приспичело — шасть ко мне и, как заяц, по-бырому. В каптерке трубы проходят, жарища, я вся сомлевши, вся, как свекла, бордовая, голая. Какой же мужек удержится? По пятнадцать, по двадцать штук не хошь, а стерпи на себе за рабочий день. И после каждого Федька лезет еще, прям не призрак, а хер живой неуемный, прям живее всех живых! К живым и ревнует, поди…
И до того они, солдаты, оказались трахучие, бытто у них не Родина на уме, а одна манда.
Мне одно неприятно, обидно было, што Леха стал мной как бы брезгать, бытто я вовсе не Человек теперь и не Женчина. И што уж прям этот вам запах-то? От селедки, што ль, слащей несет?
Много новых слов и дел узнала я от солдатиков, а была прям ведь дура дурой до того, кулема деревенская! Правильно по радио говорят: армея делает человека Человеком и даже Женчину!
А самое интересное начиналось после Отбоя, когда меня и Игорька мово в Котельную приводили, где наша Свадьба стряслась. Там Николай уж королем сидел на ящике. Николай еще пугал меня, что этот ящик с бомбами: он, мол, перднет, ящик потрясется и всех нахер взорвет. Поэтому лучше его не злить и всё сполнять, как он велит, будучи к тому ж и Сержант.
Ну, что перднет, не оченно я поверила: что ж ему самому от своего пердка погибать? Но все одно обстановка военныя, грозная.
Не свинарник, где наш Пиндос живет!
Тогда и Игорька приводили моего, как бы и муженька, а Федька в сторонке стоял и дрочился заранее, будучи (даже как Призрак) все ж таки трус. А на Игорьке были труселя уже разрезаны, бытто юбочка, штып отворачивать было легко и за резинку сразу, что с переду, что с заду, закладывать. Все ведь продумают мужаке!.. Техницкие бошки ведь.
И был он еще босой, а сапоги его на ремне у грудей торчали, это если Николай так преказывал. Вроде у Игорька моего тоже сиси, бля, женские, тока из кирзы и черные. И пока он меня драл, в голенища сцали ему, кто метче, или в попку ему, в самую дырочку. Гвоздизде же все норовил его на четыре мосла поставить и взять в жопу, как вовсе не солдата, а девушку.
Но Леха-водила кричал, что это ваще беспредел, и они дрались. Игорь же весь потух, стал равнодушный и еле меня ковырял. Видать, плохо его кормили. Я его все подначивала тихо Шепотом:
— Давай трахай меня, а то и тя в жопу выебут!
Однажды Николай даже сказал подсосать ему, Игорьку. Ну, я, конечно, со всею кинулась радостью. Чуяло сердце мое, что судьба Игоряна сейчас решается!
Всосала со всею Душой, а у него только трепыхнулся во рту у меня. Скажи, бытто не хер за теплой щекой, а он сам рукой в воздухе возле себя махнул. Тут я поняла, что сломался он, такая же, как я, сделалась Женчина.
Тут Гвоздидзе ему и вдел. А Николай во второй уже раз приказал, штып я при этом у лица Игорька стояла — штып он, Игоряшка, ртом мне прямо в манду сувался, пока Гвоздизде топку ему обрабатывает.
Сказано — сделано, я Существо здесь невольное. Ну, а в пятый, наверно, раз и случись ЭТО САМОЕ. Стою и вдруг слышу: чтой-то во мне по манде бытто ползает. Муха вроде как, а не жгет! Счекотно-приятненько!.. И я, дура. вместо штып столбом, как раньше, стоять, вся разойкалась и ну за грудя тоже себя щипать. И Николай и все поняли, чего Игорян со мной, падла, делает языком. И теперь всяко дело в Котельной начиналось с (Николай сказал) Лесбоса. Ложил нас на пол с Игорьком у своих ног вальтом, и мы взаимно с муженьком с моим это самое делали. Как нынче говорят все: Шестьдесять Девять, Ораловка. Потом уж нас обоих раздроченных, как хотели, так ведь и трахали.
И такая Нежность Удивительная во мне к Игорьку началась! Как увижу его, так и шепчу: «Ничо, малой, на граждане с Порядочной сойдешься, поженитесь. А тебе теперь Цены не будет для всякой для Женчины!»
И у него в глазах вдруг такой свет зажигался, что я честно пугалася…
И все было бы ничего, да тут вдруг в мае с самого с Центра, с Москвы, блин, Инспекция!
Я прятаться хотела, в Котельной вон хоть отсидеться. Да и все было бы чики-поки, как Николай сказанул, — а на третий день Инспекции этой самой Игорек наш нагло хлоп и повесился! И чего ему не жилось?! Уж его кроме хера никак почти и ни трогали. Чего ж и не жить и даже, пожалуйста, с Женчиной?.. Ан повесился, почти до смерти!..
Увезли его в саму даже в Тверь, а Николая повязали и тоже в Тверь увезли на той же машине фургончике. Говорят: Игорь все расписал про него, про Николая, Предсмертну Записку оставил. Писатель, ё!.. А меня тоже изловили в Котельной там — и на Губу сперва. Но отсосала я караульному, он меня выпустил, сказал: у него в деревне такая жа дура сестра растет. А мы с им так все обставили, бытто я с сортира сбегла, в сортер меня ведь водили, не на пол же. Ну, искать меня и не стали особенно, не того я, видно, полету Птица, чтоб также и для Инспекции.
Пошла я по шоссейке и дошла аж в Тверь вместе с Феденькой да с херком его, которым он меня пять раз ведь по дороге под кустом допек.
В Твери на вокзале девять лет как Женчина я работала да с Федей жила, а после вот Мосю встретила, он с пригородной деревни сам, с Колпино. Ну, и сдружились, как бы семья уже.
Жизнь наша всегда ж Удивительная! Главное — не отчаиваться.
24.09.2024