Сон Карла
Автобус
Аннотация
на маршруте новая кондукторша
NB: «в этом автобусе укачивает»
«разделяла нас пара шагов,
но до этого дня,
я не знал, что такое огонь,
и что ты – из огня»
*
Снег валит. В капюшон и за шиворот. В рожу и за щеку. Повсюду долбанный снег. Хер прикуришься. Глеб складывает руки вокруг сигареты в охранительном жесте и безуспешно чиркает отмороженной зажигалкой, растирает металлическую бляшку с кремнем пальцами, вхолостую – блядь, ебаная – отшвыривает фригидную паршивку в сугроб. Голубая дешевая пуля пробивает брюхо грязной глыбе. Злость нарастает.
– Соловьев, мальчик мой, да у тебя же пульс на грани, как я тебя выпущу? – жопой об косяк, Нина Ванна!
– Да я просто немного из себя вышел. Щас отпустит.
– Подыши-ка поглубже. Бросать тебе надо, – мягкая женщина тычет ему в грудь ледяным жалом стетоскопа, отогревая металл на коже.
– Считайте, что бросил, – перед глазами встает темная щель в снегу.
– Не знаю, но это в последний раз, и подыши еще перед рейсом, – она отправляет черную змеюку на шею, раздвоенный хвост и круглая голова сходятся в ложбинке меж ее безразмерных грудей. Глеб кивает.
– Подышу, подышу, Нина Ванна.
Он выходит из медотсека и дышит – снег лезет в пазухи носа, пар лезет из пазухи рта. От пара до дыма – световой год. Блядский потрох.
– Соловей, покурить есть? – Михалыч орет, подзывая к себе рукой, завернутой в драную перчатку, грязный ноготь гадко показывается сквозь ворсистую дырку.
– Спички?
Вместо ответа мужик хлопает себя по карманам.
Прикуривают на ветру. Музыкально – в четыре руки. Дым развевается лентами. От сигарет мерзнут руки и ноги, но душа поворачивает к раю передом. Первый выдох – выдох блаженства.
– Ну че, как житуха? – Михалыч поднимает рукой шапку, выскребая вопрос из-под щипаной челки. – Как Ванна?
– Велит подышать, – Глеб пожимает плечами и глубоко затягивается.
– Ну-ну, подышать и чай с цитрамоном да в клизму от всех смертей.
– Ну хоть выпускает.
– Так ты молодой, она таких страсть, как любит.
– Иди ты.
– К этой бабе пошел бы, – краснокожий пропоица мечтательно и похабно прикрывает глаза, белые хлопья тают у него на веках.
– У тебя ж своя – лет двадцать, – сухо прыскает Глеб.
– В том-то и дело!
– Мудила, – Глеб бросает чинарь под ногу и наступает на него.
– Здрасьте.
Тонкий голосочек, что кошачий писк, блядский щебет, заставляет поднять глаза. Мать честная, приблудыш какой-то, студентик липовый: рожа, краше девичьей, тощий, как билет, прозрачный какой-то – пленкой с пачки сорвать… капля-кнопка в ухе, горит сокровищем. Хуесос малолетний.
– Мать-ети, интеллигентный какой, – ржет Михалыч.
– Чего тебе? – Глеб смотрит на сияющий камень в алой с мороза мочке – обхватить зубами и дернуть до крови.
– Мне к Соловьеву.
Соловьев давится и кашляет в кулак. Ему хочется отомстить мелкому мудаку за одну только мысль, за одно лишь видение, мелькнувшее в голове – убить падлу и в снег зарыть.
– За кой хер?
– На смену.
Блядь.
– Ну и кондукторша у тебя нынче, – Михалыч выгибает густые удивленные брови, – а мамка-то знает, что ты вместо уроков собираешься кататься в автобусах?
– Я закончил школу.
– Ах, он закончил... а это что тогда? – старший тычет надорванным пальцем под нос ребенку, тот прижимает тонкие красные пальцы к невидимому пушку над губой.
– Что?
– Молоко у тебя не обсохло, сосеныш! – и ржет, как козел на всю улицу, тогда как от шутливого оскорбления Глеба передергивает.
– Как звать-то?
– Митя.
– Слышь: Ми. Тя, – Михалыч наклоняется к Глебу и тянет раздернутое на слоги покалеченное имя, подобострастно кривляясь. – Ну тя, Ми-тя. Соловьев, ты смотри, так все и начинается: прокатишь кружок, а потом жениться придется.
– Сука.
– Да не злыбься ты так, шучу я, шучу.
– Съебись, отморозок.
Отморозок съёбывается, выхлопывая смех, как забитый глушитель, натягивает шапку на лоб и оборачивается, отдавая честь рукой.
Глеб сплевывает на снег. Митя прячет руки в подмышки. И оба они бредут к автобусу. Глеб забирается на сиденье, хлопает дверью, укладывает обе ладони на руль, упираясь локтями, и смотрит в боковое зеркало на то, как зябкий мальчишка переминается с ноги на ногу. Сука. Вот бы так и уехать. Глеб не шевелится, только зло пыхтит в лобовое стекло, пока не поворачивается на стук – приторный Митя ебашит в дверь и разводит руки в стороны, мол: в чем дело-то? В тебе, недоносок! Глеб в бешенстве бьет по кнопке, дверь отдергивается, и мелкий впрыгивает внутрь, пока Глеб заводит махину и медленно трогает с места. Смена началась пять минут назад. Блядь. Блядь. Бля-адь.
*
Сначала Митя бежит к каждому пассажиру, как наэлектризованный, батарея в правом верхнем углу горит полной зарядкой. В час пик он, с трудом тискаясь сквозь сельди пассажиров, все еще вдохновенно клянчит деньги в обмен на «билетики». После, в полупустом автобусе, Митя сонно клюет носом и пропускает халявщиков пять, как минимум. Три остановки подряд. Мазай хренов. Глеб изредка заглядывает в салон, как девки в святки – в зеркало. Рыжая макушка и конопатая морда – приложить бы носом об поручень – примелькались настолько, что внутри отпускает. Усталость и голод забирают свое. В конце смены они катаются в тишине, уши пухнут от сгущающейся ваты и мерного жужжанья работающей машины, темнота обнимает светящийся чертог, отстраняясь от окон, редкие пассажиры, убаюканные надвигающейся ночью, качаются в такт движению, прежде, чем совсем исчезнуть. Митя будит последнего пьяного, легко расталкивая в плечо, Глеб смотрит на них понуро, и ему вдруг делается не по себе оттого, что он не знает, доберется ли этот осоловелый мужик до дома, и, главное, доберется ли до дома тщедушный мальчик, которого – отчего-то и вдруг – страшно выпустить в ночь. Оба они выходят. Один спрашивает другого: вы где хоть живете? Собирается провожать, что ли? Ну хер вам!
– Эй, тебя подвезти?
И тут он глядит на него первый раз со знакомства. И только головой мотает. И рукой прощается: мол, норм, мол, счастливо, мол, до завтра. Тебе, блядь, не сказать, что ли?
Глеб злится, закрывает машину и надеется, что маленького говнюка отпиздят в подворотне так, что он никогда больше не сможет отрывать билеты в общественном транспорте.
*
Глеб приходит на смену, у машины его поджидает тяжелая Зинаида Михална. Она подпирает плечом дверь и слегка дремлет прямо так – стоя.
– Здасьте, – говорит Глеб дежурно.
– А, привет, – так же бесстрастно отвечает кондукторша. Кондукторша. Нелепое сочетание букв, которого нет в мире слов, зато есть – в мире людей. Кондукторша. Дрыхнет, поди, еще. В колыбели. Глеб гонит картинки, в которых из-под белого застиранного одеяла торчат всклокоченные рыжие прядки. Спящая, блядь, красавица. И ему отчего-то хочется пожать руку утренней неприветливой женщине, которую и женщиной-то трудно назвать. За отсрочку.
Он почти спокойно откатывает до пяти, потом начинаются злоебучие пробки: дерганный ритм, ступор, мат сквозь зубы на подрезающих дятлов, сильно борзого таксиста на бурой девятке хочется отпиздить и закатать под колеса: да пошел ты, мудозвон херов! – хоть бабуля всегда просила его: а ты не спускайся до них, Глебушко, – да завали, блядь! Он слишком давно – спустился.
В пересменку Глеб ставит машину в десяти метрах от конечной. Ест хлеб, запивает колой – денег нет. Зинаида Михална машет ему рукой и желает на прощание счастья, Глеб только кивает головой, рот набит.
*
В следующий раз у автобуса его поджидает не женщина, а девочка. Мать твою. А он так надеялся. И на что? На то, что явление явится, и надеялся. На хуй, на хуй, пусть проходит.
– Привет, – говорит Глеб, вышедший по такому случаю размять кости, потянуть спину, поздороваться, намотать нервы, попидорасить. Немой Митя кивает головой и своим пустым ртом. Глебу пиздец как хочется завалить этот убогий ебальник снегом, чтобы там сталось хоть что-нибудь. Хоть. Что. Нибудь. Оказывается, есть такие картинки, которые додумывать страшно. К блестящей, скрытой сейчас капле в мочке добавляются капли в ушах, тонкие линии проводов теряются в волосах. По плечи. Ебать, тебя, что ли, не разу не били за это все?
Глеб разминает шею, мотая головой, точно готовый ударить, пока Митя беспечно заходит в пустую клетку салона, снимает резинку с кисти и в одно отточенное движение вяжет волосы. Жесткие, – думает Глеб. И закрывает глаза.
Привычно катают смену. На пике – он опять видит только мелькающую морковную макушку. «Наша Таня громко плачет, уронила в речку» чью-то рыжую голову. После Митя садится к окошку. И, блядь, прядет какую-то невзъебенно таинственную вязь своих мыслей. Кожа бледная. Веснушки огромные. Раскроить башку и слить макароны. Как жрать-то охота. Из живота зовет. Какой только голод его из живота не зовет.
Через час Глеб ставит машину на вокзале. Поворачивается к большому окну и стучит в него, Митя вскидывает голову и таким же кивком спрашивает: чего? Водитель показывает, вращая рукой у рта, типа, обед – и еще: на выход. Открывает дверь. Растерянный Митя выходит. Глеб закрывает автобус и уверенно чешет куда-то, пока юный кондуктор толчется на месте, не зная, куда податься.
– Ты, что ли, здесь и торчишь весь обед?
Жмет плечами. И что это значит?
– Ты ел?
Что-то такое выделывает лицом – тянет только на вроде бы.
– Ты, блядь, нормально можешь разговаривать?
Выпучивает глаза и рот.
– На хер иди.
И сам уходит. Садится за руль, жмет кнопку, открывает салон, и они снова едут, едут, едут. По кругу. Так, что Глебу начинает светить эта пламенеющая голова внутри, которая одна – никуда не уходит.
Радость тает, как только на Спасской подсаживается слюнявый пидрёныш, к которому мелкий козел, как баба, жмется, а потом пиздит, пиздит три прогона, не затыкаясь, и ржет. Ах ты ебок болтучий!
Как Глеб злится – словами не передать, и до конца смены не смотрит в салон, хоть загорись.
Пока в последний рейс на Калининской не подбирает трех разгоряченных торчков. Надо было проехать. Мимо, блядь. Тупица. Ты бы не подходил к ним, малыш. Не стоит им про билеты втюхивать. Но где ж тебе догадаться? Конечно же его задирают, такого да не задрать, Глеб и сам бы его – задрал… когда бьют в лицо, Глеб жмет на тормоз – всех мотает, и открывает двери, чтобы было куда валить, выскакивает, набирая короткий номер, и они успевают ударить Митю носком в живот:
– Эй, съебитесь на хуй, пока я ментов не вызвал!
– Смелый какой.
– Да уж посмелее твоего. Еще раз тронешь его, я сам тебя отпизжу.
– Да ладно тебе, чувак, не кипятись так.
– Вышли.
– Вышли-вышли.
– Ты как?
– (Кивок).
Самому впечатать башкой об пол, чтоб слова из глотки посыпались.
– Вставай, – Глеб протягивает руку (Митя кривясь поднимается), зажимает пальцами подбородок, рассматривает, – рожа у тебя завтра будет, Шараповская. Что с ребрами? – тычет рукой, Митя вскрикивает, – заговорила, русалочка, это тебе не на ножах танцевать.
– Что?
– Давно бы так.
Садится в машину, едет к травмпункту, вдруг все-таки ребра ему хлопнули. Полчаса морозит жопу на железных стульях в ожидании, пока примут, пока выпустят. И выпускают – сделать рентген. Митя выходит от костоправа и как-то виновато улыбается. За задержку, что ли? Ох, лицо у него яблоком наливается… как можно в такое лицо бить?
Один скрывается в кабинете, другой – на улице. Достает сигарету, руки почему-то ее расшатывают. Все кругом дрожит: огонек, папироска, пальцы. Затягивается глубоко, смачно, но выходит как-то смазано, даже кашляет, точно в первый раз. Потом отпускает.
Возвращается, ежась. Вечный холод от этих сигарет зимой. Митя сидит на стульчике, как детсадовец. Маленький побитый щенок в коробке. И нос повесил. Бля, перелом.
– Че, перелом?
Тот вскидывается и краснеет, как рак, мак, и еще кое-что на три буквы. Во рту помойка, в голове тоже.
– (Головой мотает).
– А че тухнешь?
– Я думал, ты…
– Свалил.
– (Кивает).
– С ребрами что?
– Ничего. Так, пара ушибов. Синяки будут.
– Ну пошли тогда. Где живешь-то?
– На Моховой.
– Не слабо так.
– Да я доеду.
– Конечно, доедешь.
– Ну, спасибо тебе. Увидимся.
– В автобус садись, блядь.
– Не стоит.
Еще как стоит. Еще как.
– Хватит ломаться, а.
Краснеет пуще прежнего.
– Ну?
Снег валит. В капюшон и за шиворот. В рожу и за щеку. Повсюду долбанный снег. Хер прикуришься. Глеб складывает руки вокруг сигареты в охранительном жесте и безуспешно чиркает отмороженной зажигалкой, растирает металлическую бляшку с кремнем пальцами, вхолостую – блядь, ебаная – отшвыривает фригидную паршивку в сугроб. Голубая дешевая пуля пробивает брюхо грязной глыбе. Злость нарастает.
– Соловьев, мальчик мой, да у тебя же пульс на грани, как я тебя выпущу? – жопой об косяк, Нина Ванна!
– Да я просто немного из себя вышел. Щас отпустит.
– Подыши-ка поглубже. Бросать тебе надо, – мягкая женщина тычет ему в грудь ледяным жалом стетоскопа, отогревая металл на коже.
– Считайте, что бросил, – перед глазами встает темная щель в снегу.
– Не знаю, но это в последний раз, и подыши еще перед рейсом, – она отправляет черную змеюку на шею, раздвоенный хвост и круглая голова сходятся в ложбинке меж ее безразмерных грудей. Глеб кивает.
– Подышу, подышу, Нина Ванна.
Он выходит из медотсека и дышит – снег лезет в пазухи носа, пар лезет из пазухи рта. От пара до дыма – световой год. Блядский потрох.
– Соловей, покурить есть? – Михалыч орет, подзывая к себе рукой, завернутой в драную перчатку, грязный ноготь гадко показывается сквозь ворсистую дырку.
– Спички?
Вместо ответа мужик хлопает себя по карманам.
Прикуривают на ветру. Музыкально – в четыре руки. Дым развевается лентами. От сигарет мерзнут руки и ноги, но душа поворачивает к раю передом. Первый выдох – выдох блаженства.
– Ну че, как житуха? – Михалыч поднимает рукой шапку, выскребая вопрос из-под щипаной челки. – Как Ванна?
– Велит подышать, – Глеб пожимает плечами и глубоко затягивается.
– Ну-ну, подышать и чай с цитрамоном да в клизму от всех смертей.
– Ну хоть выпускает.
– Так ты молодой, она таких страсть, как любит.
– Иди ты.
– К этой бабе пошел бы, – краснокожий пропоица мечтательно и похабно прикрывает глаза, белые хлопья тают у него на веках.
– У тебя ж своя – лет двадцать, – сухо прыскает Глеб.
– В том-то и дело!
– Мудила, – Глеб бросает чинарь под ногу и наступает на него.
– Здрасьте.
Тонкий голосочек, что кошачий писк, блядский щебет, заставляет поднять глаза. Мать честная, приблудыш какой-то, студентик липовый: рожа, краше девичьей, тощий, как билет, прозрачный какой-то – пленкой с пачки сорвать… капля-кнопка в ухе, горит сокровищем. Хуесос малолетний.
– Мать-ети, интеллигентный какой, – ржет Михалыч.
– Чего тебе? – Глеб смотрит на сияющий камень в алой с мороза мочке – обхватить зубами и дернуть до крови.
– Мне к Соловьеву.
Соловьев давится и кашляет в кулак. Ему хочется отомстить мелкому мудаку за одну только мысль, за одно лишь видение, мелькнувшее в голове – убить падлу и в снег зарыть.
– За кой хер?
– На смену.
Блядь.
– Ну и кондукторша у тебя нынче, – Михалыч выгибает густые удивленные брови, – а мамка-то знает, что ты вместо уроков собираешься кататься в автобусах?
– Я закончил школу.
– Ах, он закончил... а это что тогда? – старший тычет надорванным пальцем под нос ребенку, тот прижимает тонкие красные пальцы к невидимому пушку над губой.
– Что?
– Молоко у тебя не обсохло, сосеныш! – и ржет, как козел на всю улицу, тогда как от шутливого оскорбления Глеба передергивает.
– Как звать-то?
– Митя.
– Слышь: Ми. Тя, – Михалыч наклоняется к Глебу и тянет раздернутое на слоги покалеченное имя, подобострастно кривляясь. – Ну тя, Ми-тя. Соловьев, ты смотри, так все и начинается: прокатишь кружок, а потом жениться придется.
– Сука.
– Да не злыбься ты так, шучу я, шучу.
– Съебись, отморозок.
Отморозок съёбывается, выхлопывая смех, как забитый глушитель, натягивает шапку на лоб и оборачивается, отдавая честь рукой.
Глеб сплевывает на снег. Митя прячет руки в подмышки. И оба они бредут к автобусу. Глеб забирается на сиденье, хлопает дверью, укладывает обе ладони на руль, упираясь локтями, и смотрит в боковое зеркало на то, как зябкий мальчишка переминается с ноги на ногу. Сука. Вот бы так и уехать. Глеб не шевелится, только зло пыхтит в лобовое стекло, пока не поворачивается на стук – приторный Митя ебашит в дверь и разводит руки в стороны, мол: в чем дело-то? В тебе, недоносок! Глеб в бешенстве бьет по кнопке, дверь отдергивается, и мелкий впрыгивает внутрь, пока Глеб заводит махину и медленно трогает с места. Смена началась пять минут назад. Блядь. Блядь. Бля-адь.
*
Сначала Митя бежит к каждому пассажиру, как наэлектризованный, батарея в правом верхнем углу горит полной зарядкой. В час пик он, с трудом тискаясь сквозь сельди пассажиров, все еще вдохновенно клянчит деньги в обмен на «билетики». После, в полупустом автобусе, Митя сонно клюет носом и пропускает халявщиков пять, как минимум. Три остановки подряд. Мазай хренов. Глеб изредка заглядывает в салон, как девки в святки – в зеркало. Рыжая макушка и конопатая морда – приложить бы носом об поручень – примелькались настолько, что внутри отпускает. Усталость и голод забирают свое. В конце смены они катаются в тишине, уши пухнут от сгущающейся ваты и мерного жужжанья работающей машины, темнота обнимает светящийся чертог, отстраняясь от окон, редкие пассажиры, убаюканные надвигающейся ночью, качаются в такт движению, прежде, чем совсем исчезнуть. Митя будит последнего пьяного, легко расталкивая в плечо, Глеб смотрит на них понуро, и ему вдруг делается не по себе оттого, что он не знает, доберется ли этот осоловелый мужик до дома, и, главное, доберется ли до дома тщедушный мальчик, которого – отчего-то и вдруг – страшно выпустить в ночь. Оба они выходят. Один спрашивает другого: вы где хоть живете? Собирается провожать, что ли? Ну хер вам!
– Эй, тебя подвезти?
И тут он глядит на него первый раз со знакомства. И только головой мотает. И рукой прощается: мол, норм, мол, счастливо, мол, до завтра. Тебе, блядь, не сказать, что ли?
Глеб злится, закрывает машину и надеется, что маленького говнюка отпиздят в подворотне так, что он никогда больше не сможет отрывать билеты в общественном транспорте.
*
Глеб приходит на смену, у машины его поджидает тяжелая Зинаида Михална. Она подпирает плечом дверь и слегка дремлет прямо так – стоя.
– Здасьте, – говорит Глеб дежурно.
– А, привет, – так же бесстрастно отвечает кондукторша. Кондукторша. Нелепое сочетание букв, которого нет в мире слов, зато есть – в мире людей. Кондукторша. Дрыхнет, поди, еще. В колыбели. Глеб гонит картинки, в которых из-под белого застиранного одеяла торчат всклокоченные рыжие прядки. Спящая, блядь, красавица. И ему отчего-то хочется пожать руку утренней неприветливой женщине, которую и женщиной-то трудно назвать. За отсрочку.
Он почти спокойно откатывает до пяти, потом начинаются злоебучие пробки: дерганный ритм, ступор, мат сквозь зубы на подрезающих дятлов, сильно борзого таксиста на бурой девятке хочется отпиздить и закатать под колеса: да пошел ты, мудозвон херов! – хоть бабуля всегда просила его: а ты не спускайся до них, Глебушко, – да завали, блядь! Он слишком давно – спустился.
В пересменку Глеб ставит машину в десяти метрах от конечной. Ест хлеб, запивает колой – денег нет. Зинаида Михална машет ему рукой и желает на прощание счастья, Глеб только кивает головой, рот набит.
*
В следующий раз у автобуса его поджидает не женщина, а девочка. Мать твою. А он так надеялся. И на что? На то, что явление явится, и надеялся. На хуй, на хуй, пусть проходит.
– Привет, – говорит Глеб, вышедший по такому случаю размять кости, потянуть спину, поздороваться, намотать нервы, попидорасить. Немой Митя кивает головой и своим пустым ртом. Глебу пиздец как хочется завалить этот убогий ебальник снегом, чтобы там сталось хоть что-нибудь. Хоть. Что. Нибудь. Оказывается, есть такие картинки, которые додумывать страшно. К блестящей, скрытой сейчас капле в мочке добавляются капли в ушах, тонкие линии проводов теряются в волосах. По плечи. Ебать, тебя, что ли, не разу не били за это все?
Глеб разминает шею, мотая головой, точно готовый ударить, пока Митя беспечно заходит в пустую клетку салона, снимает резинку с кисти и в одно отточенное движение вяжет волосы. Жесткие, – думает Глеб. И закрывает глаза.
Привычно катают смену. На пике – он опять видит только мелькающую морковную макушку. «Наша Таня громко плачет, уронила в речку» чью-то рыжую голову. После Митя садится к окошку. И, блядь, прядет какую-то невзъебенно таинственную вязь своих мыслей. Кожа бледная. Веснушки огромные. Раскроить башку и слить макароны. Как жрать-то охота. Из живота зовет. Какой только голод его из живота не зовет.
Через час Глеб ставит машину на вокзале. Поворачивается к большому окну и стучит в него, Митя вскидывает голову и таким же кивком спрашивает: чего? Водитель показывает, вращая рукой у рта, типа, обед – и еще: на выход. Открывает дверь. Растерянный Митя выходит. Глеб закрывает автобус и уверенно чешет куда-то, пока юный кондуктор толчется на месте, не зная, куда податься.
– Ты, что ли, здесь и торчишь весь обед?
Жмет плечами. И что это значит?
– Ты ел?
Что-то такое выделывает лицом – тянет только на вроде бы.
– Ты, блядь, нормально можешь разговаривать?
Выпучивает глаза и рот.
– На хер иди.
И сам уходит. Садится за руль, жмет кнопку, открывает салон, и они снова едут, едут, едут. По кругу. Так, что Глебу начинает светить эта пламенеющая голова внутри, которая одна – никуда не уходит.
Радость тает, как только на Спасской подсаживается слюнявый пидрёныш, к которому мелкий козел, как баба, жмется, а потом пиздит, пиздит три прогона, не затыкаясь, и ржет. Ах ты ебок болтучий!
Как Глеб злится – словами не передать, и до конца смены не смотрит в салон, хоть загорись.
Пока в последний рейс на Калининской не подбирает трех разгоряченных торчков. Надо было проехать. Мимо, блядь. Тупица. Ты бы не подходил к ним, малыш. Не стоит им про билеты втюхивать. Но где ж тебе догадаться? Конечно же его задирают, такого да не задрать, Глеб и сам бы его – задрал… когда бьют в лицо, Глеб жмет на тормоз – всех мотает, и открывает двери, чтобы было куда валить, выскакивает, набирая короткий номер, и они успевают ударить Митю носком в живот:
– Эй, съебитесь на хуй, пока я ментов не вызвал!
– Смелый какой.
– Да уж посмелее твоего. Еще раз тронешь его, я сам тебя отпизжу.
– Да ладно тебе, чувак, не кипятись так.
– Вышли.
– Вышли-вышли.
– Ты как?
– (Кивок).
Самому впечатать башкой об пол, чтоб слова из глотки посыпались.
– Вставай, – Глеб протягивает руку (Митя кривясь поднимается), зажимает пальцами подбородок, рассматривает, – рожа у тебя завтра будет, Шараповская. Что с ребрами? – тычет рукой, Митя вскрикивает, – заговорила, русалочка, это тебе не на ножах танцевать.
– Что?
– Давно бы так.
Садится в машину, едет к травмпункту, вдруг все-таки ребра ему хлопнули. Полчаса морозит жопу на железных стульях в ожидании, пока примут, пока выпустят. И выпускают – сделать рентген. Митя выходит от костоправа и как-то виновато улыбается. За задержку, что ли? Ох, лицо у него яблоком наливается… как можно в такое лицо бить?
Один скрывается в кабинете, другой – на улице. Достает сигарету, руки почему-то ее расшатывают. Все кругом дрожит: огонек, папироска, пальцы. Затягивается глубоко, смачно, но выходит как-то смазано, даже кашляет, точно в первый раз. Потом отпускает.
Возвращается, ежась. Вечный холод от этих сигарет зимой. Митя сидит на стульчике, как детсадовец. Маленький побитый щенок в коробке. И нос повесил. Бля, перелом.
– Че, перелом?
Тот вскидывается и краснеет, как рак, мак, и еще кое-что на три буквы. Во рту помойка, в голове тоже.
– (Головой мотает).
– А че тухнешь?
– Я думал, ты…
– Свалил.
– (Кивает).
– С ребрами что?
– Ничего. Так, пара ушибов. Синяки будут.
– Ну пошли тогда. Где живешь-то?
– На Моховой.
– Не слабо так.
– Да я доеду.
– Конечно, доедешь.
– Ну, спасибо тебе. Увидимся.
– В автобус садись, блядь.
– Не стоит.
Еще как стоит. Еще как.
– Хватит ломаться, а.
Краснеет пуще прежнего.
– Ну?
2
«веди меня в огонь»
*
Глеб откатывает еще два дня, кружа по городу, как по золоченой тарелочной кромке, и к концу второй смены так трещит по швам, что дрыхнет почти все последующие сутки. Похмельный отец заглядывает к нему в комнату, перетряхивает штаны и карманы курток в поисках мелочи, пиздит какие-то копейки, перебирая в руке. Глеб не слышит. Потом мать зовет есть, а не дозвавшись, трогает лоб – он слабо отмахивается и по-настоящему просыпается только в три, в подсвеченную снегом темноту зимней ночи. Хлопья беззвучно сыплются с неба. Глеб трет лицо, подходит к окну, почесывая живот, открывает форточку, подбирает с подоконника пачку, поджигает, затягивается, выдыхает. Дым мажет тьму разбавленной серостью.
*
Умывается. Сон отбелил глаза, капли висят на ресницах. Глеб мажет с ладони новогоднюю бороду на скулы и подбородок, спешно бреется, споласкивается, залезает под душ – сверху сыплет горячим, и он едва не засыпает снова. На закрытых веках мелькает бледное лицо – «рыжее, рыжее, конопатое» – лицо беса проклятого. Глеб упирается ладонью в кафель и – тычась носом в сгиб локтя и пряча глаза и стыд от самого себя – повисает на вытянутой руке и начинает жестко надрачивать, готовый вцепиться зубами в кожу, лишь бы быстрее кончить. Вода все льется и льется. Он разжимает пальцы и подставляет под кран, будто может просто смыть наваждение и его смыть в закручивающемся потоке в темное очко слива. Туда же плюет.
*
Через неделю – они совпадают снова. Лицо у Мити в лужах синих и чайных пятен. И сучоныш еще улыбается, а потом говорит: «Привет». У Глеба дыхание в блядском зобу спирает от этой улыбки и простого сотней ртов говоримого шлюшьего слова. Он – сквозь набат под решеткой ребер внутри – зло подначивает: «Очнулась, принцесса?» – и залезает к себе, всерьез обдумывая, чтобы повесить какую-нибудь сисястую блядь, блядь, как щит и ладанку от окна в салон. Митя садится на свое место и обиженно рассматривает носки ботинок. Остановку. Другую. Потом все же встает, пока никто не принялся выходить на халяву. Они не говорят в перерывах, молча расходятся на обеде, слепо жрут и давятся в разных углах в привокзальной столовке и снова молча расходятся в пересменку – раздать каждый свой долг: Митя – деньги, Глеб – машину.
Митя возвращается в автобус с открытой дверью. Близкие контакты минус третьей степени. Машина бухает и мягко трогает с места.
*
В следующий раз они тоже играют в молчанку, не-гляделки и в «пошел на хер, мудак» до самой ночи. С последних остановок, как назло, никто не заходит, едут одни в огромной пересохшей коробке-куколке, которая хер в кого превратится. Митя сдается первым и принимается пялить в упор в зеркало дальнего вида. Ловит. Глеб вскользь царапается об этот взгляд и быстро сливается, отвернувшись к окну. Потом забывается и снова – ножом по глазам. Пиздюк, решил доебаться? Слава Богу, на Борисовской садится какой-то кент, Митя отвлекается на него на минуту, но потом бухается на сиденье, перед самым стеклом, ублюдок, укладывает голову на сложенные на поручень ладони и ебет своими глазищами в самое, мать его, сердце. Глеб углубляет вдохи и добавляет гнева в прищур, но мелкий если и ведет бровью, то пиздец, как невинно. Глеб, что в сраном кино, забывает смотреть на дорогу. Придурок, смотри на дорогу! Так и доезжают до парка – точно перетягивают канат.
*
Глеб ждет у дверей, когда Митя сдаст деньги. Тот выходит и трет глаза. На лице его ни хуя не поддельное удивление. В остаточном почти домашнем свете он выглядит каким-то странно захватанным, словно все эти люди днем трогали его своими жалкими пальцами. Глебу хочется провести ладонью по его волосам.
– Тебя подбросить?
Митя кивком соглашается.
*
Садятся в раздолбанный и старый, как мир, угловатый мерс.
– Ох ни хрена себе, у тебя тачка какая.
Ох ни хрена себе, сколько слов.
– Да это еще отцовская. Можешь даже не пытаться, он сломан.
Про ремень безопасности.
Митя понимающе кивает головой.
Рыжий болванчик.
Глеб стягивает шапку, бросает ее на заднее сиденье, как-то смущенно шершавит ладонью по короткой щетке волос и заводит машину. После рабочей – у него ощущение, что они сидят в капле. Так же тесно и дышать нечем. Малявка опять наглеет и продолжает лупить в упор, пуще прежнего, поворачивает башку и тупо – взасос – зырит. Въебать бы. Глеб не выдерживает и с большими паузами строго спрашивает:
– Что. Ты. Мать твою. Делаешь?
И получает под дых:
– Смотрю на тебя.
Глеб сворачивает к обочине и давит на тормоз, машина резко останавливается – и Митя едва не раскалывает башку о приборную доску, успевая выставить ладони.
– И что ты надеешься высмотреть?
Митя зачем-то дергает бардачок и отвечает, захлопывая его:
– Взаимность.
Глеб глотает все и беспомощно выдает:
– Ты что, совсем еблан?
– Наверное.
– Баба.
– Да, как видишь, нет!
Митя срывается, резко хватает ручку, распахивает дверь, и одной ногой уже – убежал. Сейчас он выскочит и свалит совсем. Глеб ловит его за руку и дергает на себя, принуждая вернуться на место, потом, перекинувшись через него, хлопает дверью. Митя покоряется, безвольно осев. Глеб глушит машину.
Свет пропадает.
Глеб перекидывается к нему, и они елозятся по сиденьям. В результате возни Митя оказывается сидящим сверху: колени жмутся в сиденье, ладони – в плечи. Они и сами не поняли, как это вышло, кроме того, что вышло быстро. Застыли, пыхтя друг другу в лица.
Глеб тянет резинку с длинных волос, и рыжие (серые в темноте) струны рассыпаются по плечам, он завороженно и легко трогает кончиками пальцев кончики этих волос.
Жесткие и сухие.
Митя опускает глаза и чуть наклоняет голову, провожая взглядом касание, которого не чувствует. Глеб вдруг обнимает его лицо и целует. Они дергают друг у друга молнии курток и штанов, рвут пуговицы, залезая под ткань и под кожу. Шало дрочат друг другу, задыхаясь от ощущений, и дышат, дышат, дышат, туманя стекло возбуждением и отчаянием.
*
Прощаются сухо, робко и скомкано.
*
Потом Мити долго нет. Нет его. Глеб понуро катает машину по городу. Разъебать бы блюдечко с золотой каемочкой. Когда видятся снова – ничего не говорят. Митя краснеет, вообще тупит и тупит взор. Глеб не знает, что сказать, и просто прикусывает кончики его еще несобранных волос пальцами. Одно лишь мгновение, и – вспышка.
В конце, проезжая пустую конечную, Глеб паркуется напротив парка местных туберкулезников в такой темноте, что хоть глаз выколи. Входит в салон. И они по-настоящему трахаются прямо там, внутри недолупленной остывающей бабочки: со смазкой, растяжой, с болью и кайфом, как два полноценных новоявленных гомика. Пока снег валит за стеклом и ладони трутся о поручень. До белых медяков в глазах, в заднице и на пальцах. Свет проезжающей мимо машины поджигает Митины волосы.
*
Вот ты и крещен, пидор.
Глеб откатывает еще два дня, кружа по городу, как по золоченой тарелочной кромке, и к концу второй смены так трещит по швам, что дрыхнет почти все последующие сутки. Похмельный отец заглядывает к нему в комнату, перетряхивает штаны и карманы курток в поисках мелочи, пиздит какие-то копейки, перебирая в руке. Глеб не слышит. Потом мать зовет есть, а не дозвавшись, трогает лоб – он слабо отмахивается и по-настоящему просыпается только в три, в подсвеченную снегом темноту зимней ночи. Хлопья беззвучно сыплются с неба. Глеб трет лицо, подходит к окну, почесывая живот, открывает форточку, подбирает с подоконника пачку, поджигает, затягивается, выдыхает. Дым мажет тьму разбавленной серостью.
*
Умывается. Сон отбелил глаза, капли висят на ресницах. Глеб мажет с ладони новогоднюю бороду на скулы и подбородок, спешно бреется, споласкивается, залезает под душ – сверху сыплет горячим, и он едва не засыпает снова. На закрытых веках мелькает бледное лицо – «рыжее, рыжее, конопатое» – лицо беса проклятого. Глеб упирается ладонью в кафель и – тычась носом в сгиб локтя и пряча глаза и стыд от самого себя – повисает на вытянутой руке и начинает жестко надрачивать, готовый вцепиться зубами в кожу, лишь бы быстрее кончить. Вода все льется и льется. Он разжимает пальцы и подставляет под кран, будто может просто смыть наваждение и его смыть в закручивающемся потоке в темное очко слива. Туда же плюет.
*
Через неделю – они совпадают снова. Лицо у Мити в лужах синих и чайных пятен. И сучоныш еще улыбается, а потом говорит: «Привет». У Глеба дыхание в блядском зобу спирает от этой улыбки и простого сотней ртов говоримого шлюшьего слова. Он – сквозь набат под решеткой ребер внутри – зло подначивает: «Очнулась, принцесса?» – и залезает к себе, всерьез обдумывая, чтобы повесить какую-нибудь сисястую блядь, блядь, как щит и ладанку от окна в салон. Митя садится на свое место и обиженно рассматривает носки ботинок. Остановку. Другую. Потом все же встает, пока никто не принялся выходить на халяву. Они не говорят в перерывах, молча расходятся на обеде, слепо жрут и давятся в разных углах в привокзальной столовке и снова молча расходятся в пересменку – раздать каждый свой долг: Митя – деньги, Глеб – машину.
Митя возвращается в автобус с открытой дверью. Близкие контакты минус третьей степени. Машина бухает и мягко трогает с места.
*
В следующий раз они тоже играют в молчанку, не-гляделки и в «пошел на хер, мудак» до самой ночи. С последних остановок, как назло, никто не заходит, едут одни в огромной пересохшей коробке-куколке, которая хер в кого превратится. Митя сдается первым и принимается пялить в упор в зеркало дальнего вида. Ловит. Глеб вскользь царапается об этот взгляд и быстро сливается, отвернувшись к окну. Потом забывается и снова – ножом по глазам. Пиздюк, решил доебаться? Слава Богу, на Борисовской садится какой-то кент, Митя отвлекается на него на минуту, но потом бухается на сиденье, перед самым стеклом, ублюдок, укладывает голову на сложенные на поручень ладони и ебет своими глазищами в самое, мать его, сердце. Глеб углубляет вдохи и добавляет гнева в прищур, но мелкий если и ведет бровью, то пиздец, как невинно. Глеб, что в сраном кино, забывает смотреть на дорогу. Придурок, смотри на дорогу! Так и доезжают до парка – точно перетягивают канат.
*
Глеб ждет у дверей, когда Митя сдаст деньги. Тот выходит и трет глаза. На лице его ни хуя не поддельное удивление. В остаточном почти домашнем свете он выглядит каким-то странно захватанным, словно все эти люди днем трогали его своими жалкими пальцами. Глебу хочется провести ладонью по его волосам.
– Тебя подбросить?
Митя кивком соглашается.
*
Садятся в раздолбанный и старый, как мир, угловатый мерс.
– Ох ни хрена себе, у тебя тачка какая.
Ох ни хрена себе, сколько слов.
– Да это еще отцовская. Можешь даже не пытаться, он сломан.
Про ремень безопасности.
Митя понимающе кивает головой.
Рыжий болванчик.
Глеб стягивает шапку, бросает ее на заднее сиденье, как-то смущенно шершавит ладонью по короткой щетке волос и заводит машину. После рабочей – у него ощущение, что они сидят в капле. Так же тесно и дышать нечем. Малявка опять наглеет и продолжает лупить в упор, пуще прежнего, поворачивает башку и тупо – взасос – зырит. Въебать бы. Глеб не выдерживает и с большими паузами строго спрашивает:
– Что. Ты. Мать твою. Делаешь?
И получает под дых:
– Смотрю на тебя.
Глеб сворачивает к обочине и давит на тормоз, машина резко останавливается – и Митя едва не раскалывает башку о приборную доску, успевая выставить ладони.
– И что ты надеешься высмотреть?
Митя зачем-то дергает бардачок и отвечает, захлопывая его:
– Взаимность.
Глеб глотает все и беспомощно выдает:
– Ты что, совсем еблан?
– Наверное.
– Баба.
– Да, как видишь, нет!
Митя срывается, резко хватает ручку, распахивает дверь, и одной ногой уже – убежал. Сейчас он выскочит и свалит совсем. Глеб ловит его за руку и дергает на себя, принуждая вернуться на место, потом, перекинувшись через него, хлопает дверью. Митя покоряется, безвольно осев. Глеб глушит машину.
Свет пропадает.
Глеб перекидывается к нему, и они елозятся по сиденьям. В результате возни Митя оказывается сидящим сверху: колени жмутся в сиденье, ладони – в плечи. Они и сами не поняли, как это вышло, кроме того, что вышло быстро. Застыли, пыхтя друг другу в лица.
Глеб тянет резинку с длинных волос, и рыжие (серые в темноте) струны рассыпаются по плечам, он завороженно и легко трогает кончиками пальцев кончики этих волос.
Жесткие и сухие.
Митя опускает глаза и чуть наклоняет голову, провожая взглядом касание, которого не чувствует. Глеб вдруг обнимает его лицо и целует. Они дергают друг у друга молнии курток и штанов, рвут пуговицы, залезая под ткань и под кожу. Шало дрочат друг другу, задыхаясь от ощущений, и дышат, дышат, дышат, туманя стекло возбуждением и отчаянием.
*
Прощаются сухо, робко и скомкано.
*
Потом Мити долго нет. Нет его. Глеб понуро катает машину по городу. Разъебать бы блюдечко с золотой каемочкой. Когда видятся снова – ничего не говорят. Митя краснеет, вообще тупит и тупит взор. Глеб не знает, что сказать, и просто прикусывает кончики его еще несобранных волос пальцами. Одно лишь мгновение, и – вспышка.
В конце, проезжая пустую конечную, Глеб паркуется напротив парка местных туберкулезников в такой темноте, что хоть глаз выколи. Входит в салон. И они по-настоящему трахаются прямо там, внутри недолупленной остывающей бабочки: со смазкой, растяжой, с болью и кайфом, как два полноценных новоявленных гомика. Пока снег валит за стеклом и ладони трутся о поручень. До белых медяков в глазах, в заднице и на пальцах. Свет проезжающей мимо машины поджигает Митины волосы.
*
Вот ты и крещен, пидор.
3
«я стою на пороге открытия собственной тени»
*
– Соловьев, я не знаю, пей, что ли, успокоительные, бегай и брось уже курить. В конце концов, не дыми ты перед осмотром! Сколько можно тебе повторять? Допущу тебя, но это в последний раз!
Это в последний раз. Слышали уже. Говорили. Легко сказать, Нина Ванна, легко сказать.
*
Они почти не разговаривают. Негде. Только ебутся.
Да и ебаться негде, но с этим все равно проще.
Ничего друг о друге не знают: ни квартир, ни семей. Можно выспросить – город маленький, но стремно и впадлу. Так они думают, что ограждают, оберегают себя – от всякой привязанности. Глеб только смутно знает, что Митя не поступил в прошлом году, и будет пробовать снова. Он содрогается, когда слышит об этом впервые. Натурально, блядь, его шибает там, в животе – гадко и горячо, до боли и страха, а еще тоски. Прямо здесь и сейчас – тоски по нему, кто говорит, что исчезнет. И он смотрит на него так, словно Митя – гангрена, и его – с Глебова тела – нужно отсечь, как всякую гниль, только он не хочет, чтобы эту гниль срезали. Совсем не хочет.
– Ты чего?
Глеб лишь мотает головой, стряхивая потрясение с лица, как пес воду со шкуры.
Иногда ему кажется, что – так – даже лучше.
Вуз солидный, факультет ебанутый.
– Ты серьезно?
– А что?
– Как-то это бесплотно.
– Может и так.
– Мандец, ты, конечно, собрался. Лично я разницу между Кантом и Фейербахом улавливаю только в количестве букв. Первого, кстати, за это больше уважаю. И вот тебе моя философия: в любой ебле, в том числе и мозгов – размер имеет значение.
Митя смеется. Ну просто хохочет:
– Неограненный ты алмаз, Глеб.
И целует, считай, чмокает, в лоб. Как святой, блядь.
Отчего-то этот сухой щелчок губами больно бьет в позвоночник.
*
Они никогда не встречаются вне работы. В свои выходные один – отсыпается, другой – учится. Исключая тот вечер в здешнем гадюшнике «Ливерпуле» (в котором от Ливерпуля – только имя на вывеске), где они случайно столкнулись на дне города. Шайка на шайку. Быдляк с мажорами. Разошлись полюбовно. Особенно Глеб с Митей – сгладили углы в тесном подвальном толчке, опасно и оттого – быстро, зажимая рот рукой и кусая пальцы, смеясь и подначивая, выбираясь по одному. Митя после коснулся его у бара, набирая пива своим, случайно ли – хэзэ? Только Глеб сидел после этого, улыбаясь дну тяжеленной кружки, и пятно на руке – теплилось.
Это было их единственное свидание, о котором никто не знал, в котором никто не участвовал.
*
А потом вундеркинд хуев вытащил свой счастливый билет и поступил. Все-таки поступил. Собрал манатки и очень быстро стикал в невзъеботную столицу отечества, подальше от скудоумного Мухосранска. Пиздуй, пиздуй, голубок, не зафритюрь крылышки.
*
Но все равно Глеб идет на вокзал, потому что они так и не попрощались. Вокруг Мити кружат его мозгоебливые дружки, ржут и хлопают по плечам, и тот, к которому он как-то унесся, точно сумасшедший, выскочив из автобуса через все ступени, удерживаясь на поручнях, скакнул – я сегодня не могу – ну и не моги, блядь – виновато улыбнулся и побежал, как малый ребенок. Глебу оставалось только отскребать с лица ахуй и разочарование. И снова он так улыбается. Хули лыбишься, дурачок? Глеб, как ни старается, не может в ответ сломить линию, в которую сжались губы. Так они и стоят – в конце, как в начале – беспомощно таращась друг на друга сквозь толпу посторонних. Глеб курит. Курит до самого фильтра, до горечи, которую только сплюнуть, и уходит, уходит раньше, чем тронется поезд, раньше, чем закупорят двери, раньше, чем вагон увезет его проржавевшее сердце вместе с маленьким хуесосом.
– Соловьев, я не знаю, пей, что ли, успокоительные, бегай и брось уже курить. В конце концов, не дыми ты перед осмотром! Сколько можно тебе повторять? Допущу тебя, но это в последний раз!
Это в последний раз. Слышали уже. Говорили. Легко сказать, Нина Ванна, легко сказать.
*
Они почти не разговаривают. Негде. Только ебутся.
Да и ебаться негде, но с этим все равно проще.
Ничего друг о друге не знают: ни квартир, ни семей. Можно выспросить – город маленький, но стремно и впадлу. Так они думают, что ограждают, оберегают себя – от всякой привязанности. Глеб только смутно знает, что Митя не поступил в прошлом году, и будет пробовать снова. Он содрогается, когда слышит об этом впервые. Натурально, блядь, его шибает там, в животе – гадко и горячо, до боли и страха, а еще тоски. Прямо здесь и сейчас – тоски по нему, кто говорит, что исчезнет. И он смотрит на него так, словно Митя – гангрена, и его – с Глебова тела – нужно отсечь, как всякую гниль, только он не хочет, чтобы эту гниль срезали. Совсем не хочет.
– Ты чего?
Глеб лишь мотает головой, стряхивая потрясение с лица, как пес воду со шкуры.
Иногда ему кажется, что – так – даже лучше.
Вуз солидный, факультет ебанутый.
– Ты серьезно?
– А что?
– Как-то это бесплотно.
– Может и так.
– Мандец, ты, конечно, собрался. Лично я разницу между Кантом и Фейербахом улавливаю только в количестве букв. Первого, кстати, за это больше уважаю. И вот тебе моя философия: в любой ебле, в том числе и мозгов – размер имеет значение.
Митя смеется. Ну просто хохочет:
– Неограненный ты алмаз, Глеб.
И целует, считай, чмокает, в лоб. Как святой, блядь.
Отчего-то этот сухой щелчок губами больно бьет в позвоночник.
*
Они никогда не встречаются вне работы. В свои выходные один – отсыпается, другой – учится. Исключая тот вечер в здешнем гадюшнике «Ливерпуле» (в котором от Ливерпуля – только имя на вывеске), где они случайно столкнулись на дне города. Шайка на шайку. Быдляк с мажорами. Разошлись полюбовно. Особенно Глеб с Митей – сгладили углы в тесном подвальном толчке, опасно и оттого – быстро, зажимая рот рукой и кусая пальцы, смеясь и подначивая, выбираясь по одному. Митя после коснулся его у бара, набирая пива своим, случайно ли – хэзэ? Только Глеб сидел после этого, улыбаясь дну тяжеленной кружки, и пятно на руке – теплилось.
Это было их единственное свидание, о котором никто не знал, в котором никто не участвовал.
*
А потом вундеркинд хуев вытащил свой счастливый билет и поступил. Все-таки поступил. Собрал манатки и очень быстро стикал в невзъеботную столицу отечества, подальше от скудоумного Мухосранска. Пиздуй, пиздуй, голубок, не зафритюрь крылышки.
*
Но все равно Глеб идет на вокзал, потому что они так и не попрощались. Вокруг Мити кружат его мозгоебливые дружки, ржут и хлопают по плечам, и тот, к которому он как-то унесся, точно сумасшедший, выскочив из автобуса через все ступени, удерживаясь на поручнях, скакнул – я сегодня не могу – ну и не моги, блядь – виновато улыбнулся и побежал, как малый ребенок. Глебу оставалось только отскребать с лица ахуй и разочарование. И снова он так улыбается. Хули лыбишься, дурачок? Глеб, как ни старается, не может в ответ сломить линию, в которую сжались губы. Так они и стоят – в конце, как в начале – беспомощно таращась друг на друга сквозь толпу посторонних. Глеб курит. Курит до самого фильтра, до горечи, которую только сплюнуть, и уходит, уходит раньше, чем тронется поезд, раньше, чем закупорят двери, раньше, чем вагон увезет его проржавевшее сердце вместе с маленьким хуесосом.
4
«пари держу, что ты не нужен даже аду,
горит»
*
Глеб ебланит, как вол, целую неделю, закрутившись волчком, белкой и еще, хуй знает, как озверев, пока не валится к собачьим чертям с температурой под сорок.
В конец августа.
Крутится на кровати, точно на вертеле, подпаляя бока, не в силах встать, сесть или хоть глаза разлепить. Звать тоже – не может. К нему ходят какие-то люди, тычут в тело, кудахчут и сваливают, пока он горит огнем и не может остыть.
Болезнь и тоска выёбывают его по полной: он сохнет и выдыхается, точно долго бежал или долго лежал. Отходит мучительно скучно, валяясь в постели, и чуть умом не съезжает от безделья и ломки.
Когда мать запускает мелких, те сначала робко толкутся возле: Олька гладит рукой, жалеет его, как никто не жалеет, Глеб улыбается, и шпана, как мячи, прыгают на кровать. Мишка скачет, Олька лечит. Давит сок из лимона прямо там, в комнате. Сурово так жмет, с усердием наворачивая на вилку кислотные кишки. Вонища, как в тюбике. У Глеба от одного вида глаза слезятся и зубы сводит, но он покорно выпивает нектар и еще говорит:
– Спасибо.
– Ну как, ничего?
– Знаешь, водки немного не хватает.
– Тебе же нельзя!
– Жаль, правда?
– Фу, Глеб! Мама и так говорит, что тебе жениться пора, а не то ты сопьешься, как папа.
– Ну так яблоко от яблони недалеко падает.
– Какой же ты бываешь противный.
– А уж яблоко от яблока…
И щекочет ее – до визга. Мишка падает на них сверху, и они дурачатся до тех пор, пока у Глеба не начинает кружить башку.
– Все, мелочь, ссыпайся отсюдова.
– Ну, Гле-еб!
– Тикайте, я говорю.
Мишка вихрасто уносится без всякого сожаления, а Олька деловито складывает в стакан и в ладонь обезвоженные желтые половинки и торжественно и гордо выносит их из комнаты. Впрочем, возвращается быстро, с книжкой, забирается в ноги, как кошка, и долго нескладно читает ему про русалочку (опять!), эту тошнотную сказку, от которой Глебу самому хочется кого-нибудь полоснуть, чтобы вернулся хвост.
Чтобы вернулся.
*
Мать смотрит на него странно. После особенно жестких времен горячки. Он ни хера не помнит, но нутром чует, что, поди, спалился.
Ему стыдно.
Немного.
Хоть даже странно, как мало.
Но когда она призывает поговорить, Глеб просит ее отстать. Звучит, как грубость, она и трактует, как грубость, но на деле – это мольба.
– Мам, ну давай без этого, – когда она обижается.
Спустя пару месяцев она красноречиво молча протягивает ему конверт.
– Тебе тут пришло.
Без обратного адреса. С московским штампом.
– А-а, потом посмотрю.
И сразу берет в руки.
Легкое.
Но как пробивает легкие.
Глебу Соловьеву. Гончарная, 8-12
Глеб ебланит, как вол, целую неделю, закрутившись волчком, белкой и еще, хуй знает, как озверев, пока не валится к собачьим чертям с температурой под сорок.
В конец августа.
Крутится на кровати, точно на вертеле, подпаляя бока, не в силах встать, сесть или хоть глаза разлепить. Звать тоже – не может. К нему ходят какие-то люди, тычут в тело, кудахчут и сваливают, пока он горит огнем и не может остыть.
Болезнь и тоска выёбывают его по полной: он сохнет и выдыхается, точно долго бежал или долго лежал. Отходит мучительно скучно, валяясь в постели, и чуть умом не съезжает от безделья и ломки.
Когда мать запускает мелких, те сначала робко толкутся возле: Олька гладит рукой, жалеет его, как никто не жалеет, Глеб улыбается, и шпана, как мячи, прыгают на кровать. Мишка скачет, Олька лечит. Давит сок из лимона прямо там, в комнате. Сурово так жмет, с усердием наворачивая на вилку кислотные кишки. Вонища, как в тюбике. У Глеба от одного вида глаза слезятся и зубы сводит, но он покорно выпивает нектар и еще говорит:
– Спасибо.
– Ну как, ничего?
– Знаешь, водки немного не хватает.
– Тебе же нельзя!
– Жаль, правда?
– Фу, Глеб! Мама и так говорит, что тебе жениться пора, а не то ты сопьешься, как папа.
– Ну так яблоко от яблони недалеко падает.
– Какой же ты бываешь противный.
– А уж яблоко от яблока…
И щекочет ее – до визга. Мишка падает на них сверху, и они дурачатся до тех пор, пока у Глеба не начинает кружить башку.
– Все, мелочь, ссыпайся отсюдова.
– Ну, Гле-еб!
– Тикайте, я говорю.
Мишка вихрасто уносится без всякого сожаления, а Олька деловито складывает в стакан и в ладонь обезвоженные желтые половинки и торжественно и гордо выносит их из комнаты. Впрочем, возвращается быстро, с книжкой, забирается в ноги, как кошка, и долго нескладно читает ему про русалочку (опять!), эту тошнотную сказку, от которой Глебу самому хочется кого-нибудь полоснуть, чтобы вернулся хвост.
Чтобы вернулся.
*
Мать смотрит на него странно. После особенно жестких времен горячки. Он ни хера не помнит, но нутром чует, что, поди, спалился.
Ему стыдно.
Немного.
Хоть даже странно, как мало.
Но когда она призывает поговорить, Глеб просит ее отстать. Звучит, как грубость, она и трактует, как грубость, но на деле – это мольба.
– Мам, ну давай без этого, – когда она обижается.
Спустя пару месяцев она красноречиво молча протягивает ему конверт.
– Тебе тут пришло.
Без обратного адреса. С московским штампом.
– А-а, потом посмотрю.
И сразу берет в руки.
Легкое.
Но как пробивает легкие.
Глебу Соловьеву. Гончарная, 8-12
Он моргает на синие буквы, словно слышит их. Вскрывает неловко, разъёбывая весь край в какую-то пиздецовую бахрому. Внутри – открытка. Карандашный рисунок. Автобус едет ночью по улице. На обратной стороне – пусто. Ни одного рукописного росчерка. Это что, шутка такая? Глеб просто звереет. Мнет сучью картинку в комок и ебашит в стену. Смотрит на белый конверт на столе. Синие буквы прожигают белый. Он выходит из дома, упивается в жопу и блюет в подвальном туалете до выхорки кишок.
*
Утром мать смотрит на него с опаской и молчит, хоть опять говорила Ольке, как скоро ему нужно жениться, он слышал из ванны, подумав, что скоро жениться точно придется на многожды обесчещенной правой руке. Жаль, что нельзя представить маме такую невесту.
Как жаль, что нельзя представить.
*
Осень уходит быстрее лета. И с неба снова харкает снегом. На улице скользина, Глеб падает как-то смешно и небольно, только ладонь саднит. Матерится, закуривает и выходит в рейс.
*
В декабре у Жеки днюха. Проставляется в Ливерпуле. Собираются старой компашкой, еще по двору. Давно не виделись – и тепло: ржут ни о чем, пьют, не считаясь. Глеб уходит отлить. В целом, он почти трезвый, но пиво зовет. Возвращается, растряхивая воду с рук, нелепо растопырив пальцы. Поднимает голову и.
Приехал.
Красивый какой.
Ужас берет, до чего красивый.
Волосы так и горят, даже собранные в какую-то хуйню, которую и хвостом не назвать, совсем отросли.
Фантомно колет на кончиках пальцев.
Первая мысль – подойди, вторая – просто ступай. Да. Передвигай ноги.
И Глеб ступает, передвигая ноги, и идет к ребятам.
– Щас, там старый друг, еще с работы
– Ага.
Всем, в общем-то, похуй.
Всем похуй, а у него качка.
Блядь, на море-то до пизды волна, а только что был – штиль полный и полный ништяк.
Ну что же ты делаешь-то, сучоныш?
Глеб подходит к столу, Митя сидит спиной (когда и успели, только пришли ведь), поворачивается повесить сумку на стул.
Поворачивается.
И вдруг – краснеет.
Краснеет.
Еще не отвык.
Это, может быть, все, что осталось.
Да говорит: привет.
Беспечный какой.
– Приехал.
– Дней пять уже.
– И не сказал.
– Да мы уезжаем завтра.
– Мы?
– Это Никита.
Глеб кладет взгляд и хуй на этого Никиту, у которого из достоинств только часы одни, что ебанят серебром в космос, точно у того на руке кожа содрана и показывается железная кость. Педрюк-терминатор, блядь. Впрочем, он и сам что-то разжижился. Ебок тянет клешню, перебитую сталью, Глеб игнорирует и даже не улыбается.
– На новый год не получится, так что мы сейчас приехали.
Мы.
А мы?
– Счастливой дороги.
И идет к своим, как от врагов. К своим. Бежит.
Он кипит. Кипит. Снимите кто-нибудь с огня. Кто-нибудь.
*
Утром, в пробке, автобус подрезает какой-то уебан на сером рено, мажет фару. Глеб открывает дверь и спрыгивает, подходит к машине, мужик отматывает окно, даже дверь не открыл, он не слышит, что тот ему говорит, и бьёт прямо в рожу через дыру, а потом еще и еще раз, мужик воет, не зная, куда махать кулаками, пару раз задевая чужие скулу и губы, Глеб же, почти залезает к нему в машину, и трясет, трясет урода, и орет на него:
– Сука, зачем ты приехал сюда, сука, сука, сука, зачем ты приехал?
Его оттаскивают, умножая фарс:
– Эй, парень, ты чего, остынь, совсем больной, что ли, охолоди, говорят, да, блядь, успокойся уже!
*
Зачем ты приехал...
Снег падает на лицо.
Снег на лице тает.
*
Утром мать смотрит на него с опаской и молчит, хоть опять говорила Ольке, как скоро ему нужно жениться, он слышал из ванны, подумав, что скоро жениться точно придется на многожды обесчещенной правой руке. Жаль, что нельзя представить маме такую невесту.
Как жаль, что нельзя представить.
*
Осень уходит быстрее лета. И с неба снова харкает снегом. На улице скользина, Глеб падает как-то смешно и небольно, только ладонь саднит. Матерится, закуривает и выходит в рейс.
*
В декабре у Жеки днюха. Проставляется в Ливерпуле. Собираются старой компашкой, еще по двору. Давно не виделись – и тепло: ржут ни о чем, пьют, не считаясь. Глеб уходит отлить. В целом, он почти трезвый, но пиво зовет. Возвращается, растряхивая воду с рук, нелепо растопырив пальцы. Поднимает голову и.
Приехал.
Красивый какой.
Ужас берет, до чего красивый.
Волосы так и горят, даже собранные в какую-то хуйню, которую и хвостом не назвать, совсем отросли.
Фантомно колет на кончиках пальцев.
Первая мысль – подойди, вторая – просто ступай. Да. Передвигай ноги.
И Глеб ступает, передвигая ноги, и идет к ребятам.
– Щас, там старый друг, еще с работы
– Ага.
Всем, в общем-то, похуй.
Всем похуй, а у него качка.
Блядь, на море-то до пизды волна, а только что был – штиль полный и полный ништяк.
Ну что же ты делаешь-то, сучоныш?
Глеб подходит к столу, Митя сидит спиной (когда и успели, только пришли ведь), поворачивается повесить сумку на стул.
Поворачивается.
И вдруг – краснеет.
Краснеет.
Еще не отвык.
Это, может быть, все, что осталось.
Да говорит: привет.
Беспечный какой.
– Приехал.
– Дней пять уже.
– И не сказал.
– Да мы уезжаем завтра.
– Мы?
– Это Никита.
Глеб кладет взгляд и хуй на этого Никиту, у которого из достоинств только часы одни, что ебанят серебром в космос, точно у того на руке кожа содрана и показывается железная кость. Педрюк-терминатор, блядь. Впрочем, он и сам что-то разжижился. Ебок тянет клешню, перебитую сталью, Глеб игнорирует и даже не улыбается.
– На новый год не получится, так что мы сейчас приехали.
Мы.
А мы?
– Счастливой дороги.
И идет к своим, как от врагов. К своим. Бежит.
Он кипит. Кипит. Снимите кто-нибудь с огня. Кто-нибудь.
*
Утром, в пробке, автобус подрезает какой-то уебан на сером рено, мажет фару. Глеб открывает дверь и спрыгивает, подходит к машине, мужик отматывает окно, даже дверь не открыл, он не слышит, что тот ему говорит, и бьёт прямо в рожу через дыру, а потом еще и еще раз, мужик воет, не зная, куда махать кулаками, пару раз задевая чужие скулу и губы, Глеб же, почти залезает к нему в машину, и трясет, трясет урода, и орет на него:
– Сука, зачем ты приехал сюда, сука, сука, сука, зачем ты приехал?
Его оттаскивают, умножая фарс:
– Эй, парень, ты чего, остынь, совсем больной, что ли, охолоди, говорят, да, блядь, успокойся уже!
*
Зачем ты приехал...
Снег падает на лицо.
Снег на лице тает.
5
«в холодной темноте
на языке огня
со мной поговори»
*
Глеб возвращается из темноты в темноту, не включая света, снимает ботинки один о другой, цепляет на крючок куртку и падает на кровать прямо так, в чем остался. Черный потолок повисает над ним, только что не падает. В углу, в комках одеяла что-то шевелится. Олька. Господи.
– Ты че тут делаешь? Я ж тебя чуть не расплющил, блин!
– Тебя жду! – обиженный, сонный, выбирающийся на свет голосок.
– Зачем?
– Мне приснился плохой сон о тебе.
– Дурочка, все со мной хорошо, видишь?
– Ничего я не вижу.
– Иди давай спать.
– Не хочу!
– Ну еще не смешнее, что это за капризы, и кто тебя еще будет спрашивать?
– Я боюсь.
– Чего?
– Еще сна такого боюсь, – Глеб долго и устало выдыхает.
– Ну, посиди, умоюсь щас и уложу тебя.
– Я с тобой!
– Не будь ребенком.
– Интересно, как?
– Хитрая жопа.
– Гле-еб!
– Ладно.
Она вскакивает и несется в ванную вперед него, торопливо включая свет, подтягиваясь на кончиках пальцев.
– Божечки, что у тебя с лицом?
– Да так, стукнулся.
– Обо что это?
– Обо всё понемногу.
– Ты какой-то грустный, Глеб, – заключает серьезно, точно диагностирует.
– Да просто устал с децл.
– Грустный-грустный, и давно, а сейчас так вообще.
– Хватит придумывать, – он улыбается ей и подсаживает на стиралку, а сам поворачивается к зеркалу, быстро фиксируя ссадины, набирает воды в ладони и трет лицо. После воды оно нисколько не меняется.
– Ты как русалочка.
– Мать твою, ты просто помешалась на этой книжке. Там и картинок-то нет, что ты за девочка?
– И не говоришь ничего, как она.
– Ага, от того и принц предпочел мне другую, – прикладывает горсть ледяной воды к коже и долго держит руки, не отнимая, потом выныривает и смотрит на нее в зеркало – по лицу льется вода. Олька выглядывает из-за тени его же спины с въедливым сочувствием и пониманием. Как собака, ей-Богу. Глеб тянется к полотенцу.
– Это Митя тебя так обидел?
Ну все, блядь.
В тишине треск ткани от лопнувшей петли, которую Глеб непроизвольно дернул, кажется грохотом разорвавшейся бомбы.
– Что?
– Я говорю, это Митя тебя обидел?
Он чувствует, как задело, пробило броню и капает.
– С чего ты взяла?
– Мама говорила с Лидой. О тебе. И о нем. И еще плакала.
– При тебе, что ли?
Какого хрена она говорит с этой козой, какого хрена она вообще говорит с кем-то?
О них.
– Ну щас! Будут они при мне говорить, ага.
И он впервые по-настоящему злится на нее.
– Тогда хватит, блядь, подслушивать.
Как же вы все меня заебали!
– Не сердись, Глеб, мне просто тебя очень жалко. Не хочу, чтобы ты превратился в пену.
Надо сжечь эту книгу.
– Да не сержусь я, но, честное слово, заворачивай уши, когда взрослые разговаривают, а еще лучше – показывайся, чтобы они затыкались на хер.
– Ты ругаешься.
– Заругаешься тут.
– А он красивый.
– Кто?
– Митя этот. Что ты так смотришь, видела я его.
Сердце из бум-бум-бум переходит на бах-бах-бах.
– Где?
– Во дворе у нас терся.
– Когда?
– Почти неделю назад. (Она вдумчиво загибает все-таки только шесть пальцев). В среду. Заходил в подъезд да быстро вышел. Мы с Мишкой лепили дельфина, как живой, видел? (Глеб тупо кивает). Ты еще машину тогда в гараже полдня чинил. Он постоял чуть-чуть, помог нам с хвостом. И еще зашел, на дольше. Маму встретил. Это она Лиде сказала, что говорила с ним. Что тебе семья нужна, и про что-то неправильное, я не поняла про что. В общем, просила его тебя пожалеть.
Глеб сползает на пол, бессильно опираясь спиной о бортик ванной, хватается руками за голову и ставит локти на согнутые колени.
– Почему ты раньше молчала?
– Потому что мама сказала, что он тебе мешает. Я думала, он плохой.
– Пошли спать.
Глеб идет впереди нее в комнату, включает ночник у кровати, зовет к себе, мотнув головой, она грустно подходит, повесив нос, а потом вдруг обнимает его и чуть не плачет на ухо:
– Прости меня, Глеб, я что-то не то сказала?
Он гладит ее по спине и шепчет тихонько:
– Все хорошо, глупая, все хорошо.
Она не верит, но все равно укладывается, он трет большим пальцем по верхушке ее пробора, щелкает указательным по кончику носа, точно выключает:
– Всё, спать.
И нажимает на настоящую кнопку.
Забирает у нее с тумбочки разглаженную и подклеенную скотчем картинку с ночным автобусом.
– Я знала, что ты ее не выбросишь.
– Кто бы сомневался.
Мишка громко и крепко сопит у себя в углу.
*
Утром Глеб говорит матери так и то, чего больше никогда говорить не собирается. Раз и навсегда говорит:
– Никогда больше не лезь в мою жизнь. Никогда больше, ты слышишь? У меня уже есть семья. Твоя.
*
Впрочем, все это не имеет значения. Поздно. Уехал – и хуй с тобой.
*
Он прибивает, точно побывавшую в заднице, открытку гвоздем над койкой, дым сигареты, поднимаясь с губ, ест глаза.
*
В феврале Пахан знакомит его с Катей. Ничего такой Катей. Глаза у нее черные, и волосы, и ресницы, но это тоже – ничего. Кажется, ему похуй, кого ебать.
Они идут в кино, и в парк, и в бар, где она пиздит без продыху обо всем на свете, даже, когда ест, и вымораживающе зовет его – Глеба. Но они законно и долго трахаются в кровати, на простынях у нее в съемной квартире, и она, наконец, перестает собирать слова в предложения.
Утром Глеб просыпается от такого яркого света, что ему кажется, будто он ослеп. Пустота имеет форму оконного проема. Он спускает ноги на пол и стряхивает пальцами обеих рук с головы морок, надевает трусы, штаны, сигарету. Прикуривает. Открывает форточку. Холод такой, словно все минус тридцать. Машина не заведется. Блядь.
– Ты проснулся? – она возвращается в комнату, и становится просто зябко. – Ох, Глеба, только не кури тут, пожалуйста, – он выкидывает едва початую сигарету в прощелок окна и думает, что если еще раз она назовет его Глебой…
– Я пожарила яиц, ты будешь?
Он мотает головой.
– Мне пора.
Она запахивает халатик.
– Дело не в тебе, я немного не в форме.
– Что-то мне не показалось.
– В общем, извини.
– Все вы, Соловьев, одинаковые. Трахнуть и свалить.
Его прошибает.
– Да, дерьмово выходит. Ты прости меня, Кать.
– Яйца-то я все равно пожарила, будешь?
Он пожимает плечами и надевает рубашку.
– Да как-то это странно, нет?
– Твоя раздолбня все равно не заведется, минус двадцать пять на градуснике, так что голодным пока до дома допилишь – задубеешь.
Он не понимает: что может быть надо еще?
Ну вот что тебе надо?
Но, кажется, ему совсем не похуй, кого ебать.
*
Март долго не наступает, даже наступив. Метет и метет без пощады. Снег лежит и в начале апреля. Грязный и жалкий. Глебу хочется просто лечь рядом, заснуть и стаять. Вместе с ним.
*
Восьмого – опять собираются в баре, смотреть какой-то матч, он не больно следит, но завтра выходной и почему бы нет, все равно больше делать не хуй. Чуваки в желтом играют с зелеными. Одуванчики гоняют траву. Но пиво все искупает.
Несмотря на важность мероприятия, в зале почти никого, он их всех – отсутствующих – пиздец, как понимает. Но друзья орут, трясут кулачищами, и его солидарность поднимает стакан над столешницей. Вместе со всеми.
В туалете он вытирает лицо водой и видит боковым зрением, странный вымазок взгляда от парня в черной толстовке, долбоебно укрытого капюшоном, он тянется к нему сразу, и рукой тянется, хватает сзади за закрывашку, блядь, и срывает покров. Ну, сучоныш... Глеб, как ебаные битлы, зарекается еще когда-нибудь появляться в этом проклятом Ливерпуле. Сердце принимается подло гваздать, забыв напрочь, как ему похуй.
– Привет.
– Ну, розовые щечки, что с волосами?
Митя проводит по всей голове рукой – гладкой ладонью по миллиметровой шерстке – и срывает её на загривке. Ничего более призывного Глеб в жизни не видел.
– Надоели.
– Да, терпеть – это не твое.
– Пошел ты.
Глеб кивает, но все-таки пробует пальцами, еще раз – коснуться. Митя уворачивается – то ли от него, то ли от того, кто вошел.
– Ясно.
И Глеб вспоминает, как ему похуй. Поднимается и прет прямо в бар. Заказывает три, а потом еще три «шотика» с разными водками, и хлопает их один за другим. Так что минут через двадцать уже орет – хоть никто и не забивал, главное, что он сам забил – «гооол», до вздувшихся вен на горле, задирая обе руки в потолок, и сваливает оттуда ко всем чертям.
На улице валится мордой в снег. Снега так мало, что рожей скребет асфальт. Ох ты ж, блядь… Поворачивается на бок и ржет. Его со спины заворачивают.
– Эй, отвали. На хуй, я говорю.
– На хуй, на хуй. Вставай.
Глеб готов согласиться на четвертование, лишь бы этот огненный мальчик сложил его части в мешок и тащил, и тащил за собой вот так – на плече – хоть куда-нибудь. И он вдруг покоряется.
Скоро это все равно кончится, но пока-то ведь – длится.
Они допирают до остановки. Митя сгружает его на лавку и отстраняется. Глеб хватает его за руку.
– Только до дома.
– Можно держать?
И Митя улыбается ему.
Улыбается.
– Я тебя только до дома доставлю.
– И снова оставлю, – Глеб откидывает ладонь, та бьет обладателя.
– Для упитого ты слишком складно треплешь.
– Так я, пиздец, как истрепался.
Приходит автобус. Они кое-как залезают: Глеб валится назад, Митя едва успевает его подхватить. Тащит к сиденью. Тянет деньги к кондукторше.
– Зина, првт, – это Глеб.
– Привет, привет, Соловьев, – это Зина.
– Зина, это Митя. Митя, это Зина.
– Михайловна. И я помню.
– Ну че, Зин, прокатишь по старой памяти.
– Жениться тебе надо.
Глеб поднимает палец в потолок и говорит:
– От!
Митя смотрит на него и мотает головой. Как в старые добрые времена. И нет никаких преград. Глеб обнимает его сзади рукой и жмется, как маленький, потерянно и горько.
– До дома, я понял, но до дома, ладно?
Митя только кивает.
*
Утром Глеб чудом выявляется на своей кровати. Чувствуя себя таким ободранным, точно доска объявлений. Митя спит в углу у стены прямо в куртке. Он что, до белки доёбался? И тянет руку к нему, замирая на полпути. Стоило лишь шевельнуться, как птенец встрепенулся. Они громко моргают друг на друга. Потом Митя вдруг расшевеливается, пытаясь убраться, а Глеб наваливается на него, подминая под себя и.
Олька стучит в комнату.
– Я слышу, ты встал, – и входит.
– Ой, привет, – они оба раздергиваются раньше, но она все равно ловит их.
– Ты и есть Митя?
Митя оправляет куртку и смущенно отвечает:
– Не знаю, наверное.
– Ты опять обижал брата?
Митя скукоживает лицо в гримасе полного удивления, а Глеб только машет ему рукой, мол, забей.
– Нет.
– Глеб, тогда что у тебя с лицом?
– Я упал.
– Пить надо меньше.
– Уела, малявка.
– А меня Олей зовут. (Мите).
– И ты, пипец, как не вовремя. (Глеб).
– Грубиян. (Олька).
– Это уж точно. (Митя).
– А где твои красивые волосы? (Снова Мите).
– В гнездах у птиц.
– Это ты зря отдал. Теперь голова все время болеть будет.
– И так все время болит.
С кем он говорит?
– А мы уже виделись.
– Когда?
– Зимой.
– А, да.
– Рыжий такой, как наш котик. Погоди, я щас.
И она убегает куда-то.
Митя встает и выпучивает глаза на Глеба, обвиняя его в недостойном, видимо, поведении, а тот смотрит на него и не верит своим глазам, ушам. Ничему не верит и боится надеяться.
Олька возвращается быстро с огненным котом на руках.
– Глеб его подобрал где-то, еще в ноябре. Это Ганс.
Митя гладит Ганса между ушей и глядит на Глеба, выгибая бровь. Тот пожимает плечом, вспыхивая лицом, и защищается нападением.
– Она немного двинулась на Андерсене, не обращай внимания.
Олька смотрит на него обиженно, но заявляет уверенно, точно объясняет кому-то, кто еще младше:
– Я не двинулась, а просто его люблю.
Митя садится перед ней на корточки и говорит:
– Я тоже.
Глеб возвращается из темноты в темноту, не включая света, снимает ботинки один о другой, цепляет на крючок куртку и падает на кровать прямо так, в чем остался. Черный потолок повисает над ним, только что не падает. В углу, в комках одеяла что-то шевелится. Олька. Господи.
– Ты че тут делаешь? Я ж тебя чуть не расплющил, блин!
– Тебя жду! – обиженный, сонный, выбирающийся на свет голосок.
– Зачем?
– Мне приснился плохой сон о тебе.
– Дурочка, все со мной хорошо, видишь?
– Ничего я не вижу.
– Иди давай спать.
– Не хочу!
– Ну еще не смешнее, что это за капризы, и кто тебя еще будет спрашивать?
– Я боюсь.
– Чего?
– Еще сна такого боюсь, – Глеб долго и устало выдыхает.
– Ну, посиди, умоюсь щас и уложу тебя.
– Я с тобой!
– Не будь ребенком.
– Интересно, как?
– Хитрая жопа.
– Гле-еб!
– Ладно.
Она вскакивает и несется в ванную вперед него, торопливо включая свет, подтягиваясь на кончиках пальцев.
– Божечки, что у тебя с лицом?
– Да так, стукнулся.
– Обо что это?
– Обо всё понемногу.
– Ты какой-то грустный, Глеб, – заключает серьезно, точно диагностирует.
– Да просто устал с децл.
– Грустный-грустный, и давно, а сейчас так вообще.
– Хватит придумывать, – он улыбается ей и подсаживает на стиралку, а сам поворачивается к зеркалу, быстро фиксируя ссадины, набирает воды в ладони и трет лицо. После воды оно нисколько не меняется.
– Ты как русалочка.
– Мать твою, ты просто помешалась на этой книжке. Там и картинок-то нет, что ты за девочка?
– И не говоришь ничего, как она.
– Ага, от того и принц предпочел мне другую, – прикладывает горсть ледяной воды к коже и долго держит руки, не отнимая, потом выныривает и смотрит на нее в зеркало – по лицу льется вода. Олька выглядывает из-за тени его же спины с въедливым сочувствием и пониманием. Как собака, ей-Богу. Глеб тянется к полотенцу.
– Это Митя тебя так обидел?
Ну все, блядь.
В тишине треск ткани от лопнувшей петли, которую Глеб непроизвольно дернул, кажется грохотом разорвавшейся бомбы.
– Что?
– Я говорю, это Митя тебя обидел?
Он чувствует, как задело, пробило броню и капает.
– С чего ты взяла?
– Мама говорила с Лидой. О тебе. И о нем. И еще плакала.
– При тебе, что ли?
Какого хрена она говорит с этой козой, какого хрена она вообще говорит с кем-то?
О них.
– Ну щас! Будут они при мне говорить, ага.
И он впервые по-настоящему злится на нее.
– Тогда хватит, блядь, подслушивать.
Как же вы все меня заебали!
– Не сердись, Глеб, мне просто тебя очень жалко. Не хочу, чтобы ты превратился в пену.
Надо сжечь эту книгу.
– Да не сержусь я, но, честное слово, заворачивай уши, когда взрослые разговаривают, а еще лучше – показывайся, чтобы они затыкались на хер.
– Ты ругаешься.
– Заругаешься тут.
– А он красивый.
– Кто?
– Митя этот. Что ты так смотришь, видела я его.
Сердце из бум-бум-бум переходит на бах-бах-бах.
– Где?
– Во дворе у нас терся.
– Когда?
– Почти неделю назад. (Она вдумчиво загибает все-таки только шесть пальцев). В среду. Заходил в подъезд да быстро вышел. Мы с Мишкой лепили дельфина, как живой, видел? (Глеб тупо кивает). Ты еще машину тогда в гараже полдня чинил. Он постоял чуть-чуть, помог нам с хвостом. И еще зашел, на дольше. Маму встретил. Это она Лиде сказала, что говорила с ним. Что тебе семья нужна, и про что-то неправильное, я не поняла про что. В общем, просила его тебя пожалеть.
Глеб сползает на пол, бессильно опираясь спиной о бортик ванной, хватается руками за голову и ставит локти на согнутые колени.
– Почему ты раньше молчала?
– Потому что мама сказала, что он тебе мешает. Я думала, он плохой.
– Пошли спать.
Глеб идет впереди нее в комнату, включает ночник у кровати, зовет к себе, мотнув головой, она грустно подходит, повесив нос, а потом вдруг обнимает его и чуть не плачет на ухо:
– Прости меня, Глеб, я что-то не то сказала?
Он гладит ее по спине и шепчет тихонько:
– Все хорошо, глупая, все хорошо.
Она не верит, но все равно укладывается, он трет большим пальцем по верхушке ее пробора, щелкает указательным по кончику носа, точно выключает:
– Всё, спать.
И нажимает на настоящую кнопку.
Забирает у нее с тумбочки разглаженную и подклеенную скотчем картинку с ночным автобусом.
– Я знала, что ты ее не выбросишь.
– Кто бы сомневался.
Мишка громко и крепко сопит у себя в углу.
*
Утром Глеб говорит матери так и то, чего больше никогда говорить не собирается. Раз и навсегда говорит:
– Никогда больше не лезь в мою жизнь. Никогда больше, ты слышишь? У меня уже есть семья. Твоя.
*
Впрочем, все это не имеет значения. Поздно. Уехал – и хуй с тобой.
*
Он прибивает, точно побывавшую в заднице, открытку гвоздем над койкой, дым сигареты, поднимаясь с губ, ест глаза.
*
В феврале Пахан знакомит его с Катей. Ничего такой Катей. Глаза у нее черные, и волосы, и ресницы, но это тоже – ничего. Кажется, ему похуй, кого ебать.
Они идут в кино, и в парк, и в бар, где она пиздит без продыху обо всем на свете, даже, когда ест, и вымораживающе зовет его – Глеба. Но они законно и долго трахаются в кровати, на простынях у нее в съемной квартире, и она, наконец, перестает собирать слова в предложения.
Утром Глеб просыпается от такого яркого света, что ему кажется, будто он ослеп. Пустота имеет форму оконного проема. Он спускает ноги на пол и стряхивает пальцами обеих рук с головы морок, надевает трусы, штаны, сигарету. Прикуривает. Открывает форточку. Холод такой, словно все минус тридцать. Машина не заведется. Блядь.
– Ты проснулся? – она возвращается в комнату, и становится просто зябко. – Ох, Глеба, только не кури тут, пожалуйста, – он выкидывает едва початую сигарету в прощелок окна и думает, что если еще раз она назовет его Глебой…
– Я пожарила яиц, ты будешь?
Он мотает головой.
– Мне пора.
Она запахивает халатик.
– Дело не в тебе, я немного не в форме.
– Что-то мне не показалось.
– В общем, извини.
– Все вы, Соловьев, одинаковые. Трахнуть и свалить.
Его прошибает.
– Да, дерьмово выходит. Ты прости меня, Кать.
– Яйца-то я все равно пожарила, будешь?
Он пожимает плечами и надевает рубашку.
– Да как-то это странно, нет?
– Твоя раздолбня все равно не заведется, минус двадцать пять на градуснике, так что голодным пока до дома допилишь – задубеешь.
Он не понимает: что может быть надо еще?
Ну вот что тебе надо?
Но, кажется, ему совсем не похуй, кого ебать.
*
Март долго не наступает, даже наступив. Метет и метет без пощады. Снег лежит и в начале апреля. Грязный и жалкий. Глебу хочется просто лечь рядом, заснуть и стаять. Вместе с ним.
*
Восьмого – опять собираются в баре, смотреть какой-то матч, он не больно следит, но завтра выходной и почему бы нет, все равно больше делать не хуй. Чуваки в желтом играют с зелеными. Одуванчики гоняют траву. Но пиво все искупает.
Несмотря на важность мероприятия, в зале почти никого, он их всех – отсутствующих – пиздец, как понимает. Но друзья орут, трясут кулачищами, и его солидарность поднимает стакан над столешницей. Вместе со всеми.
В туалете он вытирает лицо водой и видит боковым зрением, странный вымазок взгляда от парня в черной толстовке, долбоебно укрытого капюшоном, он тянется к нему сразу, и рукой тянется, хватает сзади за закрывашку, блядь, и срывает покров. Ну, сучоныш... Глеб, как ебаные битлы, зарекается еще когда-нибудь появляться в этом проклятом Ливерпуле. Сердце принимается подло гваздать, забыв напрочь, как ему похуй.
– Привет.
– Ну, розовые щечки, что с волосами?
Митя проводит по всей голове рукой – гладкой ладонью по миллиметровой шерстке – и срывает её на загривке. Ничего более призывного Глеб в жизни не видел.
– Надоели.
– Да, терпеть – это не твое.
– Пошел ты.
Глеб кивает, но все-таки пробует пальцами, еще раз – коснуться. Митя уворачивается – то ли от него, то ли от того, кто вошел.
– Ясно.
И Глеб вспоминает, как ему похуй. Поднимается и прет прямо в бар. Заказывает три, а потом еще три «шотика» с разными водками, и хлопает их один за другим. Так что минут через двадцать уже орет – хоть никто и не забивал, главное, что он сам забил – «гооол», до вздувшихся вен на горле, задирая обе руки в потолок, и сваливает оттуда ко всем чертям.
На улице валится мордой в снег. Снега так мало, что рожей скребет асфальт. Ох ты ж, блядь… Поворачивается на бок и ржет. Его со спины заворачивают.
– Эй, отвали. На хуй, я говорю.
– На хуй, на хуй. Вставай.
Глеб готов согласиться на четвертование, лишь бы этот огненный мальчик сложил его части в мешок и тащил, и тащил за собой вот так – на плече – хоть куда-нибудь. И он вдруг покоряется.
Скоро это все равно кончится, но пока-то ведь – длится.
Они допирают до остановки. Митя сгружает его на лавку и отстраняется. Глеб хватает его за руку.
– Только до дома.
– Можно держать?
И Митя улыбается ему.
Улыбается.
– Я тебя только до дома доставлю.
– И снова оставлю, – Глеб откидывает ладонь, та бьет обладателя.
– Для упитого ты слишком складно треплешь.
– Так я, пиздец, как истрепался.
Приходит автобус. Они кое-как залезают: Глеб валится назад, Митя едва успевает его подхватить. Тащит к сиденью. Тянет деньги к кондукторше.
– Зина, првт, – это Глеб.
– Привет, привет, Соловьев, – это Зина.
– Зина, это Митя. Митя, это Зина.
– Михайловна. И я помню.
– Ну че, Зин, прокатишь по старой памяти.
– Жениться тебе надо.
Глеб поднимает палец в потолок и говорит:
– От!
Митя смотрит на него и мотает головой. Как в старые добрые времена. И нет никаких преград. Глеб обнимает его сзади рукой и жмется, как маленький, потерянно и горько.
– До дома, я понял, но до дома, ладно?
Митя только кивает.
*
Утром Глеб чудом выявляется на своей кровати. Чувствуя себя таким ободранным, точно доска объявлений. Митя спит в углу у стены прямо в куртке. Он что, до белки доёбался? И тянет руку к нему, замирая на полпути. Стоило лишь шевельнуться, как птенец встрепенулся. Они громко моргают друг на друга. Потом Митя вдруг расшевеливается, пытаясь убраться, а Глеб наваливается на него, подминая под себя и.
Олька стучит в комнату.
– Я слышу, ты встал, – и входит.
– Ой, привет, – они оба раздергиваются раньше, но она все равно ловит их.
– Ты и есть Митя?
Митя оправляет куртку и смущенно отвечает:
– Не знаю, наверное.
– Ты опять обижал брата?
Митя скукоживает лицо в гримасе полного удивления, а Глеб только машет ему рукой, мол, забей.
– Нет.
– Глеб, тогда что у тебя с лицом?
– Я упал.
– Пить надо меньше.
– Уела, малявка.
– А меня Олей зовут. (Мите).
– И ты, пипец, как не вовремя. (Глеб).
– Грубиян. (Олька).
– Это уж точно. (Митя).
– А где твои красивые волосы? (Снова Мите).
– В гнездах у птиц.
– Это ты зря отдал. Теперь голова все время болеть будет.
– И так все время болит.
С кем он говорит?
– А мы уже виделись.
– Когда?
– Зимой.
– А, да.
– Рыжий такой, как наш котик. Погоди, я щас.
И она убегает куда-то.
Митя встает и выпучивает глаза на Глеба, обвиняя его в недостойном, видимо, поведении, а тот смотрит на него и не верит своим глазам, ушам. Ничему не верит и боится надеяться.
Олька возвращается быстро с огненным котом на руках.
– Глеб его подобрал где-то, еще в ноябре. Это Ганс.
Митя гладит Ганса между ушей и глядит на Глеба, выгибая бровь. Тот пожимает плечом, вспыхивая лицом, и защищается нападением.
– Она немного двинулась на Андерсене, не обращай внимания.
Олька смотрит на него обиженно, но заявляет уверенно, точно объясняет кому-то, кто еще младше:
– Я не двинулась, а просто его люблю.
Митя садится перед ней на корточки и говорит:
– Я тоже.

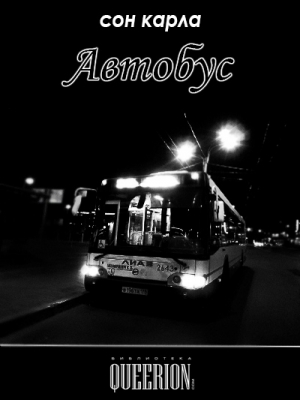

8 комментариев