Cyberbond
Две встречи
Аннотация
В России лучше жить долго… Если не удалось осесть на Лазурке какой-нибудь, где жизни и вовсе нет.
В России лучше жить долго… Если не удалось осесть на Лазурке какой-нибудь, где жизни и вовсе нет.
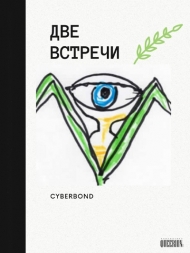 Олимпиада явилась в столицу 19 июля. Москва опустела, словно перед бедой. Накануне Павел Степанович Боняшин поссорился вдрызг, навсегда с Сидорчиком, и предолимпийская кутерьма прошла мимо них стороной, как Афина, объятая сизым облаком.
Олимпиада явилась в столицу 19 июля. Москва опустела, словно перед бедой. Накануне Павел Степанович Боняшин поссорился вдрызг, навсегда с Сидорчиком, и предолимпийская кутерьма прошла мимо них стороной, как Афина, объятая сизым облаком.Сидорчик был сволочь вдвойне: не только, гад, попивал и мучил, мучил этим боязливого трезвенника Боняшина, но еще и допустил в квартиру в отсутствие хозяина (собственно, Боняшина) ментуру, которая попятила Библию как запретный для всякого советского гражданина плод, именно — неположенный.
Собственно, мент был вызван соседями, всполошенными громким полуночным магом Сидорчика, и воспользовался тем, что Сидорчик торчит здесь без прописки, пьян и юн, а посему перед произволом властей совершенно беспомощен. Дефицитную Библию мент наверняка загнал уже по сумасшедшей цене барыге какому-нибудь.
Боняшин тихо визжал (точнее, громко шипел, но на всю квартиру):
—Хамло! Никакой благодарности! Убирайся, видеть тебя не желаю! Свинь-я!!
— Куда ж я пойду? — грустно мялся Сидорчик, юноша в меру громоздкий и как бы с хроническим чувством вины за мир во всем мире.
Сидорчик был вечный студент, он ушел из мещанского дома своих родителей, скитался по знакомым, и ничего в жизни не светило ему, кроме как вылететь из педа в следующий семестр. А там — армия и Афган, и плен, и шкура, которую смешливые услужливые афганцы спустят ему до пят.
— Вон! — прорычал Боняшин.
И Сидорчик ушел, по виду вполне даже с угрызеньями совести, горестный.
Оставшись один, Боняшин не сразу пришел в себя. Черт с ней, с Библией: бог веет, где хочет, а уж Боняшин-то точно верил в бога меньше всего. Его, собственно, напугало, что мент мог углядеть в квартире и вовсе преступное: датский альбом рисунков «Тома из Финляндии», где похожие на советских, но красивые парни и мужики трахаются во всех немыслимых позах, образуя придонные — точь-в-точь уже рисованный бред! — многочлены.
Мент мог обидеться именно на сходство (фуражки и сапоги) и вступить на тропу мести со всей своей вдруг проснувшейся неподкупностью. «Мужчины, мужчины, мужчины — к барьеру вели подлецов», — пелось в популярной тогдашней песне. А Боняшин в глазах негодяя мента был именно ведь подлец, ибо пускай в душе, но и на него, мента, тоже, может быть, покушался…
Через полчаса, устав мучиться страхом и расставанием, Боняшин позвонил Сусанне Георгиевне, урожденной княжне Эбаноидзе (гордое Э все русачки, даже дамы, заменяли душевным Е, аккуратно произнося эту фамилию). Сусанна Георгиевна была его двоюродной тетушкой и покровительницей, ибо занимала в издательстве ответственный пост.
— Э, дорогой! — сказала она, плюща деловой голос вечною сигаретой. — Перемелится — будет, сам знаешь, что. Ты когда же нам книжку сдашь? Все сроки прошли! Меня тут Сергей Иваныч об этом эбаноидзе каждый день.
(Тетушка была настолько свободомысляща, что сама над собой смеялась, а особенности Боняшина воспринимала с шаловливым участием).
— Я сейчас на дачу, и кровь из носа к началу августа, ма тант. Там осталось совсем ведь чуть! — жарко, на нерве, пообещал Боняшин.
— Чудь мутноглазая! На слове ловлю. Чтобы выполнил!
И Боняшин — это случалось так редко с ним — решил: «А вот возьму да и выполню! В конце концов, отвлекусь, излечусь от Сидорчика».
Тут он вспомнил Сидорчика и с каким стыдливым радушием тот разводил всякий раз свои в пуху молодые крепенькие коленки… Стало снова невмоготу.
Боняшин включил телевизор. Родина ликовала, верша узоры из юных спортивных тел. Брежнев выглядел отдохнувшим и добреньким. Но было что-то нарочитое в этом во всем — размах стадиона и самый разгул ликования, показательно слишком торжественного. Что-то было изобильно устало римское, как лето, миновавшее макушку свою и замершее перед, быть может, сплошными дождюгами подступившего августа.
Ночью Боняшин Павел Степанович даже работать сел. Нужно было разобраться, что там, в повести, стрясется с главными героями. Самый главный герой был пронзительно синеглаз, круто, упруго черноволос и юн непомерно. Он был изумительно с о б л а з н и т е л е н!
Но тс-с… Удивительный способ творить тексты имелся у Павла Степановича! Как только озарял его замысел, Паша (здесь назову его Пашей, потому что близок он также и мне) начинал сразу два текста. Один, безобидный, предназначался цензуре, там были безгрешные существа, боровшиеся с угнетением и прорывавшиеся хотя бы к личной свободе. Этот вариант и выходил к юному читателю Советской страны — назидал, развлекал — тайно внушая иным соблазн и надежду…
Другой текст развивался для собственно автора — автор в нем, скажем так: пасся. Он именно пасся и даже жил возле своих героев, подглядывал за ними, точно прислужник, не слишком представляя, чем у них там сердце все-таки успокоится. Персонажи проявлялись самоуправно, как бог на душу им, книжным, положит, но отношения их (любовные) всегда были украшены той же метой, которой слепая судьба наградила и Павлика.
«Паша», «Павлик» — для себя, пухлого и сисястого, сорокалетнего, Боняшин навсегда остался пригожим мальчиком лет восьми-десяти, запойным читателем исторических повестушек для юношества — повестей из времен античности, главным образом.
Ох уж эта ему античность! В учебнике по древней истории бронзово образцовые мужские тела смущали и восхищали юного книгочея какой-то своей подспудною вседозволенностью. Статуя отдыхающего Геракла — груда бугров и крупный листок аканта там, между ног — листок аканта, похожий на докучное архитектурное излишество, на несъедобный пельмень, — эта картинка в книжке сделалась заветнейшей для Павлуши. Он даже испортил книжку, переведя жирным карандашом, усердно выжимая, через копирку себе на листок контуры античного полубога.
Сейчас в душной летней квартире ему не писалось категорически.
— На дачу, на дачу! — прокурлыкал Боняшин вполне по-чеховски.
Конечно, отцова дача — дырища мрачная, почему туда Павел Степанович гостей не водил. Но одному ему там было уютно до сентиментальной щекотки в носу, среди предметов далекого его детства. Там писалось и мечталось всегда чудесно; там даже и г р е з и л о с ь!..
*
…Боняшин распахнул окошко в сад, сел к письменному столу, допотопному, косолапому, за которым еще дед когда-то работал, профессор царских времен.
Павел Степанович сперва делал наброски в блокноте, раскрепостив сознание. Затем перепечатывал для правки. Но сейчас и здесь не писалось. Какой-то тормоз застыл в нем на метке «ни шагу вперед».
Лезла в душу прошедшая зима с Сидорчиком, красный Сидорчиков нос, вечно облупленный (парень его тайком и припудривал), косматая кайма капюшона его неряшливой «аляски», ее сипловатый запах.
Родное, мужское и беззащитное было в этом во всем. Но хватит, покончено с этим, по-кон-че-но! Он устал. И Боняшин всем телом почувствовал, как же за эту зиму устал он играть с собой же в эту любовь к Сидорчику. Сидорчик хозяина квартиры добродушно терпел — но не более. Ленивый, скучный, родившийся вовсе не для чего. Бесцельный хлам популяции…
Захотелось тут моря и сладости, бездумно телесной и всяческой — чтобы крупные звезды реяли в кипарисах лукаво и ласково. И этот запах, блин, чабреца, приятно горький, бодрый — запах крымского отдыха.
У Сережи так пахнут кожа и волосы, черная кучерявая макушка особенно. Ах, милый Сереженька, повелитель пляжных тепленьких лежаков, его южная сладкая речь, словно он маслину на языке перекатывает, вальяжный кот!.. Его скошенный карий лукавый глаз. И там была эта еще Алевтина, дикторша — курортная хищница с телевидения. Тоже доила его, Сержика, распутная гадина… Сержик, Сержик! Теперь, наверно, о своем Павлухе и думать забыл… Может, написать ему? Не ответит… Вот приехать бы! Но деньги нужны…
Где-то идет война, в Афгане, И Сержа могут туда — возраст-то призывной. «Минуй его чаша сия!» — как-то по-матерински подумалось. Точнее, по-стариковски: как бабушка… «Старый башлястый пердун, извращ-«маасквееч» я для него, и это — всё!..»
Опять же вот Игорек, нынешней осенью. Удивительный! Семен Семеныч — Обсеменида, по-плешечному — все уши прожужжал Павлику: «Не заглядывайся!» Очень опасный, по его словам, юный русый розовый человечишка, Есенин без права на талант. А глаза — вот именно: Синеглазик, да! Лишь появился на плешаке, нежно поглядел на всех, на Боняшина в том числе — и тотчас исчез. Говорят, роман у него был, с каким-то аж генералишкой. А некоторые (Семен Семеныч-то): роман и с самим… с самим… который… Но бр-р, бр-р, бр-р!
Слишком ярко возникла в памяти физиономия неназываемого вельможи, узкая, склеротично нервная и очкастая, лукаво-безупречно-унылая!..
Но теперь Игорек бросил грешный свой якорек в Пятигорске. Обсеменида вещает: подарили ему с матерью-одиночкой квартиру. Такое и генералу вряд ли под силу, так н а г р а д и т ь. И значит, сплетня о «бр-р» — верна?!..
В теплой летней ночи, в тишине дачной, полудетски полудоверчивой, в волшебном желтоватом круге света от настольной лампы Павлуша представил с в о е г о Синеглазика, что лежит на соломе в хижине, где набилось еще с десятка два рабов. Ласковое теплое железо чьих-то шершавых пальцев стискивает его соски, темные и тверденькие, будто то случились на теле замершие жучкИ.
«Господи, какая все это пошлость, и ведь ясно же — небывальщина!» — подумал Боняшин. Душно ситцевый запах флоксов, последних цветов именно летнего лета, пер в распахнутое окно.
Боняшин уставился туда, в серо-черную с огненно-красною точкой муть.
— Всё струячишь? — спросила ночь хрипло и в меру насмешливо.
Это словцо — «струячишь» — прилипло к Боняшину да, от соседа, как выплюнутый окурок. Словцо оскорбительно точное! Павел Степанович и сам прибегал к нему теперь чаще некуда.
— Здравствуйте, Капитон Иваныч. Не спится?
— В могиле уж отосплюсь, — пророкотала ночь равнодушное, трафаретное. Громадная туша Капитонища была не к месту сейчас, не ко времени — но что же поделаешь?..
*
Эх, Капитон, Капитон! Кем ты был, дядь-Капитошка, в мундире картошка — когда и где?..
Сколько помнил себя Павлуша, сосед по даче всегда в его жизни присутствовал, занимал немалое место тушей своей. А когда-то, на заре Павлушиной жизни, и тушей ведь не был, Капитон-то Иванович, — был ладным таким серо-седым мужиком военной выправки, ходил по дачному участку в юфтевых сапогах и диагоналевых синих галифе, порой сильно замаранных, но всегда четких, решительных силовым своим профилем. Именно — ветеран!
Чего именно ветеран — оставалось за скобками. Отец не раз говорил (тихо, будто тайну раскрытую констатировал): он из о р г а н о в. Произносилось это печально, как о покойнике.
Первые годы сосед еще делал гимнастику по утрам, с азартным хеканьем махал руками-ногами-гантелями и через прозрачный забор кричал Павлику и отцу: «Присоединяйтеся!». Давно, давно это было… Да — при Хруще еще, у папы имелась тогда «Победа» серенькая, похожая на большую уютную крайне надежную мышь…
Теперь Капитон сильно сдал, сделался тушей, сильно хромал даже с палкой (артроз!), — местами ворчал, временами капризничал, всегда самовольничал, но свое брюзжание сам же в раздражении обрывал. Вообще говорил, словно лаял — точнее, всегда отрывисто как-то что-то недоговоривал. А ч т о именно — может, и сам не знал. Досада его глодала, досада на уходившие силы, на уходившую — в общем — жизнь.
Все, что осталось от прошлого Капитона, были его глаза — большие и темные, «кромешные». Они одни ворочались в его малоподвижном теле живо, умно и всегда не по-доброму.
— «Беляков в капусту рубал, а теперь на кефире сидит, мучится», — думал о нем Павел Степанович с некоторым тоже недосарказмом. До сарказма, до любого сильного чувства не дотягивало, казалось, уже ничто в окружавшем их мире. Мир совейский примирился с собой и тонул теперь в утомленном себе — в засыпающем стариковски обидчивом маложизненном благодушии.
— Олимпиада послезавтра. Сам откроет, наверно, — сообщил Капитон. — Все одно делать ему ведь нехрен.
— Всегда глава государства открывает, — вежливо полуподдержал тему, но аккуратно полупоправил Павлуша.
— Ты про что струячишь-то, говорю? — отмахнулся от всякой поправки и даже уступки Иваныч. — Про нее, что ли, про Олимпиаду?
— Нет. Но про греков. Про древних. Очерк для школьников.
— Да уж, им, нынешним, без древних без греков — куда ж?.. — то ли с сомнением, то ли и с подозрением ответствовал Капитон, но рассеянно.
И замолчал, словно забыл о Боняшине. Павел Степанович тоже замер: не струячить же вот при нем…
Боняшину показалось, Капитон хочет что-то сказать, собирается с силами, с мыслями. Это было в его характере: молчать-молчать — и вдруг «брякнуть» и дерзкое, и жестокое. Меткое.
Во тьме словно бревно заворочалось — Капитон уползал к себе.
*
Их сразу двое явилось наутро: грузный, потный, в залысинах мент — и другой, явно какой-то… Какой? Тонкий, верткий, лисья мордочка и большие странно печальные глаза, темно-вишневые. «Глаза грустной лани», — подумалось Павлу Степановичу.
Они представились. Мент был вроде бы местный, «грустная лань» — человечек из КГБ.
— Итак, выстрела вы не слышали?
— Слышал хлопок. Довольно вязкий, будто через подушку, звук. Но я не подумал, что это выстрел. Подумал — Капитон калиткой шваркнул в сердцах. У него в последнее время вспышки раздражения были частые. Он и вчера вроде хотел мне что-то сказать, но не решился и сам на себя разозлился. Я так этот звук «прочёл».
— А дальше?
— Дальше я пытался писать, работать. Но не клеилось. Лег спать. Утром сел к столу, выглянул в окошко. И за кустами крыжовника увидел что-то красно-розовое, возле калитки. В заборе между нашими участками калитка. Да вы сами всё видели!
Красно-розовой была клетчатая рубаха Капитона. Она не пострадала: стреляли в голову.
— И вы тотчас позвонили в милицию?
— Да, и в «скорую». Но сам к кустам не подходил.
— Даже не проверили, жив ли? — прищурился мент. Они с Павлом Степановичем сразу не понравились друг другу.
— Я окликал, но да, тотчас почувствовал: всё, конец.
— О чем он вам хотел, как вы утверждаете, сообщить? — встряла «грустная лань».
— Откуда ж мне узнать теперь? Вообще-то он никогда со мной не делился ничем серьезным. Разговоры все — так: о погоде, о том же крыжовнике. Вчера вот об Олимпиаде спросил. Самые общие темы, обиходные.
— А о себе он рассказывал? — всё та же «лань».
— Н-нет. Все-таки разный возраст, никаких общих интересов, никаких посиделок с ним не было. Да я и наездами здесь, редко и ненадолго. И занят всегда: работаю, — заторопился Боняшин.
— Я-асненько, — протянула «лань». И оглядела комнату, письменный стол, книжный шкаф.
Боняшин пожал плечами, стараясь загладить свою только что неуместную торопливость:
— Вообще странно: у нас тут, конечно, «шалят», дачи лущат, но обычно зимой, когда нет почти никого в поселке. Этой весной обчистили дачу генерала Ковылина и дерьмом надпись вывели на стене: «Вы богатые, а мы бедные». Наверно, деревенские алкаши, из Собакина.
И пояснил «лани» под тяжелым взглядом мента:
— Деревня тут рядом. С детства помню: была глупая, племенная вражда между нами, дачниками, и местными, — шпаной. Посему я просил Капитона Иваныча приглядывать за домом, у него и ключ был. Ну, и военный он человек.
— Откуда знаете, что военный? — осведомился, глядя в сторону, кагэбист.
— Видно же! Я, к примеру, в галифе не хожу.
— Небось и в армии не служили? — спросил с укоризной мент. — А участок у вас, я гляжу, си-ильно запущенный. Сорняки на продажу, что ли, выращиваем?
— Я литератор, с вашего позволения, — сухо ответствовал Павел Степанович.
— Белая кость, — кивнул неодобрительно мент.
— Голубая кровь, — усмехнулся и гэбэшник. И тотчас, словно бы перебив себя, осведомился вежливо. — Но все-таки в гостях у него вы бывали? Соседи ведь!
Боняшин помолчал, припоминая. Потом, словно себе удивившись, выдал:
— Вы не поверите, но дальше террасы я ни разу не заходил! Даже не представляю, какая у него там комната. Или комнаты… Говорю: мы не были прямо вот уж вам и друзья. Лишь соседи.
— Это ведь раньше — вашего отца дачка была? — спросил гебист. — Он-то одного года рождения с покойным, могли хотя бы о н и дружить… Отец вам что-то про него рассказывал?
— У нас с отцом были непростые отношения. Последние годы папа предпочитал жить отдельно, на даче здесь. Мы редко виделись.
— Что так? — прищурился мент.
— У каждого своя жизнь. Нет, ничего мне про Капитона Иваныча отец не говорил. Он его, возможно, и сам опасался: считал, что тот из органов. А сами знаете, его поколение побаивалось вашего… э-э… сословия.
— Я-асненько, — протянул неопределенно и вроде б насмешливо кагэбист.
*
Вот так! О н и всё про него знают. «Голубая кровь», — прямо в лоб, с усмешечкой.
Боняшин вспомнил писателя Питонова. Того прессовали в марте. С матом, с угрозами. Притонов так и сказал затем, губы белые: «Размазали! Ты, Павлунья, со мной ни-ни теперь… Даже не говори. Заминирован».
Семен Семеныч — «Обсеменида» — т о ч н о на Контору работает и, наверно, всю жизнь. Но это придонный слой, чисто «плешечный». А Питонов — звезда, любимец столичной богемы. К тому же все знают: безупречный «совок», вполне искренний. Рассуждает прямо, как «зрелый» Пушкин: «Меня унижают, но другой истории, как у нас, иметь не желаю».
Потому-то и унижают тебя, дурака, что «такая история»! Эх…
Странно, что обыск не провели, «узнали бы много нового и интересного». А собственно, что именно? Почеркушки, рисунки того же Притонова — сладкие ангельчики с цветами вместо ягодиц, с накладными ресницами, в которых, как в листве, слезы висят разноцветные. Ящик стола заперт, но э т и отомкнут ведь и сейф — да хоть ногтем!
Может, провели обыск, негласно, — а, когда-то, здесь? Неоднократно… Может, перетеребили сейчас всё в квартире у него там, в Москве? Хотя вроде бы — а зачем? Кому детский беллетрист Боняшин мешает? Может, из-за Олимпиады? Нежелательный элемент, всех бы их, таких, на 101-й… Как пышно выдал Обсеменида: «Яйца судьбы мешают исполнять всем н а ш и м танец счастливой жизни».
Да и Капитонище — разве не шарил тут, старый пес, с ключом-то? Поди, ящик стола вскрывал… Явно начинал каким-нибудь вертухаем или следаком в 30-х. Ведь намекал, не так, чтобы в лоб, но при каждой встрече почти — на «толстые» Пашины «личные обстоятельства». Держал как бы на поводке, на коротком. Строго похрюкивал.
Боняшин дернул себя за мочку уха: о чем он? О чем?! Что живем в прозрачной банке? Тоже, открытие! Светиться не надо, быть заметным не надо, звездить, как тот же Притонов-дурак. «НизЭнько-низЭнько» — так и прожить.
Все-таки странно: причем здесь КГБ? Убили пенсионера-дачника. Из прошлого след? Месть за что-то от урок? И все равно — к чему тут Контора, к чему?!..
В Москву, что ли, вернуться? Так подумают: сбежал.
Дикая ситуация!
Он включил телевизор — старенький, с линзой. В ней плавало грустное кукольно-глазастое лицо Пугачевой:
Этот мир придуман не нами,
Этот мир придуман не мной.
Уныло и мудро, утешающе тянула, вздыхала, как мелкий осенний дождик по пестрой, не желающей с летом расставаться листве. Менуэтный пируэт поглаживал слух в приятной мелодии. Что-то от Вивальди, кажется; нечто барочное. Все всех утешают, любыми средствами.
Боняшин подошел к окну. Четверо солдат ползало по Капитонову огороду. С лопатами, с щупом. У забора стояла крытая брезентом полуторка.
Ну-ну…
*
Ах, папа, папа!.. Отец обнаружил э т о случайно. Услышал звуки из-за закрытой двери, «словно ты с женщиной», — спросил глухо, еще надеясь, что будет другой ответ, что всё объяснится. Павел сказал: да, все верно. И хотел подойти к отцу в кресле. «Уйди, уйди!» — тихо закричал отец, беспомощно, тоненько, содрогаясь от отвращения. Добавил: «Подожди, пока я умру». Попросил… «И что это будет за жизнь? Я стану ждать твоей смерти?»
Отец замер. Нет выхода.
Через год сам папа приладил задвижку со стороны Пашиной комнаты — еще надеялся на сепаратный мир. Мир не очень-то наступил. Когда отец сдал совсем, ушел в детство, потом в лежачее состояние, Паша за ним ухаживал — конечно, конечно! Но проклинал — будем считать, судьбу…
Можно верить в такого бога? Верить т а к о м у богу?
Потом (параллельно с тем) наступила рутина влюбленностей, нервических катаклизмов и просто блуда из любопытства, — бывало всякое. И Павлик уже не мог чувствовать себя правым на все сто, ссылаться на судьбу. Судьба стала привычкой, привычка разменивала судьбу, драму обделав — уделав! — порою под водевиль.
Иной раз, уже оставшись один, уже один — «на воле» — прожив несколько лет, Боняшин вдруг замирал. Нависала над ним волна ледяного горя, уже не гОря его, а из жизни ушедшего человека, самого родного, которого он своим выбором ранил смертельно, все-таки предал, толкнув к проклятой слепой неизбежности.
Нельзя, нельзя.
В телевизоре плавали, бегали, прыгали, ликовали, — летней окрошкой крутилась радость честная и простая, как визг ребенка в игре. Боняшин тупо глядел. Краем прошло: «Сусанна убьет! Повесть не состоится».
Подивился себе: о чем вспомнил-то? Но захотелось поговорить именно вот с Сусанной, она бы его развеяла, властно бы отругала и, может, матерно б высмеяла, княжна-то Эбаноидзе!.. В пышных теплых грудях утешающе утопила бы. У нее у самой в 30-е половина родни полегла.
Тут дело в характере и в силе воли. Память, сознание нужно как следует фильтровать. Н у ж н о — если, конечно, м о ж е ш ь.
А если — н е т?
*
Боняшин выключил телевизор, вышел в сад. Полосы желтого, уже низкого солнца.
За прозрачным забором, рыжие от загара солдатики споро что-то забрасывали комьями земли, яму какую-то.
Боняшин переключился. Стреноженная, покорная юность. Угрюмо готовая, черт возьми, и?.. Приятная — этой возможности — кажимость.
Римский неистребимо российский мир!..
Все, что дальше произошло, Боняшин и годы спустя вспоминал неотчетливо. Словно мимо прошла Афина, объятая сизым облаком, дохнув неземным.
Помнится, Боняшин завернул за угол. Там бестолково, там буйно разрослись шиповник, сирень. Из-за Капитонова забора напирал чубушник. Все это давно отцвело, стояло усталое и несвежее. Над темной зеленью торчали косые крышаки Капитонова и Боняшинского сортиров — точка на огородах самая, можно сказать, лирическая.
Боняшин не сразу и уловил. Тихо из-за кустов посвистели ему. Павел Степанович удивился, но подошел, раздвинул колючие ветки. Перед ним за забором стоял солдатик. Лицо тонкое, строгое. Глаза голубые, черная челочка. Уши оттопырены больше обычного. Смотрит внимательно. Испытующе.
— «Н а ш», — угадалось как-то само собой. Волнуясь уже, спросил:
— Что тебе? Но я не курю.
— Я не за тем, — поморщился чуть солдат, сразу прочитав игривую Боняшинскую мыслишку. — Вот!
Через низкий забор протянул темно-зеленую кастрюлю с крышкой в комках земли. Кастрюля крепко была перевязана синтетической бечевкой, чтобы крышка не сползла.
— Что это? — попятился было Боняшин.
— Вот это искали мы. Возьмите!
— Но что это?!
— Возьмите! — как-то строго, повелительно повторил солдат. И добавил внушающе. — Они к вам больше не явятся.
— Но что это, что?! — в третий раз повторил, чуть не вскричав, Боняшин.
— Мемуары его. Ну, которого убили. За них и убили. Он к вам приходил, убийца. У него глаза такие. Печальные.
— Откуда знаешь, друг? — спросил, вздрогнув, Боняшин.
Взгляд — странный скошенный, словно парень из-за угла на Боняшина посмотрел — острый, проникающий взгляд цапнул Павла Степановича.
— Знаю, — повторил печально солдат. И помолчав, добавил. — Через десять лет напечатаете.
— Ты сам-то читал?
— Нет. Но там страшное, знаю. Они и х искали.
— Постников, эй! — свистнули от машины. — Дома досрешь!
Солдатик кивнул, еще раз странно, искоса, глянул на Боняшина и, тяжело топая, понесся к калитке.
Боняшин постоял с кастрюлей в руках. Послушал, как т е загрузились в кузов.
Машина уехала.
Сразу торкнуло выбросить кастрюлю вон, на участок соседа. Он и руки поднял. Но тотчас и опустил.
Крадучись за кустами, Боняшин вернулся в дом. «Ночью захороню, там, у сортира», — подумалось.
Что можно будет и «напечатать» — в это не верилось. Он же не диссида, слава богу… Закопать и забыть.
Жаль, этого солдатика — Постникова? — вряд ли увидит когда-нибудь. Необычный, о да!.. Говорят же о сверхспособностях, вон и Сусанна-насмешница верит, что есть они.
Новое поколение?..
*
…Все это вспомнилось Павлу Степановичу лет пятнадцать спустя, в зале Дома литераторов, очень снежной в тот год зимой. Отмечали юбилей давно почившего запрессованного Конторой Питонова.
На сцену выходили режиссеры, актеры и литераторы, большей частью известные, и тепло, даже и задушевно рассказывали о встречах с Питоновым, о «радости с ним общения». Почти каждый подразумевал (словесно все ж таки обходя) Питоновскую модную на этот момент секс. особенность.
В полупустом зале, среди тонных юношей и потертых очкастых (даже по виду голодных) старушек стыла атмосфера полускандальчика; среди заношенного зимнего трикотажа по-летнему ярко пахло недачной «клубничкою».
Сусанна, вся в живых переливах черного шелка, в душном облаке «Опиума», брезгливо, но наслаждалась событьями:
— Датенькая уже! — шепнула Павлу про известную молодую, похожую на розгу (гибкостью своей) литераторшу.
— Читайте — Питонова!! — громко, с искрой истерики выкрикнула та и буквально упала в кулису, впрочем, удачно.
— Э, о чем думаешь, Павлик? — Сусанна заглянула в лицо племяннику. — Почему смурной?
— Все ок, ма тант.
Боняшин вяло отмел ее сейчас бессмысленное участие. Потом, конечно, расскажет, поделится. Но надо это всё пережить, утрамбовать в себе. Полустереть впечатление.
Там, в фойе, среди толкотни вокруг лотка с книгами Боняшин заметил е г о. Тот мало переменился с тех пор. Глаза — разве изменишь? Очень, очень печальные. Лишь полысел: лоб выпер непропорционально большой и хмурый, придавил остальное лицо.
Все бросились раскупать плохо проклеенный, в руках распадавшийся двухтомник подзапретного в советские годы Питонова. Рядом лежала черная книжка в коленкоре, солидно, прочно изданная, хоть, как и всё теперь, на желтой газетной бумаге. Капитоновы воспоминания… Два года назад Боняшин выбил (не без труда) через знакомых в Администрации президента издание, этой публикацией сделав имечко и себе. «Временно! — остро понял сейчас, — в с ё временно!»
Боняшин хотел рвануть от лотка. Но тот, другой, придержал за локоть. Протянул книгу. Улыбнулся как-то украдкой, — главное, очень заботливо:
— Здравствуйте, Павел Степанович! А ведь мы с вами встречались? Я-то помню. Подпишите, пожалуйста…
И протянул черную с золотым пером авторучку, американскую.
10.06.2024

