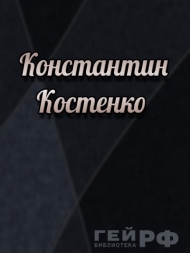Cyberbond
Соглядатай 3
Аннотация
Осьмнадцатое столетье» — последние месяцы его и дни, мрачные, тревожные, надежды и безнадежность, всё вместе…
"Среди «воспоминаний» о 18 веке, которыми я щедро делюсь здесь с досужим читателем, есть одно, совершенно, возможно, скандальное, но, уверяю вас, достоверное почти до правдивости!.."
Осьмнадцатое столетье» — последние месяцы его и дни, мрачные, тревожные, надежды и безнадежность, всё вместе…
"Среди «воспоминаний» о 18 веке, которыми я щедро делюсь здесь с досужим читателем, есть одно, совершенно, возможно, скандальное, но, уверяю вас, достоверное почти до правдивости!.."
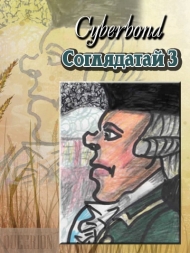 Среди «воспоминаний» о 18 веке, которыми я щедро делюсь здесь с досужим читателем, есть одно, совершенно, возможно, скандальное, но, уверяю вас, достоверное почти до правдивости!
Среди «воспоминаний» о 18 веке, которыми я щедро делюсь здесь с досужим читателем, есть одно, совершенно, возможно, скандальное, но, уверяю вас, достоверное почти до правдивости!Дело в том, что в 1794 году, во время подавления возмущения известного Костюшко в Польше, я получил контузию не столько тяжелую, сколько все-таки роковую до неприличия. Эта моя новая о с о б е н н о с т ь могла сохраняться в тайне лишь в салоне да в дамском обществе, но никак не в мужском и никак (точно уж!) не в военном. Дело в том, что при первых словах грубой матерной брани мой лук Купидона вскакивал сам собой! Это было так заметно в штатских панталонах, ну а в лосинах военных — особенно.
Между тем, с вступлением на престол несчастного государя Павла Петровича офицерам и нижним чинам было строжайше предписано следить за тем, чтобы лук Купидона у каждого при разводах и экзерцициях находился строго на левом бедре, как и шпага[1], а не болтался праздно в штанах и тем более колом нагло в них не торчал.
Муслим был больше меня озабочен моей неудобной особенностью. Он вшил тугую и узкую петлю мне в лосины, обуздав тем самым испорченную природу барина.
Увы! На первом же разводе во дворце я думал только о том, чтобы не обмишулиться, и спутал приемы самым решительным образом. Государь и без того был в дурном настроении, а тут еще я. И Павел Петрович излил на меня весь жар своей ругани. На излете его слов (царь не успел еще определить мне достойное наказание) петля лопнула — и…
Немая сцена, белые от бешенства и изумленья глаза императора…
Я не выдержал, упал в обморок, тем еще более подчеркнув мою неудобную диспозицию, немо угрожавшую теперь уже не самодержцу только, но самим небесам…
О, я помыслил себя тотчас в Сибири, в обществе камчадалов, отроду не мывшихся. Но государь потребовал разъяснений и от меня и от ближних моих — и, узнав истину, внезапно смилостивился. Он лишь сослал меня в Тайную экспедицию[2] под начало Александра Семеновича Макарова[3], человека вполне добродушного, хотя в словах тоже по-русски прямого и безбожно отважного. Надо думать, сие обстоятельство з а р а н е е веселило нашего императора.
Александр же Семенович, хоть и худороден был, но недаром слыл человеком деликатности изумительной. Глядя на щучью челюсть его, ослушники закона почти тотчас раскаивались без примененья воздействия постороннего. Меня же он принял и вовсе с душевною добротой, ибо природный князь, Рюрикович (пусть и «порченый»), в чинах его заведения — птица наиредчайшая, почти африканский гость, а русский человек всякому чуду так и норовит ведь приглянуться-понравиться!
— Итак, князь, лаяться матерно при вас зарекаюсь и другим запрещу, помня о несчастии вашего сиятельства. Но в остальном спуску дать не смогу, увольте. Ни потачки, ни поблажки! Государство ведь стережем-с! — было его мне напутствие.
— В чем состоять дОлжно моим здесь обязанностям, ваше превосходительство? — спросил я с холодной, нездешнею вежливостью.
— Вот извольте эти бумаги прочесть для начала, князь. А после впечатленьями и поделимся! — И он протянул мне серую мятую папку, из коей торчали растрепанные большие листы. — Сие суть показания разных дремучих дурачков, возможно, опасных. Вот стол, вот кресло — располагайтесь.
И он углубился в свои бумаги.
*
Мне же читать пришлось сущий престранный вздор:
«Прапорщик Голозубов Матвей в пьяном виде уверял, что «и сам он-де над царями царь, над богами бог, как и всякий человек, ежели вооружен есть». Прежде, дескать, сидела у нас дура, а ныне насел дурак. В России таких Павлушек кургузых куча найдется, да и всех бы их, этаких дрянненьких, на штык поднять и разметать по навозной куче. А сам бы он, Голозубов Матвей, мог на трон Всероссийский воссесть и рядом с собой императрицей посадить вот хотя бы Жужу рыженькую, девицу из заведенья мадамки Фляге, — не хуже-де государыни Марии Феодоровны окажется и куда уж сноровистей».
«Девица Фекла Хорунжева, дочь есаула Войска Донского Трофима Хорунжева, вышла замуж за секунд-маиора Грушанского, коий имел уже в Киеве жену венчанную Матрену. По жалобе сей Матрены Грушанский получил тридцать плетей и возвращен в Киев супруге под караулом, Феклу ж Хорунжеву велено вверить отцу ея и считать, как и прежде, девицею».
«Коллежский секретарь[4] Приспустёхин Василий сын Патрикеев в граде Калуге видел 30-го сего месяца знамение, по его словам. Примстился ему Государь Наследник Александр Павлович верхом на козле и на вопрос Приспустёхина, что он на козле верхом делает, отвечал со смехом: «Это я п о к а на козле, Приспустёхин Василь, а к лету буду на престоле родительском жопу греть, тебя же, дурня, назначу канцлером за твою обо мне верноподданническую заботу и августейшее попечение».
— Ну-с, что скажете, князь? Веселенькая у нас страна, Расеюшка, матушка-то наша бескрайняя? — не поднимая головы от бумаг, осведомился Александр Семенович.
— Меня удивляет, ваше превосходительство, что дела политические и личные здесь досужим образом перемешаны. Тут оскорбление величества наиужаснейшее, самого Пугача достойное, — и рядом полудевица какая-то, беспробудно плачевная…
— Читайте-читайте, ваше сиятельство.
Я перевернул лист. Передо мной была бумага относительно свежая, без махрастой каймы по краям.
«Некий по виду кавказский житель горячо спорил со мною в «Красном кабачке» о французском нынешнем консуле Буонапартии и объявил его не злодеем, но гением. На мое возражение, что генералиссимус Суворов куда как звончей, он сказал: Суворов-де его народ обманул, а Буонапартий несет населенью свободу от супостатов и деспотов. На мое возражение, что он один только так полагает во всем Питербурхе-городе, сей кавказец на рожу и мыслями сказал, что его хозяин не мне чета, что он природный князь, но такого ж, как сам он, мнения, хоть и родственник «вашему Суворову». Со мною был еще агент Вопиющев Степан, и мы набросились кавказца того повязать, но он разметал нас, Вопиющева ножиком пырнул в руку и чрез окно скрылся в ночном просторе совершеннейшей неизвестности».
Я вздрогнул. О, Муслим, мой Муслим! Н е о б у з д а н н ы й!..
Александр Семенович смотрел на меня поверх очков глазами доброго дедушки.
— Вот ч т о прикажете с эдакими людишками делать, князь? И ведь пишут и пишут, пишут и пишут, проклятые изверги! Шкуры ни чужой, ни своей не щадят!
— Вы предлагаете мне только о з н а к о м и т ь с я или расследовать что-нибудь, ваше превосходительство?
— Исключительно помочь мне расследовать, милый князь!
Честная щучья челюсть его двинулась, губы улыбнулись таинственно.
— «Он все знает! — подумал я. — Но л о в и т или предупреждает лишь?..»
Кажется, я покраснел.
Голосом, ставшим вдруг тусклым, Макаров тотчас и уточнил:
— Вот хоть бы это, свежайшее, про кавказского жителя. Я и Вопиющева уж позвал — вместе расспросим его. А, ваше сиятельство?
*
Каюсь: мысль моя в сей миг уподобилась вспугнутому зайчишке на перепутье, который не знает, по какой тропинке спастись. Итак, Муслимушка посещает те задние комнаты в «Красном кабачке», где мутные личности ищут себе платной минутной забавы! О, коварный! Даром, мы вместе бы там ловили стрелы Амура неверные! Но он — тайком от меня… Ах, негодник!
Но сей афронт я б и стерпел, лишь жарко в лицо ему, бессовестному, оскорбленно в нашем альковном укроме посетовав. Однако ж налицо была прямая угроза нам со стороны п о л и т и ч е с к о й. Хвалить врага трона Буонапартия, да еще ссылаться и на меня! Это вам не снова в девицы государевым повелением угодить! Здесь государевым повелением и в Сибири очутиться, на льдине, недолго ведь!..
Между тем, Александр Семенович смотрел на меня задушевно, даже и с нежностью:
— Ваше сиятельство, не обессудьте, Вопиющев сей — отъявленно развратного поведения негодяй. Но приходится работать и с такими ради покоя Отечества!
И опять тускло казенным, но повелительным голосом приказал:
— Взойди же, Степан, Люциферов сын!
Дверь в соседнюю комнату неплотно была, видно, притворена. На пороге тотчас появился сей отпрыск ада.
Теперь-то я понимаю: всё это было Макаровым нарочно и именно для меня подстроено. Тогда же я был слишком ошеломлен, чтоб не увидеть в сем перст судьбы.
Итак, явился он, Вопиющев, одетый со всею нелепостью русского простолюдина, возомнившего себя щеголем. Рубаха цвета огня, по виду атласная, но дешевой на самом деле материи, кафтан фасона устарелого и без вышивки даже бы по петлям, полосатые матросские шаровары, высокие сапоги красной кожи, однако грубые. В руке он сжимал поярковую шапку, другая была на несвежей перевязи.
Но то было б не диво — прощелыга с Сенной[5] в роли а г е н т а, доносчика. Ужасным было лицо его. Точнее, ужасным, непотребным было то, что лицо Степана оказалось прекрасно: лицо Дафниса, Адониса, Антиноя! Длинноватые русые локоны словно с античных изображений взяты были для пущей схожести. О, он был именно Вопиющев — вопиющим был его жалкий наряд, жалкая роль, презрительно-хитрый взгляд, которым он по мне прошелся, но при этом красота, красота мраморной статуи, изливавшая не внешний, но внутренний свет на эти черты!..
— Его товарищ, тот, что бумагу-то написал, слишком уж страхолюд клейменный, ваше сиятельство, я не стал его призывать. А этот куда как сметливей! Пускай нам всё и расскажет. Ну? — Макаров отвернулся, словно не желал видеть мои страх, смущение и да — восхищенье растерянное, да что там — и потрясенное.
— Дык что ж и доложить-ста, ваше превосходительство, — мерно, как сказку, зачал вещать Степан, плавно разводя то и дело руки, точно в недоумении от того, что сам рассказывал. Я же решил: он себя так показывает, дескать, каков? Хорош ведь? — Дело-то в «Красном» в «кабачке» было. Там на задворках изба пристроена для черного люда совсем. Там наш народец и шастает.
Он взглянул на меня совершенно невинно, но тотчас усмехнулся и отвел глаза:
— Оне там бывают-с, капказец-то этот, хоть имени не называют, как ни спроси. Ну, и всякое-разное между нас. Тоже бывает-ста…
— Ты про дело сказывай, а не всякую похабель! — тускло прикрикнул Макаров.
— Слушь-с… Стало быть, и беседываем. Тишка-вор…
— Это он донос написал, клейменный, — пояснил мне Макаров.
— Тихон-то — да-с, отмечен, что вор. Ну дык и кто же не без греха, ваше превосходительство? Только, канешна, капказец с ним ни-ни насчет там чего такого. Он все меня — л а с к а е т…
Слово «ласкает» он словно выдохнул — нежно, и на меня посмотрел насмешливо с прищуром. И тем же почти нежащим тоном добавил:
— Оне глупые-с, будто дитё малое, этот капказец-то.
— Отчего считаешь глупцом?
— Дык Буонапартия хвалит, ползучий гад! Нешто можно православному хвалить нехристя? Врага Отечества и Престола-ста!
Вопиющев возвысил голос в меру почтительно, но и гневно. Актерствовал.
— Устарел ты, Степан! Нынче с Буонапартием союз заключаем. Теперь он почти нам друг.
— Как прикажете-с… — сбавил смиренно тон Вопиющев. — А только знать бы, где этот капказец живет… На в с я к и й б ы с л у ч а й знать…
И он прямо взглянул на меня с презрительной дерзостью.
Александр Семенович сделал вид, будто взгляда не заметил его. Порылся в бумагах. Сказал озабоченно:
— Я покину вас на минуту, князь, — и по-французски, с дурным прононсом, добавил. — Сей негодяй очевиден вам!
*
Мы остались одни. Вопиющев смотрел на меня так откровенно, что я потерялся.
— Так ты, братец, не знаешь, кто он и где обретается, капказец-то этот? — все же промямлил я, пряча глаза.
— Как не знать, ваше сиятельство! — изумился он. — У вас-ста и обретается! Я ж от капказца того, после ласк-то наших, отстать даже не смог, в первый же раз, еще до Буонапартия, его от самого кабачка-то и отследил. А он-то и не заметил. Известно: кто я ему-с?..
Я прятал глаза, но чувствовал, он с самым невинным видом ухмыляется, торжествуя, подлец!
Я встал с кресла:
— Дорогой мой, наш государь теперь с Буонапартием в союзе, друзья. Сие обстоятельство делает донос ваш нелепицей.
— Времена-с другие, стало быть, сделались, ваше сиятельство, — покивал головой Степан понимающе. — Премена-с! А только не я ж ту бумажку писал, хоша и пострадавши собственноручно вот. Эх, жись наша — болезня заразная…
Здесь я впервые услышал его любимую поговорку — мрачную, но для него совершенно точную. Люциферов сын!..
Вопиющев вздохнул печально:
— Государь наш о нравственности пекшись о народной, сильно не любят-с которые против закона-то божеского живут. Торгуют с обманом там или любятся…
— Да ты-то?! Ты?!.. — другие слова из меня враз улетучились.
— Мы людишки-ста мелкие, нас и в а м-то заметить как?
Он свесил при этом голову. Русые Антиноевы локоны упали на лоб, кончик точеного носа из-под них, почтительно шмыгая, настойчиво двигался.
Мы оба молчали — он притворно, я я в н о — подавленные.
Вернулся Макаров, окинул нас быстрым взглядом, и по-французски обратился ко мне.
— Итак, князь, сей Купидон был ли с вами предерзостен?
— Он был… в духе времени, — усмехнулся я.
Александр Семенович усмехнулся тож:
— Вон ступай! Да не туда — в коридор, — велел Вопиющеву.
Тот поклонился ниже, чем надо бы: как иконам, почти по-церковному, — и скрылся за дверью неслышно. Точно его и не было.
Макаров молча стал перекладывать бумаги у себя на столе. Он спокойно ждал откровенности.
— Александр Семенович! Ваше превосходительство! Не смею скрывать от вас — тем паче, сей Купидон… Он всё вам ведь рассказал уже?
Макаров вздохнул и глубоко, внимательно на меня посмотрел:
— Милый князь, не смею и я с вами в жмурки играть. Коль скоро вы н а ш теперь человек, то придется привыкнуть иметь дело с такими вот проходимцами. Бумага эта останется у меня, и даже при смене конъюнктур политических ходу я ей не дам. П о к а я здесь, вы понимаете? Но и уничтожить ее нельзя-с, разве что надежней было бы уничтожить и Вопиющева с этим меченым Тихоном…
Он покосился на дверь в коридор. Она была закрыта надежно — на вид. Но Макаров перешел на свой косолапый французский:
— Не скрою, князь, мне вы вполне симпатичны, и неприятно, что придется макать вас в такое дерьмо… Но долг, общий наш долг велит! Есть у меня подозрение, что этот негодяй двойную игру ведет. К столу поближе, пожалуйста!
Я склонился над его столом. Он написал на бумажке: «И аглицкий он агент. И что-то у них затевается».
— Возможно ль, ваше превосходительство?! — воскликнул я по-французски же. — Какой-то прощелыга… И вы хотите…
— Да, ваше сиятельство! Я ведь вижу, он сейчас уж небезразличен вам. Постарайтесь с ним сблизиться, сколь небрезгливости вашей на то достанет. Впрочем, я не осуждаю здесь никого: «да не судимы будете».
Я все ж таки покраснел:
— Это д о в е р и е! Но… если и я…
— Это не просто доверие, ваше сиятельство! Это — з н а н и е! Знание вас, натуры вашей, на мой вкус, пред престолом совершенно безгрешной! — сказал он сердито и даже обиженно.
*
Я вышел в приемную. В голые окна тут било сентябрьское прощально теплое солнце, белое и печальное, обращавшее всякую тень — в тень кромешную; отчего и Вопиющев возник предо мною внезапно. Как бы шагнул прямо из темноты. Он стоял слишком рядом, хотя и склонив почтительно голову.
— Ты, братец, что ль поджидал меня? — спросил я сурово.
— Точно так-с, ваше сиятельство. Виниться хочу. Насчет капказца-то…
— В чем вина твоя?
— А и ни в чем, ваше сиятельство. Оне сами меня т а м выбрали. Супротивничать в таком разе нам не положено-с.
— Где это т а м?
— Знамо дело где. Нешто не знаете? — он сотворил лицо удивленное. И уже голову почтительно не склонял.
— Что ты мутишь? В «Красном кабачке»?
— Не в нем самом, а сзаду-ста, ваше сиятельство. Я же и говорил вам давеча, у господина сенатора. Только есть в Питере-городке места ку-уда антиреснее…
— Ты и там промышляешь?
— Что ж, ваше сиятельство: жись наша — болезня заразная.
— Мелешь невнятицу! Что ты за человек?
— Как всякий, ваше сиятельство. Я к тому, коли молод еще, чего ж и не п о и г р а т ь?
— Это ты блуд свой игрой называешь?! — возвысил я голос (зачем-то).
Секретарь за столом у дверей Макарова поднял голову.
— Я к тому, ваше сиятельство: можно очень даже а н т и р е с н о времечко провести, коли знаешь где… — почти прошептал он куда-то в сторону.
Меня точно защекотали где-то сразу в носу и подмышками:
— Ну что ж, негодяй — веди!
Я сделал этот решительный шаг, рискуя. Но обида на измену Муслима и всякие просьбы (вперемежку с похвалами) Макарова стали тому причиною. И… Ну да: сила темная и могучая тянула меня к этому дрянному человеку, но красавцу при этом манкому и редкостному!
— Сударь! Только переодеться б вам, — промурлыкал он заботливо и — еле заметно — насмешливо.
На мне был этот гадкий темно-зеленый мундир дешевого сукна, который ввел для военных Павел к радости бедняков-офицеров[6]. Но для нас, гвардейской «золотой молодежи», эти крайне неудобные, узкие, дурного сукна одеяния тотчас сделались ненавистны — а их приходилось таскать и вне службы, всегда, везде! Такова была воля нашего императора.
Выйти на люди в гражданской одежде? Рискованно, даже опасно. Да и что я Муслиму скажу, куда я, такой, собрался?..
— Которую одежоночку-с поменять, оченно даже можно, сударь. Тута неподалеку вдовица живут одне, там у ней от мужа всякого добра много чего осталось.
— Не донесет?
— Как можно-с…
*
Вихрь приключенья подхватил меня. Вся сия романическая таинственность: переодевание; почтительная, но все более пристальная забота Степана; его руки на мне, когда он оправлял табаком пропахший чей-то кафтан, обдергивал широкую епанчу… С каждым его жестом, с каждым моим шагом авантюра намеченная надвигалась всё неизбежнее.
На улице мы оказались в самый неурочный, в самый опасный час: час прогулки нашего императора. По лицу он мог узнать меня запросто! Посему извозчика мы не взяли: при нечаянной встрече с царем любому надлежало выскочить из экипажа и по всей форме государя приветствовать.
И вот на углу Исаакиевской площади, как рок, возник черный горб его шляпы!.. Мы с Вопиющевым едва успели укрыться за забором вечной стройки Исаакиевского собора[7]. Сквозь щели меж досок я наблюдал курносое желтоватое лицо императора, важное и сосредоточенное. Оно проплыло мимо меня в нескольких шагах. Кажется, он почувствовал мой пристальный взгляд: белесые глаза его из-под шляпы покосились на забор, на меня.
О, натура жестокая! Одно воспоминание об его ругани натянуло мой лук Купидона до отказа почти. И если бы не широкая епанча…
— Что, барин? От Пугача от нашего прячешься? — услышал я насмешливый голос у плеча. Это был молодой парень в лаптях, по виду совсем деревенский.
— От какого Пугача?! — удивился я машинально, рассеянно.
— Знамо, от какого! От анпиратора! — подмигнул дерзко парень.
Степан усмехнулся тож.
Увы, простой народ зачем-то любил Павла Петровича. Может быть, только за то, что господа его ненавидели. Повеление, чтобы и крепостные принесли присягу царю (чего отродясь раньше не было), холопы поняли как обещанье воли. А дикий царский приказ фрак отнюдь не носить и «вальсена» не плясать касался их в последнюю очередь.
— Получишь за «Пугача»! — Степан показал парню кулак упредительно. Но подмигнул откровенно так!..
Час, когда весь город подвергался добровольному аресту царской прогулки, истек. Мы взяли извозчика и скоро были у дома с виду весьма приличного и ничем особенным от соседних зданий не отличавшегося.
— Сюда-с пожалуйте! — промурлыкал Степан. В дверь — впрочем, боковую, совсем не парадную — он постучал коротким стуком, мне показалось, нарочитым, условленным.
Дверь приоткрылась. Степка сунулся в нее головой, кому-то что-то там объяснил и распахнул створку предо мною с мелким, быстрым полупоклоном:
— Пожалуйте-с!
По дороге он упредил, что в сем месте ни имен, ни титулов не спрашивают и друг дружку величают не иначе как по прозванью «грецкого какого-нибудь урода древнего».
— Ты, верно, там Антиной?
Он вздрогнул, покосился на меня с подозрением. О любимце императора Адриана Вопиющев, кажется, понятия не имел.
Нас встретил человек в ливрее с испитым, стеклянным лицом. Поклонившись довольно почтительно, он повел меня вверх по лестнице, устланной протертым нечистым ковром. Вопиющев следовал на ступеньку ниже и все время «жарко» в ухо дышал. Распалить вроде как норовил?..
Чувства мои были самые странные. Предвкушение тайны, которая раскроется предо мной, волновало очень, почти мучительно, но в то же время и чувство, что нечто мерзотное закипает вокруг меня, не оставляло ни на миг, а жаркое Степкино дыхание казалось докучною наглостью.
Когда мы были на середине лестницы, дверь наверху с треском растворилась, и из нее выпал на площадку совершенно голый молоденький и очень красивый парень, несколько полноватый, в венке из бумажных роз, сбитом на ухо.
В руке он сжимал бутылку.
— А-а!.. — закричал он при виде Степки. — Ты-ы… Анти… Онти… Понти… гной…
— Ходи давай! — мрачно бросил Степан. Кажется, он был страшно недоволен, что нас сразу встретило такое вот. Он-то ведь распинался, что «заведение-с преотличное-с».
Он отшвырнул пьяного «фавна», и мы вошли в залу.
— Ах, ты… — вслед нам понеслась отборная ругань, пролетела бутылка над нашими головами и разлетелась вдребезги, у ног статуи — да, вот именно: фавна, причем статуи столь откровенной, что представить ее в каком-то приличном месте было бы невозможно. На вздымавшемся непомерном фалле его болталась треуголка — между прочим, с кокардой военною.
Но мог ли я укорять истукан, если из-за брани подобным и сам тотчас сделался?!..
Лакей удивленно косился на нас, а Степан, решив, видно, что «дело в шляпе», обхватил меня за талию и прошептал в самое ухо:
— Легко-то как вас, а, вашество?!..
Это наглое «вашество», эта грубая ласка (он еще, подлец, и потерся о зад мне своим, тоже восставшим несколько, удом), но пуще всего моя беззащитная позиция (ибо разве был я охранен от ругани здесь самой откровеннейшей?!..), — все это возбудило во мне решимость отчаяния. И я изо всей силы хлестнул Степку по красивой — красной сейчас — роже его.
Он облизнулся, озадаченно уставился на меня. Пьяный «фавн» за нашими спинами нарочито грубо, истошно захохотал.
Не только Степка, но и лакей был изумлен моею реакцией, но тотчас нашелся и очень почтительно, почти испуганно прошептал:
— Пожалуйте-с…
*
Комната, в которую я вступил, была вся в коврах: на стенах, на полу; даже потолок был расписан столь пестро, что казался обитым турецкой крупноузорной тканью. Ковры не были вполне чистыми: там и здесь замытые пятна от вина нарушали их утомительный равнодушно прихотливый узор. Плотная штора была задвинута, солнечное пятно рдело на подушке дивана беззаконною дневной гостьей здесь, зато фонарь в цветастых стеклах разливал из ниши таинственный, неверный свет. На столике у тахты возвышался кальян, тоже весь с чрезмерной восточной пышностью изукрашенный.
Чертогом для грез замыслили эту комнату. Мне было, однако же, не до мечтаний, не до видений сейчас «Тысячи и одной ночи».
— Ты думаешь, негодяй, располагать мною в сем положении? Заблуждаешься! Сие есть только особенность организма, не более.
— То есть, как это, ваше сиятельство? — опешил, не поверил и даже отступил на шаг Вопиющев.
— Если б тот пьяница не лаялся столь поносно…
— Так это у вас на лай-с такое, ваше сиятельство, «обстоятельство»-ста воздымается-с?..
— Да вот же, смотри! Уже и нет ничего! Я — с п о к о е н. И только попробуй при мне ругнись!
— Ох, сударь… — он смотрел на меня изумленно и с восхищением, но в глазах его голубых играли уже лукавые, веселые бесенятки. Он тряхнул головой. — Так здешних хоть поглядите, фавенов-то. А я просто при вас, на подхвате-с, охранять вас, стало быть, стану, ваше… ваше сиятельство… Место, канешна, удобное, да только буйное, сами-ста видели-с.
Я помолчал. В самом деле, он напуган, будет меня охранять в сем вертепе. А я — я, что ли, без толку сюда приволокся?..
— Что ж… И где они, твои эти… «фавены»?
— Я — мигом! В лучшем виде, ваше сиятельство… Мигом я, мигом-ста… Самых чтоб, значит, наилучшеньких!
И из-за двери уже прокричал:
— Скусненьких!
Мне стало противно и весело. Размышляя, я прошелся по комнате.
— «Он напуган. Но надолго ль его испуг? Как ни мерзок Степка, а придется с ним пока сблизиться. О, позорное это поприще, но… но…»
Главное, я чувствовал, что мне открыться могут удивительные в скором времени обстоятельства — и фортуна моя может взыграть н е о ж и д а н н о!
Дверь скрипнула. Я обернулся тотчас.
На пороге стоял граф Зорин — и улыбался с самой светской непринужденностью.
*
— Милый князь! Мир людей тесен, а мир людей, отмеченных свойствами избранных, и вовсе в океане житейском — почти пятачок.
— Граф! Видеть вас здесь — мне удивительно.
— Мы о б а — з д е с ь, дорогой бывший мой родственник! И пока это вот существо — Антиной по-местному — собирает вам наш ц в е т н и к, поговорим давайте попросту, по-родственному совсем.
— Как сообщники?..
— Пусть так.
Он взял трубку кальяна. В стеклянной колбе забурлило — вскипели, забегали пузырьки.
Разговор шел, естественно, по-французски.
— Итак, мой друг, не скрою: больше всего меня увлекает сейчас ваше поприще. Вы ведь в Тайной экспедиции состоять нынче изволите? И конечно — я уверен — ваш начальник Макаров уже ведет расследование известной к о н с п и р а ц и и,[8] учиненной против опять же особы, самой известной у нас…
— Вы разумеете?.. — слОва «государь» я, однако же, не осмелился выговорить.
— Вот именно! Ваш родственник, великий Суворов, отозван, увы, с театра европейской войны. Его мечтанье взять Париж втуне осталось, хоть он и хвастался об этом по обычаю своему громогласно. Боюсь, здесь его ждет вовсе не милость известной особы, а опала, прежней не меньшая… Но справедливо ли это?
— Изменилась политика. Мы не вольны… Суворов получил титул князя Италийского. Правда, титуловать его «светлостью» против всякого закона запрещено[9].
— Вот-вот! Переменились политические пристрастия известной особы, и в корзину, как ненужный бумажный хлам, сброшены десятки тысяч жертв, принесенных во имя торжества прежних, отринутых ныне, целей! Все блестящие победы вашего родственника зачеркнуты и чуть ли не сделались преступлениями его!
— Такова и вся политика, граф, в любой стране, в любое время; всегда, везде.
— О, не изображайте из себя служаку верного! Ваши-то интересы тоже с новым курсом похерены. Основной продукт наших с вами имений, кроме хлеба, п е н ь к а. А кто ее покупает? Англия[10]! Но с нею торг запрещен любой! У нас нынче дыра в кошельке, мой милый, и преогромная.
— Бог дал — бог взял.
— Бог дал нам всем и известную особу — для нашего испытания. В силах ли будем мы исправить печальную для нас ситуацию?
— Дорогой граф, вы делаете всё, чтобы я написал донесение об вас, не так ли? Но пытка, граф, нынче ведь восстановлена…
— Это обстоятельство — восстановление пытки и телесных наказаний для всех сословий — должно бы нас… Лошадь стегают, чтобы шибче, проворней шла, ведь верно? И потом, князь, зная ваше простое, доброе сердце…
Зорин смотрел на меня, приторно усмехаясь. И я пожалел, что да — пока? — не смогу донести на него.
— Ошибка известной особы в том, что она мнит себя на манер Петра, — проговорил граф внушительно, точно старался впечатать эти слова в мою память, в мой мозг. — Но с тех пор целый век прошел. Дворянство слишком хорошо успело усвоить: без личной свободы жизнь и гроша ломаного не стоит. Всему населению, по сути, велено в холопы вернуться. Вы х о т и т е в холопах ходить, отрасль древнего разбойника Рюрика?
В дверь постучали.
— Ах! Не дают по душам нам поговорить. Но мы продолжим сей скучный разговор — при других обстоятельствах… Готово ль, Степан? Ступайте же, князь! «Цветник» в сборе в е с ь. Вашему выбору помешать я, естественно, не посмею…
*
Степан, суетясь и по виду сильно волнуясь, распахнул дверь в залу, чрез которую я уже проходил — в залу с непристойной статуей фавна. Дернулся, метнулся передо мной, на миг закрыв обзор, и вжался в стенку, не желая портить собой, своей русской рубахой, устроенную живую картину.
Я замер на пороге, ошеломленный. Вот молодой мужчина с превосходной мускулатурой напрягся всеми мышцами, распахнув рот в немом крике. Его обвивали две пестрые ленты, весьма натурально гадов изображавшие. Двое юношей — обнаженные — с искаженными ужасом лицами корчились по его бокам. Древний Лаокоон с сыновьями вживую восстали из непроглядного дыма времени…
Рядом с ними женственный юноша в распущенных длинных волнах огненных власов держал в руке античный короткий меч. Двое близнецов стояли пред ним со связанными за спиною руками. Орест и Пилад, приносимые Ифигенией в жертву Артемиде. Своими аппетитными формами — налитыми ягодицами — обращены близнецы гостеприимно были к вошедшему, то есть, ко мне.
Вершиной этого изящного непотребства стала сцена из «Золотого осла», известное сказание об Амуре и Психее. Амур был кудрявенький мальчик с крыльями за спиной, Психея распростерлась на ложе у ног его — но то была не совсем все-таки девушка, женские груди ее, юные, высокие, спорили с иной очевидностью, вполне внушительною, что между ног…
Лица всех были пригожи, по-античному правильны да еще и искусно подкрашены, кажется.
Что ж, без вмешательства графа, любителя театральных эффектов, здесь точно не обошлось.
Эту сцену нельзя было назвать немой: из комнаты рядом катились разливы арфы, облагораживая бесстыдство представленной мне «живой картины».
Видеть такое здесь, в столице императора Павла, в городе полосатых шлагбаумов и полосатых будок блюстителей дурацких законов его! Да и помыслить такое было б уже преступлением…
— Выбор за вами, князь! — шепнули мне на ухо по-французски. Кто? Да конечно, подкравшийся сзади Зорин!
— А-а-а-а! Мать-мать-мать-мать!!!.. — Заорали вдруг благим матом рядом совсем, и в залу влез тот в веночке «фавен». — А я уже, значит, не в счет?! Списанный вчистую?! — вопил он, размахивая бутылкой и перемежая чуть не каждое слово руганью.
Ах! Следствие сего обстоятельства пусть читатель представит сам.
— Э. баринок, стреножен, ха! — завизжал, давясь от хохота, «фавен». — Третья нога так и взбрыкнула! О-ой! Я такого бариночка хочу-у-у!
Он выл манерно, капризно, предерзостно.
— Я же велел связать Селифана! — злобно прошипел граф кому-то за моею спиной.
— Ловили-с! Не дался, гад, — тихо, почти одними губами, ответствовал Степка.
Между тем, Селифан, встав на корточки, пополз ко мне. «Фигуры» смешались: «Лаокоон» и «Орест» с «Пиладом» набросились на него. Селифан стал лупить «Лаокоона» бутылкой по плечищам, по голове. Сжавшись в комок, «Психея» на постели визгжала пронзительно. Куча тел покатилась по ковру, сметая все на своем пути.
Замысленная «красота» обратилась в свалку. Какая уж тут похоть?!.. Я оборотился к Зорину:
— Что ж, в другой раз, граф, когда наступит здесь подлинное спокойствие, о л и м п и й с к о е…
*
Я вышел на улицу. Солнце, горевшее с утра белым огнем, заволоклось серыми, скучными облаками. Ветер был еще теплым, но сухие листья обильно летели в лицо. Осень, ранние сумерки! Через день влезет промозглая непогода, которую только снег и угомонит.
Вопиющев топал сапогами за мной — насилу догнал, суетливо взглядывал в лицо мне. То отставал на миг, то шел плечом в плечо, торопливо взмахивая руками.
— Этот Селифан — к чему? Зачем его держите? — спросил я подчеркнуто сухо.
— Как же-с! Ездиит к нему один очень большой вельможа, именно что к нему-с. Да и не такой он, чтобы уж буйный-ста, Селифан-то наш. Раз в неделю врежет — вот и дурит-с. Вы, ваше сиятельство, нешто обиделись?
— Не выдумывай! — обрезал я Вопиющева. (Конечно, ему страсть охота узнать, о чем я с Зориным говорил). — Смекай, что его превосходительству доложишь. И я — я рапОрт напишу, как положено.
— Это — как водится-с! Выходит, плохо-с вам там-ста глянулось, ваше сиятельство?
— Бардак плюс кабак плюс фантазии Зорина. И много там бывает гостей?
— Нет-с, не извольте беспокоиться, ваше сиятельство! И все заранее упреждают, что приедут-с. Встретить там другого кого — мудрено-с.
— Ступай сейчас же к господину Макарову, доложись. А я рапОрт напишу ему к завтрему[11].
Интересно, что доложит начальству о н, упредив меня? Тут игра двойная его может и проявиться! Или Степан слишком тонок, или — все-таки — глуповат: в делах политических никак не замешан.
То, что дело политикой там пахнет, я и безо всяких наставлений Макарова, по одним признаньям Зорина уяснил. К о н с п и р а ц и я[12]! Но кто же этот вельможа, что к Селифану таскается?
— Ты вельможу-то хоть того опиши.
— Молодой, красавец. Вот все, что могу сказать.
— Что же не проследил, где живет сей красавец-то молодой? И почему ты вельможей его зовешь? Он что же, туда к вам в орденах заявляется, в «кавалерии»[13], цугом?
— Никак нет-с, оне умные-с. Но лошади больно уж хороши, и повадка такая важная! Хучь и шутковать любят, когда примут на грудь, всякие очень даже и шуточки-с.
— Вот как?! А нос короткий и вздернутый?
По описанию больше всего подходил князь Зубов Платон, бывший фаворит государыни. Недавно прощен Павлом Петровичем и возвращен ко двору.
— Не, востренький-с, ваше сиятельство, — брякнул Степан.
Ну, конечно же, князь Платон!
Вопиющев почувствовал, что сказал, может, лишнее вот сейчас, в ловушку попал. Примолк, поотстал.
Все же игра у тебя двойная, брат Вопиющев; сие н а в е р н о е! И мне для тебя доверия нет.
*
Мы свернули на Мойку. Второй дом был наш — после кончины бабушки мы купили его на капитал, нам оставленный. Серый, с фронтоном, просторный. Аграфена оказалась прекрасной хозяйкой — вот что значит счастливый брак!
Мой «зять» Иван Антонович Глебов, к тому времени молодой уже заслуженный генерал, снискавший более счастия по службе, чем я, герой Итальянского похода, только что Суворовым законченного со славой, однако же и с отобранной у него государем победой, — Жан души был широкой и относился к моим «шалостям», как к забавной для него детской глупости.
Мы не просто с ним ладили — мы были одна семья! Их детки Поль и Варюша закроют мне когда-нибудь глаза на смертном одре и оплачут совершенно, надеюсь, искренне. И потом, им достанутся мои Зачатьево и Пахомовка, 1500 душ, так что горе их я заранее заботливо умягчил. (Не хочу сказать «утешил»!)
Но что это? У дверей дома двое часовых! При виде их Степка смутился:
— Так я, стало, побёг, ваше сиятельство? — он мял в руках шапку.
— Ступай!
Я обогнул дом, зашел в дверку при кухне.
На меня тотчас свалился Муслим:
— Барин, барин! Беда! — причитал-клокотал он. — Барина генерала в тюрьму забрали.
Я бросился в комнаты к сестре. Она лежала на кушетке в кабинете Ивана среди разбросанных вещей и бумаг. Трое в мундирах моего ведомства рылись на полках и на столе.
— Агриппина! — вскричал я по-французски. — Что это? Зачем?!
— Извольте по-русски сказывать, — обратился из-за стола плотный мужчина с простецким красным лицом. — Вы есть кто?
Он удивился, что мы из одного с ним ведомства.
— А по вам и не скажешь, князь, — буркнул он, намекая на мое платье сейчас гражданское.
— Что же, и дОма в мундире ходить?
— А оно и не помешало б, князь, — хмыкнул он.
Кажется, я был у них тоже под подозрением… Не желаю томить читателя моего грустным неведением — утомлю сказанием вполне героическим!
Зять мой Иван Антонович Глебов вызван был к государю и попал под горячую руку. Он ответил на грубый окрик императора дерзостью, ибо не только по натуре пылок был и на всякое оскорбленье щепетилен, но и осуждал царя за опалу начальника своего Суворова. Павел Петрович, в ярость вошед, замахнулся на генерала тростью. Тот сорвал орден Владимира и Георгиевский крест с себя и только после сказал:
— Вот теперь, ваше величество, з а б а в л я й т е с ь[14]!
Царь метнулся к нему, стал в куски рвать на Жане мундир. Зять мой мог только к двери пятиться. Так они вылезли в приемный покой, ко всей свите, коя застыла, каменная от ужаса и от стыда за государя.
Может, кто бы и посмеялся, видя, как куцый наш самодержец к о г т и т статного красавца — но дерзко усмехался лишь Жан избиваемый!
— В крепость, в крепость! В каземат, на воду и хлеб, к крысам его! — визжал (иного не скажешь) Павел Петрович и топтал, топтал, топтал шляпу смутьяна внезапного.
Глебова увезли в Алексеевский равелин. Я же бросился к господину Макарову, умоляя хоть что-то исправить во всем этом ужасе.
— Дело кислое, ваше сиятельство, — согласился он, — но бог милостив, а государь отходчив весьма. Авось, смелость зятя вашего задним числом оценит, да еще, глядишь, наградит.
Он что-то уж очень доволен был в сей вот миг, Александр мой Семенович! Набил трубочку не спеша, подмигнул:
— Вы у нас смутьян невольный, зять ваш нынче мятежник решительный. Ну и семейка! Гнездо заговорщиков!
Он рассмеялся:
— Осталось только сестрице вашей себя воскресшей царицей Екатериною объявить! Но к д е л у, дорогой князь. Был у меня нынче тот негодяй, выблядок Вопиющев. Сказывал, вы имели разговор в некоем доме с графом Зориным Петром Ильичом, не так ли? Разговор, как положено, по-французски плели. А Степка, онучин сын, сего языка не разумеет (так говорит). И о чем же, бишь, вы беседовали с бывшим вашим самого изысканного фасону родственником?!..
Я задумался. Выдать Зорина — может, тогда и Глебову выйдет облегчение участи? Но как сам Жан будет на меня после такого смотреть?
— Разговор шел о нравах того заведения, в коем мы были оба: о наложниках, их достоинствах… О, это вряд ли вам интересно, ваше превосходительство! А вот только после онучин сын признался, что бывают там птицы самого высокого полета, и по описанию я заподозрил уж одного.
— Кого же, ваше сиятельство?
— О, позвольте мне не сделаться невольно клеветником, ваше превосходительство! Я, конечно, открою вам его имя — но лишь убедившись н а в е р н о е.
Он взглянул на меня поверх очков:
— Милый, милый мой князь! Что ж, ступайте. И не терзайтесь слишком уж за героя вашего, за генерала-то Глебова. Авось, свинья не съест…
*
Дни потянулись гнилые и темные. Зима грянула в конце уже сентября. Мне удавалось устраивать Аграфене свидания с Жаном: Макаров протекцию сему учинил.
— Он кашляет! — металась сестра. — Жан кашляет о ч е н ь н е х о р о ш о! В каземате совсем ледник. Ах, они погубят его… Подлеца Кутайсова[15] присылали от царя, чтобы Жан прощения попросил. Но за что?! А негодяй цирюльник (Кутайсов) донес, что Жану меховые сапоги и шубу я прислала. Велено отобрать!
Она зарыдала.
— Я всё сделаю, дорогая Агриппина, чтобы этого не случилось, через наших, через своих.
— Одно хорошо, что от коменданта кушанье ему посылают. О Жан!..
Поль и Варюша тоже ходили испуганные, точно играть навсегда запретили им.
Немилость царя, кажется, сгущалась. Павел имел обыкновение усиливать наказание, д о д а в л и в а т ь.
Не надеясь уже и на могущество Макарова, я поехал к графу Палену[16] — слава богу, тоже нашему дальнему родственнику.
Статный, рослый, румяный, необыкновенно и в свои 55 лет свежий граф Петр Алексеевич принял меня с распростертыми объятиями:
— О, князь! Ваше несчастье — мое несчастье. Верите ли: я даже закрою глаза на меховые сапоги и шубу запрещенные. Но! Я не в силах изменить климат Алексеевского равелина. Это же прямо промозглое преддверье могилы, о да.
— Но вы в силе нынче у государя: упросите его!
— Я у ж е упросил его отменить арест при условии, что наш Жан попросит прощенья, раскается.
— Раскается — в чем?!
— Ах, мы все виноваты пред властью тем лишь одним, что мы сами не власть.
— Вы — власть!
— Увы, лишь исполнитель ее велений, — развел руками граф весело. — Оставайтесь обедать, милый мой! У нас спаржа нынче — чудесная. Я обожаю спаржу и знаю, у вас за душой — тот же грех.
Вплыла его супруга с некрасивым, но выразительным лицом ежика:
— Друг мой, обедать изволь идти! — велела она по-немецки церемонно и сдержанно.
Семейство Паленов с десятью их детьми было самое добродушное и даже русское по духу — почти.
На прощанье граф взял меня под локоть и сказал тоном шутливого, но все же увещевания:
— Меньше слов, друг мой, и больше, больше д е л а! И мы добьемся, конечно же, своего! Вот увидите!
*
Чем глубже я размышлял над положением семейства нашего, тем более убеждался, что корень зла — воля безумного императора. Вокруг меня сновали все почти добряки: и Пален, и Макаров, и даже услужливый негодяй Степан — Вопиющев сын. Однако ж Жан таял в ледяном каземате — болезни и смерти, видимо, обреченный!..
Из-за того, что честь свою охранил…
— Таков обычай власти российской: признавать за подданными лишь право повиноваться, — внушал мне граф Зорин, злорадствуя. — Со времен сумасшедшего царя Ивана[17], со времен Батыя забыто на Руси, что власть для людей, а не люди для власти. Известная особа лишь следует этой традиции — где же здесь произвол?
— Мы всё шутим, а человек погибает! И только ли он один? — возразил я.
В комнату проник Вопиющев, одетый для очередного праздника похоти здесь: в голубом коротком хитончике, с веночком на голове:
— Приехали-с!
Это была первая большая оргия моя в доме, который Зорин как бордель содержал. Кареты, а больше сани[18] чавкали подтаявшим снегом, подъезжая. Из них вылезали люди в черных одинаковых домино, в масках: обычный съезд на машкерад — только вот женщин не было.
Вся эта однообразная чернота походила на похороны, выглядела зловеще на улице. Но в зале черный прибой гостей разбивался о пеструю толпу полунагих и нагих наложников. Смех, вскрики, взвизги порой, совершенно женские, грубые военные голоса, впрочем, пока негромкие.
Лица гостей скрывали черные полумаски — но, кажется, я угадал иных…
— За мной прошу-с, — тронул меня за локоть Степан.
Вид у него был вовсе не сентиментальный, а деловой, озабоченный.
— Эй, Степка-растрепка! Чего нос воротишь, пень еловый?! — вскричал какой-то господин в полусъехавшей маске, совершенно пьяный уже. Я узнал знакомого.
— Щас возвернусь! — ухмыляясь, соврал Вопиющев. И всё тянул, тянул меня за обшлаг.
Его настойчивость увлекла меня. Мы пролезли через толпу в какой-то чуланчик, явно для услад не назначенный, и сразу услышали голоса рядом, в соседней комнате.
— Опять не по-нашему толкуют… Ах, нехристи!.. — бормотнул Вопиющев себе под нос. То есть, всё доверье его сводилось к тому, чтобы я проходимцу переводил?..
Голоса за стенкой были знакомые: Зорин и фон дер Пален по-немецки вели разговор доверительный.
*
— Вообразите, граф, нынче за ужином его высочество Александр Павлович чихнул. И государь изрек: «Да сбудется то, о чем вы, принц мой, подумали!» — весело говорил Пален.
— Наследник не сплоховал?
— Нисколько! Что он умеет лучше всего — так это притворствовать. Однако ж он взял с меня обещание, что государь при л ю б о й о к а з и и жив останется. В этом он легкомысленно не притворствовал.
— И вы дали ему это слово?
— О, разумеется! Надо уважать чувства сыновние. Но вы сами понимаете, как мне душой пришлось покривить при этом.
— Поразительно: весь город только и говорит, что о возможной перемене правления.
— Я вам расскажу кое-что еще интереснее, милый мой! Утром на докладе его величество спросил меня о заговоре, который, по сведениям его, готовится. Мне пришлось заявить, что я и сам в заговоре состою чуть не его главой, дабы выведать всех участников.
— Двойная игра?
— Н е и з б е ж н о двойная, граф! Если дело сорвется, я предстану спасителем императора и, так сказать, «отечества». Если удастся, я — освободитель всё того же «отечества» и творец нового императора.
— Да поможет нам бог!
— Или черт? Главное — пусть поможет!
Звон бокалов раздался веселый, но сдержанный.
— Скажите, а этот Глебов — он в самом деле серьезно болен, как говорят?
— Он кашляет. Думаю, и чихает уже, нас торопя. Нет, граф, больше я пить не стану: голова должна быть сегодня трезвою. Пусть напиваются э т и — не совсем уже верноподданные… Слышите, как истошно о свободе кричат?
— Вы нас, русских, не слишком-то уважаете…
— Я вас, русских, ц е н ю, — разве это не уважение? Ах, государь наш сегодняшний Павел Петрович возмечтал быть самим собой в политике! Карать и миловать по капризу лишь своему. Он хочет быть искренним там, где искренним быть предельно опасно. В этом его ошибка, которую никогда не допускала его гениальная матушка.
— У него русская душа…
— У него лишь п р е д р а с с у д к и власти российской, эта вечная ее памятная изжога от ига татарского. А русская душа — да лукавей ее разве что душа, скажем, китайская?.. Раб не может быть не лукав!
— Надеюсь, Александр изменит эту традицию?
— Может быть. Но скорей всего, не осмелится. Однако нужно идти к гостям! Не то перепьются, как свиньи, и дело не сделаем.
*
— Ну? Чего говорили-то? — насел мне в ухо губами Степан.
— Тебе что за дело? — прошипел я, беря его самого цепко за ухо. — Кой черт ты лезешь ко мне? Или тоже игру двойную ведешь?..
— Какая ж игра, ваше сиятельство?! Одно только расстройство мне в доме сем! Эх, жизнь наша — болезня заразная…
Дверь в комнату рядом распахнулась. На пороге стоял Зорин, пьяный вполне. Он звякнул бокалом о косяк двери — будто с ним чокался — и молвил равнодушно-насмешливо:
— Я так и знал! Хорошо, что мы с графом по-немецки говорили. Ведь эта тварь — Антиной-то наш — по-французски з н а е т, подлец! А вы, мой бывший прекрасный родственник — идите-ка лучше со всеми сейчас! На миру и смерть красна, если вдруг нам не случится…
Из-за спины графа вылез вдруг штабс-капитан Балуков — тот пьяный семеновец[19], что давеча в зале домогался Степана.
— Ах, вот ты где! — завопил он Вопиющеву, бесцеремонно отстранив графа со своего пути. — Прячешься? Нашел зазнобушку новую?!
Он влез в наш чуланчик, признал, наконец, в темноте меня и обрушился с объятьями, мокрыми поцелуями, восхищенными всхлипами, тотчас совершенно забыв о Степке:
— Князь! Ты с н а м и, мой милый?!.. А Макаров?! Он тоже, да? О, Тайная экспедиция с нами! Ура! В кармане успех, в кармане!
— Балуков, вам пора! — дернул его за плечо Зорин сердито.
— Граф, я один не поеду! — вдруг захныкал, как ребенок, Балуков. — Мне надобны гарантии от Тайной экспедиции, дьявол возьми!..
Он заругался грубо — тотчас вспомнил, каков я тогда; обхватил меня, выдохнул весь свой пьяный вечер в лицо мне:
— Н е п р е м е н н о! — страстно шепнул. И — неожиданно аккуратно, задушевно — подергал:
— Князь! Я — т в о й! Как ныне захочешь, брат! Ныне я — только т в о й!..
— Балуков, милый, ну отстань же ты от меня, наконец!
— О, князь! Ныне судьба отечества в наших штанах… Тьфу, в наших руках, хотел я сказать! Ха-ха — но и в штанах, наверное, тоже! А? А, княже?.. А?..
— Ступайте в сани, господа! — крикнул Зорин, выталкивая нас из чулана.
Рослый Балуков обхватил меня за плечи и с медвежьею наглой силой поволок по лестнице вон. При этом он безостановочно бормотал в ухо мне отборнейшие ругательства. Голова моя пылала, я утратил волю, и самое сознание помутилось. Всё вокруг обратилось в суматошный, в огнями мелькавший сон.
Мы вывалились на улицу, в распутицу оттепели, оказались в санях и полетели по темным улицам.
Балуков ползал мокрым лицом по моему лицу, полез вниз, зверино порыкивая.
— Барин! Сани опрокинете! — обернулся, смеясь всею красною рожей, кучер.
— Отстань! — рыкнул со дна саней Балуков.
Мне сделалось весело — на виду у пусть спавшего, но всего Петербурга — т а к о е!.. Свобода, о!..
(Удаль вообще в природе русской души).
В какой-то миг показалось: городские дома исчезли и мы летим в ночи, став телом единым, хотя, конечно, и удивительным.
Балуков заревел, заглушив невольный мой вскрик. И снова налез всею жаркою пастью.
— Не надо… О пожалуйста, милый!.. — лепетал я беспомощно. — О, всё! О, всё!..
— Стой! — крикнули надо мной. Знакомый голос! О, да это же Вопиющев — пристроился сзади саней, в чьей-то епанче офицерской.
Сани резко остановились — я повалился на Балукова.
— Барин, дале сани не проедут: караул. Извольте-с со мной! — Вопиющев выдернул меня из саней. Балуков поволокся было за нами, но поскользнувшись, повалился в грязную слякоть.
Мы почти побежали. Впереди чернела толпа людей, нависала громада Михайловского замка.
— Эк он с вами-с! — хихикнул Степан. — Веселый, лихой баринок!..
*
Я молча двинулся к черной толпе, повинуясь зову любопытства и вместе отчаяния — этому зову с в о б о д ы, что испытал только что в санях. Степка трещал за мною ледком, не отставая.
В толпе выделялся высокий человек — я узнал генерала Бенигсена.
По подъемному мосту, противу правил опущенному в сей кромешный час, к толпе сбежал офицер без плаща, в преображенском мундире. Я узнал полкового их адъютанта Аргамакова. Когда я слился уже с толпой, он что-то говорил Бенигсену.
— За мной, господа! — приказал Бенигсен по-французски. Рядом со мной стоявший перекрестился под плащом троекратно. Во мгле сырой ночи я узнал черты князя Платона Зубова.
Общий ток движения овладел толпой — мы тронулись по подъемному мосту к замку.
— Аргамаков нас доведет, он все уголки там знает, — слышалось в толпе. Люди теснились друг к другу, одушевляя этим себя. Запах перегара тек изо ртов густою волной…
Весь путь к спальне несчастного Павла Петровича ныне помню я неотчетливо: полутемные коридоры, переходы… Кажется, конца-края им не было. Толпа продвигалась молча, лишь брякали шпоры да ноги недружно шаркали. Словно люди боялись сейчас себя.
Наконец, мы уперлись в дверь запертую.
— На месте, — шепнул некто над ухом моим.
Аргамаков постучал в дверь очень настойчиво.
— Кто там? Что надо? — раздался минуту спустя сонный за дверью голос.
— Откройте, уже шесть часов! Государь проспит развод и разгневается!
— Как шесть?! Мы только легли. Да вон же, и полночь еще не пробило.
— Ваши часы стоят! Открывайте, я не желаю под арест из-за вас, сонная вы тетеря!
Завозились ключом, створка двери дрогнула; выглянула растрепанная спросонья голова «комнатного гусара». Аргамаков саблей взмахнул — и гусар, обливаясь черной в густом полумраке кровью, повалился к нам за порог.
— Я уйду! Нет, я не могу, не могу больше! Нет! — запричитал, закурлыкал, давясь, голос Платона Зубова по-французски.
— Вы нас втянули — и наутек?! Нет уж, дорогой князь, дело доведем до конца! — прокаркал Бенигсен и рванул двери настежь.
*
Мы ворвались в тесную, маленькую прихожую, сгрудились.
Бенигсен первым далее в опочивальню вошел, за ним — несколько человек..
— Пусто! — тотчас вскричал чей-то голос. — Улетела птичка-то!
Бенигсен резко провел ладонью по простыне:
— Птичка з д е с ь! Гнездо теплое.
Тут луна своим зеленоватым чахоточным светом проникла в комнату.
— Вот же он! — воскликнул Бенигсен и опрокинул ширму у постели. Император в одной рубашке и ночном колпаке предстал пред всеми дрожащий, испуганный, облитый светом луны, как гноем уж мертвенным.
— Сир, — объявил Бенигсен, — отныне вы пленник мой! Предлагаю вам подписать отречение в пользу сына вашего Александра Павловича.
Взгляд императора перебегал с лица на лицо.
— Как… как смеете вы? Вы… вы государственные преступники! — лепетал он. Но первый испуг прошел. — Вас ждет кара наижесточайшая!
— Сир, я не имею времени вступать с вами в пререкания. Извольте же подписать отречение! — отчеканил Бенигсен.
Между тем, царь узнал князя Платона:
— И вы тут, Платон Александрович? Вам-то — грех! Вы навсегда матерью моей обеспечены со всем потомством вашим!..
— Сир, прошу подписать, — князь Платон вынул из кармана бумагу, протянул царю нерешительно.
— Что?! Зачем? Зачем эта бумага?! Что за глупости! — император схватил бумагу, скомкал ее, швырнул в лицо князю Платону. — Не подпишу!
— Да что ж ты кричишь-то так?! — огромный граф Зубов Николай, брат Платона, совершенно пьяный, схватил его за руку.
— Что? Как… как смеешь ты? Ах, ты-ы!.. — задохнулся царь.
И повалился на пол под ноги толпы: граф Николай ударил его со всего маху в висок табакеркою.
— Кончайте! — бросил Бенигсен и вышел вон.
Офицеры набросились на царя. Началась потасовка: Павел Петрович был ростом мал, но силен, и отчаяние придало ему сил особенно.
— Да кончайте же! — свирепо выкрикнул голос. Над головами взлетел эфес шпаги и опустился на череп царя. Некто впрыгнул на постель, сорвал со стены офицерский шарф государя и протянул в толпу.
Раздались хрипы, тело забилось по полу отчаянно. Его пинали, осыпали ударами. Конвульсии одного, прерывистое дыханье всех — кажется, здесь все жадно ловили воздух, остатки воздуха, последний его глоток…
— Кончено! — крикнул кто-то. — Мертв…
И тут точно обрушилась стена некая: все метнулись к тому, что еще миг назад было нашим все-таки государем! Крики, мрачная ругань. Тело, словно ожив, так и завертелось под ногами озверелых людей.
Чья-то рука пронеслась мне понизу.
Вопиющев!
— Ах, баринок… — выдохнул он в ухо мне.
Он произносил слова. Я их не понимал…
*
Что ж, завершу свой рассказ, скорее, печальный, нежели соблазнительный.
На другой день той «премены» Жана вернули домой. Вернули вполне уже мертвеца, хотя и еще живого. Он радовался с нами со всеми, прозрачный, серый. Всё повторял шутку самую тогда модную, что государь-де скончался «от апоплексического удара табакеркою». Но в глазах его стояла смертная тоска — тоска о к о н ч а т е л ь н а я. Аграфена понимала это, заливаясь слезами за его спиной. Его жизнь была загублена, ее счастье — тоже. Он кашлял кровью, и Виллие[20] сказал нам, что больше трех месяцев вряд ли наш Жан протянет.
В средине июля сестра моя стала вдовой.
Ввиду этих несчастий даже и совестно говорить о себе. Но конечно, мне пришлось первым делом дать отчет в той ночи господину Макарову. Сей хитрый сановник выслушал сочувственно мой рассказ, но на прямой вопрос, знал ли он о готовившейся расправе, лишь улыбнулся:
— Милый, милый мой князь! Говорят же в народе: семь раз отмерь — один отрежь. Вот я и мерил всё это время. А отрезали без меня — и почти неожиданно!
Но прочтя нечто в моих глазах, как-то заторопился:
— Нашу экспедицию упраздняют — вы слышали? Надолго ли, сказать не могу, сего не ведаю, но вот мы с вами и п о с т р а д а в ш и е. Долг, так сказать, хоть этим исполнили!
Я молчал. Он продолжил мысль свою, всецело его сейчас занимавшую:
— Никакая государственность без тайной полиции не может обойтись, а государственность наша российская — тем более! Все эти дурачества про введение конституции, про упразднение тирании скоро забудутся, тут-то и вспомнят о нас. Не затем, что мы зло неизбежное, а затем, что мы неизбежное средство, на которое любое зло власти списать возможно. А в России власть обязана — вы слышите: просто о б я з а н а! — слыть безгрешной. Иначе и бога ведь народ проклянет, а судьбу свою все равно не исправит.
Он провел ладонью по моему обшлагу очень заботливо и, кажется, виновато:
— Возьмите отпуск на год, на два, отдышитесь. А там…
Александр Семенович не сказал, но я понял, о чем он сейчас подумал.
Несчастный недуг, сделавший меня заложником досужей чьей-нибудь брани, отстал от меня в ту самую минуту, как убили Павла Петровича. Вопиющев, конечно, донес Макарову, и наверно, оба они этому посмеялись.
Я не стал ждать приглашения к возобновлению службы — не только в тайной полиции, но и службы как таковой, ибо она казалась мне теперь отвратительной.
Осенью мы с сестрой и детками ее уехали за границу — и кажется, навсегда.
31.03.2025
[1] На самом деле, шпагу при Павле стали носить на попе, что зло вышучивал, например, Суворов.
[2] Род тайной полиции.
[3] Александр Семенович Макаров (около 1750 — 1810), тайный советник, сенатор, последний руководитель Тайной экспедиции при Правительствующем Сенате (1794 — 1801).
[4] Гражданский чин 10 класса по Табели о рангах, соответствовал примерно штабс-капитану — чину между поручиком и капитаном.
[5] Сенная площадь в СПб была в те времена местом трущоб и высокой преступности.
[6] При Екатерине II цена офицерского мундира 123 руб, при Павле — 23.
[7] Современный Исаакиевский собор был построили лишь к 1858 году.
[8] На языке того времени — заговора.
[9] Это право за Суворовыми признал только Николай I.
[10] Для нужд флота, для плетенья канатов.
[11] Простонародные оборотцы речи — аристократическое щегольство, по замечанию И. С. Тургенева.
[12] Здесь: заговор.
[13] Т. е. в орденской ленте — знаке высшей степени ордена.
[14] На самом деле, это был эпизод с адмиралом П. В. Чичаговым.
[15] Граф И. П. Кутайсов (ок. 1759 — 1834) — фаворит Павла, из пленных турок, бывший его парикмахер, всеми крайне неуважаемый.
[16] Граф П. А. фон дер Пален (1745 — 1826) — при Павле военный губернатор СПб.
[17] Вероятно, Грозного.
[18] Офицерам Павел запретил ездить в закрытых экипажах.
[19] Переворот совершился, когда в Михайловском замке караул был из преданного Александру его Семеновского полка.
[20] Виллие Я. В. (1768 — 1854) — шотландский врач, лейб-медик русских царей.