Cyberbond
В забой-бой-бой!..
Аннотация
Ужас какая пародия на производственный роман. Но надо, надо поднимать производство! НУЖНО у него поднимать!..
Ужас какая пародия на производственный роман. Но надо, надо поднимать производство! НУЖНО у него поднимать!..
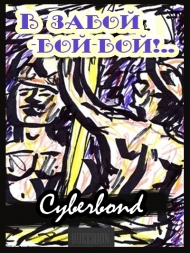 (НЕИЗБЕЖНОЕ ПРЕДОУВЕД-
(НЕИЗБЕЖНОЕ ПРЕДОУВЕД-Ж а н р: жизнерадостная сатира, отчасти пародия.
М е с т о д е й с т в и я: как бы шахтерский поселок.
В р е м я д е й с т в и я: околонаши дни.
В оз р а с т п е р с о н а ж е й: строжайше 18+.
О с н о в н а я и д е я: так жить нельзя (хоть кому-то и хочется).
П о ж е л а н и е ч и т а т е л ю: счастья тебе, дурак!)
Глава 1. Семейная сцена
Судьба «брошки» (типо подкидыша) — дело известное. Не стану про первые сколько-то там лет в баторе (детдоме) рассказывать, ничего вам там, у сопляков, наверное, нет интересного. А вот мне после крупно подвезло: один мужик классный усыновил! Ясен корень мне сразу был, зачем он вынул меня из батора, я уж верченый-перченый стал, что дядь-Василий с порога по глазам моим, по «взбляду», как он сказал, прочухал. Понял: вот оно, то, что нужно-то!
Поселок у нас старый, шахтерский. Такая грязюка везде, что никто роб и в выходной не снимает. Пока мы по лужам под мелким дождиком шлепали, он меня жестко так, по-мужски, про новую мою жись наставлял:
— Ты мне ни хуя, заметь-ка, Игоряшка, не сын! Всосал? Игоряшка, блядь, пидарашка… Я тя под хер себе взял воспитывать. Личный пидр ты мой машка теперь! Усекаешь? Будешь на машку-то откликаться?
Я кивнул. Дядька, как он ни лайся, а полюбасо, блин, жгуче мне покатил. Такая рожа широкая. Именно: бывалое еблище. Но так-то, чую, не злой, просто похабник-кобель неприрученный. Ну а я-то сам где? В баторе у меня про это мокрое дело уже ого-го наработочки…
Так-то, со стороны если взять: идут шахтарь и с ним пац, тоже в робе и резинухах — подрастает смена рабочая! Шагают бодренько, брызги вразлет, прут напролом шахтари. Только разговор меж ними — не всякому мужику покатит, но всякого за яйца возьмет.
— Ты на клык-то брала, машук?
— Дык!
— А у тя? Брали, ё? Мне-то по хуй, гляди: ты для меня шалава, не более. А все ж таки?..
— Ну, бля, было дело, дядь-Вась! Хули и жаться?
— Я ведь сам с батора тож. Все про вас, про пидров, заебись секу! Че, скажешь, и шоха, личняк (личный пидр) был у тя?
— Мы мелких припахивали, на раз.
— В жопу-то долбились?
— В жопу — не-а еще…
— Получишь седни и в топку, малявка развратная! Хочешь в верзоху-то, а?
— Ну… как скажете, дядь-Вась. Куда я от вас, с хера вашего, денусь-то?..
— Ху! Ты кто?
— Машка ваша! Шалашовка, бля…
— Во, бля: всосала! Молодчага, машенция! Будешь все делать ровненько, стану тя с хера конфетами кормить. Будешь с хуя конфеты заглытывать?
— Ну!..
Конфеты!.. Зашибись — нам только по праздникам их давали: на День Победы, на День России и на Новый год. Да я те за конфеты все говнище из жопы вылижу, дяденька добренький!..
Но я уже тогда смекал (я и хитрожопый от природы вообще) — вида не подал, что радуюсь. А то скажет: лошара-дешевка, блядь! Перестанет меня уважать.
— Как скажете, — скромненько соглашаюсь. — С хуя — так с хуя. Хоть с жопы, лишь бы конфеты вкусные.
— Вкусные будут, вкусные! — смеется дядь-Вась. — Жирные такие батончики! Шоколадные!..
Хе, не боимся мы и говнища, дяденька! Всяко бывало в баторе-то…
Погода херовая, с неба дождь сыплется — вроде и мелкий, но до трусов уже оба мы мокрые; вязкая грязь. Однако дотопали. Домишко у дядь-Васи оказался старенький, кособокий, но все ж не барак. Точнее, полдомика: сени с очком, кухня и две мелкие комнатки. А всей обстановки — шкаф платяной, полированный, стол, два тубаря да диван. Ну, и телек, само собой. Срач везде: мужик холостой живет.
Выдал мне дядь-Вась шлемку и кругаль оббитый, но ложку не дал:
— Не принцесса, машк, не хуй жеманиться. Привыкай!
Сурового из себя кроит. А гляделки сальные, бля, веселые. Даже зубы у меня от предчувствия ноют, да. Ох, нравится мне мужик! Он и почуял это: нассал в кругаль:
— На-ка!
Выдул одним махом я. Хули, после батора-то?.. Потом дядь-Васиным густым харчком закусил. Типа: в шохи оформился. Это все, как водится, ни хуя особенного. Зато сразу понял: свой дядь-Вась, баторский!
Велел он мне прибраться. Я пол подмел, но все одно натоптано: грязюка засохшая почти как на улице. Он сапожищи не снял, в них бух на диван:
— Разувай барина, машк! Хули жмешься, капля сортирная?
Ну, тяну сапог, а дядька-Васька в нем типа сопротивляется: упер подошву мне в грудь и выше, к харе полез. И да-авит, кобенится. Я тяну — такой же чумазый, мокрый, как и сапог. Да уж, блядь, именно: не принцессочка!
Он подошвой мне водит по роже, будто в луже барахтается:
— Слухай сюда, говнососка ебаная! Скажу: «Ноги!» — сапоги мне лижи или, если босой, то ступни язычком, тварь, обрабатывай. Между пальцами тоже там. Если команда «Хуй!» — то за щеку взять, как зайка, блядь, дрессированный. «Мудя!» если — их ебачишь языком, чтоб искры из глаз. Всосала, пизда пробитая?
— Угу…
— Угу! Хамло с выгребухи, блядь! Ты с кем гутаришь, мокрощелка ебучая? Сквозняк в жопе вместо мозгов? Я те, блядь — командир, хозяин и господин! Как в армейке, отвечай: «Есть!», «Так точно!», «Будет исполнено!»
— Так точно, всосал!
— Всосал-а! Ты сучка, машк — к мужикам не примазывайся! Клитор с хуем попутала, мандеха, а вроде тверезая!
—— Так точно, мандеха я, растыка для вашего, дядь-Вась, удовольствия! Если «Хуй!», то за щеку взять, если «Ноги!» — ноги и сапоги лизать, если «Мудя» — мудя, как положено! Будет исполнено!
— Ну, лады, лады! Вижу, что вчухала. Слушай мой дальше устав. «Жопа!» — дупляк подставляешь, «Баня!» — пот с тела слизывать, «Сортир!» — говно с жопы вылизывать или хавать его и ссаки, блевоту тож. «Тряпка!» — ебачом, где скажу, прибрать. Ущучила?
— Так точно! Будет исполнено!
— Во, бля! Усвоила, давалка толковая… Отличница… Личница-отличница, хо-хо… Ща те будет проверочка. Контрольная, сука, работа, бля. Диктант на засыпку… Ноги, ебать!
Ну, мы так вообще-то и в баторе все классы прикалывались. Ничего нового он мне сейчас не открыл. Но в баторе были все свои, пацаки, как я. А здесь взрослый дядька, матерый ебака — мечта!.. Мы о таких в баторе — да, именно что вслух, сука, мечтали ночьми, во весь голос, на всю, блядь, палату. Типа старшаки заставляли нас рассказывать, кто бы и как с мужиком хотел. Потом мы старшаками заделались, и малявки, нас ублажая, про то же по приказу трандели вслух, если ротак свободный был…
Ну, начал я с подошвы, там глинищи на КАМаз. Вкус был обычный, горьковатый, и даже дождиком свежо так припахивало. Стал полизывать аккуратно, но весь сам почти тотчас краше грязной подошвы стал.
Тут в дядь-Васе пац с батора опытный, блядь, разбудился:
— Хо, пизденция-машуленция! Ты сперва космы грязные везде, бля, объешь, козломохнатка недопроебанная. После — рифленка, ага. Потом голенище вылижешь. Эх, балда: заебешься иначе, слюны ни хуя не хватит на весь сапог! Ладно, хорош хуйней страдать: после грабками начисто вымоешь. Ты ваще, тварь, обязана следить, чтобы и в доме и на мне все в смысле чистоты чики-поки было, чтоб все в доме, как муде котовьи, блестело! Электровеником чтоб металась, машка-пидарашка, пидарша заботливая! Тяни с меня чоботы, будешь чисто-конкретно с ногами командирскими, сучка, знакомиться.
Стянул я с него сапоги. А на нем носки шерстяные, толстенные. От грязи, как жестяные прям! Ногти черные сквозь дырки торчат. Блядь: вонина густая, как срач свиной, как параша свежезаблеванная.
Я отпрянул аж. А дядь-Вась расхохотался, довольный:
— Во как настоящий мужек должен вонять! Хо-хо!..
Мазнул мне ногой по губам:
— Давай, зубами, машук, потник стяни, не хуй колдобиться. Хе, галоша ебаная! Гандоша на проволоке… Гля, даже не блеванула… В люльке, а ни хуя святого уже… Теперь копыто все язычком освежи. Хули, сопрел я — не чуешь? Я, бля, сутки сапог не сымал, ще со вчерашнего вечера забурился с мужиками бутылек раздавить, так и уснул, прикинь, не разумшись, а утром — в забой. О, бля, ты не давись, сбегай-ка сблевани сперва. Не хочешь? Ну, если че, твои промблемы, пизда! Держись тогда! Ты мотри, и за ногтями там на ногах следи, обрезай нежненько, а обрезки в рот, приварок тебе к довольствию. Следи за чистотой моих, сука, копыт: тебе самой же так легче будет. Хотя хуй проссышь: я, к примеру взять, тащусь от ножной вонины с батора еще. И ты, дырка жопная, пропитайся заместо духов, чтоб все собаки на поселке за версту чуяли: вот ползет машка-шалашовка — шоха дядь-Васина!
Я, еле дыша, выполнял поручения. Эх, надо, надо мне привыкать, деваться-то некуда…
А дядь-Вась и впрямь походу гордился своим ножным запахом. Развалился на диване этаким барином, и ну рассказывать:
— Э, слышь-ка, машук! Самые вонявые портянки в роте у меня в армейке были. Ниче-ниче! Сержант Пронин наш говорил: чем запашистей самец, тем и трахучей. Яйца с перцем, типо того… Ща хуем тебя и промерим, насколько ты машка выносливая. Э, бля: мы-то в баторе в жопу только так чпокались, с восьмого еще. А вы, сука, в этом смысле извращи какие-то нежные: только в рот! Надо же: бог мне профуру подогнал, а она еще целочка… Э, слышь, машук, буду ебать — ты дрочись, тоже получай удовольствие. Разрешается!.. Сейчас уже начинай, чтоб, блядь, запахан кайфовецки внюхивать…
Эх, и без дрочки катил мне дядь-Вась, перся я от него! Эти, блядь, матюги и искорки в глазах веселых, бессовестных. Глаза у него, кстати, были золотисто-зеленые, эдакие наглые, солнцем напитавшиеся крыжовины. Сразу видать: бедовый до цыпок на хребтине мужик! Вот и стояк мой заметил — и одобрям-с.
Я-то первый раз кончил еще на его подошве, в штаны. А теперь уже наяривал на законных, так сказать, основаниях.
— Вижу: ебаться ты горазда, машенция. Нравлюсь те? То-то, коза! Я ще, как в баторе тя увидал, понял: ебливая сучка, бикса зачетная будет мне. Станешь меня обслужать, и кого ще скажу. С бригады, блядь, которые — забесплатно, а другие которые — плотят пускай! На прокорм себе полюбасо, блядь, заработаешь! И подробно докладывать, кто и как тебя драл, письменный отчет в конце каждого рабочего дня. Заодно, сука, и бухгалтерия. После еще зачитывать будешь нашим ребятам для покатухи, ага?
— Так точно! Рада стараться!..
— Ну, бля! Дрочись-качайся, чушка игривая, растыка детсадская…
*
Копыта я ему зачетно, блядь, вылизал. Солененькие, сырные! Меж пальцев тож всю труху вроде вычистил.
— Молодец, пизда! Стараешься, грязца подзалупная. Жрать-то хотишь?
— Так точно!
— А то! Ноги мои ароматные кого хошь к аппетиту подгонят. Да и я с утра не жрамши. Кончай пока свою еботню, ставь казан на конфорку, закинемся, блядь, пельмехами. Грабки мыть не велю, сам моюсь изредка, мунитет наращиваю. Вирусы сами себя бояться должны на нас, так считаю. Хули нам, шахтарям, от грязи шарахаться? А те, подстилке шахтарской, парашнице — и вовсе оно-то за нехуй…
Дядь-Вася поднялся с дивана, старым тулупом застеленного, и босиком пошлепал на кухню тож. Вымытые мною его ступни сразу стали чумазыми.
Сготовленные пельмени он вывалил себе в тарелку. Оттуда скинул мне в шлемку штук этак пять. Сверху — харчка добавил густого, с козявками:
— Не журись, манда, что мало! Будет те и от меня котлета со временем. Ты пиздец к любой пище должна здесь обыкнуть. Откуда знать, кому какая моча вдарит в башку, чем тя угостить по приколу-то? Ты ж походу будешь общее нашей бригады имущество. У нас мужики, знаешь, какие? У каждого свой изъеб. Ну, увидишь, хули мне с тобой пиздеть порожняково-то? На вот, приварок покудова…
Он длинно с обеих ноздрей в шлемку мне высморкался. Стали есть. Я давал прямо ртом со шлемки, помогая себе и пальцами, у ног дядь-Васиных. Раза три он совал босую ступню мне в шлемку, я тотчас кидался вылизывать и дыханьем сушить. В общем, блядь, был под ним портянкой прям шелковой!
— Хорошо, сука, стараешься! Ну, а котлетка тебе — за мной. Или колбаска? Или сарделька? Или калачик? Уж как выйдет, как, девка, получится…
Я скроил рожу типо, что прихуел. Пускай покобенится, пускай думает-наслаждается, что развращает всяко меня… Хе! А то, грю, мы теплых с жопы «колбасок» в баторе не кушали…
А тут, блядь, и совсем покатуха пошла: первому мне срать приспичило. Пережрал я, видать, бактерий с дядь-Васеньки.
Ну, жмусь, поскуливаю. Он тотчас догнал, чего я так:
— Сцать или срать хотишь, параша дырявая?
— Ага, срать, дядь-Вась! Так точно…
— А шлемка тебе на что? В нее и давай! На подножный, на поджопный, блядь, корм переводишься…
И такой жидкий просер пробил меня! Да еще и ссачка добавил туда, почти до краев.
— Супец! — дядь-Вася заржал. — Лакай окрошку теперь, машка-говняшка, хули грязь разводить в дому…
Стал я лакать, засасывать, давясь и икая.
— Скусно свое-то, домашнее? — спросил дядь-Вася меня с подмигом.
— А, блядь… Так точно!
— Ну ты у меня солдапер терь ваще кадровый! Догоняешь. Шурупишь мозгой, машуленция!
Тон у него сделался довольный и даж уважительный. Понял: я тоже не пальцем деланный, говнище хлещу да запросто.
— Ты, машук, разъеба, гля, опытная. Ну-ка, колись!
— Да бля, — говорю, — это ж батор, сами знаете. Там, пока мелкий, всяк тебя дерет и приколы кидает недетские. А в старшаки перешел — то же с мелкими делаешь.
— Хо! Был уже генерал ты на параше на баторской, а теперь снова в салаги тебя шахтарские. Че ж: жизтец!..
— Так точно!
— А ты, блядь, и рада стараться, пизда… Воспитал батор! Слышь-ка, есть мысля… Будку с Роликом во дворе видела?
— Это пегий такой кобель?
— Ну, бля! Айда, отсосешь-ка при мне заслужённому нашему Ролику. И к сраке своей приучишь, может, со временем. Да лошарой не будь: может, и его к своему дрынку приучишь, блядь. Не все те суходрочкой догоняться-то, переростку… Счастье в твоих руках, машеёбина!..
— Так точно! Рад стараться; как скажете…
— А было с псом у тя? Ну-ка, колись!
— Не, еще не было.
— Ну, значит, законная будет свадебка! Первая брачная, сука, ночь…
Так мы и вышли с дядь-Васей: с крыльца шагнули босиком прям в грязюку жирную. Значит, после опять мне его мослы мыть-глодать. Но посерьезке если, приколы дядь-Васины мне заебись катили. Почти все я в баторе спытал и на своей шкуре, и к другим применял. Но здесь настоящий взросляк, горняк со мной возится — это перло по-настоящему! Серьезная жизнь типо-того началась! Рядом с ним наши все хуйцы в баторе были, как килька, как карамель злоебучая. Втюрился я в дядь-Васю по самые помидоры. И что он бывший наш, баторский — тоже как здорово!..
Лишь бы не надоел я ему и не сдал он меня назад туда. Такое тоже бывает.
Но зря я стремался этого: он тоже во мне как бы душу родную узнал, заценил.
В сенях сунул мне на шею ошейник брезентовый, псиной вонявший. Ролик пометил его? Хе: дядь-Вась меня свойским парнем для псины так вот сделал. Я конкретно собакой себя почувствовал, чуть тут же на четыре кости не метнулся, ага!
Выходим во двор. Там будка собачья, свежекрашеная. Заботятся хозяева о Ролике, сразу видать. Ролик в будке кемарит под дождь. Дядь-Вась посвистел, пес вылез, зевая, лениво. Огромный такой, дворянской породы, по спине чуть чернота, а так-то да: грязно-пегий, кудлатый весь, как овца. Бля, во на ком блох не меряно!.. Ну да в тулупе на диване у дядь-Васи их, должно, столько же.
Вылез Ролик, вильнул хвостом. Но меня увидал — зарычал тихо, клыки показал.
— Фу, Ролик! Я те кадра для ебли привел, жану, а ты ворчишь, косорылишься!
Дядь-Вась взъерошил ему загривок и меня подтолкнул к будке:
— Гля, машух, он тя за жану пока не признает. Разборчивее меня, гляди! Метнись-ка в дом, пельмех в шлемку себе загрузи с казана, угости жениха. И, бля, разденься: не хуй пса одежей тревожить!
Я исполнил. Вот один ошейник на мне и пельмени в шлемке. Со своей посуды собаку кормлю, пиздец! Он жрет, урчит, я рядом на карачках смирно, как сучка, сижу.
Дядь-Вась, чую, видосиком догоняется. Ногой мне на шею нажал: типо пониже, пониже харю-то. А Ролик жрет и на меня желтым глазом, почти дядь-Васиным, косится. Этак, блядь, по-мужски. Хо-хо!..
Че ж, будем знакомиться…
Ну, закинулся пельменями Ролик с моих-то рук, одобрил, признал. Пожрал, облизнулся во всю пасть, подошел поближе ко мне вразвалку, пират, лапу заднюю задрал — и херак мне струю на рожу, на шею, а!
Дядь-Вась лишь присвистнул:
— Признал тя, машенция!
Ну, стал я Ролика по спинке оглаживать, за ухом псу чесать. После рукой ниже, ниже, к брюху пополз. Он рыкнул и вдруг на спину хряп — повалился. Я его там возле херка глажу-вожу: херок вылез, красный такой. Я чуть лизнул. Го-орький, лядь! И вонина: дядь-Вась Ролика ни хуя ведь не мыл. Это потом я стал о нем, сука, заботиться. Он и воды ведь сперва боялся, Ролик наш. Прям, как кот!
Но после дядь-Васиных ног всякая вонь меня только прикалывала. Чем вончей — тем звончей, тем прикольнее. Как-то так вышло, что жор на вонину проснулся во мне. И на вкус. Короче, на всякие, блядь, ощущения…
Стал я Ролику хер щекотать, после и засосал. Ой, блядь, ну горечь-то!..
Ролик поскуливает. Сучит эдак лапами, хуем в ротаке мне подмахивает. А я нежу его и губцами и языком, будто он сейчас самый любимый мужик для меня. Покатила мне сучья позиция! Дядь-Вась похохатывает, в жопу меня пяткой попинывает:
— Давай, машуляк, наддай! Воспитай мужика под себя, будете парочкой! Во ведь сучка горячая! Пизда у тебя во рту…
И чую: ссыт, горячей струей меня по хребту, как плеткой, нащелкивает.
Блядь, семейка-то!..
*
— Э! Дядь-Вась! Че за хуйня? — вдруг голос ломкий, пацанячий еще.
— Никакой, Дениска, хуйни! Все посерьезке: машку свою замуж вот выдаю.
— Блядь, пидра, что ль, заловил, воспитываешь?
— Да с батора взял, напостоянку, бля.
— Ху! Драл его уже?
— ЕЕ, Дениск; это — машка, она. Я — знаешь сам — деру только бабочек.
— И стрекоз, ха-ха!..
Тут Ролик взвизгнул, весь дернулся, и тонкая струйка едкой горечи слетела в мой пищевод.
Дядь-Вась босой ступней шваркнул меня в бок, повалил на землю рядом с Роликом:
— Ну, машка, пиздец! Жана ты ему теперь. Когда ощенишься-то?
— Дядь-Вась! А мне присунуть можно машке твоей? По-соседски, а?
— Ну, поеби, пацан, по-соседски раз. Только она, вишь, захезалась, сучка блохастая…
— А похуй мне! Не обниматься же. И почему только раз, дядь-Вась? Один раз — не пидарас! А она-то ведь пидараска конченая, кобелю цепному сосет, ебать, с присвистом.
— Ишь, ебарь-хуебарь! Ну лады! Сколько хошь, машку мою дери, только не заеби, мотри, до смерти.
— Я ж осторожненько! Сперва ебач ссаками ей сполосну после Ролика.
— Сука: грамотный!
— Ну! А то!..
Дениске было лет шестнадцать, наверное. Худой, большеротый, на лягуху похож. Был он в трусах и слайсах на босу ногу, и широкие слайсы делали его еще больше похожим на лягушонка. Мордочка его так и лоснилась азартом и озорством. Позже узнал я: он работал на шахте, в бригаде, где и дядь-Вася, а жил в другой половине домика. С год уже был безотцовщина и шпана. Да и не так, чтобы совсем шпана — шпанистый пацик, шакалик при реальных ребятах, да.
Дениска вытянул свой струхуйчок. Сперва-то он чуть стеснялся, тужился. Наконец, струя выскочила мне в лицо, окрепнув на моей шее и на плечах.
— Во, бля! Полей цветок! — заржал дядь-Вась.
— Не, в ебач я отлить хочу!
— Слышь? Распахнула, машка, пизду верхнюю! — дядь-Вась пнул меня в бок.
Раскрыл я ебач, и горячая струйка обмыла мне рот от пронзительной псовой горечи. Новая горечь, с кислинкой, человечья, заполнила мне кишки. Ссак становилось все больше, я фыркал, захлебываясь, пускал пузыри. Живот мой вздулся, дядь-Вась попинывал его, будто мяч, похохатывал:
— Ебись конем, машка-парашка! Лопнет потрох-то от шахтарского ссачка!..
Тут и мне ссать приспичило. Сунул я хуй под себя и оказался в теплой, вязковатой луже, да. Ролик отлез от этого желтого дождика в будку, оттуда сердито погавкивал.
Кончив ссанье, Дениска вставил свой тонкий, длинный теперь стручок в рот мне. Дядь-Вась обнял парня за плечи:
— Наддай-ка, поца, наддай! Покажь псу, что ты человек, а это, сука, гордо звучит, трандят!.. — и сам уже мял себя сквозь брезентовую штанину.
Соленая струя полезла у меня с губы на шею. Это и вдохновило обоих: Дениска с дядь-Васей ну на меня харкать-сморкаться, в лицо, на плечи, на голову, типо матч им.
Глаза залепились. Сосал я теперь вслепую, на ощупь, но да — ощущенья еще сильней!
Дениска-то, видать, пока не был мастак ебаться, сперва беспонтово хуй во рту у меня перекатывал.
— Поддавай, подмахивай, бля! Соска-то включена! — посоветовал ему дядь-Вась
Дениска тут замер от такой, сука, со взрослым близости, а после и ну садить, будто от дядь-Васи сбегал!
Больно толкнув что-то внутри моей пасти, он продрался в глотак.
— А-а! — Дениска ощерился. — Заебись-ебать!..
В хуе у него возникла судорога, еще — и он взорвался кончей, вкус которой я почти не почувствовал.
Парень вскрикнул, продолжая садить и садить. Хуй его и не думал падать.
— Блядь, на второй, что ль, заход? — гордо подмигнул он дядь-Васе.
— Ты б так уголек рубал, как машку дерешь, пацак! — буркнул тот недовольно. Ему самому уже не терпелось вдеть.
Тут вспомнил я баторские свои наработочки: если хочешь, чтоб кончил ебарь тебе в ротак побыстрей, язык напряги, трением его подгони. Что я и сделал.
Дениска настырно так бился во рту, шлепал яйцами мне в подбородок, но вот заскрипел зубами — и да, выстрелил. Однако видать, он и на третий заход сразу рассчитывал: застоялся коняжка. Однако ж дядь-Вась тут власть проявил, отпихнул его, как котенка, прочь:
— Совсем, уебок, машку мою зачморил!
— А в жопу ее?.. — прохрипел Дениска. Все еще в себя не пришел.
— Успеешь, злоебучка самоходная! Ишь, раскатал стручок во все рыло машенции. Никакой, сука, от тебя нежности…
Дядь-Вась выложил своего, сарделькой, на рожу мне, поводил. И окунул всю мою голову в поток своей жаркой мочи.
Далось им это ссанье! Я выставил, было, язык.
— Не торопи, пизда… — дядь-Вась отвесил звонкий мне подзатыльник. — Хули спешить: дома ведь…
Ролик гавкнул из будки, как бы подтверждая слова и дела хозяина.
С меня ручьями текло, коленки чавкали в жиже. Но и сквозь слипшиеся ресницы я разглядел: хер у дядь-Васи толстоват, но короткий, мясистый. Чисто сарделька.
— Терь давай, машуленция! — и я накинулся на его дрын всем ротешником.
— Пиздец, бля, машка, стараешься! Любишь хуяру обсасывать. Блядь, талант! — урчал-мурчал дядь-Вась. Хуй у него сразу стальным сделался.
Дядь-Вась схватил меня больно за уши и стал, проворачивая, вбивать себя все дальше, все глубже мне в глотку.
— Бля, тесноват пока! — прохрипел.
Приподнявшись в луже, я насел глоткой глубже ему на хер, раздирая себя.
Тут дядь-Вась воздух мне перекрыл штанами:
— Во! Во! П-пизда губастая, зубастая… — сипло ворчал дядь-Вась. — Бля, выбить на хуй все тебе клавиши…
Брызги грязи летели из-под меня. Дениска отшагнул, своего наяривая. Канючил:
— Дядь-Вась! Ну ляжь на землю, он сверху, бля, а я уж в жопец… В дупляк, блядь, хочу чего-то…
— Отъебись, малявка!..
Мой глотак водоворотом бурлил вокруг его болта. Рвота поднималась, раздирая и ноздри. Дышать я почти не мог. В башке пошли плясать цветные полосы и шары, глюки конкретные, бухал в висках набат.
— Бля, ты придушишь его! — взвизгнул Денис. Кажись, он рванул дядь-Ваську за робу. Тот отпрянул, выдернул хер, обкончавши себя белыми хлопьями. Я повалился рожей в лужу, тяжко, больно дыша, весь содрогаясь.
И тут вдруг… Ролик снова в дело вмешался! Он взлетел на меня сзади и стал, рыча, тыкать дрынком в межжопье. Найдя дырочку, засадил, хотя хуя его я почти не почувствовал.
Оба — дядь-Вась и Дениска, хоть и были возбуждены — грохнули:
— Ну, бля! Опередил Ролик нас! Ухарь Ролик! Ебарь Ролик! Мужээк!..
Ролик сделал несколько толчков и, кажется, слил. Гавкнул, спрыгнул. Спину мне расцарапал. Густо обоссанная, она сразу стала саднить.
Будто из шершавого железа пальцы грубо взяли меня за бедра, приподняли. Ай, Денис! Впаял мне стручелло свой по песьей по мокряди. Я вскрикнул и дернулся.
— Ниче-ниче! — Денис уже чавкал победно яйцами о мой крестец. Тут спину ожгло: кто-то из ебарей сронил пепел мне на спину. Очко сжалось вокруг Денискиного дрынка. Его хуек, укрепившись в дырке, ходил теперь на весь прогон уверенно, размашисто.
Голова моя чавкала в луже, спина горела от горячего пепла, который все сыпали, сука, сыпали.
Дениска дышал все судорожней. И вот, охнув, он кончил.
— Ты, блядь, проссысь ей туда, не выная, — томно посоветовал дядь-Вась. По голосу слышно, наслаждался, гад, зрелищем. — Мой тогда просклизнет запросто.
Пацик хихикнул, подержал своего. Кажется, Денис закурил, пепла стало много чего-то уж слишком. Крематорий-ебаторий! Ой, бляа-адь!..
Наконец, горячее потекло внутри у меня и по ногам.
— Заебись! — выдохнул Дениска. — Хуеглотина, бля, очковая!.. Ой, кайфе-ец…
Вынимая своего, он вроде случайно прижег булку мне сигаретой. Я вскрикнул, очко сжалось опять. Кажись, хитрюга пацан просек, как после дядь-Васьки можно будет кайфово палку кидать… Потом он часто лупасил меня крапивой или вот так прижигал. Называл это «разъебу сшивать». Молодой, да ранний оказался в ебле пацак! Выродок-самородок… Я просил его не открывать мужикам секрет, как обузить мое очко. Но они сами расчухали, по ожогам на заднице.
Может, и сейчас Дениска хотел дядь-Ваське помешать в меня просклизнуть?..
Хитрожопый на всю чужую, блядь, задницу…
Дядь-Вась не заметил, что ль, этого, встал на колено, со знанием дела повозил хуярой в межжопии, пальцами разминал, как книжку слипшуюся.
— Бля, не порвать бы… — пробормотал.
Заботливый!..
Че-то смекнул себе. Крякнув, на землю лег, меня на себя потянул. Я тотчас догнал, что нужно: стал поигрывать жопцом на его залупахе. Тереться-проситься, чтобы типо он меня щас пропер.
Раздразнили мы друг дружку, мое очко раскрылось и потекло. Он бедра мне сжал: седай!
Присел я сперва со страшком, а после налез основательно. Боли почти и не было: смазка помогла моя, да и соки двух (которые раньше) ебарей.
— Скользи-и… — нежно прошипел дядь-Вась. Прямо будто этими словами поцеловал!..
Я — рад стараться, хоть и устал. А тут еще и Дениска к ротаку мне со своим беспокойным прилез. Тревожная, сука, юность всё яйца жала ему! Правда, не очень мне тогда побаловать его удалось: я весь вверх-вниз на хую у дядь-Васи катался, про собственный рот некогда было думать. А Дениска все ж сам сопля неопытная, чавкало мое ловит на хер, прыгает, брызги с-под ног дядь-Васе прям в рожу летят.
— Блядская еботня! Дениска, свали! Хули мне под тобой лужу лакать?!.. — дядь-Вась взревел.
Ну, Дениска отлез, тягает себя в сторонке, весь злой-презлой. Но кончая, успел мне в ротак влететь. Это потому что я ебач настежь прям распахнул, сам стал кончать. Бля, Дениске на труселя и кончил.
Тут и дядь-Вась свои боевые сто грамм спермянки мне на простату выхлестнул.
Я рядом рухнул, в лужу.
— О, блядь, захезались! — дядь-Вась довольно урчит. — Хе, а это че у тя на трусах, Дениска? Твое?..
— Да ху! — не признался Дениска, что я пометил его. По его по понятиям, «заминировал». Херов «авторитет»…
А дядь-Вась лукаво ему:
— Э, Денис! Че такой озабоченный? Конча закончилась?
— Не, думаю вот: вдруг соседи видали нас…
— Ну и хуй с того? Полюбасо ведь мимо машкиных дырочек не пройдут. Да, машка, и сама ведь запросишься? Эх ты, блядина, растыка зачетная… Так в дому не потрахаешься: тесно, бля!..
Тут Дениса осенило-обсеменило, гнуса толкового:
— А че, дядь-Вась, можно ж ее на хор ваще поставить, бабосики срубать только так…
— Я прикинул уже, Дениск! Своим запросто, а другим всем в поселке за денюжку. Хе, машк, ты ж у нас терь, гляди, распроебанная блядь. Будешь ебстись, с кем прикажу, ага?
— Так точно! — ответил я, отдавая честь.
— Ебучая хуесосина, беспонтовая, не служившая! К пустой башке руку-то не прикладывают! Только если у тя из нее хуй торчит… — заржал дядь-Вась.
— Бордельчик, бля, замутим! — размечтался Денис. — С цветомузычкой!..
— Перво дело, эту тварь участковому надо скормить, — дядь-Вась в луже прямо разнежился, не хотел вставать. — Да, участковому, блядь, Петровичу. Чтоб не доебывался…
— Этот бабки делить с ним заставит! — Денис сплюнул. Участкового он, видать, «терпеть ненавидел».
— Говно вопрос! Машук будет больше работать, и всех делов, — дядь-Вась потрепал меня по башке, поднимаясь, — А терь жрать айда! Яичну с сальцом! Блядь: заработали…
Жрали яичну мы, естественно, «по понятиям». Моя шлемка стояла на полу. Я из нее засасывал, помогая себе руками. Это прикалывало хозяев. Туда же, в шлемку, поверх яичны, и нахаркали, и набросали бычков:
— Привыкай, машка-парашка, мусорка наша!
Решили: летом я по дому и по двору вовсе голяком хожу. В робе — только в забой.
— Оно и закалка! Первое дело это для тебя, машух, — наставлял дядь-Вась. — Иначе сразу пиздеца словишь при такой нашенской жизни-то.
Вечером Денис свалил к своим дружбанам, а дядь-Вась под программу «Время» дремал. Я ему пятки почесывал и хуяру грел в ротаке просто так, чтобы снилось приятное. Утром предстояло всем нам в забой ползти. За день мы так упахались еблей, что уснули, телек не вырубив. Я прикорнул на полу. И вроде б по мне кто-то бегал в ночи, хихикая…
И не знал я, что впереди меня ждет не одна только вечная ебитва рабочая, а целый, паять его в рот, детектив с чертохуевиной, — со всякой, бля, местной «мистикой»…
Глава 2. Производство и потребление
Утром отправляемся мы на шахту.
— Ты мотри, машка, делай все ровненько! У нас мужики суровые: кто, блядь, и срока мотал. Любят всё, чтоб по понятиям. Всосала?
Дядь-Вась наставляет, бурчит, будто это все я сам с собой замутил, чтоб в шахту пилить. Вид у него озабоченный.
— Все она понимает, — возразил сонный еще Денис.
— И сколько их будет, ебарей? — невольно вырвалось у меня.
— А сколько получится, — пожал плечами дядь-Вась.
И хер, и сердце встрепенулись. И хотелось — и стремновато сделалось.
— Слышь, Дениска, — Дядь-Вась дернул пацана за рукав. — Ты особо-то пока не трепись. Ну, я про Ролика…
— Че так?
— Разъебаев наших не знаешь? Под Каурого потянут еще, машка под ним пополам треснет.
— Полюбасо потянут, дядь-Вась, когда-нибудь…
— Ну, не сразу же убивать машку рабочую!..
Каурый?.. Конь?!.. Поцы в баторе трандели, что в шахте еще лошаденками пользуются, вагонетки тягают они: шахта-то старая. Там, грят, и на себе тачки тащить приходится, и, лежа в воде, рубать уголек. Тяжеляк работенка шахтерская!..
Дрынище у коняги я видел. Такой ни за что в чела не вставишь; только облизывать.
— Сцышь Каурого? — заржал, разом проснувшись, Дениска: заметил мое смущение. — Бздишь, машутка?
Я промолчал.
Денис оживился:
— Прикинь, у Каурого хуяка, как у дядь-Васи рука. О, бля! В жопу вставит, в ротак залупахой вылезет! Бля, и орал, и анал зараз!.. Заебись ощущения!..
— Э! Заткнись-ка покуда, а? Посерьезке ведь говорю: не сдавай машуху, скотину не порть!.. — прикрикнул дядь-Вась.
— Да я че ж? Я, как скажешь, дядь-Вась… Хули за пиздобола меня прописывать? Покатуха просто глядеть, какая машуха дрищ…
На подходе к копру мы влились в черную, словно углем припорошенную толпу. Все были в одинаковых мешковатых робах, тяжеленных резинухах и чумазых, неотмываемых касках.
Такой же бэушный Денискин прикид был и на мне.
Нехотя рассвело, но небо висело низкое, грязно-серо-кофейного цвета. То и дело принимался редкий, робкий какой-то дождичек. Ноги чавкали в глубокой, не засыхающей здесь никогда грязи. Люди, как стадо, равнодушно брели по лужам, угрюмо переругиваясь. Молодые, наоборот, срывались в ржач по малейшему поводу. Дядь-Вась перднул громко, и сразу Дениска вместе с другим молодым голосом откомментили:
— Душа наружу просится!
— В ангела, блядь, стрельнул!
Дядь-Вась не считал нужным отвечать на подъебки сопливых, но перданул еще разок, явно уже шутя.
Дениска как бы в ответ тоже выдал тугую трель.
— Бля, подрывник! Дениска-пердиска!.. — загоготал рыжий длинный паренек, весь в веснушках.
— Колян, хули батон крошишь? Давно ль сам бздел, как дизель, когда в шахту спускался? — отбрил Дениска. Проснулся он окончательно и шарил глазенками в темной толпе, к чему б приколоться.
— Пердок в роток! — многозначительно заметил Колян, прищурившись на меня. Вроде этим присловьем со мной поздоровался. — Это тот новый еблан, что ли? Как звать-то тебя? Малек-хуек, ага?
— Колян, он с батора. Вчера дядь-Вась на себя оформил. Типа наше теперь имущество, — подмигнул Денис.
— Хе, смена растет! — поравнялся с нами добродушный седой усач. И протянул мне руку как равному. — Натолий Ильич, бригадир.
Я несмело пожал чугунно тяжелую, но теплую лапищу:
— Саня…
— Ссанька-хуй-встань-ка! — хихикнул Денис.
— В ссаный хуй утренний поцелуй, — поддержал игру и Колян.
— Ильич, ты это… С лапами осторожнее, — сдержанно подсказал дядь-Вась. И обратился ко мне строго, словно к провинившемуся. — Бригадир наш, Ильич. Гля, его слушаться, как меня, всосал?
— Да он парень вроде смышленый, — оторопело возразил Ильич, покосившись на меня без прежнего добродушия.
— У нас все по понятиям, Ильич, — многозначительно-тихо сказал дядь-Вась.
— ПидарОк, что ли? — так же тихо осведомился Ильич.
Он покачал головой и скрылся среди шедших впереди.
— Скосячил старинушка! Эх, дядь-Вась, говорил те вчера: надо машке марочку сразу на щеку!
— Сделаем, — буркнул дядь-Вась.
Не сказать, что очень уж испугался я. Но марочка на щеке — хех, это ж на всю жизнь метка! Таких и в армию не берут. А с другой стороны, о чем я думал, мудак, когда вчера аж Ролику подставлялся?
Клеть оказалась большой, вся бригада влезла, человек этак десять, как успел я сосчитать. То ли Ильич всех предупредил, то ли разговор наш услышали, только весь путь вниз меня тормошили и щупали запросто, будто курицу. Черная лапа прошлась по моему лицу, толстый палец с корявым ногтем отогнул губу. Послушно я засосал горький этот пальчище.
— Блядь, а опытная! — засмеялось сразу несколько голосов. — Молоток Васька, что своего педрика подогнал! Уважил бригаду! Закипит работа теперь!
— Терь работа на хуй пойдет, — ухмыльнулся тот, чей был палец: приземистый немолодой мужик с широким стойко ехидным лицом.
— Да он тя, Викторыч, уже обслужает! Хули, первым хоть палец, а сунул, лиса! — сказал кто-то за моей спиной.
— Палец — не хуй, не понесет машка с того, — рассудил Викторыч и лишь глубже впихнул своего в мой рот.
— Может, в эту щелку и палец в гандоне на всякий пожарный нужно запихивать, дядь-Андрей. Хули, вчера целый день псом его драли, весь поселок про это теперь трандит, — сказал Колян. Ему хотелось показать перед взросляками себя осведомленным. Типо в авторитете и он.
— Лучше палец в гандоне, чем весь, как ты, бля. гандон, — осадил его самый плечистый здесь, рослый Вовка, молодой мужик с прозрачно-серыми глазами на темном от грязи лице. Сразу почему-то пробило меня: и Вовка, и Викторыч — те еще ебари, с выдумкой.
— Че я гандон-то?.. — оскорбился Колян.
— А то, сопля! Ты пока гандон на палец надевай, когда в жопу себя дерешь, — прикалывался не по-доброму Вовка.
— Ваще беспердел какой-то… — Коляха смешался. В авторитете не удалось у мужиков даже по поводу педрика оказаться…
— Пердел-пердел, а теперь бес, — добил Вовка, ощупывая сквозь штаны мои булки. — Хули, подходящая ващет целочка…
— Блядь, так он точняк уже ебся? — спросил всегда зловатый, с надсадой в душе Димон.
— Че, мужаке, все уже знаете, — махнул рукой дядь-Вась. — Но на дупляк целкой вчера еще утром была машка наша, верняк говорю.
— Зато верхним разъебом тянет, как пылесос, — заметил Викторыч. Он сунул мне уже третий палец в рот.
— Ты вон грабку туда запхни! — ржанул Вовка. — Он на тя всю кончу вчерашнюю Васькину выблюет!
— На хуй мне его конча? Мне только своя дорога, — невозмутимо возразил Викторыч. — А марочку на харю надо бы.
— И на булки, раз круглый уже, — заметил Димон.
— И на жопу «колобку» марочку! — оживился Вовка. — Че, прям седни, ща сделаем…
— И ебстись, небось, первым полезешь, хуй без удержу? — хмыкнул дядь-Вась.
— Дык! Ебать — не базлать: всегда, сука, хоцца.
Настрой у мужиков был боевой. Сколько их?.. Ну да, десять. Правильно… Если они драть, как те трое вчера, начнут, от меня к вечеру ничего не останется…
Викторыч подставил ладонь. Далеко по приколу высовывая язык, я начал ее вылизывать. Мужики смеялись, посвистывали. Лишь Ильич молчал, отвернувшись. Ему было неудобно, что мне руку пожал. Но шахтари Ильича любили и «забыли» его «косяк».
Качнувшись, клеть стукнулась днищем о твердь.
Рабочие повалили наружу.
*
Вокруг горели бессонным, зимним каким-то светом лампы, отражаясь в черных стенах и сводах. Под сапогами хлюпала неглубокая здесь, по щиколотку, водичка. Запах стоял изумительно гнусный: сырость плесени, стоялого лошадиного дерьма, какой-то тухлятины — крысы здесь, что ли, дохли пачками? — грязного пота и испражнений… Короче, кипела здесь трудоебкая подземная «жись».
— Вечерком марочек те!.. — шепнул мне в ухо Вован.
Еще наверху Ильич велел:
— Седни, как вчера, мужики.
Все разбрелись по водичке в знакомые штреки.
Мы — дядь-Вась, Дениска, Коляха и я — отправились в самый дальний штрек (так Дениска сказал). Брели вдоль узкоколейки.
— Побереги-ись!.. — протяжно свистнули и заорали у нас за спиной. Мы шарахнулись к стене.
Мимо, громыхая, пронеслась пустая вагонетка. Мощный битюг (позже оказалось: вот этот самый Гнедой) резво волок ее.
— Тпру-у, зараза! — паренек в вагонетке резко натянул вожжи.
— В пятый? — уверенно спросил он у дядь-Васи. Махнул себе за спину. — Подвезу! Хули порожняково копыта бить?
При близком рассмотрении чумазый парень оказался мужиком под сорок, только худым и вертким. Рожа у него была курносая, развеселая. Лет через двадцать таким, наверно, Дениска заделается.
Мы влезли в вагонетку, под ногами захрустели осколки угля.
— Блядь: ссать охота! — пожаловался Колян.
— Подержать те? — ехидно спросил мужик.
— Дядь-Гриш, это Коляшка намекает, что… — начал, было, Денис.
Дядь-Вась ткнул его локтем, шепнул:
— Хули пылишь, мозгля? Обещался перед не-нашими не тарахтеть пока… Баба, тьфу!..
Но у дядь-Гриши глаз алмаз был и уши — локаторы:
— Да втюхал я уж, Васянь! Вся улица про «сынка» твоего гудит, как вы с Дениской его вчера на дворе паяли. Блядь, вроде и пса привлекли. Был пес-то?
— От тя, Гриш, хуй спрячешься! Ну да, пидарок он наш, наша, ебать, мащуленция. Что ж, поеби его, таксер, за извоз, хоть ты и не с нашей бригады, бля…
— И поебу! Куда от вас денусь-то?
— Только, Гриш, не трепись особо: набегут.
— Трепись — не трепись, а завтра к те весь поселок в очередь встанет.
А Колян, видно, и впрямь ссать хотел: пританцовывал.
— Давай уже! — махнул рукой дядь-Вась разрешающе.
Я встал на коленки в жесткие угольки. Колян добыл из брезентухи свой хуй, что-то маленький при таком-то росте, но с длинным трогательным чехольчиком. Хе, да он еще и фимозник!..
Сосать пока я не стал: пусть проссытся шахтерская молодежь. Вагонетка подпрыгивала, Колька держался за бортик, я вцепился в его сапоги. Хер его ерзал во рту у меня, словно не зная, трахать или ссать. Был он полувозбужден, растерян. Наконец, прыснула горькая жидкость. Я нарочно громко глотал. Все смотрели, посмеиваясь, дядь-Гриша поминутно оглядывался, кучеряво веселился вслух:
— О, бля! Промой-ка, промой, Коляха, ему ебач. А то у меня дружок больно чистый всегда, после Гнедка. Не хочу в грязи хуесоситься…
Колянов хер, между тем, брызгаться перестал, начал расти, но медленно. Вот соплежуй нерешительный!..
Я напряг язык и губы, стал головой сам водить взад-вперед.
— Наддай, Коляня! Ее еще дядь-Гриц должен срочняк завафлять, без отрыва от производства, — ржал Дениска, подгоняя меня звонкими подзатыльниками.
— А хорошо сосет! Типо: с душой! — одобрил дядь-Гриц. — Хорэ, Дениска, пинать его: крендель трудится!
Я до того оборзел от этого дружного одобрения, что без спросу достал свой хер и начал о сапог Коляхе наяривать. Сквозь толстую резинуху он это почувствовал.
— Кончать на меня не смей, пизда… — прошипел. И взорвался вязкой кончей, облив мне десны.
Я показал всем белые пузыри на губах.
— Хуя се, залпище! — одобрили в один голос оба мужика. А Дениска добавил, сопроводив пояснение подзатыльником:
— Во кто молокосос у нас! У машки молоко на губцах не обсохло, а ты ее, Коля… Крантец те теперь, пац, сядешь на парашу за растление малолетних…
— Тпру-у, Гнедок! Прибыли! — крикнул как-то особенно удало дядь-Гриша. — Ну че? Плати терь, Васек, машкой своей по счетчику.
Он повернулся к нам. Дядь-Гришины штаны вниз будто сами собой поползли вместе с трусами. Широченные труселя были синие, все в детских, что ль, солнышках. Хуй у дядь-Гриши приподнялся, темный, захватанный, складчатый.
Я подполз на коленях к нему, подул снизу на шнягу эту бывалую. Она чуть колыхнулась.
— Не простуди, машуль! — бодро «попросил» дядь-Гриц. — Хули, итак весь день в мокряди, как караси…
Даже яйца у него были в черных угольных метинах. На рабочем месте дрочился? Или ссать доставал?.. Это второе — скорей всего.
Я лизнул сперва уздечку. Хер встрепенулся, именно — встряхнулся весь, точно птица. Но я хитро снова вернулся к мошонке, отвлекая и завлекая одновременно.
Каждое яйцо по отдельности грел во рту, языком аккуратно почесывая.
— Ебать: сеанец! — вздохнул Дениска. — Ебена-перец, а?..
Я аккуратно слизнул угольные полоски с хуя. Тот уже пикой торчал, весь в твердых венках.
— Погодь: вот так… — дядь-Гриц развернул меня, и уткнул спиной в угол вагонетки. «Сеанец» для остальных закончился, для них только раздавался мерный стук моего затылка о борт. Дядь-Гриша садил не по-детски, влетая в ротак вместе с мокрыми яйцами. Я клокотал, всем горлом кипел, курлыкал потрохом, сливая в черный от волоса его пах тягучие, обильные слюни и сопли. Про свой хуй я и забыл, он взорвался на дядь-Гришином голенище двумя широкими залпами…
— Бля, ебаторий… — донеслось до меня сдавленно мечтательное Коляхино. Он опять мучился стояком.
— У!.. — коротко выдохнул дядь-Гриц и повалился на меня. Конча у него была совсем, совсем горькая, как табак.
— Уф! Дырку верхнюю обработали, — «доложил» он зрителям.
— Дядь-Гриц! Так ты его еще и в топку будешь, да-а?.. — почти завопил Колян, будто его сейчас в очереди обчистили.
Я осел на задницу. Меня как выпотрошили. И так остро вдруг ссать захотелось! Тотчас я сунул мокрый хер под себя и зажурчал громче, чем надо бы.
И тут вдруг навстречу мне из-под дядь-Гришиных сапог понеслись три широких ручья… Вот козлины: обмывают, блядь, нашу свадебку!.. Подставив ладонь, я обтер ему голенища.
— Ты че, всегда ссышься, когда ебут? — спросил дядь-Гриша.
— Ссытся-ссытся! — подхватил дядь-Вась. — Лучше не подходи, Гриц, к нему босиком.
— Да ништяк! Я хотел и в жопу его проверить…
— В жопу, Гришух, когда мы ее от ссанья, сучку, вылечим… Сам тогда машку к те приведу и раздену… — голос дядь-Васи от сдерживаемого смеха мурчал.
Вот приколисты!
Мы вылезли из таратайки. И тут Гнедок, словно подслушал нас: как вдарит струищей! Ебаный матрац! Струяка в руку толщиной, и пар, как из люка зимой.
Наши в такой ржач сорвались, чуть сами в лужищу не попадали.
— Ну, бляди, ну, говноебари, — дядь-Гриша тоже засмеялся, враз все поняв. — Но машкино очко вы мне по-любасо должны за прогон! Заметано?
— Дырку от бублика те! Тоже очко! — дядь-Вась подставил голенища под Гнедкову струю. — Не боись, Гриц: прочистишь потрох ей своим уховертом с пропеллером. Подгребай к нам после работы домой: марочки будем ей ставить, ОТК машке устроим. Там и вдуешь сучке в топкув нормальных условиях.
— Лады, бутылек за мной!
*
Пятый штрек был не только самым дальним, но и самым жарким на шахте. Чисто баня чумазая! Мои мужички поскидывали куртки, штаны, оставшись в одних семейниках. Только тут я разглядел их тела. Дениска и Колян были щупловатыми, тонконогими, но с буграми наработанных мышц на руках. Дядь-Вась был тоже на руки и плечи мышцастым, но уже животик круглый имел.
Позже открылось: хорошо, пропорционально сложенных среди шахтарей было мало совсем. Тяжелый труд и нездорово жирная пища развивали одно, округляли другое. С возрастом у всех почти появлялись животики, лезли грыжи с пупков. Тощие казались хилыми, хотя были на самом-то деле «жильными», как говорили здесь: выносливыми, сильными, цепкими. Устанавливалось меж ними особое окопное, что ли, братство, когда и работаешь, и жрешь, и срешь, и мрешь рядышком.
Дядь-Вась велел раздеться и мне. Голым я залез на груду шмотья у входа в штрек. С ложбинки рядом потягивало говном, валялись бумажки. Отхожее место, — как понял я.
— Ты отбойник, бля, подыми-ка! Пощупай, каково оно в шахте робить! Ведь тяжельше хуя ни хера в жизни не держал, — насел, было, Колян. Никак пац поставить себя среди взрослых не мог, а — тут машка: можно отбиться на ней хотя б.
Отбойник был да, тяжел. Я рожу скроил скорбно уважительную. Типо: вам, мужики, поклон с параши, кормильцы вы наши, работнички! И поильцы — по совместительству…
Приступили к работе. Загремел гулко, затрещал гневно отбойник. Дениска и Колян звонко затюкали обушками. Пыль поднялась, потные тела почернели тотчас. Мне даже неловко было сидеть на груде брезентух, при говнище и «тормозках» (термосах). Была еще большая бутылка с водой. Но пить из нее мне как? Из горла — запомою. В ладони, наливать, что ли? Тоже дело пизда… Тьфу, бля: как арестованный!..
Закрываю глаза от пыли — и да: сразу почувствовал. Их почувствовал. Всюду они, взглядцы их здесь. Злые и умные. Смышленые, быстрые. Враз просекли, кто я. Все время рядом, везде. Будто выжидают. Да: выжидают они. Ждут чего-то. Что залезли в их мир, бесятся. Не удивлюсь, если бросятся. Верно ведь говорят: «окрыситься». Разом — в горло. Да хоть и в ногу — ведь заражение, запросто.
Говорят, здесь есть которые, как собаки, огромные. Бля-адь…
Даже сквозь грохот и звон я слышу шорох, осторожный и деловитый. Разом, словно вынырнув, раскрываю глаза. Так и есть! Большущая, с рыжеватым хребтом, по бумажкам, там, где говнище, и не таясь.
— Пиздец! — слышу над головой.
Это Дениска:
\— И крыс ссышь, машук? Пизда те тогда здесь ваще! Слышь, бля, по хребту пройдись-ка мне язычком. Забились про душ ведь, ага?
Да, про душ они говорили: буду освежать им тела. Дениска садится передо мной прямо в угольный развал. Тощая вся в хрящах спина его сверкает от пота, в черных густых полосах.
Приступаю от шеи, от плеч.
— Бабочек[1] тож протри! — он поднимает руку, другую. Волосы под мышками у него — по форме бабочки.
Дениска постанывает от удовольствия. Верняк, глаза закрыл и в рай улетел.
— Хошь, дрочи себе: мне по хуй, — разрешает пац сонно, разнеженно.
Дениска верткий пацан, но не злой. И пот у него приятно горчит. У Коляхи пот рыбьим жиром отдает, какой-то он у него тухлый, прогорклый. У каждого чела, говорили в баторе на уроке химии, свой состав, отсюда и свой запах, и обмен веществ от этого типо зависит. Теперь вот на практике убеждаюсь. А в баторе у нас у всех вонина казенная была: хоз. мыло и гнилое тряпье. Говорят, солдаты так пахнут — и еще кирзой.
— Пизда тут с крысами, — делится Дениска. — Пацы воюют с ними. Один только способ отвадить, и то на время, от штрека. Знаешь, какой?.. Заловить, облить бензином, поджечь одну и выпустить. Визгу, писку!.. Несется такая — огненная стрела. Вонища, блядь, после! Зато на время уходят, пока запах стоит. Нехуево, ага, придумано? Ой, блядь, как заново я родился! Бля, а жопу, машк, полижи? Мне ни разу очко еще не лизали… Улет, грят…
Просит! Можно ли отказать?..
Дениска стоит раком ко мне, трусы упали на сапоги черно-пыльной тряпочкой. Крестец у него мощный и булочки аккуратными полусферами, крепкие. Реальный ебака! Прохожусь влажно по ним, осторожно вползаю языком в горькое, мокрое межжопье. Ха! Присохший комочек бумажки добыл… Покажу ему после — пускай сам тоже приколется. Скольжу вверх-вниз, ебаный нос не дает мне ебать хорошего человека языком глубоко в очко. Дырочка маленькая. Чешу о нее ноздри, трогаю очко: позволит ли, пальцем, а?.. Дернулся. Нет! Не сейчас. Хихикаю.
— Че ржешь, дура? — почти обижается, бдительный.
— Вспомнил: Дениска-пердиска…
Дениска сразу расслабляется:
— Давай нос, угощу! Заработала и ты свой кайфец, машутка…
Лезу носом в очко. Пердок тугой вылетает, густо-пахучий.
— Ну как оно? — Дениска лукаво щурится. — А по говнецу язычаркой пройтись мне слабО как-нить будет?
— Я шоха твоя, Денис! Заказывай!
— Во ты, пизда-подтирка, развратница! — Дениска в восторге. — В баторе тоже очко подтирала всем?
— Только Витьке. Был там один, на два класса старше. Ниче так пацан, черномазенький. Правда, он любил, чтобы я еще и напротив стоял, когда он срет, запах вдыхал.
— У-у, пидарасы! Надо будет попробовать…
— Денис, к станку! Ебальню из штрека устроил, блядь… — прикрикнул, отбойника не опуская, дядь-Вась.
Вздевая трусы на Дениса, любовно целую в хуй. Тот, словно конь, вскидывает головку.
— Ой, бля: поебстись не дают, — ворчит Дениска, но довольный, отходит.
Снова тюкает его обушок. Закрываю глаза, крыса забыта, лишь бы не приняла сейчас вставший мой дрынчик за колбасу… Господи, как проста и прекрасна жизнь, какая она, гадина, неожиданно интересная иногда бывает!..
— Бля, дрочиться будешь только под нами! — теперь суровый Колян надо мной, с обушком. Сейчас тюкнет! Ой, блин: не ебет, так доебывается… Сижу тупо с хером наперевес — машка без вины виноватая…
— В жопу хочу! — гавкает он.
— Э, Коляха! Дома — хоть в ухо. А сейчас только, бля, освежиться! Работы до хуя! — дядь-Вась сплевывает.
— Повадился!.. — Дениска останавливается рубать, глядит с интересом, че ни то товарищ с машкой придумает.
Весь прибор вместе с яйцами торчит из дырки в Коляхином трусняке, на капюшоне залупни мутно-белая капелька.
— У него муде сопрели, дядь-Вась! — ехидно комментит Денис. — Он же яйцами, бля, рубал…
Работаю с чужими хуем и яйцами — честно, скромно, башки не теряя. Ебу свой рот суровым этим фимозником. Освежить межжопье Коляха меня почему-то не подпускает. Странно устроен все-таки человек! Ведь что б мне сказать Коляну про его этот сраный чехольчик, отчего и больно ведь будет и в очко и в мохнатку вставлять? А вот надо ему самоутвердиться перед всеми! И ничего не схлопочет себе кроме позора, дурак… Но я молчу, я всего-то здесь машка — рот для хуя открывашка… Про фимоз досконально знаю еще с батора: у Витьки ведь был он самый, фимоз…
Что ж, лады, Коляха: пройдешь ты при всех через облом свой, не моя в том будет вина!..
Конча его солоновата, как скупая мужская слеза, но она все еще только слеза младенца. Подумалось это, когда чистил Коляну пупок после «выстрела». И опять почувствовал острый крысиный взгляд на себе, тотчас. Черт, они, что ли, подглядывают за нами?.. Следят?..
*
Погодите, а как все дальше-то было?.. Вечером они набились к нам: дядь-Гриша, Вовка, дядь Андрей Викторыч… Ну, само собой, и Коляха. Ни один шакал не сказал ему про опасность, ведь ни один! Мог бы дядь-Гриша, он самый добрый мужик, но дядь-Гриша вышел за чем-то, не было его в комнате, когда Коляха свой шесток в очко мне прилаживал. А другие хитро притихли, балдели от предвкушения. Да, это было еще до марочек. Еще до марочек запустили его в жопу ко мне…
В общем, не случилось Коляшке в очко мне стрельнуть. Мужики стали хохотать, всяко галдеть, прикалываться. Коляха — ноги в руки, от позора-то. Потом его искали, три дня, и в шахте — ни хуя не могли найти!
А на третий день это вот и случись…
Ой, блядь, и сейчас ведь не верится, что было это со мной… А ведь было же!..
За эти три дня через меня прошла, ясен борщ, вся наша бригада, и не по разу. Порвали меня ребята, так что перейти временно пришлось на ораловку: для посторонних стольник, блядь, за отсос. Но в шахту я таскался со всеми, хоть и щадили, щадили меня. Отсыпался я там на спецухах возле говна, под отбойничек, теперь уже плевал и я на крыс. Эта, с рыжеватым хребтом, чуть не подружкой стала. Все приходила и приходила к нам на говнище на свежее. Или газетки читала? Это Дениска предположил.
Повадился он как раз мыть себе жопу мною. Дядь-Вась весь исприкалывался над ним. Типо: для чего ты такую чистоту в верзохе заводишь, Дениска, — не для него ли, для дядь-Васи? Так ссаной залупе и срач не помеха! Сперва Дениска смущался, обижался, ага, — а после махнул рукой: хер с тобой, дядька, а мне кайфец охуябельный!..
— Вот заживешь, машка, к пацам нашим тебя сведу. А то с одними со старшаками зачахнешь епкаться. Пока у них ебстись яйца зачешутся, пока хер встанет… — обещал Дениска.
Ролика я тоже только отсосами тогда баловал.
— Считай, ты пока в отпуску, машук, или на полставки, бля, — посмеивался дядь-Вась. И каждый вечер проверял, зажило ли. Чем, между прочим, и боль доставлял, и раздраконивал. И ведь как, свинья, раздраконивал! Три пальца в ротак мне, а другой рукой очко обминает, чтоб не отвыкал я мою верзоху как пизду всегда ощущать. Доктор, сука, Айболит — только хуем знаменит — всех зверей обсеменит!..
Но так-то вчетвером (считая и Ролика) мы в нашем дому за эти дни сроднились.
Это я вам общий фон описываю. Вроде не было особь оснований страдать-то, грызть себе яйца вроде и не с чего. Одним Коляхой больше — одним меньше… Нет, не с хуя мне по конкретно нему убиваться. А вот поди ж ты: случилось! И вовсе не потому, что перед тем Дениска своей жопой пахучей мне кислород перекрыл и я мозгой отрубился — нет, уж точно не только вот это причиной.
Короче, обтер я говнище со щек после Денискиного просера. Думаю: ну покемарю малехо, пока мои опять растелешатся или с других штреков ебари набегут. Очень спать тогда вдруг захотелось. Может, и впрямь газ где-то проник. Газ-то подземный: он, сука, так действует, и не сразу его прочухаешь — почему и взрываемся. Но я-то не знал еще этого. Полуобтертой рожей в спецухи — кувырк. И тут вдруг чую: кто-то за плечо меня тормошит. Может, дядь-Васе приспичило?..
Открываю глаза: ОН, Коляха! Спокойный, важный и почему-то голый, только по всему тулову у него зеленая длинная шерсть. Будто с фильма нечисть какая-то! Ну, там-то, в кино, они не сильно и страшные. А здесь че-то как-то не по себе мне сразу заделалось. Главное, от него холодом веет, будто из холодильника.
Я говорю:
— Ты че, мертвый уже, Колян?..
А он этак свысока, как мент, ухмыляется, чисто ГБДД, щас и штрафом, и жезлом в жопу обрадует. И ни слова, ни полслова — будто он памятник!
— Колян, — прошу, — ты не молчи! Меня срач пробивает на тебя, такого, глядеть…
А он обратно, сука, молчит! Но этак рукой два раза махнул. Типо: пиздуй за мной, машка, дело тебе имеется! Думаю, ну какое у меня с ним дело-то может быть, если он уже жмур, реальный походу трупак? А вдруг он это — вампир, кровь мою высосет? Кто обо мне спохватится? Или заведет в рабство какое-нибудь на тот свет? Его ж и самого не ищут особо — а меня и подавно не станут…
Но я все равно чувствую: не могу вот послать его! Поднимаюсь со спецух и, будто приклеенный, блядь, за ним следую — ползу, как крыса за салом на нитке, ага. И это не снится мне: выхожу с нашего штрека прямо на рельсы и по ним иду. Вода под нашими сапогами, хлюпает, будто кто-то плачет уже по мне. Куда-то дальше нашего штрека идем, где я еще не был и где лампы реденькие. Тьма словно заглатывает нас…
Не успел опомниться, а свет только уже за спиной, впереди же — сплошняк чернота. Но я Кольку вижу почему-то: такой зеленовато-серый весь, будто изнутри светится или как бы луна на него свет сочит. Вокруг склизкая тьма и болотом, рыхлой сырой землей все отчетливее несет. И даже вроде бы лесом, елками-соснами, что ли. Типо-того. И ветерок вроде как продувает.
Именно чую: не в шахте мы, а как бы теперь в лесу. Стволы деревьев слегка сереют по сторонам. Мы будто по тропинке идем посреди болота — вода-то все плачет под нами, вздыхает, всхлипывает. И глаза: точки зеленые, желтые там и сям, мигают, мелькают, полускрытые ветками! Живые, острые, пристальные… Думаю: вот сейчас ринутся — и нету меня!..
И пока я на огоньки озирался, Колька, падла, исчез! Я один теперь по тропинке ползу, продвигаюсь, и каждый новый мой шаг — как последний. Над трясиной-то!.. Но куда, куда я бреду — и зачем? Будто меня в спину толкает кто-то. Что-то ведет.
Тут впереди посветлело, тьма как бы в стороны раздалась. Поляна?! Здесь сожрут, здесь сожгут — и костер, может, уже приготовили…
Почему про костер-то подумалось? Какой у них — и костер?! Для пищи? ЗАЧЕМ?!..
Колотит стремачок, шугняк мозг наглухо залепил, почему и бегу вперед и вперед, под собою яичек не чувствуя. А вокруг стебли, все стебли, толстые, как стволы; листья широченные, раскидистые прям от земли.
А-а! Это же хрен!.. Ну да, мужики прикалываются над дядь-Викторычем, что у него две грядки хрена на огороде. Типо: своего, в штанах, что ль, нехватка? Но он по закруткам ударяет, хозяйственный; говорит: хрен первое дело во всяком солении-маринаде. Это, выходит, я с шахты к нему на огород выхлестнулся?.. Вот дела! Но почему листья-то — как деревья? Или это я сделался такой маленький?..
Блин, почему? Маленький-то я с чего такой сделался?!..
И тут вдруг запах страха прошиб все мое тело. Запах мгновенно возник надо мной черной тучей-кучей, отливавшей зловещим атласом. И белое когтистое облако возникло над моей головой. Я тотчас рванул вперед — рванул так, что показалось: оставил всю нутрянку страшному когтистому облаку там, позади…
Упал в сырую, в земляную, в ослепившую сперва черноту. Позже понял, что это была дырочка в фундаменте дома, как раз на меня. А черно-атласное, жуткое, остро смертью вонявшее, лезло, лезло за мной сюда.
Черно-атласная лапа с когтистым белым облаком на конце металась взад и вперед, но мимо моего носа. Вжимаюсь спиной и боком, будто размазался, по ледяной железной стене. Когти скрипнули раз, другой по стене прямо надо мной — я шелохнуться не смел. Жуткая лапа досюда не доставала. Скрежет и звон так и метались рядом совсем, но я понял уже: спасен! Вжался всей головой, всем телом в спасительную ледяную железную стену.
Вокруг тьма. Черно-атласный ужас исчез. Не сразу поверил я, долго принюхивался. Нет, ужасом больше не пахло. Понял, чем сильно пахнет здесь. Ну да: я угадал! И как же не угадать: мужик трижды за эти дни меня выебал! Мое же говнище на своем хере к губехам моим, хохоча, подносил… Ну да: это он, он, ОН!..
А ведь же догнал я, когда клюв он мне своим хером в первый раз прочищал: такой вот со смехуечками и кадык в позвонки вдавит, не заколдобится… Между делом, между словами веселыми — замочит, как озорно подмигнет…
Может, это он черно-атласный и был? Блядь — животным, чтоб меня, мелкого, извести, прикинулся!..
Я хотел наружу вышмыгнуть. Но тут вдруг в ящике что-то зашевелилось, шерстисто забеспокоилось. А вдруг это лапа — и сейчас она на меня сверху бросится? Пока она со мной только играла, забавлялась, прикалывалась…
Я всем рылом ушел в металлическую стенку. Бесполезняк! Только дышать стало нечем — и сииильно завоняло сырой резиной.
— Блядища: эк соньку давит на посту! Э, клиента проспишь, пизда беспонтовая… — голос надо мной доходил гулом колокола. Изо всех сил дернулся я из этой резиновой западни. И вывалился на кучу спецух. Кто-то не отрывал подошву резинухи от моего табла.
В висках будто молоты колотили, губы распахнулись, воздух ловя. Язык вывалился, как у повешенного, и шорхал по заляпанной вязкой грязью рифленке.
Вовка! Это Вовка прикалывался. Так прикалывался, что и сам язык с губищи спустил: розовая прыгала полоска на черном мокром блине его лица.
— Че инвентарь топчешь, козлина?! Машка честно вся подставляется, честно тратится… Инвалидкой стала временно через вас… — одернул его дядь-Вась. Он тяжело подошел, блестя чугунно-кромешным телом. — Давай, машка, почисти меня: умаялся…
Вовка отступил. Я вылез из-под его сапога окончательно. Стоя на коленях, принялся вылизывать дядь-Васю, с пупка начиная.
— Ловко, дядь-Вась, за гигиену ты борешься! — одобрил Вован. — А че не с подмышек-то? Самое сладкое!
— Давай! — хмуро велел дядь-Вась, поднимая руку.
Я сунулся в горькую, липкую от пота ложбину с колтуном жестких волос. Запаха я почти не заметил, старался мелко-мелко, быстро-быстро мацать там языком. Все-таки он и вот сейчас опять типо спаситель мой… Надо, надо ему все время, ебена морковка, нравиться!..
— Крас-сава! Ты терь пятнистый, как пантера, Вась! Любит машка тя! Слюны своей не щадит, растыка дрессированная… — усмехался Вован. На черном дядь-Васином теле образовалось три светлых пятна, широких таких: под мышками и вокруг похожего на кукиш пупа.
— Слышь, Василий, мысля есть у нас с Викторычем. Мы ж с ним выходные завтра. Отдашь машку на поруганье до вечера? Хули: все одно она тут у вас весь день кочемарит, без дела валяется.
Сильно я пересрал от такой перспективки! Вовка с его закидонами доверия не внушал… А у меня еще и жопа в огне…
Я весь исстарался, аж языком по волосне захрустел, вылизывая дядь-Васю. Не надо меня отдавать! А, дяденька?..
Кажись, и он со мной соглашался, дядь-Вася-то. Вот молоток мужик! Я для него — живая душа.
Дядь-Вась поворачивался под беглым моим языком и этак и так, всхрюкивал и покряхтывал, будто и впрямь под теплым душем нежился. Нет, не выдаст меня! Ай молодца! И морду держит каменную, будто не слышит гнилого Вованова предложения. Я еще в клети заметил: дядь-Вась презирает эдак Вовку-то, держит его, хоть и рослого, за дешевочку. А уж под банкой этот Вовик-хуевик вообще извыебывается; верняк запинает в могилу меня… Да и Викторыч какой-то мутный мужик… Дядь-Вась тоже как-то в стороночке от него. Наш-то умный: догоняет, с кем якшаться не след!
Дядь-Вась харкнул длинной полетной соплей — прямо Вовику на сапог:
— Берите, за бутылек если, до вечера… Но только в ротак!
Я чуть не подпрыгнул. Во бля!..
Глава 3. Заебись какой мокряк!
Ну, значит, Вовка с Викторычем забились с моим дядь-Васей — что на день им «на поругание» машку сплавят. Вести меня к ним Дениска вызвался. Мне всё по хуй было с утряни, потому — не выспался. Вечером дядь-Гриц неуемный («неуёбный», как дядь-Вась его называет) и Димоныч приперлись: ораловку с Роликом я им, блядь, ОПЯТЬ покажи. Ну, ясно ж, после Ролика всех охота пробила мое чавкало на хор поставить. До мозолей доскребли мне ебач, глотак аж горел, будто хер у каждого был с когтями. Горевали, что в топку нельзя брать сейчас. Но дядь-Вась строгую запретку на мое очко метнул. И когда Дениска утром меня повел на это самое на, сука, «поругание», дядь-Вась нарочно ленту из пластыря мне на жопень прилепил — типо шлагбаума. Дениска исприкалывался: «Машка у нас — как элитный поселок, бля!»
— Пердануть смогешь, а срать, мотри, машук, только в себя покудова, — посмеялся и дядь-Вась, но еще раз строго наставил, чтоб в очко не пускал даже пальцАми себя пидарасить или, там, огурцом.
А Денис опять прикололся: помадой мне губы выкрасил, так что харя стала, как светофор.
— Надо зеленкой их, че красным-то? — посмеялся и дядь-Вась. Он уж рукой махнул, что всем про меня на поселке известно. — В ротак-то с в о б о д н ы й доступ! Ты ему, Дениска, пумадой лучше булки накрась либо хоть напиши, что нельзя туда.
Дениска и рад стараться, еще три восклицательных знака «пумадой» вывел и черепуху со скрещенными мослами, как на пиратском флаге, намалевал, прям на бёдра зашло. Дали мне тельник драный, длиннющий: плечо до сиськи голое, зато и яиц не видно. Типо, бля, платьице. Ну и на ноги резинухи — иначе по нашей вечной грязи не проползешь.
Видос у меня был, как у шалавы с матросского бардака после налета спецназа. Да хули — раз козлам нравится…
Ну, и в путь.
Вовка в общаге жил, а Викторыч в собственном дому с огородом обитает — сам такой землеройный крот! Каждый свободный час на грядках, гузкой бога пугает, типо природный овощевод. Но у Викторыча дом на другом конце поселка. Это, значит, я через весь поселок шалашовкой моряцкой, блядь, и чеши! Дениске опять покатуха, но дядь-Вась меня пощадил: наказал задами огородов добираться, чтоб не тормознула шпана, не цепляла ротак мой за просто так. Да и хули участкового-то дразнить попусту? Мы ж с ним еще не познакомились… Воображаю: участковый пиздец, наверно, какой симпотный, раз мои его сами сцут!
Очень я как-то весь возбудился, с Дениской через крапиву сигая. А он, сучок, сорвал ее лист и давай меня по жопцу да по яйцам охаживать, подгонять. Блядь, ну я совсем типо ему животное!.. Обстрекал весь мой нижний профиль, говнюк, хотя и отвлек от мыслей. А мысли были какие-то нехорошие. Типо не мысли, а предчувствия — точнее бы так сказать…
Тут еще оказалось: злой Димон (а он, как волк, аж щерится, когда дерет), — так вот, этот Димоныч оказался соседом Викторыча! И как раз тачку торфа он вез — огород, что ли, удобрять-укреплять. Тормознул нас, меня стал нехорошо, прищурившись эдак, разглядывать. Ну, Дениска ему объяснил, что-кого мы тут и велел жопу расписную ему представить с пластыревым «шлагбаумом».
Хер с вами: представил все, показал. А Дениска вжик меня по булкам и по ногам крапивой, вжик, вжик. Я и давай опять козой прыгать. Все верно: я коза, а они — козлы…
Денис орет:
— Канкан, бля, давай! Выше ноги! Ноги к носу, машук! Париж!!
Париж им!.. Если незлой Дениска вот такой — остальные какие, а?..
Димоныч только пощерился. Волчара, ебать его красным перчиком…
Ну, короче, приперлись, наконец, мы к Викторычу. У того забор — железный сплошняк, калитка с сигналом и глазком. Брестская крепость, укрепрайон! За забором грядки, как могилки, все аккуратные, ровненькие; теплица, деревья-кусты плодово-выгодные и всякая огородно-образцовая поебень в зашибительском прям поряде. Немец живет, а не наш шахтарь.
Викторыч нам открыл, в трусах сам, в слайсах. Погода выправилась, солнышко, теплотень. На крыльце Вован в трусах уже. Блядь — ночевал, что ли, у Викторыча? Может, они того?.. Но не похоже вроде бы… Все равно я как-то засомневался. По опыту ведь сужу: мужик с мужиком — часто, да и запросто. А и Вован, и Викторыч без семьи… Какая-то меж ними мутная связь — не скажу половая, но что-то имеется. Даже любопытно вдруг сделалось…
Дениска со мной в калитку пролез, хоть я чувствовал: Викторыч как-то туго именно его встретил, не шибко хотел пускать. Но сам себя посдержал.
Встали: он с Вованом на высоком крыльце, мы с Денисом внизу, рожи на уровне их волосатых когтистых ног. Я дальше идти пока не могу, без разрешения. Денис тоже жмется, чует, что кисло его привечают тут — можно сказать, вон выжимают.
Но Дениска не растерялся:
— Че, дядь-Андрей, бутылек-то, а?
— Бутылек я Васе отдам собственнохуйно, как и добазарились. А то не донесешь назад, шустрило малолетнее.
Дениска сник, но и зло его тут взяло:
— В жопу нельзя! — почти выкрикнул он, «напомнил».
— А никто тебя в жопу и не дерет. Пока, — Вован тут ответил. И ржанул коротко этак, обидно, да.
Викторыч улыбается, морда ехидно-широкая:
— Погоди, малек, я Ваське еще обещал наших огурчиков. На, держи две банки.
— Как я их понесу, у меня ни пакета, ни сетки нет, — все артачится-собачится Дениска обиженно.
— Пакет им еще… — Викторыч, я уже слышал: сквалыжней его на всей шахте нет. Но вынес в двух пакетах банки трехлитровые. И сразу Дениса к калитке погнал.
Нехорошо, смурно мне тут сделалось, что они Дениску, свидетеля, так настойчиво выпроваживают.
Вернулся от калитки Викторыч, мне сунул поджопника. Я привычно на коленки — бряк. А он:
— Эк, расписали тя! Алла, блядь, Пугачева… За мной вползай на крыльцо. С ногами нашими щас будешь знакомиться.
Вовик опять ржанул:
— Сигареткой тебя угостим, девушко!
Я сразу догнал: мучить будут! У-у, пидарасы…
А тут, как назло, в жопе у меня свербение поднялось, посерьезке. Оно ж и понятно: потек я — смазка привычная выступила, а там шовчик еще не зажил. Короче, не хуем, так хоть пальцем бы почесать! Да боюсь желание обнаружить: налетят коршуны, мне из дупла чисто фарш сделают.
Встал я на коленки и пополз по ступенькам на крыльцо, к Вовкиным, сука, вонявым кеглям. А ноги у всех шахтарей с запахом: день-деньской в резинухах, в портяночной сырости. Это сейчас мне нормуль, привык, а тогда всегда дыханье придерживал сперва, клюв к такому «свежему» воздуху приручая.
Ну, Викторыч мне еще поджопника два вломил. Хоть и не особь больно в слайсах-то, да я жопой нарочно борзо вихлял, типо знаю я место свое, собака я ваша, ага… Мужикам такое, блядь, всегда в кайф: крутыми они себе кажутся — круче вареных яиц. Но это особенно молодые вроде Вована. Викторыч-то старшак, он по привычке просто пинал, чтобы ноги занять. А Вовка да, точняк возбудился от вихляний и всяких моих унижений, блядь, перед ним — что вот ползаю у его пальцев корявых, харей пыль с крыльца перед ним мету. Ногой тельник на спине мне задрал.
— Разрисовали-то!.. — он говорит и пепел со штахеты мне нарочно на спину роняет, даже сквозь тельник чувствительно. — Марочка на шеке, чертяки на булках, как вам, пидарам, и положено, и девка сисястая во всю спину так, что шахна у нее поперек твоего очка, а на плечах по хуяре яйцастому. Все ровненько, грамотно, по понятиям. На зоне ништяк те будет сразу в пидар-хату, в парашный угол, курсовать. Можно было б еще че придумать: стрелку мы одному к ебачу наладили через всю щеку, корону из хуев на фанеру.
— Корону рано ему: не главпидар еще, — заметил Викторыч и вынул ногу из слайса, вдвинув ее прямо мне в рот.
— Он те вообще, Викторыч, весь пол должен тут вылизать, от крыльца до очка в сортире включительно, — Вовка метнул бычок мне в голое плечо, я дернулся. — Не хуй, не хуй, машка! Еще муде на память тебе прижгем. Будешь, сука, помнить, что ебали тебя люди авторитетные…
Викторыч хрюкнул — может, на эти слова или просто от удовольствия: я ему пятку как раз лизал. Ступни у Викторыча были — каменные копыта.
Вован явно без ласки замаялся, вслух мечтал:
— Мы одного, бля, на зоне петушару заставляли бычки о залупу себе тушить. Башка у хуя вся была в шишаках, прям хохлацкая булава у гетмана, как в телеке вчера, сука, показывали. И главно дело: елдарь-то, как у осла! На хуй пидарасу такой? Вот мы его и гасили так, на место ставили. Ну, он через слюну тушил бычки, а все одно, тварюга, дергался. Но веришь ли, Викторыч: до того привык залупахой прикуривать, что хуй от этого дела к пупку, блядь, сразу подскакивал! Во сила природы-то! Хуй прям копченый, да… Другой там пидарок говорил: хуесоситься с ним — что сервилатик жувать.
— Хорош, Вован, мне чудеса распидарские расписывать. Ноги машка да, волокет мыть. Знатно, тварь, делает. Сам спытай. А дальше уж подробнее поглядим, чему ее Васька с ушлепком своим обучили. Может, и мы че подскажем?..
— А ушлепок этот, Дениска, — да, Викторыч, прыткий говнюк? Его бы харей в парашу, говнище зубами тянуть. Такие быро в главпидары выскакивают, не то, что этот вот пиздопень.
— Хули порожняково трандеть? — рассудил старшак. — У кого что на роду написано, тот и будет тянуть…
— Чего?.. — насторожился почему-то Вован.
— Грю: жись покажет, расставит всех по местам! Кого на шконку, кого под шконку, а кого — и в деревянный бушлат…
— Это, Викторыч, ты верняк гриш!
Я пальцы Вовану обсасываю, глотаю меж ними горькую пыль-труху, а сам догоняю: у них базар какой-то гниловатый пошел, каждый как бы с подъебкой, с намеками говорит. Но на что намекает-то? Будто друг на дружку они наезжают слегка, а я тут вообще для них сейчас типо отсутствую…
Ну, мое дело — оно очевидное: лизать-сосать и место знать. А все одно страшок яйца сжал, будто мороженым пошлепали по муде. Как-то я вдруг допер: Викторыч — вовсе не шахтарь-огородник, не только это, да и Вован не просто нате вам забойщик с борзой припиздью и вечным сухостоем в штанах и в душе. Что Вован сидел — ясен хер. А вот Викторыч… Слишком он хозяйственный для зека. Я ж не знал тогда, что авторитеты очень как раз бывают хозяйственные, а на покое и работящие типо дачники.
Сели они на диванчик на терраске, расставили ноги. Пивасик тянут, как белые господа, а я то Викторычев темный крюк, то Вованову колбасину ебачем своим рабочим, мозолистым, мОю-грею по-всякому.
— Заебись! — Вован рассуждает. — Жалко, машка у нас одна…
— У тя и без машки гвоздок торчком.
— Эт обратно верняк ты, дядя, сказал. С детства так! Нам училка про Таньку Ларину заливает или, там, про «жить не по лжи», а у меня стоячок под партой безо всяких рук, хоть ранец, хоть куртку вешай, хоть целочку открывай. Ну, не сам по себе стояк, ясен корень, не псих же я, а если про бабу подумаю. Тут училка: «Сафонов, блядь, что значит «жить не по лжи»? Как понимаешь эти слова невъебенного нашего классика?» А я встать не могу, штанцы коробом — вот и вся моя правда. «Показать?» — говорю, не подымаясь. А она: «Вон пошел, наглец! И без матухи не приходи!» И обратно промблема: как встать-то, чтоб выйти мне? Хер, раз завелся, не вдруг успокоится… Я, опять не вставая, включаю мямлика, время тяну: «Не надо, Светлана Михална, матуху! Хули я виноват, что не врубаюсь, зачем вы меня после уроков вчера оставили? Типо про Солженицына рассказать, про то, как жить не по лжи, а в пизду, в рот и в жопу…» Прикинь: перед всем классом намекаю, что она на меня, мымра старая, косяка давит, потому как просекла про мою особенность! А она заходится, будто сквозь столешницу дрын мой уже тянет к себе и разно-всяко теребит-щупает.
— Ох, Вовик, любишь про еблю ты пиздоболить! Так было у тя с ней, реально?
— Нет, столько водки я бы не потянул… И то верно ведь: надо жить не по лжи.
— Так она тя за невнимание схарчить должна была б!
— Не! Жись помогла: меня как раз в тот год на малолетку замели, мы с пацанами под Новый год будочку ковырнули.
— Тюрьма тя, значит, спасла от насилия! Машка, на яйца-ка перейди, не буду пока кончать…
— Ой, бля, Викторыч, а шустрей? Хочу уже глотак ей кончей прополоскать.
— Ну дык, у тебя, Вовик, этой кончи — цистерна с прицепом. Экономить вроде как незачем…
Это должен был бы Викторыч с завистью выдать, а прозвучало насмешливо. Типо: зелень ты, Вовочка, анекдотская, а вовсе не та, что с бумажника… Дешевочка…
Вован тоже это просек:
— Зря за хуйло прописываешь, Викторыч!
Он облизнулся: яйца у котяры и впрямь горели.
Вовка положил меня на диванчик и взлез сверху, сев жопой на лицо мне, сам спиной к Викторычу. Видать, захотел свой хер к самым гландам во мне спустить. Началась такая долбежка — как атомная бомбежка, я еле успевал хватануть воздуха носом между его заходами. И конечно, в башке звон-перезвон поднялся, и столик с кружками брякал от тряски, почему и не обратили мы с Вованом внимания на тихий звяк в головах у меня — там, где Викторыч пивас дотягивал.
Кончив, Вовка медленно добыл своего кишкодава из моего вдрызг разъезженного, будто надорванного глотешника и жадно опрокинул кружку в себя, от пены скользкую. Остатки выхлестнул на разгоряченную рожу.
Вовка осел в угол диванчика и странными, остановившимися глазами уставился вдруг на нас.
— Толкани его! — приказал Викторыч.
Я несмело исполнил, совсем почти невесомо. Но Вован тяжко повалился вдруг набок и на пол.
— Баклан… — бросил Викторыч через губу. — НА ножик. Взрежь ему вот тут, на горле видишь — жила?..
*
И посейчас вспоминаю я дальнейшее, будто это все видел в кино или как сон. Холодная костяная ручка ножа, скользкая. Сперва скользкая, а после теплая и липкая. Я тыкал и тыкал в горло Вовану. Он сперва мяукнул беспомощно, закурлыкал, потом захрипел. А потом я понял, что он уже мертвый. Но я все тыкал и тыкал, на всякий случай, как заведенный, как зачарованный. Викторыч курил, посматривал на меня, и я понял: он тоже как-то весь напряжен сейчас. Меня с перышком, блядь, стремается?..
Я весь сделался липкий, кровь засыхала прочной коркой у меня на локтях, на коленках. А я смотрел не на Вовкин труп, я в глаза Викторычу неотрывно глядел. Сейчас и его жизнь была только в моих руках. И в его глазах я читал страшок и одновременно любопытство, словно он сквозь прищур на меня с интересом косится. Я мог бы, я должен был бы броситься на него, вон эта жила на бурой на старой, в глубоких редких морщинах шее. Чик — и йок атаман! Мне-то чего терять — теперь уже нечего. Мне их всех порезать — да за ништяк…
Он поднялся и как-то легко, грузный, сразу слетел с крыльца.
— Сосед! Сосе-ед! Димо-он!..
Он кричал, шумел там, в саду, а я все стоял с ножиком и глядел на то место, где только что громоздился Викторыч. Взглянуть на Вованово тело было мне сильно стремак. Тени веток шевелились вокруг. Мне казалось, я теперь всю жизнь простою, вот так: я сам — как засохшая уже твердая корка. И чешется.
Я — корка.
От чего я очнулся? От топота на крыльце или от трели свистка, которая штопором взрезала воздух?..
И откуда здесь мент? Мент-то откуда?.. А?..
Он бросился на меня, сизарек, заломил руку. Ножик звякнул о доски пола.
Димон ринулся поднимать.
— Не трогать! — рявкнул сизарь так, что криком словно башку мне смахнул.
У него было такое дыхание, в темя мне! Распаленно жаркое, но мерное: тренированное.
Собственно, теперь я любил только его, сизокрылого, с таким круглым, открытым, симпотным лицом… Спустя год я услышал эти слова: «Наверно, твоя миссия на этом свете, в этой жизни — любить, все равно кого». Это мне сказал один пожилой уже дядька, полковник ментуры. Меня к нему тогда подложили: больно много наворовал он. Нужен был компромат, ну и всякие сведения. Но так-то это красиво прозвучало, и мне кажется, по-своему даже точно. Он вслух мечтал иметь гаремчик из негров или бразильских мальчиков, «веселой семейкой» их всех называл. Я слушал, лежа у него то на плече, то под мышкой, будто он мне хорошую, добрую сказку рассказывал. И мне заранее было жалко, очень даже жалко его! Отличный, мудрый был человек. Я всяко, всю ночь, старался ему понравиться, как бы извиняясь заранее.
Но мент-полкан про меня как-то еще в койке, наверное, догадался. И тогда же, на прощание, назвал меня «сынком, хоть и сволочью».
Сын полковника ментуры — неплохо, а?! А сволочью у нас кого ни назови — не обманешься…
Хотя дяденька Пантелеев, наш участковый, был сам-то не шибко сволочью: так, только — по обстоятельствам.
Я как вспомню это наше свидание у него в кабинете, бля… Я еще весь в кровище — в смысле, в корке Вовкиной кровянки сижу — а мент смотрит на меня, и в его теплых карих глазах развеселые, бесенятами, искорки прыгают. Ну, и я в общем-то понимаю, к чему у нас с ним, естественно, сегодня еще подойдет. Только вот вымыться б: вонь от меня тяжелая, как от кровяной колбасы или от ржавой железки, прямо столбом стоит.
— Че, — говорит, — и собаке сосал?
— Приказали же, — отвечаю. А сам тоже вот завожусь. Хоть бы приволокли сюда Ролика — я бы показал ему, где раки зимуют! В смысле: обоим бы показал, раз участковому Пантелееву тоже вот любопытно. Но Ролика не было. Лишь беспокойный Димон ошивался и важным кулем сидел с подстаканником в руке Викторыч.
— Я, бля, напьюсь нынче! — пообещал Димон, даже и пригрозил. — Это ж надо, какая сволочь Вован! Я за кореша его прописал, а он, бля, против, тварь, коллектива!
— Не пыли, — оборвал Викторыч. — Ты, Димон, хуже мелкого иной раз. Какой такой он тебе кореш, когда за версту видать: баклан голимый, и всех мыслей — только б балду под шкурняк кому закатать?
— Погоди, Викторыч, ты по порядку давай! Вы, мужики, щас в ментуре, на допросе находитесь как-никак, а не в поле вам срать приспичило.
Пантелеев уставил свою авторучку, как копье, в Викторыча:
— Короче, ты с этим Вовкой еще на киче познакомился, так?
— Так, начальник. И тогда же просек, что он баклан и пидарас по совместительству.
— Пассивка?
— Нет, совсем худого про покойника не скажу. Но сильно на ебле повернут был. Весь базар только про лысого.
— И этот мудак думал нас — тебя, Викторыч! — наш общак подколоть! Вот ведь сука! — возмутился Димон.
— Баклан и есть, — равнодушно пожал плечами Викторыч. — Почему и поперся за мной в шахтари после отсидки.
— Смотрю я на вас, мужики, и диву даюсь, — тепло и мечтательно сказал Пантелеев. Он вертел ручку в чистых пальцах и внимательно за нею следил. Веселые ямочки возникли на его круглых добрых щеках. — С такими деньжищами на курортах, блядь, вам бы чалиться! На Лазурке какой-нибудь! А вы здесь который год чумазитесь, подземной херней легкие подсаживаете. На хуя ж оно?
— Эх, капитан, нету в тебе прежнего патриотизьму советского! А я так считаю: где родился, там и сгодился. Не все, как вы, наши начальнички: только и мечтаете про берег турецкий…
— Ну, турецкий — на хер он сдался, напостоянку-то? Я ему про Лазурку, а он мне про Анталию сраную… И с каких это пор, ты, дядя, советским патриотизьмом вдруг захворал? Оно как-то вору не в масть…
Сказал это Пантелеев вполне мимоходом, вроде бы равнодушно, а что-то мелькнуло в его голосе, какая-то лукавая тень. А что за тень, зачем тень — хер проссышь с темнилами этими. Все, как на подбор, в комнате хитрожопые собрались…
Обвисла пауза, как хер усталый в трусах.
— Лады, мужики! В дела ваши я не мешаюсь. Меня ваши откаты вполне устраивают пока, но когда все тихо, чики-поки на поселке у нас, как и договорились. А тут, Викторыч, сам понимаешь: убийство, ЧП. Мне этого пидарка или закрыть на фиг, или что-то придумывать про Вована про вашего, если отсоска отмазывать будете. Однозначно, бля, хлопоты мне создаете дополнительные! А это все уже и дополнительные расценки. Так, мужики?
— Дело говоришь, начальник! Не обидим тебя. А машку — да, отмазать бы. Пидар с мокряком за плечами — кадр ценный на будущее. А так на киче его тупо заебут сейчас в ленточки — и всех делов.
— Машка?!..
— Ну, машкой прозвали — а как же ее еще?
— Ну да: машка, машка… Слышал уже. Короче, так мужики: машка тоже щас вымоется, и в деле ее проверим.
Пантелеев отъехал чуть в сторону в кресле и широко открыл верхний ящик стола. Викторыч, крякнув, тяжко вкинул туда конверт через заваленную папками столешницу.
— Давай, машка, пиздуй готовься! А вы, мужики, в коридоре пождите. Не хочу при вас пробу снимать. А то еще скажете: превышаю…
Я вышел в сортир и под бдительным присмотром Димона смыл с себя кровь.
Вернулся в кабинет к Пантелееву свеженьким и хорошеньким. Я это сам остро тогда почувствовал. Ну, что сейчас я свеженький и что в меру вроде даже как бы хорошенький…
Глава 4. Коллектив — с т р а ш н а я сила
И вот все, что было прежде, не то, чтоб забылось — но отлетело куда-то в сторону, как сброшенные в порыве страсти носки. Остался лишь этот ментушечка. Сперва я пососал ему пальцы на руках, на ногах и обвел языком залупу, будто петлю на шею менту накидывал, а после объяснил, пряча смущенно глаза, что подранок пока на жопу: простите, дяденька начальник — сан. день у опущенки …
— Ну и ладно! — свеликодушничал Пантелеев.
Я понял, что он хороший, светлый в принципе человек, не зловредная сука, не топчет без дела людей, хоть сам и из органов. А что взятки берет — ну такое место козырное, блядь! Кто бы да устоял?..
Я обводил и обводил залупаху его языком, будто все набрасывал и набрасывал на нее круги невидимого лассо, и глядел, глядел в глаза ему, словно просил о чем-то — или его испытывал. Тут ведь, в ебле, бывает, не разберешь, где борьба, а где ласка конкретная.
Но передрочил, видать, я с лассо-то. Он хихикнул и сунул мне палец в ухо, там поелозил, потормошил:
— Ниже, ниже спустись, по жилочкам… В глотаке погрей… Ой, блядь; ласковая, уме-елая…
Позже узнал я, что с личной жизнью у него проблема была: жена на седьмом месяце ни в один разъем уже не пускала — да и что она вообще умела, домохозяйка-то?..
— Блядь, где же ты раньше шаталась-то, машуленция?!..
Вот когда он рассеянно так спросил, я сразу просек: у Пантелеева ко мне намерения самые серьезные могут быть! Тут уж я расстарался, аж из штанов выпрыгнул. Одно только сперва беспокоило: мочевой пузырь, я же с Вованом и Викторычем квасил. Правда, они мне пивос пидарский сделали: в баклагу наполовину с мочой и бычков туда накидали «для крепости». Сильно теплая гадость вышла, ну да я и не то пивал: привычный уже.
Сперва только на клапана давило, а после и срач подтянулся. Да с ссаками так и всегда: если они однажды через хуй прошли, то второй раз обязательно через жопу выйти из человека потребуют. Это вы учтите, если окажетесь в моем положении. А мне сбросить бомбы ну, сука, никак же нельзя, даже не попросись: он на второй заход пошел, мой сизарек, моя сладкая, блядь, ментулинка…
А тут в коридоре хай поднялся: Димон с Викторычем не пускают какую-то дуру заполошную, за которой, видите ли, ее мужик с топором гонится. Ну, они тоже в ор: сигналят, чтобы я спрятался.
Я и спрятался под стол между тумбами, но хуя изо рта выпустить не могу — как прирос к нему. Все в башке помутилось, и представился мне хер Пантелеевский как затычка во мне. Типо: выпущу — и брызнут с меня и спереди и сзади все накопленные мной за день яркие впечатления!..
Ну полный пиздец! Провал грунта насквозь Земли!
Тут баба вкатилась. Визжит, чуть Пантелеева по роже сисяками не шлепает: требует себе защиты, спасения.
Пантелеев мой растерялся. Он так-то от природы мягкий мужик:
— Хули, пизда, ты грохочешь тут, женщина?! Не посмеет тебя здесь твой стервец зарубить! Тут полиция: орган правопорядка, паять его в орган же! Идите вон во двор отношения выяснять.
— Так он там во дворе с топором и стоит! Во, глянь, начальничек!
— Ну, вижу… Хороший вроде мужик, хоть сейчас и неласковый… Иди же, отбери у него топор и приведи ко мне, а я с ним как-нибудь по-мужски побеседую.
— Да как же я отберу?! Он же на тот свет меня тотчас определит!
— Тот ли, этот ли свет — какая тебе, в принципе, с алкоголиком разница? Меньше мучиться будешь, дурочка: прямая выгода тебе к нему сейчас подойти.
— Эх, и ты не защитник мне! — баба плюнула. — Обосрался при виде Степана-то, ох, моего!..
А обосрался как раз тогда я: Пантелееву случилось как бы во чужом пиру похмелье, от недержания моего схлопотал неприятность словесную. Эх, звона на весь поселок будет теперь! Вот ведь блядь!.. И главное, из-под стола прямо под бабу понесся вонючий ручей. Да если бы хоть ручей — поток, и поток нехорошего всякого.
— Ай! — баба тут отскочила от стола к двери. Корова, а прыгает, как коза…
Но Пантелеев — в чем-то кремень мужик, не стал меня выдавать.
— Это, — говорит, — у меня работа потому что сидячая. Всякая, сука, отчетность и прочая на местах бумажная канитель. Опять же и с бандитами вот борись. Гемор один, а не должность мне с вами, девушка!
И так безнадежно он это сказал, что в бабе совесть проснулась и жалость к носителю правоохранительных органов, такому молодому да симпатишному.
— Что ж, — вздохнула она, — подтирайся пока, начальник. Не буду тебе на службе мешать…
И вышла. А ее Степан в лопухах уж лежал: весь он от погони повыдохся. Баба завыла, сердешная:
— О-ох, загнала я тебя, Степанушко!..
Стала его подымать да за ворот со двора уволакивать этого Разина. А в другой руке у нее топор.
Известно: русская душа — загадка и даже кроссворд судоку.
Тут Викторыч с Димоном деликатно в дверь заскреблись. Не знали они, на каком у нас с Пантелеевым часе стрелки-то.
Оба они так и застыли в дверях. А Пантелеев трясется весь. Сам не поймет, ржать ли ему и дальше — или запинать меня до смерти сейчас показательно.
— Так-то вот и работаем, — говорит. — А за санобработку казенного помещения и моральный ущерб, Викторыч, сам понимаешь: плата отдельная…
Димон хотел тут меня под столом шваброй убить. Но Пантелеев не позволил. Велел только все вычистить и оставил меня на ночь «для дальнейшей борьбы с преступностью».
Так и сказал Пантелеев по мобиле жене: типо он на работе, блядь, заночует для дальнейшей этой самой. Еще добавил, что могут быть перестрелки. Наверно, чтобы беременная жена не слишком-то расслаблялась. Павлиний ментовский хвост расфуфырил перед глупой кошелкой. Я так это понял, во всяком случае.
И еще он подмигнул Викторычу очень как-то вдруг весело. Даже и залихватски, если совсем уж по существу. А Викторыч поморгал, будто гражданин начальник ослепил его мужественным сияньем своих яиц. То есть, фуфлогоном выглядел все ж таки Пантелеев в сухом остатке… Даже и обидно мне стало за нового-то любимого…
*
Ну, наступил, значит, вечер и ночь типо с обещанной «перестрелкою». Димон по приказу Викторыча подогнал нам всякого-разного; накрыл поляну, как в ресторане, только без скатерти. Я на банки-коробки эти луплюсь, на нарезки на всякие — никогда такого и не видал! Пробую все подряд: Пантелеев разрешил. И случилось со мной, прямо в тот вечер «путешествие гастрономическое».
Это так красиво сам Пантелеев выдал: у него и диплом о высшем образовании, сука, имеется! Я-то думал, такие мимо меня разве что проезжать будут, грязью в рожу с-под колес всяко пулять. А тут нате вам: и кол ему сколько хочешь точи, и в жопe хоть всей харей на ночь заройся!.. Лепота, как в кино кто-то сказал про Иван-Васильича.
Может, и сам царь там эдакое не жрал, что я с яиц у Пантелеева по приколу щас сжевывал. Оно, скажем, зеленое, а сладкое-сладкое — и, обратно, рыжее или красное, а соленое до самой, блядь, горькоты. Охуенно-то как! Я даже икры попробовал. Пахнет хуем эта икра, пацаны, и по вкусу, как «творожок» подзалупный. Ну, я с хера у Пантелеюшки ведь губами-то брал. Самое распидарское питание!
Правда, я тогда еще Пантелеюшкой не смел его называть, а ублажал чисто по стойке «смирно!», будучи сам не лох. Сёк, что не фиг пока мне яйца по столу-то раскатывать перед ним и что Пантелееву уважуха моя в масть; эта робость прикалывает гражданина начальничка. Хоть и пластырь на жопе, а типо я все еще девушко, в первый раз в первый класс, изучаю пытливо хуй раньше алфавита прям всякого.
Ну, пьем, значит, едим. Коктейль такой залудили, что оба разом отъехали. Не в том смысле, что уснули — закемарил я много позже, с его долбяркой во рту — а в том, что раскрылся он мне, как цветок навстречу, блядь, солнышку, каждым своим лепестком!..
— Уххх!.. Как же ты, сволочь, сосешь! Ох, ну и сосешь, сука ик… скважина!.. Всю душу ик… вытягиваешь, машук! Злоебучая ик… ты разблядина! — Пантелеюшка развалился на диване, как прям султан, пьяненький. — Не верну я ик… тебя, шахтарям. Ну их на хуй, ик… кобольдов, буду тобой ик… однохуйственно управлять…
— Че за кобольды? — нежно на яйца дыша, тихо спрашиваю.
— А это такое ик, блядь-маша, явление. Нет, не явление, а ик человечики, что ли, из сказки ик. Такие, вроде ик гнобов… то есть, гномов, ик… которые… ик… сокровища всякие хранят в земле. Оттуда же ик и ковыряют всякое, ебать его в сраку ик, золото…
— Че, взаправду такие есть?
— А хули же нет, ик?.. Ты, машка-тупило, думаешь, ик я не знаю ик, что Викторыч ик авторитет? Над всем ик поселком от криминала ик, сука, смотрящий? И все ик шахтари здесь в одной ик — дергать их грейдером — в одной банде, бля!..
— Че, взаправду авторитет? — дуру еще круче включаю. А сам смекаю: ага, ага! Вот она, правда с него поперла-то!..
— Слушай сюда, педрила! Это ик тайна, но тебе скажу. Два года назад ик я только сюда приехал. Задвинули ик сюда, в дыру, потому ик рыло в пуху все ик на хуй у меня на тот момент было ик! Ик ик ик! Детдом я крышевал под Воронежем: всяких ик ответственных ебарей в малинник ик запускал. Все, сука, крутые, все мне как бы ик дружбаны. А как вскрылось дело ик — крайним, в пизду, ик сделали! Хорошо, срокА не навесили! Ик, ну сюда приезжаю ик — злоебучая дырень, чумазые какие-то шастают. И все ик по видимости вроде как, сука ик, нищие. Ну, думаю, с этакой алкашней на труселя драные ик не заработаешь! Хоть ик самому в запой падай, сука ик, до смерти!..
Пантелеюшка присосался к темной бутылке. Вроде-типо текила, что ли, была. А ему по фиг — лишь бы икоту сбить.
Ну, я строю вид: до пизды типо мне всякая тайна сейчас. Обдуваю яйца ему заботливо: ну трудоголик постельного фронта, ебать! Так-то — вроде и в пустоту — ему легче будет все мне высказать. Будто, хе, щенку бессловесному…
Да и кто я перед ним, ментовским начальством? Срань пока подзадупная. Вот если он насчет тайны расколется — вот тогда, может, и мне цена вырастет!
А он так сам, сука, разволновался — взял меня за уши, теребит, чуть не откручивает — и даже икать перестал (или текила подействовала).
— Ты, — говорит, — машка то знай, что поселок этот только с виду какой-то Пиздохуйск недоебанный. На самом деле он старый, с царевых еще времен тут уголек рубают. А в гражданскую рубали не уголек — друг дружку. Слыхал про гражданскую-то? Эх, ни хера вы, сука, нынешние не знаете: вам что Ельцин, что Грозный Иван — один поросячий хер. Ты болтяру пока в покое, машка, оставь. Язычком очко расправь-выглади. Во-от! Ох ты, ебитцкая сила, пиздопробойная… Короче, с тех пор, с гражданской еще войны, пошел слушок, что владелец шахты барон Штумм, перед тем как сбечь, завалил часть своих сокровищ в одной из шахт. Причем сокровища там были без проеба шикарные, какие-то вроде даже от Екатерины Второй серьги-кольца и бусики. Про Екатерину тоже ведь не слыхал? Че молчишь? А ну вынул язык из жопы и отвечать!
— Типо Пугача убила? Или типо Наполеона?..
— Машка, да ты помнишь хоть, кто тебя утром драл?! Вот ведь сука беспамятная! Ладно, щас носярой в очко пролезь, если получится. Подкину тебе запашку для восстановления памяти. Че, не лезет? А хуево работаешь! ПальцАми в верзохе поколупай, расширь ее нежненько. Под собственный, сука, нос. Да старайся давай: на себя ведь работаешь! О! Проходит нос-то теперь?.. Ну, держи его крепенько! Че, газану, ОК? Считай, нюхач у тебя тоже теперь будет не девственный. Да и че у тя девственного, кроме сознания? Блядь, ни хера в истории не втыкаешь, не шаришь, шалашовка сортирная! Никаких, сука, ценностей, никаких, в пизду, скреп в душЕ! На кого оставим мы родину? Вот на таких, как ты? Теперь снова в задницу языком залазь, может, дерьмешека моего заловишь да схаваешь. Я тужиться буду малехо, но старайся и ты… О! Пошло-пошло! Громче чавкай, пизда, и рожу покажь! Ух, носяра в соплях, в дерьме! Образина, бля, клоунская! Поняла: ты клоунская, бля, образина и дерьмососная скважина?!.. Ох, бля-а!..
— А че Екатерина еще сделала? — на тайну опять навожу, но издалека как бы, исподтишка.
— Да хер ее знает, че она сделала! Пизды вломила Суворову, кажется… Че те Екатерина ваще, я по сути тебе говорю, базарю за конкретно, ебать, важняк. Это к носу притри, хоть он у тя и в говнище весь! Короче, как война началась с фашистами, барон приперся сюда, до чего его память жгло, бля, про эти сокровища! Сам, говорят, был в форме полковника. Пленных наших заставил рыть в старых штреках, в самых опасных и тесных, блядь. Все лето искал!
— Че ж, он не знал, куда сам золото заховал?
— Ты и то, машка, пойми: шахта при Советах тоже порожняком не стояла, работала. Ну, и завалили по незнанью, видать, ходы к этим сокровищам. Была, говорят, у него старая карта, да бесполезняк. А у нас, сука, партизанское тут движение развернулось вовсю! И, короче, барона однажды взорвали на хуй вместе с его авто и вроде с этой вот картою. Пиздец котенку, короче… Давай, на кий мой теперь перейди и медленно, постепенно так в себя, сука, втягивай. Но только посасывай, не дрочи! Не гони лошадей, машуленция…
Пантелеюшка откинулся на спинку дивана и, показалось мне, захрапел. Но нет, это он курлыкал, тая от удовольствия.
— Бог мой! — сказал каким-то не своим, образованным, мудрым голосом. — Как же мало человеку надо-то…
Под полом прыгали и скреблись мыши, вокруг оббитые углы старой мебели, пожелтевший горбатый комп на столе… Та еще обстановочка! А мой сизарек словно плывет в лазурных теплых волнах, под розовым, как сироп, облаком… Ну-ну: убаюкаю я тебя, Пантелеюшка!..
За окном небо погасло. Остались мы в темноте.
— Слышь, — Пантелеев неожиданно приподнял голову и посмотрел на меня трезво и даже почему-то сердито. — А есть карта-то! Цела! И знаешь, кто нашел ее? Коляха… За что, бедняга, и поплатился. Он же тут краеведничал, ты прикинь. С неделю назад притаранил ее мне, у бабки какой-то за печкой, что ли, нашел. Да видать, сдуру сболтнул об этом дружку своему, Дениске. А у того язык — помело. Ну, и полетела весть по закоулкам… Ведь предупреждал я его!.. Эх, лежит теперь Коляха в самом дальнем конце лавы, уже точняк и крысами весь объеденный!.. Эх…
— И кто его?.. — сипло вырвалось у меня.
— Кто? А догадайся-ка, машуляжница! И кто тебе хуй изо рта вынуть позволил?.. Ладно, шучу! Самому на душе тошно, сердце теснит минутами. Вижу, ты пизда чуткая, вдруг и поможешь чем. Кто-то из Викторычевых шестерок его прирезал. Димка, скорее всего! Или Вован успел? Ты ведь то прикинь, машесосина: безо всякой карты кобольды разрыли бароново золото! Викторыч хранитель теперь его. Потихоньку берут оттуда, по нуждишке своей. А хранит тайну земля. И вот вышло сокровище, считай, сука, наружу без спросу и прямо, опять же сука, в руки менту! Самый им резон меня теперь гробануть, а участок поджечь, чтобы карта ни к кому больше не перешла. Может, сегодня ночью и подожгут, почему и пидарка подложили мне лысяру сосать и всяко бдительности лишать. Хех, ништяково на поебень всяку-разну, сука, убалтывать…
— Че ж делать-то?.. — спрыгнул я снова ртом с хуя его.
— Ничего не делать: шляпу пока мне полировать! Одно в толк не возьму: почему в пойло они снотворного не подмешали или сразу мышьяка какого-нибудь? Я потому и заставил тя первой выдуть стакан, чтоб проверить. Нет вроде все чистенько!.. Че задумалась, мандавошка мечтательная? Мне на себе, что ли, яд испытывать? Не журись, пизда: будем целы — как-нить и награжу… Слышь, керосином вроде наносит?.. Облили уже крыльцо?..
Мне и самому показалось: пахнет. Стало жутко: на окнах решетки — еще и не выпрыгнем…
Я заозирался. Он понял мое опасение:
— Не дрейфь, шляпоглотище, решетки здесь все хлипенькие. Сам утром еще проверял… Не ссы, говорю: какой мне резон гибнуть в пламени? Жена ребенка ждет, опять же и ты сосешь песнопенно, ебать тебя циркулем… Жопу твою еще не освоил — вот ведь что! Эх, «Помирать нам рановато» — есть такая старая песня, слыхала? Нет?.. У, тьма ты шахтная!..
Он затих вдруг. Обмер и я: под окнами слышались осторожные, но явно мужские шаги. Они переместились на крыльцо. Жесткой ладонью Пантелеюшка зажал мне рот. Мы стали одно, я слышал, как сердце его стучит. А он, наверно, мое слышал сердце. Или у нас было одно сердце теперь, в этот миг, на двоих?..
Во рту пересохло, я провел по зубам языком. Он понял это по-своему:
— После, после…
Там, в коридоре за дверью, раздался хруст или скрежет. Кто-то вроде б ломал замок… Что-то звякнуло в ржавой скважине, по-крысиному остро взвизгнуло. Я все принюхивался, вслушивался, не тянет ли дымом уже, не трещит ли огонь.
— Пиздец возится… — выдохнул Пантелеюшка недовольно. Тихушничать, сидеть, словно с хуем в жопе, надоело обоим. Хотелось вскочить, двигаться! Блядь — дернуть на себя дверь, и…
Есть ли у Пантелеева ствол? Должен быть!..
Свет фонаря с улицы растекся по стенке. Комната теперь словно вся лежала в путаных, ослепших кусках.
Пантелеев шлепнул меня по башке — типо «пшла» — и стал застегиваться.
Я не выдержал:
— Ствол-то, ствол?..
— Не о хуе думай сейчас — о ррродине! — сквозь зубы наставительно изрек Пантелеюшка. Стремак пробил его юморить. Лихой, блин, ментяра, с искрою!..
Обожаю, ага…
Входная дверь скрипнула. Там, в коридоре заворчали под чьими-то осторожными шагами старые половицы.
Пантелеев бесшумно дернулся — и в руке блеснул ПМ. Он метнулся в угол за шкаф и мне кивнул, чтобы рядом встал. Открытая дверь скроет нас от вошедшего. Пантелеюшка сунул меня в самый угол, боком прижал.
Стук его сердца; кисло, остро пахнет знакомый пот. Мы снова стали одно с моим Пантелеюшкой — «на грани смерти», как говорят!.. В какой-то миг я подумал: лучше б он меня перед собой поставил, как щит, чтобы нож, заточка, пуля, граната — да хоть бы ядро! — в меня пришлись, а он бы, раненый, выжил и дальше б, родимый, покалеченный, жил, и меня б вспоминал. Может, даже и прах хранил бы в банке, в столе у себя… Но нужно, чтобы его хорошенечко покалечили, а то память пройдет — и чего тогда? Зря я, что ли, за него вписался?..
Дверь вздрогнула и, скрипя, медленно поползла на нас. Из-за нее сочился мертвый белесый свет карманного фонаря. Мы с Пантелеевым еще теснее вжались друг в друга. Ничего я видеть не мог, кроме блика серого света на потолке. Он вздрагивал и медленно втягивался в кабинет. Половицы под шагами поскрипывали.
Пантелеюшка дрогнул. Вроде он хотел выскочить, но остановил вдруг себя. Тень от шкафа и от открытой двери надежно скрывала нас.
Я слышал стук ящиков в столе и шорох бумаг. Шуршали бумажками шустрей и шустрей, будто все больше раздражались, бля, злобились.
Если в столе не найдет, что ищет (явно ведь карту!), то полезет в шкаф — и точняк же увидит нас!..
Вскинув руку с пистолем, Пантелеюшка больно двинул меня локтем в бок.
— Руки вверх! — крикнул он, вылетая к столу.
Там, у стола, взвизгнули. Бумаги заплясали по комнате, брякнул упавший стул. Щелкнул наручник. Конус света от фонарика заметался и уперся в такое знакомое мне лицо. И если бы длинный губастый рот не шевелился, немо раскрываясь все больше, я подумал бы: мертвяк он уже! Свет фонарика, как в морге, студеный какой-то был…
*
— Денис!.. — ахнул я.
— Ты че, пидар, творишь?! — Пантелеюшка сунул Дениске под дых, парень упал рожей в столешницу.
— Знаешь его? — мент вместе с пистолем уставился на меня. Я коротко изложил.
— Пиздец! Везде пидарасы! — взбеленился Пантелеев. — Не рабочий поселок, а Хуево какое-то Займище!.. Колись!
Он опять вмазал Дениске, тот снова сочно приземлился мордой в стол.
Нет, партизаном Дениска не был рожден. Точней, если отец его и был партизаном по жизни, то мать уж точно — ссыклом и знатной дристальщицей, и свой дар щедро передала сыночку. Отплевываясь от слез и кровавых густых соплей, Дениска поведал нам все без утайки.
Да, про карту ему рассказал Коляха, а он, Дениска — дядь-Васе, а тот, в свой черед — еще мужикам, и пошло, и поехало. А все почему рассказал Дениска дядь-Васе? Да потому что этот покойный мудак (Колян, то есть) ни в какую не захотел вместе с Дениской до сокровищ тайком докапываться: все решил сдать чисто родине и, честно взяв положенный процент, пиздануть отсюда к ебаной бабушке в город Керчь. Но случилась непруха с Коляном, и вот он мертвяк. Беспечный Дениска хотел уж забить и на карту, и на сокровища — ну раз не срослось. Но тут дядь-Вась предложил ему план: выкрасть карту, а участок, скрывая следы, поджечь.
— То есть, это ваша только инициатива? — изрыгнул Пантелеюшка. — А Викторыч типо-сука не при делах?
— Не, не при делах! Дядь-Вась с Викторычем с год уже, как разосрались чевот…
— «Чевот», хуеглот!.. Что ж, поздравляю: ты, сосунок, самого главного авторитета здесь нахлобучил! Это ж надо: Викторыча нагрел! Ясно, что будет тебе за это? — Пантелеюшка постучал пистолем в толоконный Денискин лоб. Постучал слегка, но того вдруг шатнуло, и Дениска заревел не хуже пожарной сирены.
— Блядская пидарасина! — возмутился Пантелеев. — Как карты красть да чмырей опускать — ты первый, а как отвечать по понятиям, так и ревешь белугой детсадовской?! Заткни глотак, он тебе сегодня для другого еще сгодится, и слушай сюда. Ни хуя никакой карты здесь уже нет, но я знаю, где бароновы цацки-мацки хоронятся. Выбора у тебя нет. Или ты помогаешь мне, или я сейчас же оформляю дело о покушении на поджог ментуры. Это срока и срока! А уж на киче месть Викторыча тебя точняк догонит. Всосал?
Дениска, всхлипывая, кивнул.
— А чтоб тебе, блядине, ходу назад не было — ну-ка, машка, чпокни его в задок! Да не целовать, дура — еби! Если рыпнется с плана моего, пойдет на кичу парашным жителем…
Я растерялся не хуже Дениски. Опыт-то был с батора еще, но за последние дни меня совсем уже в глухие «машки» загнали: хуем только на чистый воздух брызгать теперь я смел.
— Портки с него содрала и к жопе приступила! — скомандовал Пантелеев, усаживаясь в кресло. — Время пошло!
Дениска сломался уже: вздрагивал, пока я тянул с него штанцы вместе с трусами, но не сопротивлялся, только сильно-сильно дрожал.
— Блядь, он обосрался, что ли? — понюхал воздух наш участковый.
— Ага, — я растерялся, — жиденько так…
— Ну и хули тебе? Смазкой сойдет?
— Сойдет! — мне стало вдруг шухеристо и весело. Всякая такая чумазость естественная сильно меня прикалывала.
— Согнись, Дениска! Плохо не сделаю… — пообещал я, одной рукой дрочась, другой шаря у него в липкой заднице.
Денис покорно согнулся, вцепившись в стол. Пацан мелко дрожал, словно от холода, но его «розочка» все доверчивей раскрывалась навстречу настойчиво ласковым моим пальцам.
— Пиздец возишься! — прикрикнул Пантелеюшка. — А вони-то, вони! Ой, бля-адь…
Последнее мент сказал как-то совсем уже философски, задумчиво. Дениса он явно презирал теперь больше, чем меня.
Уже третий палец в очко Дениске вошел.
— Расслабься, расслабься, — шептал я. — Не больно ведь сделаю…
Рука у меня по локоть была в жидком Денискином «золотце». Вонища уже не шибала в нос: аромат его жопы сделался как бы родным и совершенно естественным. Но конечно, Дениска сперва вскрикнул и дернулся. Поныв на хуе с минуту, он вдруг затих — вроде расслабился, вслушиваясь в себя. Только шмыгал носом, ритмично в такт ударам. Яйца мои в скользком поносе звучно шлепали. Пантелеюшка объезжал нас в кресле на колесиках, направляя свет фонарика то этак, то так. Лампу на столе он почему-то не стал включать.
— Ты — маша, она — даша, — вдруг выдал он, — и хоть дашка-замарашка у нас начинает лишь, ротак у нее сразу под два хуя заточен. Ишь, блядь, какой широконький…
Хе, Пантелеюшка уже планы на будущее строит с нашим участием?.. Или не про запас, а просто мечтает вслух?.. Но если моего сейчас «дашке» в ебач засунуть, она же срыгнет… С говнищем на хуе и я не сразу обвыкся-то…
Однако мент по-другому распорядился. Он встал, навис над столом, взял Дениску за уши. Тот испуганно дернулся.
— Не отвлекайся! — прикрикнул Пантелеюшка. — Думай, даша, о том, кто спереди. А сзади уже думают за тебя…
Вдруг затренькала пикалка. Пантелеев покривился, вытянул ее из кармана. Сказал бодрым, но пьяным голосом:
— Да, родная?!.. На работе, где же еще мне быть? Борюсь вот с бандитизмом, как обещал… Пьяный?.. Да брось… Какой голос? Хриплю? Я весь день на ногах — и всю ночь на ногах мне быть! Да нет, сводки вот подвожу. Нет, стрелять не буду. Да нет тут баб ни хуя — прости, милая. Людок, все уже спят — вот и ты спи, родная… Целую, да-да, любимая!.. Пиздец с брюхатыми этими бабами: то весь день кулем лежит, то ночью по потолку, сука, мечется. Эх, девчаты: не жанитесь! Не надо вам…
Даже Дениска хлюпнул смешком — и подавился хуем. Точнее, вытянул из штанов Пантелеюшка своего, стал сперва обчищать ему рожу, всю в кровавых соплях. Повозит — и к губам поднесет дашеньке. И дашенька как-то легко, доверчиво свое с лысого прибирает, слизывает. Быстро что-то Дениска к новой роли привык.
Тут и я громко кончил: может, от одной этой мысли. Кончил и замер, не въезжая, что делать мне теперь с говнищем по всей окружности.
— Кончил дело — гуляй смело! — ржанул Пантелеюшка. — Но сперва, машук, приберись-ка там. А то после устанет жопу чесать, если обветрится.
Я сбегал за теплой водой, обмыл многострадальный Денискин тыл. Себя тоже обтер. Пантелеев по-хорошему, по-доброму Дениску учил:
— Когда сосешь, бивни под губехи упрячь, и губцы напрягай этак, поднатягивай. Тогда трения больше — догоняешь, дашук?..
С дашкиным ротаком он работал пока все ж таки очень бережно. Не настоял даже, чтобы с проглотом. Да и некогда уже было…
— Потом ему отсосешь, — велел мне Пантелеев. — А щас время пошло!
Он достал из шкафа шахтарский прикид: робу, каску и сапоги, оделся. На каску пристроил лампу, но ее не зажег. Теперь и он и Дениска были истинными шахтерами, а я при них в лохмотьях тельника — рабочей общей разъебою. Пантелеев выдал нам по тяжелому ящику с инструментами.
— Где канистра? — спросил Пантелеюшка.
— Там… — махнул Дениска на коридор.
— Слушай, дашонок, сюда. Если возьмем цацки сегодня — обоих не обижу. А так ПМ со мной: помни и не шали. Щас мы выйдем, ты редкими пятнами здесь польешь, чтоб не сразу все занялось. Всосала? Потом — к нам. Я через фортку метну, что надо.
Дениска тупо кивнул.
…Подожженный газетный ком ловко влетел между прутьев решетки. И сразу окно красиво изнутри озарилось веселыми рыжими язычками.
— Айда, ребята! — приказал Пантелеюшка.
Походу он забыл в этот миг: рядом-то — «девушки»…
*
…Чавкаем по лужам в ночи. На повороте нас догоняет чей-то истошный вой.
— Бомжак там в «обезьяннике» ночевал. Ну, пускай теперь меня сыграет после всего, — нервно щерится Пантелеев.
Хо, он же мог и Дениску пристроить на роль своего трупака?.. Да и меня… Значит, мы ему все ж таки как-то дороги — или план у него насчет нас имеется?.. Может, ему просто руки нужны цацки вытаскивать? А потом?..
Так-то он верно все рассчитал: жена думает, что надрался в одиночестве; кости бомжатские хотя бы сначала, впопыхах, примут за его, искать сразу не бросятся. Верткий мужик!
Но потом, но потом, но потом?.. Если он, скажем, и на жену беременную забил…
Что Пантелеев нас не обманет, как-то не верилось…
Во, бля, узкий и топкий проулок! Ноги оставишь в этой болотине… Идем гуськом. Я впереди с фонарем, Пантелеич дорогу подсказывает, сам же последним шлепает, иногда подсвечивая лампой.
Тьма заборов, кучи песка, угля, подзаборные жирные лопухи. Впереди огни — там, улица или копр? Не доходя до них, сворачиваем в овраг, скользим вниз, я падаю. Дениска, что следом шел, въезжает сапогом мне в рожу и ящиком с инструментами — со всей дури, сука, в плечо! Тоже падает. Тихо, но длинно вою, лягаю Дениску. Мы ведь теперь с ним походу ровня…
— Инструмент береги! — мент прикрикивает.
Заткнувшись, начинаю соображать. Это ж дальний конец поселка, так ведь и называется: Овраги. Здесь ходы в заброшенные шахты. В войну сюда в один из стволов фашики партизан сбрасывали. После войны немало пацанов подорвалось тут на минах — и минам этим, говорят, нету числа…
Заебись, короче, местечко!.. Но Пантелеич уверенно тащит нас вперед и вперед.
Переползаем вязкий ручей. Глины на нас уже больше, чем на скатах оврагов.
— Стой! — велит Пантелеюшка. Вытягивает из моего ящика длинную веревку. Привязывает оба тяжелых ящика к одному концу, закрепляет другой на стволе огромной ракиты. Шея его сейчас открыта. В темноте светлеет полоской. Хряпнуть по ней — всех-то делов… Чую: Дениска то же подумал.
Спускаем груз в кромешный провал на склоне. Следом по веревке спускается Дениска. После — я. Третьим лезет Пантелеев, и мы с Дениской знаем опять, что думает каждый из нас…
Думаем мы одно и то же, пока сапоги мента не встают властно, надежно на наши плечи…
Снова бредем гуськом по щиколотку в вязкой глинище. Впереди с включенным фонариком и ящиком — я, следом с ящиком же Дениска. Замыкает Пантелеев, лампа на его каске светит нам дополнительно. Несет гнилыми яйцами и какой-то, ебать ее, падалью. Местами своды ложатся на плечи, порой ползем в жиже. Даже во рту горьковато-холодный привкус земли. Мы кажемся себе тяжелее танков. Дениска бормочет: «Пиздец, пиздец!..»
Вонь становится нестерпимой, на фонарик то и дело липнет грязь. Тогда шарю руками впереди себя, на ощупь ползу… Вдруг — что это?.. Щупаю все выше и выше… Блядь! Сапог, резинуха…
— Че встал?! — Дениска дергает меня за ногу.
— Тут походу… тру… трупак, — выдавливаю.
— Че: Колян?.. — Дениска налезает мне на спину, чтоб рассмотреть.
Жмур лежит, раскинув руки-ноги, словно не хочет нас пропустить. Да, это Коляха.
— Че делать-то?.. — оборачиваюсь к Пантелееву.
Ход узкий и низкий, Коляху не обогнуть, не перешагнуть. Переползать через него придется. Прости, Коляха! И спасибо, что ты не дутик еще, не лопнешь под нами, не обдашь нас гнилыми своими соками…
Ползем дальше, словно в какой-то слизи.
Почему Викторычевы ребята не убрали его? Или — точней — почему положили на самом пути?.. Мысль эта придет потом. Пока же я себе червем земляным кажусь, которому и мертвяк не страшен.
Дениска вдруг судорожно рыгает. Его рвет на драные мои сапоги. Это бы ничего, да Пантелееву по рыготине по его ползти теперь предстоит. Тот сквозь зубы матюгает дашутку…
Наконец, узкий штрек обрывается. Комьями глины скатываемся в просторную камеру. Здесь по колено воды. Тянет погрузиться в нее по горло, изваляться в водичке, отмыть мертвяковую эту липучую слизь…
— Дальше! — велит Пантелеев. Лампа на высокой каске его скользит по своду, который поднимается здесь во весь наш рост. Бредем сами все в глине, как в доспехах, как в кандалах.
— Налево! — приказывает Пантелеюшка.
Здесь совсем какой-то завал. В ход идут ломики и лопаты. Наконец, стена впереди мягко осыпается куда-то вперед.
Ход становится высоким и узким, как вертикальная щель. Продираемся боком.
Снова широкий штрек. Но это ведь же не штрек, а так — тупик. Волчья яма для нас с Дениской?.. Эта мысль опять наша общая с ним сейчас, я-то чую.
— На месте! — говорит Пантелеюшка.
Так вот, значит, как все это выглядит!.. Вдоль стен ниши, в них свинцовые, что ли, ящики, один на другом. Фонарик выхватывает выпуклые клейма на стенке ближнего ящика: бабская харя со змеями заместо волос.
Пантелеев выхватывает у меня фонарик, идет вдоль ниш, ломиком поддевает крышки.
— Мы ни хуя этого не утащим, — шепчет мне на ухо Дениска. — Тут бригаде день епкаться…
— Может, ему конкретное че-то нужно, — возражаю.
Так и есть: Пантелеев тормозит у ниши с небольшим совсем ящиком, внимательно изучает его крышку и стенки, водит, все водит над ними фонариком.
Мы с Дениской переглядываемся.
Пантелеев оборачивается:
— Этот берем! — он обхватывает его, косо приподнимает. — Ебаная зараза!.. Давайте, парни, втроем!
Но и втроем почти неподъемный.
Пантелеев зло, кучеряво ругается. Поддевает крышку. Не сразу та поддается. Отваливается с долгим жестяным скрежетом, будто хохочет. Пантелеев наклоняется над ящиком. Под светом лампы из ящика встают узкие разноцветные лучики, прыгают по лицу Пантелеева, по круглым его щекам. Не видел я у него еще такого серьезного, сурового выражения.
Пантелеев отбрасывает ломик, склоняется над ящиком с инструментами, вываливает со звяком и скрежетом наши железки. Там, под ними, мешки. Пантелеев встряхивает один, что-то прикидывает. Лезет во второй ящик, там тоже мешки, Он возится с ними, словно все время что-то подсчитывая, прикидывая.
— Эй! — подзывает меня. Подскакиваю. Держу, распялив, мешок. Сверкая, золотые монеты, всякие цацки и слитки, и черные, бордовые, зеленые, синенькие коробочки несутся мимо моего взгляда и мозга. Да это ж сон!..
Лицо у Пантелеева какое-то слепое становится. Он черпает и черпает эти сверкающие, эти блескучие штуки, он словно плещется в них по самые плечи. Вот в чем отмыться-то — навек ведь отмыться можно!.. Да тут одного колечка, одной только коробочки мне, может, на всю жизнь хватило бы…
*
Как во сне, я вижу дальнейшее. Пантелеюшка наклоняется над ящиком еще зачерпнуть, и вдруг валится в ящик сам. Яркие теплые капли падают мне на руки, на лицо…
Пантелеюшка остается лежать поперек ящика, мелко, слепенько дрожа руками и ногами. Над ним чумазая Денискина рожа с закушенной губой. Лом опускается «на всякий пожарный» в мягкую плоть еще и еще разок.
И я всем потрохом чую, как остывает, отлетает мой Пантелеюшка…
— Че вылупился? — скалится Дениска. — Ще отсос за тобой!..
И вдруг сгибается. Его выворачивает на спину Пантелеюшки.
— Сука! Крови не выношу… — жалуется он. — Слышь, машка, полировка шляпонца за тобой!.. Последняя воля помершего, гы-ы…
Явно он сцыт чего-то — трупака, что ли? — и говорит, говорит, говорит. Словесный его срач, правда, интересный, по делу:
— Ты че думала, шалашовка? Типо я один действую? Соси: тут в нашем поселке, сука, все схвачено с послевойны еще, поколеньями! Че молчишь, машка? Ебач слюнкой праздно полощешь, да? Ты, дура, прикинь, пизда: Викторыч да и дядь-Вась — они главные, между прочим! — уже старики почти, про бригадира, про Толича, и вовсе не говорю. Наше время подступает, молодое! Ну, в смысле — мое, ты-то парашная слизь навечно. А мне на крыло вставать надо: так Викторыч сказанул вчера. Короче, надо нам было выбить из дела Пантелеева этого. Коляха, козел, переметнулся к нему, за это и поплатился. Чикнул его Димон, и сюда подложили, потому — знали уже, что Пантелеев по карте попрет. Вот Димон и сунул жмура по приколу и типо как упреждение нам на пути. И мне, бля, пришлось по трупаку гнилому елозить. Приколист гребаный! Че там предупреждать, кого, — раз забились Пантелеева убирать?..
Дениска встряхивается. Брызги с него летят мне в рожу.
— Короче, прикинь, как все пиздецки здоровско сладилось, как срослось! Ща и наши придут. Ход-то, блядь, самый простой сюда: под будкой у мужа у твоего, у Ролика. Я те это все говорю, что все одно тебе деваться от нас некуда. Будешь всю кодлу обслужать, пока не надоешь. А надоешь, блядь — или пришьем, или «мамкой» при свежем мясце приставим. Как поведешь себя… А что ты меня в жопу долбешила — про то, машка, лучше забудь! Приснилось это с переёба тебе — всосала, чушка позорная? Лучше меня держись, будь мне верной псиной! Я пацик незлой, веселый, опять же с крови — видишь — блюю, не то, что Димоныч. Этот те бошку и все причиндалы только так оторвет. Аж урчит от старанья, от удовольствия. Проверено, машулек! Был я при таких, блядь, двух случаях — как весь потрох там же не вырыгнул!..
Дениска толкает труп Пантелеева. Жмур валится на меня, я отскакиваю.
— Че, думаешь, этот нас бы пощадил? То и оно, что пришил бы, как мы ему мешки с-под земли б вынули! Хули ему хвост иметь или делиться с кем? Он уже и жилье где-то на островах себе вынюхивал, блядь, заранее. Мужики за это базарили. А мы — здесь живем, сука: чумазо да весело! Че кому надо — операцию сделать или хату детям где-нить в Москве-Питере прикупить — да, бля, запросто! У Викторыча сынок в Луганске не последний, блядь, человек. Я, может, тоже со временем куда-нить, где почище, покозырней, сдристну. Хотя, сука, и привыкши уже… Землица родная не хуже глотяры твоей многоопытной затягивает… И сейчас ты за щеку, блядь, у меня возьмешь — и будешь сосать с распиздецки веселым присвистом! А очком зарастешь — первым я у тя буду, о том уже договор у нас с мужиками, с Викторычем. Че я, за просто так седни шкурою рисковал? И колечки, слышь-ка, все повыкинь из карманов назад, машутка: крысу на месте ведь мочканут. Кто мне тогда будет сосать или в топке опять же мармыгу греть? Ну, машка — все цацки, сказано, повыкинула в ящик, вобрат! Теперь ебач к бою, пускай мужики увидят нас, как по понятиям следует. Это… как в фильме, блядь (был такой): «Триумф победителей»! Третьего дня гоняли по телеку…
Мы слышим чавканье шагов. Идет не один — трое шагают. А может и четверо…
У меня с плеч будто гора сползла. Опускаюсь легко на колени в жижу и открываю рот. Рука нащупывает внизу липкое и холодное, не наше уже — Пантелеюшки мертвую щеку…
Прости, сердешный! Прости…
17.06.2019
[1] Подмышки.




1 комментарий