Эдвард Морган Форстер
Морис
Аннотация
«Морис» — это история молодого гомосексуала. Книга рассказывает о любовных взаимоотношениях двух друзей, студентов Кембриджского университета, принадлежащих к английской аристократии и среднему классу. В ней описывается пуританская атмосфера викторианской Англии, классовое расслоение современного Форстеру общества. Главная проблема, которая мучит автора, – это неспособность и нежелание людей разных слоев и групп общества понять друг друга.
«Морис» — это история молодого гомосексуала. Книга рассказывает о любовных взаимоотношениях двух друзей, студентов Кембриджского университета, принадлежащих к английской аристократии и среднему классу. В ней описывается пуританская атмосфера викторианской Англии, классовое расслоение современного Форстеру общества. Главная проблема, которая мучит автора, – это неспособность и нежелание людей разных слоев и групп общества понять друг друга.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I Раз в четверть вся школа выходила на прогулку — то есть, в ней участвовали все мальчики и трое учителей. Как правило, это было приятное гулянье, и каждый, предвкушая его, забывал старые обиды и жил с ощущением легкости и свободы. Чтобы не страдала дисциплина, прогулку подгадывали ближе к каникулам, когда не вред расслабиться, и получалась она похожей скорее на семейный пикник, а не на школьное мероприятие, тем более что супруга директора, миссис Абрахамс, обыкновенно встречала мальчиков в обществе своих подруг за чайным столом и была добра совсем по-матерински.
Мистер Абрахамс вел свою приготовительную школу по старинке. Его не заботили ни занятия, ни игры. Главное — чтобы воспитанники были сытно накормлены и хорошо себя вели. Все остальное он считал делом родителей, не задумываясь о том, что родители считают его делом. Так, в обстановке взаимного благодушия, мальчики переходили в средние школы закрытого типа — здоровые, но не подготовленные — и там впервые их беззащитная плоть принимала на себя удары этого мира. Многое, однако, говорило в пользу столь вялого воспитания, ведь ученики мистера Абрахамса в конце концов не так уж плохо устраивались, в свой черед становясь родителями и, случалось, посылали к нему же своих сыновей. Мистер Рид, младший учитель, был педагогом того же типа, только еще бестолковей, тогда как мистер Дьюси, старший учитель, служил своего рода возбудителем и не давал учебному заведению окончательно погрузиться в спячку. Дьюси не слишком любили, но понимали, что он необходим. Он был знающим человеком — ортодоксом, но не отрешенным от мира и даже способным взглянуть на предмет с разных сторон. Для родителей и туповатых школьников он был неподходящей персоной, зато он прекрасно ладил со старшеклассниками, которых готовил на стипендию. И организатором он слыл неплохим. Мистер Абрахамс, притворяясь, будто держит его на коротком поводке и предпочитает мистера Рида, на самом деле давал Дьюси полную свободу действий и в конце концов сделал его своим компаньоном.
Мистер Дьюси вечно носился с какой-то идеей. На сей раз мысли его занимал Холл, один из старших воспитанников, которому вот-вот предстояло покинуть их и перейти в среднюю школу закрытого типа. Дьюси вздумалось «поговорить по душам» с Холлом во время прогулки. Коллеги были недовольны, поскольку при таком раскладе на них падала дополнительная нагрузка, да и директор возразил, что он-де уже поговорил с Холлом и что мальчику захочется свою последнюю прогулку провести с товарищами. Мистер Дьюси не спорил, но разве отговоришь его от того, что он считал необходимым? Он улыбнулся и промолчал. Мистер Рид знал, о чем будет «разговор по душам», ибо как-то им довелось коснуться этого профессионально. Мистер Рид выразил тогда неодобрение. «Тема щекотливая», — сказал он. Директор же или не знал, или не желал ничего знать об этом. Расставаясь с воспитанниками, когда тем исполнялось четырнадцать, он забывал о том, что мальчики имеют обыкновение превращаться в мужчин. Они представлялись ему низкорослым, но вполне сформировавшимся племенем, вроде пигмеев Новой Гвинеи — «его мальчиками». Понять их было еще проще, чем пигмеев, — ведь на его глазах они никогда не женились и очень редко умирали. В безбрачии и бессмертии проходили они перед ним долгой чередой — в один год их бывало от двадцати пяти до сорока. «Не вижу в книгах по педагогике никакого проку. Мальчики существовали и тогда, когда ни о какой педагогике слыхом ни слыхивали». Мистер Дьюси только посмеивался таким речам, ведь сам он был насквозь пропитан прогрессивными веяниями.
Перейдем теперь к мальчикам.
— Сэр, можно мне взять вас за руку?.. Сэр, вы же мне обещали… У мистера Абрахамса обе руки заняты, и у мистера Рида тоже… Ах, сэр, вы слышали это? Он думает, что у мистер Рида три руки!
— Ничего подобного, я сказал «пальцев». А ты завидуешь! Завидущий!
— Дети, сейчас же прекратите!
— Но сэр!..
— Со мной на прогулку пойдет только Холл.
Возгласы разочарования. Мистер Абрахамс и мистер Рид, видя, что это не приведет к добру, собрали ребят, построили и повели их вдоль обрыва в сторону холмов. Холл с видом победителя подошел к мистеру Дьюси, но взять его за руку постеснялся, потому что считал себя уже взрослым. Упитанный, симпатичный мальчик, ничем не примечательный. Этим он напоминал отца, который в той же череде прошел лет двадцать пять тому назад, потом скрылся из поля зрения в какой-то средней школе, женился, заимел сына и двух дочерей и недавно умер от воспаления легких. Добропорядочный был гражданин мистер Холл, но какой-то безликий. Мистер Дьюси, прежде чем отправиться на прогулку, навел о нем справки.
— Что, Холл, ожидаете нравоучения, да?
— Не знаю, сэр… Мистер Абрахамс уже со мной побеседовал. Он подарил мне «Святые Пастбища» и еще запонки. А ребята — марки. Настоящую Гватемалу за два доллара! Посмотрите, сэр! С попугаем на верху колонны.
— Великолепно! А что говорил мистер Абрахамс? Надеюсь, он сказал вам, что вы жалкий грешник?
Мальчик засмеялся. Он не понимал мистера Дьюси, но догадывался, что тот хочет выглядеть веселым. Он ощущал какую-то легкость, потому что это был его последний школьный день, и даже если он сделает что-то не так, то не получит нагоняя. Кроме того, мистер Абрахамс напророчил ему успех. «Он — наша гордость. В Саннингтоне он не посрамит честь нашей школы». Так начиналось письмо к маме, он успел подсмотреть. И ребята засыпали его подарками; они называли его смелым. Большое заблуждение — не смелый он: темноты боится. Но об этом никто не знает.
— Так что же сказал мистер Абрахамс? — повторил мистер Дьюси.
Они вышли на песчаный берег. Беседа грозила затянуться. Мальчику хотелось быть наверху, на утесе, с ребятами, но он знал — бесполезно мечтать, когда ребенок сталкивается со взрослым.
— Мистер Абрахамс велел мне во всем походить на отца, сэр.
— Что еше?
— Чтобы я не делал ничего такого, за что пришлось бы краснеть, если бы это увидела мама. Тогда я не пойду по плохой дорожке, а в средней школе будет не так, как у нас.
— Мистер Абрахамс сказал — как?
— Там будет совсем не так — почти как в жизни.
— А он вам рассказал, как бывает в жизни?
— Нет.
— А вы спросили?
— Нет, сэр.
— Это неразумно, Холл. Давайте разберемся. Мистер Абрахамс и я находимся здесь для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Как вы полагаете, какова же она на самом деле — жизнь взрослых людей?
— Я не могу судить, я еще мальчик, — сказал он весьма откровенно. — А взрослые, они очень вероломны, сэр?
Мистер Дьюси несказанно удивился. Он спросил, с какими примерами вероломства ему доводилось встречаться. Мальчик ответил, что к детям взрослые обычно не злы, но разве друг друга они не обманывают то и дело? Забыв о манерах школьника, он заговорил совсем как ребенок и стал забавным выдумщиком. Слушая его, мистер Дьюси прилег на песочек, раскурил трубку и уставился в небо. Маленький морской курорт, место их обитания, остался далеко позади, школа ушла вперед. День выдался серый и безветренный, солнце едва просвечивало сквозь облака.
— Вы живете с матерью, не так ли? — прервал его мистер Дьюси, заметив, что мальчик проникся к нему доверием.
— Да, сэр.
— А старшие братья у вас есть?
— Нет, только Ада и Китти.
— А дядья?
— Нет.
— Стало быть, среди ваших знакомых не так уж много мужчин?
— Мама держит кучера и Джорджа-садовника, но вы, конечно, имеете в виду джентльменов. У мамы есть три девушки-служанки, чтобы присматривать за домом, но они до того ленивы, что даже отказываются штопать чулки для Ады. Ада — старшая их двух моих младших сестер.
— А вам сколько лет?
— Четырнадцать. Через три месяца пятнадцать.
— Несмышленыш ты маленький.
Они оба засмеялись. Помолчав, мистер Дьюси продолжил:
— Когда мне было столько же лет, сколько вам сейчас, отец рассказал мне нечто, впоследствии оказавшееся чрезвычайно полезным. Это здорово помогло мне в жизни.
Неправда: отец никогда ничего подобного ему не рассказывал. Но ведь надо же было как-то вывести разговор на нужную тему.
— Правда, сэр?
— Хочешь, расскажу?
— Вы очень добры, сэр.
— Я буду говорить с тобой так, как если бы я на несколько минут стал твоим отцом. Я буду называть тебя по имени, Морис! — После чего он очень просто и сердечно приблизил мальчика к тайне секса. Он говорил о том, что Господь в самые первые дни творения создал мужчину и женщину, чтобы земля населилась людьми, и о том возрасте, когда мужчина и женщина обретают полную силу. — Сейчас ты как раз становишься мужчиной, Морис; вот почему я рассказываю тебе об этом. Мама тебе об этом не расскажет, да и ты не должен упоминать об этом ни при ней, ни при какой другой даме, а ежели в новой школе мальчики заговорят с тобой об этом, одерни их и скажи, что сам обо всем знаешь. Раньше тебе приходилось об этом слышать?
— Нет, сэр.
— Ни слова?
— Нет, сэр.
Все еще попыхивая трубкой, мистер Дьюси поднялся, нашел вылизанный волнами участок песка и тростью начертил схемы.
— Так будет проще, — объяснил он мальчику, с недоумением наблюдавшему за ним: ведь это не имело никакого отношения к тому, к чему он привык. Он слушал внимательно, что естественно, если урок преподают тебе одному, и он понимал, что предмет серьезен и относится к его собственному телу. Однако ему никак не удавалось установить связь; стоило мистеру Дьюси свести все воедино, как целое тут же распадалось на отдельные составляющие, словно сумма была невозможна.
Морис старался, однако все напрасно. Его вялый ум никак не хотел просыпаться. Половое созревание опережало зрелость ума; мужественность входила в него украдкой, и, как водится, это был транс. Бесполезно вторгаться в этот транс. Бесполезно его объяснять, какими бы сочувственными ни были объяснения. Мальчик согласно кивает и вновь погружается в сон, и выманить его оттуда невозможно, пока не пробьет его час.
Мистер Дьюси, не станем ручаться за его ученость, проявил полное понимание. Пожалуй, его понимание оказалось даже чрезмерным: он приписал Морису утонченные переживания, не допуская мысли, что тот или ничегошеньки не смыслит, или ошеломлен.
— Все это довольно тревожно, — сказал он, — но через это надо пройти. Не стоит делать из этого тайну. А там узнаешь большое, подлинное — Любовь, Жизнь.
Он говорил без запинки, не впервые приходилось ему вести такой разговор с мальчиками, и он знал, что за вопросы они обычно задают. Морис не спрашивал ничего, лишь повторял: «Ясно, ясно, ясно», и мистер Дьюси поначалу испугался, что ничего ему не ясно. Он проверил Мориса. Ответы оказались удовлетворительными. У мальчика была неплохая память, и — до чего же любопытно устроен человек — он даже продемонстрировал обманчивую сметливость, поверхностное мерцание, отразившее путеводный огонь взрослого мужчины. В конце беседы он все же задал пару вопросов о сексе, весьма уместных. Мистера Дьюси это очень воодушевило.
— Отлично, — сказал он. — Отныне тебя ничто не должно озадачивать или тревожить.
Еще оставались жизнь и любовь, которых он коснулся, когда они двигались берегом бесцветного моря. Он рассказал об идеальном мужчине — целомудренном до аскетизма. Он обрисовал вкратце, что такое красота Женщины. Вспомнив о своей недавней помолвке, он стал человечнее, и глаза загорелись под его сильными очками, а к щекам прихлынула кровь. Любить достойную женщину, защищать ее и служить ей — это, как сказал он мальчику, и есть венец жизни.
— Сейчас тебе не понять, но однажды ты непременно поймешь, и тогда вспомнишь скромного старого учителя, который наставил тебя на путь. Все это неразделимо — все — и Бог на небесах, и устройство земное. Мужчина и женщина! До чего прекрасно!
— Мне кажется, я никогда не женюсь, — проронил Морис.
— Ровно через десять лет, в этот же день, я приглашаю тебя и твою жену поужинать со мной и моей супругой. Согласен?
— О, сэр! — улыбнулся Морис, не скрывая радости.
— В таком случае, решено!
При любых обстоятельствах это была неплохая шутка, чтобы закончить беседу. Морис чувствовал себя польщенным. Он начал размышлять о женитьбе. Когда они уже порядком отошли, мистер Дьюси вдруг остановился и приложил ладонь к щеке, словно у него разболелись зубы. Он обернулся и посмотрел на долгую полосу песка за спиной.
— Я забыл стереть эти проклятые рисунки, — медленно проговорил он.
От дальнего края залива в их сторону направлялись люди, и тоже берегом моря. Их путь непременно должен был привести их к тому самому месту, где мистер Дьюси иллюстрировал секс, а с ними была одна дама. Потея от страха, учитель бегом ринулся назад.
— Сэр, — воскликнул Морис, — куда вы? Прилив, должно быть, уже все смыл.
— Силы небесные… Слава Богу… Начинается прилив. И вдруг, неожиданно для себя, мальчик на мгновение подумал об учителе с презрением. «Лгун, — решил он. — Трус и лгун. Он так ничего мне и не сказал»… Вновь накатывалась темнота, темнота первобытная, но не вековечная. Темнота, у которой есть свой тягостный рассвет.
II
Мать Мориса жила под Лондоном, в комфортабельном доме, стоявшем в окружении сосен. Тут родился и он, и его сестры, отсюда его отец ежедневно отправлялся на службу, сюда возвращался. Они едва не переехали, когда здесь построили церковь, но потом к ней привыкли, как привыкают ко всему прочему, и даже нашли это удобством. Церковь была единственным местом, куда надлежало ходить миссис Холл: покупки доставлялись на дом. К тому же, до станции было недалеко, и приличная школа для девочек тоже располагалась рядом. То была обжитая местность, где ничего не приходилось добывать с трудом и где успех и поражение ничем не отличались друг от друга.
Морис любил свой дом и считал мать его добрым гением. Если бы не она — там не было бы ни мягких кресел, ни вкусной еды, ни безмятежных игр, и он был благодарен ей за это и любил ее. Сестер он тоже по-своему любил. Когда он приехал, те выбежали с радостными криками, сняли с него пальто и оставили его прислуге на полу в передней. Гватемальские марки вызвали восторг, и «Святые Пастбища», и репродукция Гольбейна, подаренная мистером Дьюси. После чая погода разгулялась, миссис Холл надела галоши и вышла пройтись с Морисом по саду. Они ходили, целовались и беспечно болтали.
— Морри…
— Да, мамочка…
— Я должна позаботиться о том, чтобы у моего Морри весело прошли каникулы.
— А где Джордж?
— Такой великолепный отзыв от мистера Абрахамса! Он пишет, что ты напомнил ему нашего бедного папу… Так чем же мы займемся в каникулы?
— Я бы хотел побыть здесь.
— Мальчик мой дорогой… — Она обняла его с большим чувством, чем когда-либо. — Нет лучше дома, это каждый знает. Вот томаты, — ей нравилось перечислять названия овощей. — Томаты, редиска, брокколи, лучок…
— Томаты, брокколи, лучок, картофель белый, картофель розовый, — бубня, вторил ей мальчишка.
— Ботва репы…
— Мама, а где Джордж?
— Он уехал на прошлой неделе.
— А почему Джордж уехал? — спросил он.
— Потому что вырос. Хауэлл меняет мальчиков каждые два года.
— А…
— Ботва репы, — продолжала она, — вот опять картошечка, вот свекла… Морри, а что, если съездить ненадолго к дедушке и тете Иде, они нас зовут? Я хочу, чтобы эти каникулы прошли чудесно — ты заслужил, милый; какой прекрасный человек мистер Абрахамс; ты знаешь, что твой отец тоже учился у него в школе, а теперь ты пойдешь в Саннингтон — это тоже школа твоего отца; мы отдаем тебя туда, чтобы ты во всем повторил путь нашего дорогого папы.
Ее прервал всхлип.
— Морри, любимый…
Мальчуган был весь в слезах.
— Любовь моя, что с тобой?
— Я не знаю… Не знаю…
— Ну, Морис…
Он помотал головой. Огорченная неудачной попыткой развеселить сына, она заплакала тоже. Из дому выбежали девочки, восклицая:
— Мама, мама, что с Морисом?
— Ничего, — огрызнулся тот сквозь плач, — иди отсюда, Китти…
— Он переутомился, — сказала миссис Холл — так она объясняла все, что угодно.
— Я переутомился.
— Ступай к себе в комнату, Морри… Радость моя, как ты меня напугал.
— Ничего, со мной все в порядке. — Он стиснул зубы, и великая печаль, что переполняла его через край, начала спадать. Он почувствовал, как она вошла к нему в сердце и уже ничем не давала о себе знать. — Все в порядке. — Он утер слезы и досадливо огляделся вокруг. — Пойду поиграю с Альмой.
Прежде чем все стало на свои места, он уже был говорлив, как прежде; детская слабость миновала.
Морис оттолкнул Аду, которая его обожала, и Китти, которая нет, и побежал в сад навестить кучера.
— Как поживаешь, Хауэлл? А как миссис Хауэлл? Как поживаете, миссис Хауэлл? — и так далее, тем же покровительственным тоном, не похожим на тон, к которому он прибегал, разговаривая с ровней. Затем, переменив тему:
— Это новый мальчик-садовник?
— Да, мистер Морис.
— Джордж стал чересчур большим?
— Нет, хозяин, он сам решил, что так будет лучше.
— Ты хочешь сказать, что он сам попросил расчет?
— Совершенно правильно.
— А мама сказала, что он вырос, и это ты его выгнал.
— Нет, мистер Морис.
— Моя бедная поленница будет только рада, — вставила миссис Хауэлл. Морис частенько играл с Джорджем в дровяном сарае.
— Это мамина поленница, а не ваша, — отчеканил Морис и пошел прочь. Хауэллы не обиделись, хотя сделали вид, что задеты. Они всю жизнь прожили в слугах и любили, когда хозяин немного сноб.
— А парень-то уже с гонором, — доложили они повару. — Совсем как его отец.
Супруги Бэрри, приглашенные в тот день на ужин, были такого же мнения. Доктор Бэрри на правах давнего друга семьи, а, вернее, соседа, проявлял к Холлам умеренный интерес. Глубокого интереса к ним не проявлял никто. Он любил Китти — за намечавшуюся твердость и выдержку — но девочки уже были в постели, да и Морису не мешало бы там быть, так сказал жене доктор по пути домой. «И оставаться там всю жизнь. Что, впрочем, и произойдет. Как с его отцом. Что пользы от таких людей?»
Когда Морис действительно отправился в постель, он сделал это крайне неохотно. Эта комната всегда страшила его. Весь вечер он чувствовал себя настоящим мужчиной, но стоило матери поцеловать его и пожелать спокойной ночи, как нахлынули давние страхи. А с зеркалом — просто беда. Он без боязни смотрел на отражение своего лица или на собственную тень на потолке, но не мог без страха взирать на тень на потолке, отраженную в зеркале. Он переставил свечу, чтобы избежать такого сочетания, затем несмело поставил ее на прежнее место, и вновь его одолевал страх. Ничего ужасного это ему не напоминало, он понимал, что и как. И все равно боялся. Наконец он задул свечу и забился в постель. Полную темноту еще можно было сносить, но эта комната имела дополнительный недостаток: против окна находился уличный фонарь. Обычно свет проникал сквозь занавески, не вызывая тревоги, но в недобрые ночи на мебель ложилось пятно, похожее на череп. Сердце Мориса отчаянно колотилось, и он лежал в страхе, хотя все домашние были рядом.
Он открыл глаза, чтобы посмотреть, не исчезло ли пятно, и вспомнил про Джорджа. Он прошептал: «Джордж, Джордж». А кто ему Джордж? Никто — просто слуга. Мама, Ада и Китти гораздо же важней. Однако он был слишком мал, чтобы так рассуждать. Он не заметил даже, что, поддавшись печали, он одолел призрака и заснул.
III
Саннингтон явился следующей ступенью в карьере Мориса. Он преодолел ее, не привлекая к себе внимания. На занятиях не блистал, хотя был способнее, нежели делал вид, да и в играх не сильно блистал. Те, кто его замечал, любили его, потому что у него было хорошее, открытое лицо и он живо откликался на признаки внимания; однако таких, как он, мальчиков было много — они составляли школьный костяк, в котором, как правило, не замечаешь отдельных позвонков. С ним происходило то же, что с большинством: его оставляли после уроков, однажды даже наказали палкой, он переходил из класса в класс, пока худо-бедно не добрался до шестого гуманитарного. Он был старшим в пансионе, потом старостой школы, и входил в сборную Саннингтона по регби. Хоть и неловкий, он обладал физической силой и отвагой; а в крикет у него так хорошо не получалось. Новичком испытав на себе дурное обращение ребят, он и сам третировал тех, кто слабее, но не потому что был жесток, а потому что так положено. Одним словом, он был заурядным учеником заурядной школы и оставил по себе бледное, но в целом благоприятное впечатление. «Холл? Погодите минутку, какой Холл? Ах, да, припоминаю: середнячок».
За всем этим скрывалось смущение и растерянность. Он уже утратил ясновидение ребенка, который на свой лад кроит и объясняет вселенную, предлагая ответы, полные прелести и чудесной интуиции. «Из уст младенцев и грудных детей»… Но не из уст подростка шестнадцати лет. Морис забыл то время, когда он был бесполым, и в зрелости своей лишь догадывался, какими, должно быть, чистыми и праведными были ощущения ранних лет. Теперь он погрузился много ниже, ибо он нисходил в Долину, именуемую Тенью Жизни. Она лежит между великих и невеликих вершин, и никому не дано ее пройти, не вдохнув ее туманов. Он блуждал в ней на ощупь долее большинства ребят.
Там, где все смутно и неосознанно, лучшие образы дает сон. В школе Морису снилось два сна; они многое скажут о нем.
В первом сне он чувствовал сильную злость. Он играл в футбол против неведомого существа, само присутствие которого раздражало. Он совершал усилие, и неведомое существо превращалось в Джорджа, того самого мальчика-садовника. Но ему приходилось соблюдать осторожность, иначе вновь возникало оно. Джордж бежал к нему по полю, голый, перепрыгивая через поленницы. «Я сойду с ума, если он опять станет оборотнем», — говорил Морис, и, как только они начинали возиться, это происходило, и тогда он просыпался от жестокого разочарования. Он не связывал этот сон с наставлением мистера Дьюси, еще меньше — со своим вторым сном, но он думал, что заболевает, а потом думал, что это послано ему за что-то в наказание.
Второй сон пересказать труднее. Ничего не происходило. Он едва различил лицо, едва расслышал голос, возвестивший: «Это твой друг», и все прошло, наполнив его красотой, научив нежности. Он был готов умереть за такого друга, он позволил бы такому другу умереть за него; они принесли бы друг другу любую жертву, и весь мир был бы для них ничто; ни смерть, ни расстояние, ни злоба не могли бы их разлучить, потому что «это мой друг». Недолго спустя Морис прошел конфирмацию. Он пытался убедить себя, что этот друг, должно быть, и есть Христос. Но у Христа была некрасивая бороденка. Может, это греческий бог — как на иллюстрациях в словаре античности? Это было бы более вероятно, но вероятнее всего, что это просто человек. Морис не хотел придавать своему сну большую определенность. Он вытягивал этот сон в реальность лишь настолько, насколько тот подавался. Никогда ему не встретить этого человека и не услышать вновь этот голос, и все же они стали для Мориса реальнее всего, что было ему знакомо, они на самом деле…
— Холл! Опять спите! Извольте после занятий переписать сто латинских стихов!
— Сэр!.. Это абсолютный дательный!
— Поздно. Проспали.
…они на самом деле влекли его к себе средь бела дня и опускали занавес. Он снова и снова впитывал эти черты и эти три слова, томимый нежностью и желанием делать добро, ибо так хотел его друг, и самому сделаться добрей, чтобы его друг мог сильнее любить его. К этому счастью почему-то примешивалось страдание. То, что у него не было друга, казалось ему столь же несомненным, как то, что друг был, и тогда Морис находил укромный уголок и там тихонько плакал, приписывая слезы ста злополучным стихам.
Теперь можно понять тайную жизнь Мориса: в ней было и брутальное, и идеальное — как в его снах.
По мере того, как развивалось его тело, помыслы его теряли чистоту. Он думал, что на нем лежит какое-то особое проклятие, но побороть его было невозможно, ведь даже на Святом Причастии на ум лезли скверные мысли. Саннингтон славился строгостью; незадолго до поступления Мориса в школе разразился ужасный скандал. Заблудшую овцу выгнали вон из стада, остальных муштровали днем и караулили по ночам, так что, к счастью или к несчастью, у Мориса почти не было возможности поделиться переживаниями с товарищами. Его очень тянуло к запретному, но он мало знал и еще меньше умел, посему грешил всегда в одиночку. Книги: школьная библиотека была безупречна, но в доме дедушки он как-то наткнулся на неадаптированного Марциала, да так и просидел над ним с пылающими ушами. Мысли: скудная неряшливая коллекция. Действия: от них он воздерживался после того, как новизна прошла, обнаружив, что они, скорее, изнуряют, нежели доставляют удовольствие.
И все это, постарайтесь понять, имело место словно в некоем трансе. Морис погрузился в сон в Долине, именуемой Тенью Жизни, у подножия вершин различной высоты, не ведая о том и не догадываясь, что рядом так же дремлют его товарищи.
Другая половина его жизни, казалось, была бесконечно далека от неприличий. Переходя из класса в класс, он делал культ из того или иного мальчика. В присутствии очередного избранника, будь он старше или младше, Морис начинал громко смеяться, нести чепуху, тупеть. Он не отваживался делать добро, да и не в этом суть. Еще меньше он помышлял о том, чтобы выразить свое восхищение словами. И предмет поклонения очень скоро посылал его куда подальше, вызывая тем самым у Мориса мрачное расположение духа. Однако и Морис отыгрывался на других — на мальчиках, что боготворили его. Такое случалось нередко, и когда Морис это понимал, он посылал их куда подальше. Обожание оказалось взаимным лишь однажды: оба томились сами не знали по чему, но результат был тем же. Через несколько дней они поссорились. Все, что он вынес из хаоса — это ощущение красоты и нежности, которое он познал впервые во сне. Чувство это росло год от года, словно вечнозеленое растение, на котором не бывает цветов. На последнем году обучения в Саннингтоне рост прекратился. В сложном процессе наступила задержка и безмолвие, и юноша очень робко начал осматриваться вокруг.
IV
Ему было почти девятнадцать.
В день состязания он стоял на школьной сцене и произносил на греческом речь собственного сочинения. Зал был полон учащихся и их родителей, но Морис как бы обращался к Гаагской мирной конференции, указывая на недомыслие некоторых ее положений. «Разумно ли, о мужи Европы, говорить об упразднении войн? Разумно ли? Разве Арес — не сын самого Зевса? Более того, война делает нас крепкими, придает членам силу, поистине, неведомую моим оппонентам». Его греческий был отвратителен. Морис получил премию за содержание, да и то едва ли заслуженно. Экзаменатор натянул балл в его пользу, потому что Холл был славный малый. Кроме того, он покидал школу и собирался поступать не куда-нибудь, а в Кембридж, где призовые книги на его полке помогут сделать рекламу родной школе. Так ему достались «История Греции» Гроута1 и бурные аплодисменты. Возвращаясь на свое место рядом с матерью, он понимал, что вновь стал всеобщим любимцем, только недоумевал, за что такая честь. Аплодисменты продолжались, они перерастали в овацию; в стороне изо всех сил молотили в ладони раскрасневшиеся Ада и Китти. Кто-то из его приятелей, тоже выпускников, кричал, требуя речь. Это было не принято и не поощрялось начальством, однако сам директор поднялся и произнес несколько слов. Холл — один из нас, и он никогда не перестанет это ощущать. Это были справедливые слова. Школа хлопала не потому, что Морис такой уж выдающийся, но потому, что он средний. Чествуя его, школа словно чествовала саму себя. После к нему подходили со словами: «Здорово, старина», очень трогательно, и сказали даже, что без него «в этой дыре станет совсем тоскливо». Родственники разделили с ним его успех. Раньше он терпеть не мог их приезды. «Прости, мама, но тебе и сестрам придется гулять без меня», — заявил он им как-то после футбольного матча, когда те пытались приблизиться к нему, покрытому грязью и славой; Ада заплакала. Теперь Ада весьма непринужденно болтала с капитаном школьной команды, а Китти со всех сторон угощали пирожными; матушка же выслушивала жалобы квартирной хозяйки Мориса по поводу недавно установленного парового калорифера. Все вдруг обрело гармонию. Может, это и есть жизнь взрослых людей?
Несколько поодаль Морис заметил доктора Бэрри, их соседа, который поймал взгляд Мориса и ответил в своей обычной обескураживающей манере:
— Поздравляю, Морис. Это был триумф. Великолепно! Позволь выпить за тебя чашку, — он осушил ее, — этого на редкость омерзительного чая.
Морис улыбнулся и подошел к нему с несколько виноватым видом, ибо совесть его была нечиста. Доктор Бэрри просил его заботиться о своем маленьком племяннике, который поступил в Саннингтон в прошлом семестре, но Морис так ничего и не сделал: было не до этого. Теперь время ушло, и Морис призывал на помощь все свое мужество.
— Что станет следующей ступенью в твоей триумфальной карьере? Кембридж?
— Так говорят.
— Говорят? Ну-ну. А что говоришь ты?
— Не знаю, — добродушно отвечал Морис.
— А после Кембриджа что? Фондовая биржа?
— Думаю, да: компаньон отца обещал взять меня в дело, если все пойдет хорошо.
— А после того, как он возьмет тебя в дело, что? Очаровательная жена?
Морис улыбнулся.
— Которая подарит нетерпеливому миру Мориса-третьего? А потом старость, внуки и, наконец, кладбищенские маргаритки? Таково твое понятие о карьере? Что ж, каждому свое.
— А каково ваше понятие о карьере, доктор? — спросила Китти.
— Помогать слабым и устранять несправедливость, — ответствовал доктор Бэрри, проведя по ней взглядом.
— Я уверена, что в этом все мы сходимся, — заявила квартирная хозяйка. Миссис Холл согласно кивнула.
— О нет, не все. Вот и я не вполне последователен, иначе уже давно был бы с маленьким Дикки вместо того, чтобы прохлаждаться среди этого великолепия.
— Приведите ко мне Дикки, я хочу с ним поздороваться, — попросила миссис Холл. — Его отец тоже приехал?
— Мама! — прошептала Китти.
— Мой брат в прошлом году погиб, — сказал доктор Бэрри. — Видимо, вы запамятовали. Война не сделала его крепким и не придала силу его членам, как полагает Морис. Ему достался осколок в живот.
И он удалился.
— Кажется, доктор Бэрри становится циником, — заметила Ада. — Кажется, он ревнует.
Она была права: доктор Бэрри, который в свое время был покорителем женских сердец, не мог долго выносить общество молодежи. Бедный Морис столкнулся с ним еще раз. Он уже прощался со своей квартирной хозяйкой, красивой женщиной, которая со старшими мальчиками держалась очень корректно. Они тепло пожали друг другу руки.
Оборачиваясь, Морис услышал голос мистера Бэрри:
— Что ж, Морис, юноша неотразим в любви так же, как на войне, — и поймал его циничный взгляд.
— Не понимаю, что вы имеете в виду, доктор Бэрри.
— Ах, юные создания! Послушать вас — так воды не замутите. Он не понимает, что я имею в виду! Застенчив, точно девушка! Будь искренним, мужчина, будь искренним. Никого не обманывай. Искренние намерения — чистые намерения. Это тебе говорю я — врач и старик. Человек, рожденный женщиной, обязан быть с женщиной, чтобы род человеческий продолжался.
Морис уставился на квартирную хозяйку, та энергично отстранила его. Морис покраснел до ушей: он вспомнил картинки мистера Дьюси. Беспокойство — вовсе не такое глубокое и прекрасное, как печаль — поднялось на поверхность памяти, обнаружило ее несостоятельность и исчезло. Он не спрашивал себя, каково происхождение этой тревоги, ибо час его еще не настал, но и первые признаки были ужасны, так что Морис, хоть и чувствовал себя героем, захотел вновь стать маленьким мальчиком и вечно шагать в полусне берегом бесцветного моря. Доктор Бэрри продолжал свою лекцию и под прикрытием дружеских манер наговорил много такого, что причинило боль.
V
Он выбрал колледж, в который поступил его школьный товарищ Чепмен и другие саннингтонцы, и по прошествии первого года успел немного привыкнуть к незнакомой университетской жизни. Вступил в землячество, вместе они проводили досуг, чаевничали, завтракали, хранили провинциальные обычаи и говор, сидели локоть к локтю на общем обеде, гуляли по улицам рука об руку. Иногда устраивали попойки, загадочно хвастались победами над женщинами, но кругозор их оставался кругозором старшеклассников, и у некоторых из них остался таким на всю жизнь. С другими студентами они не враждовали, но держались слишком обособленно, чтобы пользоваться успехом, были слишком заурядны, чтобы верховодить, и вообще они не рисковали сходиться ближе с воспитанниками других школ. Все это устраивало Мориса. Он был ленив от природы. И хотя не удалось преодолеть ни одной из прежних трудностей, не прибавилось и новых, а это уже кое-что. Безмолвие продолжалось. Плотские помышления беспокоили меньше. Он застыл в темноте, вместо того, чтобы блуждать на ощупь, словно это и было целью, к которой так болезненно готовились и душа, и тело.
На втором курсе с ним произошла перемена. Колледж, куда он переехал жить, начал его переваривать. Дни он мог проводить как прежде, но по ночам, когда запирали ворота, с ним начинался новый процесс. Еще на первом курсе он сделал важное открытие: оказывается, взрослые вежливы друг с другом — до тех пор, пока не появляется повод к обратному. В его логово стали наведываться студенты третьего курса. Он ожидал, что они начнут бить его тарелки и насмехаться над фотографией матери, а когда этого не случилось, он перестал готовиться к тому, как в один прекрасный день сам разобьет их посуду, и таким образом сэкономил время. У преподавателей нравы оказались еще прекраснее. Морису недоставало лишь такой атмосферы, чтобы смягчиться самому. Ему вовсе не нравилось быть жестоким и грубым. Это противоречило его натуре. Однако в школе это было необходимо, иначе бы его подмяли, и он считал, что это станет еще необходимее на обширном поле брани университета.
Став полноправным обитателем колледжа, он приумножил свои открытия. Выяснилось, что вокруг него — живые существа. Раньше он считал, что они такие, какими он сам их мыслит — плоские куски картона стандартного покроя — но, прогуливаясь ночью по дворикам и переулкам и видя в окнах то поющих, то спорящих, то погруженных в книги, он исподволь пришел к убеждению, что они люди, чувства которых сродни его собственным. С тех пор, как он покинул школу мистера Абрахамса, он никогда не жил искренне и, несмотря на совет доктора Бэрри, не собирался начинать; однако он понял, что, обманывая других, он сам подвергается обману и, ошибочно принимая людей за пустые создания, принуждает их думать, что и он такой же. Нет, у них у всех тоже есть изнанка. «Но, Боже милостивый, не такая, как у меня!» Стоило Морису подумать о других, настоящих людях, как он скромнел от сознания своей греховности: во всем мироздании не сыскать такого, как он; не удивительно, что он хотел прикинуться куском картона — если бы узнали, каков он на самом деле, его с позором изгнали бы из этого мира. Бог, всегда будучи непростой темой, не слишком беспокоил его: он не мыслил себе осуждения более страшного, чем, скажем, осуждение от Джо Фетерстонхоу, соседа снизу, и не мог вообразить ада мучительней, чем мальчишеский остракизм.
Вскоре после своего открытия он отправился на ленч к мистеру Корнуоллису, декану.
Кроме него были приглашены также Чепмен и бакалавр искусств из Тринити-колледжа, родственник декана по имени Рисли. Рисли был темноволос, высок и манерен. Он размашисто и низко поклонился, когда его представили, а когда он заговорил, а болтал он без умолку, он использовал сильные и в то же время какие-то немужские превосходные степени. Чепмен, поймав взгляд Мориса, стал раздувать ноздри, приглашая приятеля осадить задаваку. Морис поразмыслил и решил подождать. Нежелание причинять боль кому бы то ни было становилось в нем все сильней. Кроме того, он не был уверен, что ненавидит Рисли, хотя, без сомнения, следовало бы, и через минуту так и будет. Но Чепмену пришлось-таки начинать в одиночку. Обнаружив, что Рисли обожает музыку, он прицепился к этому и выдал несколько обидных высказываний, в частности:
— Не люблю казаться лучше других.
— А я люблю!
— Вот как? В таком случае прошу прощения.
— Будет, Чепмен, пора вам подкрепиться, — вмешался мистер Корнуоллис, пообещав себе развлечение за ленчем.
— Мне-то да, а вот Рисли, подозреваю, потерял аппетит. Я вызвал у него отвращение своими вульгарными речами.
Они сели к столу. Рисли повернулся к Морису и со смешком сказал:
— Просто не могу придумать, чем на это ответить. — В каждой фразе он делал особое ударение на одном слове. — Я в полной беспомощности. И «да» не годится, и «нет» не подходит. Что же мне делать?
— А если попробовать помолчать? — предложил декан.
— Помолчать? Дичь. Наверно, ты с ума сошел.
— Можно задать вам вопрос: вы всегда болтаете не переставая? — поинтересовался Чепмен.
Рисли ответил: да.
— И это вас не утомляет?
— Никогда.
— А других — неужто не утомляет?
— Никогда.
— Это странно.
— Не пытайтесь меня убедить, будто я вас утомил. Неправда, неправда, вижу — вы улыбнулись.
— Даже если так, то не вам, — заявил вспыльчивый Чепмен.
Морис и декан рассмеялись.
— Я опять в тупике. До чего же удивительны трудности общения.
— Однако вы сносите их гораздо легче большинства из нас, — заметил Морис. До тех пор он молчал, и голос его, тихий, но грубоватый, заставил Рисли вздрогнуть.
— Разумеется. Ведь это мой конек. Единственное, что меня занимает — это разговор.
— Вы это серьезно?
— Все, что я говорю, — серьезно.
Морис почему-то знал, что это на самом деле так. Ему показалось, что Рисли был серьезен.
— А сами вы человек серьезный?
— Не спрашивайте.
— Тогда болтайте, пока не станете таким.
— Какой вздор, — проворчал декан.
Чепмен дико расхохотался.
— Правда же вздор? — спросил он у Мориса, который, сообразив, о чем идет речь, заявил, что поступки важнее слов.
— А в чем между ними разница? Слова и есть поступки. Не станете же вы утверждать, будто эти несколько минут, проведенные у Корнуоллиса, никак на вас не повлияли? Неужели вы когда-нибудь забудете, например, что познакомились здесь со мной?
Чепмен застонал.
— Между тем ни он, ни вы не забудете. А мне внушают, что мы должны совершать какие-то поступки.
Декан пришел на выручку саннингтонцам. Он обратился к своему юному кузену:
— Насчет памяти ты ошибаешься. Ты смешиваешь то, что важно, с тем, что впечатляет. Вне всякого сомнения Чепмен и Холл всегда будут помнить, что познакомились с тобой…
— И забудут вот эту котлету. Именно так.
— Но котлета пошла им на пользу, а ты — нет.
— Обскурант!
— Как в книге какой-то, — прошептал Чепмен. — Правда, Холл?
— Я утверждаю, — продолжал Рисли, — притом делаю это без обиняков, что котлета влияет на жизнь подсознания, тогда как я — на сознание, посему я не только более впечатляющ, нежели котлета, но и более важен. А декан ваш, который погружен во мрак средневековья и вам того желает, настаивает на том, что только подсознательное, только та часть вас, которая может быть затронута без вашего ведома, только это одно и важно, и день за днем он капает вам наркотик…
— Заткнись, — сказал декан.
— Но я — дитя света…
— Заткнись.
Так беседа вошла в нормальное русло. Рисли не был самовлюблен, хотя постоянно говорил о себе. Он не прерывал собеседников. Не притворялся безразличным. Резвясь, как дельфин, он сопровождал их, куда бы они ни направились, и не ставил преград их курсу. Он принимал участие в игре, но оставался серьезен. Для него было важно сновать туда и сюда так же, как для них — продвигаться вперед, и ему нравилось быть поблизости. Еще несколько месяцев назад Морис поддержал бы Чепмена, но теперь, когда он убедился, что у всякого человека существует изнанка, он подумывал, а не сойтись ли с Рисли поближе. Ему польстило то, что после ленча Рисли ждал его на лестнице со словами:
— Вы заметили, сколь бесчеловечен мой кузен?
— Нас он устраивает, это все, что я знаю, — вспылил Чепмен. — Он совершенно замечательный.
— Вот-вот. Как всякий евнух, — сказал Рисли, и был таков.
— Ну!.. Ну, я просто… — задохнулся от возмущения Чепмен, однако британское самообладание заставило его придержать глагол. Он был потрясен до глубины души. Он не против заносчивости в разумных пределах, толковал он Морису, но это уж слишком, это не по-джентльменски и даже подло — видимо, парень не прошел школы, подобной Саннингтону. Морис согласился. Назови своего кузена дерьмом, если хочешь, но не евнухом. Это гадко! И в то же время Морису было смешно, и когда бы в будущем он ни встречался с деканом, на ум лезли шаловливые, неподобающие мысли.
VI
Весь тот день и назавтра Морис обдумывал предлог, под каким он мог бы вновь увидеться с этой диковинной птицей. Ничего подходящего в голову не шло. Не хотелось просто так заглядывать к аспиранту, к тому же учились они в разных колледжах. Рисли, решил он, должно быть, свой человек в студенческом клубе, поэтому он надумал пойти во вторник на диспут в надежде услышать его: возможно, его будет проще понять на публичных прениях. Мориса тянуло к Рисли не в том смысле, чтобы стать его другом, просто он чувствовал, что тот может ему помочь, хотя и не имел понятия, как. Все было весьма туманно, ибо вершины по-прежнему нависали, бросая тень, над Морисом. Рисли же, который, несомненно, уже наверху, мог бы протянуть ему руку помощи.
Потерпев неудачу в студенческом клубе, Морис затаил обиду. Не нужна ему ничья помощь: он в полном порядке. Кроме того, ни один из его друзей не стал бы терпеть Рисли, а он должен держаться своих друзей. Однако обида скоро прошла, и ему больше прежнего захотелось видеть Рисли. Раз тот такой странный, разве не может и он тоже быть странным и в нарушение всех студенческих правил как-нибудь к нему наведаться? «Надо быть человечным», — а это вполне по-человечески — наведаться запросто. Поразившись своему открытию, Морис решил еще и напустить на себя этакую богемность и появиться у Рисли с остроумной речью в духе самого Рисли. «Вы выторговали больше, чем от этого получили», — сразу возникло начало. Не слишком складно, но Рисли достаточно умен и не даст ему почувствовать себя болваном, так что он выпалит это, если в голову не придет ничего лучше, а уж в остальном положится на удачу.
Ибо все это становилось похоже на авантюру. Этот человек, заявивший, что надо «болтать и болтать», непостижимо взволновал Мориса. Однажды вечером, чуть раньше десяти, он проскользнул в Тринити и ждал на главном дворе, пока не заперли ворота. Взглянув на небо, он увидел ночь. Как правило, он оставался равнодушен к прекрасному, но тут: «Что за праздничная феерия!» — подумал он. И как журчит фонтан под медленно умирающий бой курантов в час, когда по всему Кембриджу запирают ворота и двери. Повсюду были питомцы Тринити — и все громадного ума и культуры. Окружение Мориса смеялось над Тринити, но они не могли игнорировать высокомерное великолепие или отрицать превосходство этого колледжа, едва ли нуждавшееся в подтверждении. Морис пришел сюда без приглашения, робкий, пришел за помощью. Его остроумная речь поблекла в этой атмосфере, а сердце отчаянно билось. Он стеснялся и трусил.
Комнаты Рисли находились в конце короткого коридора, который не освещался, поскольку в нем не было никаких препятствий, и посетители скользили вдоль стены, пока не наталкивались на дверь. Морис натолкнулся на нее раньше, чем ожидал — страшный удар — и громко воскликнул: «О, проклятье!», а филенка еще продолжала дрожать.
— Войдите, — послышался голос.
Мориса ждало разочарование. Говоривший оказался студентом из его колледжа по имени Дарем. Рисли отсутствовал.
— Вы пришли к мистеру Рисли? А, привет, Холл!
— Привет! Где Рисли?
— Не знаю.
— Не беда. Я пойду.
— Ты возвращаешься в колледж? — спросил Дарем, не глядя на Мориса: он стоял на коленях, склонившись над грудой роликов для пианолы.
— Да, раз его нет. Я просто так зашел.
— Подожди секунду, я с тобой. Вот разбираю Патетическую симфонию.
Морис изучал взглядом комнату Рисли и пытался представить себе, как он произнес бы здесь свою речь, затем сел на стол и посмотрел на Дарема. Тот был невысокого росту — очень невысокого — и держался без претензий. Когда Морис вломился в комнату, обычно бледное лицо Дарема покрылось румянцем. В колледже он славился умом — и своей исключительностью. Почти единственное, что слышал о нем Морис, — это то, что «он слишком часто где-то пропадает», и это было подтверждено встречей в Тринити.
— Никак не найду марш, — пожаловался Дарем. — Извини.
— Ничего.
— Хочу одолжить ролики, чтобы проиграть на пианоле Фетерстонхоу.
— Я живу над ним.
— Значит, ты уже переехал в колледж, Холл?
— Да. Я уже на втором курсе.
— Ах, да, конечно. А я на третьем.
Дарем говорил безо всякой надменности, и Морис, позабыв про должное почтение к старшему, сказал:
— Но выглядишь скорее как новичок.
— Может быть, однако ощущаю себя магистром искусств.
Морис внимательно посмотрел на Дарема.
— Рисли удивительный малый, — продолжал Дарем.
Морис ничего не ответил.
— Хоть и зануда.
— Но это не мешает тебе брать у него вещи, — заметил Морис.
Дарем вскинул голову.
— А что — нельзя?
— Да шучу я, конечно, — сказал Морис и слез со стола. — Не нашел еще свой марш?
— Нет.
— Мне, знаешь, пора идти.
Морис никуда не торопился, но сердце, которое никак не переставало колотиться, подсказало ему эти слова.
— Ладно, ступай.
Морис на это вовсе не рассчитывал.
— Все-таки, что ты ищешь? — спросил он, приблизившись к Дарему.
— Марш из Патетической.
— Это мне ни о чем не говорит. Вот, значит, какой музыкальный стиль ты предпочитаешь?
— Да, а что?
— По мне так лучше хороший вальс.
— По мне тоже, — сказал Дарем и посмотрел Морису прямо в глаза. Как правило, Морис отводил взгляд, но на сей раз удержался. Дарем между тем продолжал: — Эта часть может быть вон в той стопке у окна. Надо проверить, это быстро.
Морис решительно произнес:
— Мне надо идти.
— Подожди, сейчас закончу.
Пришибленный и одинокий, Морис ушел. Звезды на небе заволокло, ночь обещала быть дождливой. Привратник отпирал калитку, когда Морис услыхал за спиной торопливые шаги.
— Нашел свой марш?
— Нет, решил лучше пойти с тобой.
Они двигались некоторое время молча, потом Морис сказал:
— Дай сюда часть роликов, я понесу.
— Не стоит, мне так спокойней.
— Давай, — грубовато приказал Морис и взял ролики из-под руки Дарема.
На сем беседа прекратилась. Достигнув в молчании своего колледжа, они прямиком пошли к Фетерстонхоу, поскольку до одиннадцати еще оставалось время, чтобы послушать музыку. Дарем сел за пианолу, Морис устроился рядом на полу.
— Не замечал за тобой раньше подобного эстетического рвения, — заметил хозяин.
— А его и нет, просто охота послушать, что там люди насочиняли.
Дарем поставил интродукцию, затем передумал и сказал, что лучше начать с 5/4.
— Почему? — спросил Морис.
— Потому что это напоминает вальс.
— Да полно тебе, играй что нравится, нечего терять время, ролики менять.
Однако на сей раз ему не удалось настоять на своем. Когда он придержал ролик рукой, Дарем предупредил:
— Пусти, порвешь, — и поставил пятидольный вальс. Морис внимательно слушал музыку. Ему, в общем, понравилось.
— Вот так и сиди, — сказал Фетерстонхоу, возясь у камина. — Тебе следует держаться подальше от аппарата.
— Наверно, ты прав… Проиграй это место еще разок, если Фетерстонхоу не против.
— Верно, давай, Дарем. Веселая вещица.
Дарем отказался наотрез. Морис понял, каким он может быть несговорчивым. Дарем сказал:
— Часть большого произведения — это не пьеса, ее не повторяют.
Довод невразумительный, но веский.
Он проиграл ларго, далеко не веселое, затем пробило одиннадцать, и Фетерстонхоу приготовил чай. Ему и Дарему предстояло сдавать один и тот же экзамен, и разговор перешел на профессиональные темы. Морис слушал молча. Волнение его так и не улеглось. Морис понимал, что Дарем не только умен, но еще и спокоен и рассудителен: он знал, что ему следует прочесть, где у него слабые места и чем могут помочь наставники. У него не было ни слепой веры в ассистентов и лекторов, которую питал Морис, ни неуважения, которое открыто проявлял Фетерстонхоу. «Всегда можно чему-нибудь научиться у старшего, даже если тот не читал новейших немецких философов».
Они поспорили немного о Софокле, причем Дарем, припертый к стенке, заявил, что это поза «у нас, у студентов» — игнорировать этого автора, и посоветовал Фетерстонхоу перечитать «Аякса», сосредоточась на персонажах, а не на драматурге; таким образом можно больше узнать как о греческой грамматике, так и о тогдашней жизни.
Морису все это пришлось не по сердцу. Он хотел увидеть, что Дарем тоже не находит себе места. Вот Фетерстонхоу — отличный парень, умный и сильный, у него решительные суждения, он великодушен. А Дарема ничем не пронять, он отметает ошибки и одобряет лишь то, что верно. Есть ли надежда для Мориса, который состоит из одних ошибок? Морис почувствовал неодолимое раздражение, вскочил, пожелал доброй ночи и, оказавшись за порогом, тут же пожалел о своей опрометчивости. Он решил подождать, но не на лестнице — это показалось ему нелепым — а где-нибудь между ней и жилищем Дарема. Выйдя на двор, он определил последнее, даже постучался в дверь, хотя и знал, что хозяина нет, потом заглянул внутрь и при свете камина изучил картины и обстановку, после чего занял позицию на некоем подобии мостика во дворе. К сожалению, то был не настоящий мост: он лишь соединял берега небольшой канавки, которую, верно, вырыли после, дабы оправдать замысел архитектора. Стоять на нем — все равно что позировать в студии фотографа, а перила оказались слишком низкими, чтобы на них можно было опереться. И тем не менее Морис, с трубкой во рту, смотрелся довольно естественно. Теперь он надеялся лишь на то, что не будет дождя.
Окна были темны, только у Фетерстонхоу горел свет. Пробило полночь, затем четверть первого. Должно быть, он уже целый час поджидает Дарема. Малое время спустя с лестницы донесся шум, и вот на улице появилась ладная фигурка в запахнутом по шею плаще и с книгами в руках. Это была минута, которой Морис так долго ждал, однако он вдруг сорвался с места и зашагал прочь. Дарем, не заметив его, подходил к своей двери. Еще немного — и удобный случай будет упущен.
— Доброй ночи! — выкрикнул Морис, пустив петуха, что напугало их обоих.
— Кто это? Доброй ночи, Холл. Прогуливаешься перед сном?
— Как обычно. Не хочешь еще чайку?
— Чайку? Пожалуй, нет, уже слишком поздно. — Дарем помолчал и довольно-таки прохладно добавил: — Впрочем, может, немного виски?
— А у тебя есть? — вырвалось у Мориса.
— Есть, заходи. Вот здесь я и обитаю, в нижнем этаже.
— Здесь?
Дарем включил свет. Огонь в камине почти погас. Дарем предложил Морису сесть и поставил стаканы.
— Скажи, когда хватит.
— Благодарю, достаточно, достаточно.
— С содовой, или так? — зевнув, спросил Дарем.
— С содовой, — ответил Морис.
Засиживаться, однако, было невозможно: человек устал и пригласил его только из вежливости. Морис допил и вернулся к себе в комнату, где запасся табаком, и снова вышел во двор.
Теперь тут было совершенно тихо и совершенно темно. Морис прогуливался туда-сюда по священной траве, не слыша себя. Сердце его пылало, а все остальное в нем постепенно уснуло, и первым уснул мозг, самый уязвимый его орган. А следом и тело, тогда ноги понесли его наверх, чтобы избежать рассвета. Но сердце его зажглось, чтобы никогда не угаснуть. Наконец хоть что-то в нем стало настоящим.
Наутро он чувствовал себя спокойней. Во-первых, он не заметил, что вымок ночью под дождем, и простудился; во-вторых, он проспал утреннюю молитву и две первые лекции. Было невозможно привести жизнь в порядок. После ленча он переоделся в футбольную форму и, поскольку времени оставалось достаточно, растянулся на диване — вздремнуть до чая. Но есть ему совсем не хотелось. Отклонив приглашения, он отправился в город и, натолкнувшись на турецкие бани, зашел туда. Баня исцелила простуду, зато он опоздал еще на одну лекцию. Возвратясь в колледж, он понял, что не может смотреть в лицо землякам-саннингтонцам, и, хотя никто его к тому не понуждал, уклонился от общего обеда и вместо этого в одиночестве пообедал в студенческом клубе. Там он встретил Рисли, но остался при этом совершенно равнодушен. Потом наступил вечер, и Морис, к своему удивлению, обнаружил в себе необыкновенную ясность мыслей. Шестичасовой урок ему удалось выполнить за три часа. В постель он лег в обычное время; утром встал здоровый и очень счастливый. Некий инстинкт, что находился глубоко в подсознании, подсказал ему оставить в покое Дарема и мысли о Дареме хотя бы на сутки.
Они стали иногда встречаться. Дарем приглашал Мориса на ленч и получал ответные приглашения, но не сразу. Сказывалась осторожность, в общем-то, не свойственная Морису. Раньше он осторожничал только по мелочам, но на этот раз — по крупному, вовсю. Он стал бдителен, и все его действия в том осеннем триместре могли быть описаны военными терминами. Он не отваживался на рискованные поступки. Он выслеживал у Дарема слабые места, равно как и его силу. А самое главное — он изучал и развивал собственные способности.
Если бы ему довелось спросить себя: «Что все это значит?», то он ответил бы себе: «Дарем — еще один из тех мальчиков, что интересовали меня со школы», да вот не довелось ему спросить себя ни о чем подобном: просто он двигался вперед, не задумываясь, стиснув зубы. Дни один за другим погружались в бездну вместе со своими противоречиями; он знал, что все идет как надо. Все прочее не имело значения. Если он делал успехи в учении и общении, то это было лишь побочным продуктом, которому он не посвящал своей заботы. Восходить, тянуться рукой к вершине, пока чья-то рука не подхватит его — вот цель, для которой он был рожден. Он забыл об истерии первой ночи и о своем странном выздоровлении. То были без сожаления оставленные позади ступени. Теперь он даже не помышлял о нежности и душевном волнении; думая о Дареме, он оставался холоден. Дарем не испытывает к нему неприязни, Морис был в этом уверен. А большего он не желал. Не все сразу. Надеяться он тоже себе не позволял, ибо надежда отвлекает, а ему надо было так много предусмотреть.
VII
В следующем триместре они как-то сразу сблизились.
— Холл, а я тебе чуть было не написал письмо на каникулах, — сказал Дарем с места в карьер.
— Что ж не написал?
— Ужасная тягомотина вышла. Знаешь, мне было очень худо.
Голос звучал не слишком серьезно, поэтому Морис спросил:
— А что стряслось? Не сумел переварить рождественский пудинг?
Вскоре выяснилось, что пудинг — фигура аллегорическая; на самом деле разразился крупный семейный скандал.
— Не знаю, что ты скажешь… Вот бы услышать твое мнение, если, конечно, это тебя не утомит.
— Ничуть, — сказал Морис.
— Мы повздорили на религиозной почве.
В этот момент вошел Чепмен.
— Извини, мы заняты, — сказал ему Морис.
Чепмен удалился.
— Зачем ты это сделал? — накинулся на Мориса Дарем. — Я мог бы и подождать со своей чепухой, — сказал он и продолжал более серьезно: — Холл, я не хочу забивать тебе голову своими верованиями, или, скорее, отсутствием оных, но, чтобы прояснить ситуацию, должен тебе сказать, что я не верую в Бога. Я не христианин.
Морис считал безбожие дурным тоном. В прошлом триместре на диспуте в колледже он заявил, что каждый обязан сделать одолжение и держать при себе свои сомнения, ежели таковые имеются. Сейчас он ограничился тем, что сказал Дарему: мол, это тема непростая и обширная.
— Знаю, да я не о том. Оставим это. — Дарем помолчал немного, глядя в камин. — Вопрос в том, как к этому относится моя мать. Я говорил с ней полгода назад, летом. Она не обратила внимания, просто глупо отшутилась, на это она мастер, и только-то. Все как-то улеглось. Я был ей благодарен, ведь это у меня на уме уже несколько лет. Я не верую с тех пор, как еще ребенком понял, что меня привлекает нечто другое, а когда я познакомился с Рисли и его друзьями — появилась необходимость высказаться. Ты же знаешь, какое внимание они уделяют этому — едва ли не главное. Ну, я и высказался. А она мне: «Вот доживешь до моих лет, тогда поумнеешь». Безобиднейшее замечание из всех мыслимых, ну, я и ушел обрадованный. А теперь опять все закрутилось.
— Из-за чего?
— Из-за чего, говоришь? Да всё из-за Рождества. Я не хотел идти на причастие. Полагается причащаться трижды в год…
— Знаю. Евхаристия.
— … и на Рождество круг замыкается. Я сказал, что не пойду. Мать ко мне подлизывалась и так и этак, что на нее непохоже, просила сделать это хоть раз, ради нее, а потом разозлилась, сказала, будто я наношу урон и ее, и своей репутации — ведь мы в нашем приходе не последние лица, а соседи — люди непросвещенные. Под конец стало совсем нестерпимо. Она заявила, что я грешник. Я был бы ей признателен, скажи она это полгода назад, но не теперь! Теперь давить на меня священными словами вроде добродетели и греха для того, чтобы заставить меня совершить то, во что я утратил веру! Я сообщил ей, что у меня свое собственное причастие, и если я пойду причащаться с ней и с сестрами, то мои боги убьют меня! Думаю, это я уж слишком хватил.
Морис, не вполне понимая, спросил:
— Так ты пошел все-таки?
— Куда?
— В церковь.
Дарем вскочил, как ужаленный. На его лице отобразилось возмущение. Потом он, кусая губу, принудил себя улыбнуться.
— Нет, в церковь я не пошел. Полагаю, это ясно.
— Сядь, прошу тебя. Извини, я не хотел тебя обидеть. Просто до меня медленно доходит.
Дарем присел на корточки на коврик рядом с креслом Мориса.
— Ты давно знаком с Чепменом? — спросил он, помолчав.
— Со школы, пять лет в общей сложности.
— Ого! — Дарем, казалось, задумался. — Дай-ка мне сигарету. Вставь в рот. Благодарю.
Морис думал, что разговор окончен, но, отмахнувшись от дыма, Дарем продолжал:
— Видишь ли… Ты говорил как-то, что живешь с матерью и двумя сестрами. У меня в точности такой же расклад, и во время скандала я не переставал спрашивать себя, как бы ты поступил в подобной ситуации?
— Твоя мать, должно быть, очень не похожа на мою.
— А твоя какая?
— Она не будет ни по какому поводу поднимать шум.
— Потому что ты ни разу не давал ей повода. Не делал ничего, что ей не понравилось бы, и никогда не сделаешь.
— О нет, она все равно не стала бы себя изводить.
— Нельзя сказать наперед, Холл, особенно когда имеешь дело с женщинами. Меня от своей мутит. Это и есть моя настоящая беда, в которой мне нужна твоя помощь.
— Она переменится, вот увидишь.
— Она-то да, но переменюсь ли я, друг мой? Я должен изображать сыновью любовь, но последний скандал не оставил камня на камне от притворства. Я перестал громоздить ложь. Я презираю ее характер, я испытываю к ней отвращение. То, что я говорю тебе, я не говорил никому на свете.
Морис сжал кулак и легонько ударил Дарема по затылку.
— Страдалец, — тихо проговорил он.
— Расскажи, как вы живете дома.
— Да нечего, вроде, рассказывать. Просто живем, и все.
— Счастливые.
— Ох, не знаю. Ты притворяешься, или каникулы действительно были ужасные?
— Сущий ад, ад и страдание.
Морис разжал кулак, чтобы захватить пригоршню волос.
— Ай, больно! — вскричал Дарем, подыгрывая Морису.
— А что твои сестры говорят о Святом Причастии?
— Одна замужем за священни… Больно же!
— Сущий ад, да?
— Холл, вот уж не думал, что ты такой дурак. — Дарем крепко держал Мориса за руку. — А другая помолвлена с Арчибальдом Лондоном, эсквайром… Ай! У-у! Пусти, я ухожу!
Он лежал на полу, у Мориса между ног.
— Так чего ж не уходишь?
— Потому что не могу.
То был первый раз, когда Морис осмелился повозиться с Даремом. Религия и родня отошли на второй план, пока он заворачивал его в рулон из каминного коврика и пытался надеть на голову ведро для бумаг. Услышав шум, к ним поднялся Фетерстонхоу и помог Морису.
После этого дня прошло еще немало дней, а они только и делали, что боролись, причем Дарем раз от разу становился таким же дурашливым, как сам Морис. Где бы они ни встречались, а встречались они повсюду, тут же принимались бодаться, боксировать и втягивать в свои забавы приятелей. Наконец Дарем утомился. Его, как более слабого, частенько бивали; в комнате у него переломали все стулья. Морис сразу почувствовал перемену. Жеребячество прошло, но за это время они стали открытыми в проявлении дружбы: гуляли, держась за руки или обнявшись за плечи. Если сидели, то всегда в одном положении: Морис в кресле, а Дарем у его ног, прислонясь к нему. Среди их приятелей это не вызывало никаких кривотолков. Морис, бывало, ерошил волосы Дарема.
Все больше нового попадало в сферу их общения. В тот великопостный триместр Морису предстояло сдать выпускной экзамен по теологии. С его стороны такой выбор не был полностью лицемерным. Он верил, что верует, и испытывал настоящую боль, когда подвергалось критике что-то привычное, — ту боль, что меж представителей среднего класса рядится под Веру. Но, бездеятельная, то была не Вера. Она не давала ему поддержки, не расширяла кругозор. Она даже не давала о себе знать, пока ее не ставили под вопрос, и тогда она ныла, словно ненужный нерв. У каждого в его семье был такой нерв, его рассматривали как нечто божественное, хотя и библия, и молитвенник, и таинства, и христианская мораль были для них мертвы. «Как они могут?» — восклицали в тех случаях, когда кто-то посягал на святыню, и записывались в Общества Защиты Веры. Ко времени своей смерти отец Мориса стал уже столпом Церкви и Общества, и Морису, при сходных обстоятельствах, предстояло так же очерстветь.
Однако сходным обстоятельствам не суждено было сложиться. У него возникло неодолимое желание произвести впечатление на Дарема. Он хотел показать своему другу, что тоже имеет нечто помимо грубой силы, и там, где его отец хранил бы благоразумное молчание, он принимался болтать, болтать, болтать. «Ты думаешь, я не размышляю, так вот нет — размышляю!» Очень часто Дарем ничего не произносил в ответ, и тогда Морис приходил в ужас от мысли потерять друга. Он слышал, как про Дарема поговаривали, что тот мягко стелет, покуда его развлекают, а потом он друзей бросает, и боялся, как бы обнажением своей правоверности не накликать того, чего он так старался избежать. Но он не мог удержаться. Стремление казаться значительным становилось неодолимым, поэтому он болтал, болтал, болтал.
Однажды Дарем сказал:
— Холл, откуда в тебе эта безапелляционность?
— Религия для меня значит очень многое, — соврал Морис. — И если я мало говорю, то это не означает, что я не чувствую. Я очень много размышляю.
— В таком случае, пойдем ко мне после обеда пить кофе.
Они уже входили в общую столовую. Дарему, как стипендиату, пришлось читать молитву, и в том, как он произносил ее слова, чувствовался цинизм. За обедом они посматривали друг на друга. Сидели они за разными столами, но Морис ухитрился передвинуть стул так, чтобы можно было видеть приятеля. Стадия стрельбы хлебным мякишем уже миновала. В тот вечер Дарем казался суровым, он даже не разговаривал с соседями. Морис знал, что он задумался, но понятия не имел, о чем.
— Напрашивался, так получай же! — крикнул Дарем, едва они вошли к нему в комнату, и тут же запер дверь.
Морис сперва похолодел, но потом залился густым румянцем.
Голос Дарема, когда он вновь услыхал его, поносил его воззрения на Троицу. Морис думал, что Троица для него — это нечто, однако теперь понимал, что в сравнении с пылающим в нем ужасом она — ничто. Он весь обмяк в кресле, совершенно обессилев, и пот выступил на лбу и ладонях. Дарем доводил кофе до готовности и приговаривал:
— Знаю, что тебе это не понравится, но ты сам на это набивался. Не думал же ты, что я стану без конца все держать в себе? Когда-то мне надо было выпустить пар.
— Продолжай, — сказал Морис, прочистив горло.
— Не хотел тебе этого говорить, поскольку слишком уважаю чужие воззрения, чтобы насмехаться над ними, но мне представляется, что у тебя вовсе нет воззрений, которые можно было бы уважать. Все фразы из вторых, нет, из десятых рук.
Морис, который начал приходить в себя, заметил, что это слишком сильно сказано.
— Вот ты вечно повторяешь: я много размышляю…
— А какое ты имеешь право сомневаться в этом?
— Ты и правда много размышляешь, Холл, но, очевидно, не о Троице.
— О чем же тогда?
— О регби.
У Мориса все поплыло перед глазами. Руки его затряслись, и он расплескал кофе на подлокотник.
— Ты не совсем справедлив, — услышал он собственный голос. — Мог хотя бы из милосердия предположить, что я думаю о людях.
Дарем посмотрел с удивлением, но произнес:
— Во всяком случае, о Троице ты совсем не думаешь.
— Да пропади она…
— Вот-вот, — взорвался Дарем радостным смехом, — теперь можно перейти к следующему вопросу.
— Не вижу прока, да и голова ни к черту… Болит, я хочу сказать. Ничего ты этим не добьешься. Конечно, я не могу доказать… ну, что Три Бога в Одном и Один в Трех. Но это очень много значит для миллионов людей, что бы ты ни говорил, и мы не собираемся от этого отступаться. Мы очень глубоко это чувствуем. Бог есть добро. Это самое главное. Зачем же сбиваться с торной дороги?
— Зачем так уж глубоко чувствовать этот сбой?
— Что?
Дарем придал своей реплике более аккуратную форму.
— Ну, потому что все в этом мире взаимосвязано, — ответил Морис.
— Значит, если с Троицей вышло бы неладное, то и весь мир разладился бы?
— Я так не считаю. Вовсе нет.
Он поступал дурно, но действительно очень болела голова. Он утер пот и ощутил прилив новых сил.
— Конечно, где уж мне объяснить все как следует, раз я не думаю ни о чем, кроме регби.
Дарем подошел и игриво присел на край его кресла.
— Гляди — в кофе вляпался!
— Проклятье, и то!
Пока Дарем чистился, Морис отпер дверь и вышел во двор. Казалось, годы минули с той ночи, когда он стоял на этом самом месте. Ему не хотелось оставаться вдвоем с Даремом, поэтому он позвал общих знакомых. Последовало то, что называется беседой за чашкой кофе, и когда приятели начали расходиться, Морису уже не хотелось уходить вместе с ними. Он вновь завел про свою Троицу.
— Это таинство, — убеждал он.
— Для меня — нет, но я уважаю тех, для кого это и правда таинство.
Морису стало неловко. Он посмотрел на свои крепкие, загорелые руки. И правда, была ли для него Троица таинством? Разве что на конфирмации посвятил он ей пять минут своих размышлений. Присутствие приятелей сделало голову ясной, и, теперь без лишних эмоций, он оценил свой ум. Оказалось, ум похож на руки: такой же услужливый, без сомнения здоровый и способный к развитию. Но не было в нем утонченности, никогда он не касался таинств и много чего еще. Он был крепкий и загорелый.
— Моя позиция такова, — заявил он после паузы. — Я не верую в Троицу, здесь я сдаюсь, но, с другой стороны, я ошибался, когда сказал, что все взаимосвязано, поэтому, если я не верую в Троицу, это еще не означает, что я не христианин.
— Во что же ты веришь? — спросил невозмутимый Дарем.
— В… фундаментальные понятия.
— Например?
— В искупление, — негромко проговорил Морис. Раньше он не произносил это слово вне церковных стен и поэтому дрожал от волнения. Но в искупление он верил не больше, чем в Троицу, и он знал, что от Дарема этого не скрыть. Искупительная жертва Христа — это был туз в своей масти, да вот масть оказалась некозырной, поэтому Дарем мог побить его какой-нибудь несчастной двойкой.
Однако все, что на сей раз сказал Дарем, было только:
— Данте — вот он верил в Троицу, — и он подошел к полке и отыскал заключительный отрывок из «Рая». Он прочитал Морису о трех радужных кругах, что перекрывались, и в месте их соединения различались очертания человеческого лица. Поэзия утомила Мориса, но под конец он вскричал:
— Чье же это было лицо?!
— Бога, разве не ясно?
— А правда считают, что эта поэма — сон?
Холл был туповат, и Дарем не попытался его понять, ведь не знал он, что Морис вспоминает о своем собственном сне, который снился ему в школе, и о том голосе, что возвестил: «Это твой друг».
— Данте скорее назвал бы ее пробуждением, а не сном.
— Значит, ты считаешь эту чепуху правильной?
— Вера всегда правильная, — ответил Дарем, водружая книгу на место. — Она совершенно правильна и безошибочна. Каждый верит во что-то и за эту веру он готов умереть. Но только разве не странно, что вере учат родители и наставники? Если у тебя есть вера, разве не становится она частью твоей плоти и духа? Вот ты мне это и докажи. И не носись с затертыми словами вроде искупления и Троицы.
— Я же отступился от Троицы.
— Ну, тогда искупления.
— Ты безжалостен, Дарем, — сказал Морис — Я всегда знал, что я глуп, это для меня не новость. Тебе больше подходит компания Рисли, поговори лучше с ними.
Дарем казался смущенным. Наконец-то он не нашелся, что ответить, и без возражений позволил Морису удалиться.
На следующий день они встретились как ни в чем не бывало. Накануне произошла не размолвка, просто они скатились под уклон, а, поднявшись, зашагали еще быстрей. Снова они обсуждали вопросы теологии. Морис защищал доктрину искупительной жертвы и опять проиграл. Он понял, что ничего не смыслит ни в существовании Христа, ни в Его добродетели, и будет огорчен, если узнает, что такая личность правда существовала. Его неприятие христианства росло и углублялось. Через десять дней он перестал исповедоваться, через три недели перестал ходить на те богослужения, на которые было возможно покуситься. Дарем был озадачен такой стремительностью. Они оба были озадачены, но у Мориса, хоть он и проиграл, сдав все позиции, возникло странное чувство, что на самом деле он побеждает, продолжая компанию, начатую еще в прошлом триместре.
Ибо теперь Дарему не было с ним скучно. Дарем не мог без него и дня прожить, сутками напролет торчал у него в комнате и все лез спорить. Это было так не похоже на него, человека скрытного и не великого диалектика. Он атаковал взгляды Мориса как «совершенно беспочвенные, Холл. Здесь все веруют как респектабельные люди». Было ли это всей правдой? Не стояло ли что-то еще за его новой манерой и неистовым иконоборчеством? Морис полагал, что стояло. Внешне отступив, он полагал свою веру удачно пожертвованной пешкой: ибо, съев ее, Дарем открыл свое сердце.
К концу триместра они коснулись еще более деликатной темы. Оба посещали класс перевода, который вел декан. И вот однажды, когда кто-то бойко продвигался по тексту, мистер Корнуоллис монотонно и вяло проговорил: «Далее опустим: тут упомянут отвратительный порок древних греков». Дарем заметил после, что за подобное ханжество декана следовало бы лишить ученой степени.
Морис засмеялся.
— Я рассматриваю это с точки зрения чистой науки. Греки, по крайней мере большинство из них, были склонны к этому, и опустить это — все равно что пропустить краеугольный камень афинского общества.
— Так ли это? — спросил Морис.
— А ты что, не читал «Пир»?
Морис не читал. Он не сказал даже, что проштудировал Марциала.
— Там есть всё, пища не для детей, конечно, но ты должен непременно прочесть. Прочти на ближайших каникулах.
В тот день больше ничего не было сказано, однако он стал свободен еще в одном, причем в таком, о чем он не смел заикнуться ни одной живой душе. Он думал, что об этом нельзя заикаться, и когда Дарем опроверг это на залитом солнцем дворе, Морис ощутил дыхание свободы.
VIII
По приезде домой он рассказывал о Дареме до тех пор, покамест фактом, что у него появился друг, не прониклась вся его семья. Ада поинтересовалась, не брат ли он некоей мисс Дарем — впрочем, у нее, вроде, нет братьев — а миссис Холл перепутала его с преподавателем по имени Камберленд.2 Мориса это весьма уязвило. Одно сильное чувство породило другое: возникло устойчивое раздражение к родным ему женщинам. До сего времени его отношения с ними были обыденными, но ровными. Теперь же казалось чудовищно несправедливым, что кто-то может неверно произносить имя человека, который стал для него важнее всех. Дом все выхолостил.
То же и с его атеизмом. Вопреки ожиданиям, никто не принял это близко к сердцу. С юношеской необдуманностью он отвел мать в сторонку и заявил, что будет всегда уважать религиозные предрассудки ее и сестер, однако совесть более не позволяет ему посещать церковь. Мать сказала, что ей очень неприятно это слышать.
— Я знал, что ты расстроишься, но, дорогая мама, я не могу иначе. Я такой, каков есть, и нет смысла препираться.
— Твой бедный папа всегда посещал церковь.
— Но я не папа!
— Морри, Морри, что ты говоришь!
— Конечно, он не папа, — вставила со свойственной ей нагловатостью Китти. — Правда же, мама?
— Китти, полно, дорогая! — воскликнула миссис Холл, понимая, что сын заслужил неодобрение, но не желая выражать это в открытую. — Речь совсем о другом. Кроме того, ты совершенно не права, поскольку наш Морис — вылитый отец. Так сказал доктор Бэрри.
— Кстати, доктор Бэрри сам в церковь не ходит, — заметил Морис, впадая в семейную привычку цепляться за второстепенное.
— Он очень разумный мужчина, — поставила точку миссис Холл. — И миссис Бэрри тоже.
Промах матери вызвал у Ады и Китти приступ веселья. Они долго смеялись над тем, что миссис Бэрри была отнесена к мужскому полу, и забыли про атеизм Мориса. Он не причащался в Светлое Воскресенье и полагал, что вслед за этим произойдет ссора, как это случилось с Даремом. Однако никто ничего не заметил, ибо в предместьях больше не осталось ревнителей христианства. Это возмутило Мориса и заставило его взглянуть на общество новыми глазами. Неужто оно, притворяясь столь высоконравственным и чувствительным, на самом деле смотрит на все сквозь пальцы?
Он часто писал Дарему длинные письма, стараясь выразить в них все оттенки своего чувства. Дарем мало что понимал в этих посланиях, в чем и признался. Ответы его были не менее длинны. Морис всегда держал их в кармане, перекладывая из костюма в костюм, и даже ложился с ними спать. Ночью он порой просыпался, нащупывал письма и, наблюдая за отсветами уличного фонаря, вспоминал, как, бывало, пугался их, когда был маленьким мальчиком.
Эпизод с Глэдис Олкот.
Мисс Олкот была у них нередким гостем. Когда-то на водах она завела приятное знакомство с миссис Холл и Адой и, получив приглашение, стала бывать у них в доме. Глэдис была прелестна — во всяком случае, так говорили женщины, но и гости-мужчины поздравляли молодого Холла с необычайным везением. Морис посмеивался, те смеялись в ответ, однако он, поначалу проигнорировав Глэдис, вскоре принялся оказывать ей знаки внимания.
Теперь Морис стал привлекательным молодым человеком, хотя он об этом не задумывался. Тренировки сгладили неуклюжесть. Он был плотен, но подвижен, и лицо его, казалось, следовало примеру, подаваемому телом. Миссис Холл приписывала это усикам: «У Мориса усы — это последний штрих», — замечание более глубокое, нежели она подозревала. Узкая темная полоска и правда сообщала лицу завершенность и оттеняла зубы, когда он улыбался. Одежда тоже ему шла: по совету Дарема он даже по воскресеньям носил фланелевые брюки.
Свою улыбку он адресовал мисс Олкот — ему казалось, что так надо. Она отвечала. Он ставил ей на службу свои мускулы, катал ее на новом мотоцикле с коляской. Он расстилался у ее ног. Узнав, что она курит, он уговорил ее задержаться с ним в столовой с глазу на глаз. Синий дым дрожал и расползался, образуя зыбкие стены — и мысли Мориса витали вместе с ним — чтобы исчезнуть, как только в открытое окно проник свежий воздух. Он заметил, что она осталась довольна, а семья, гости и слуги были заинтригованы. Тогда он решился пойти дальше.
Но что-то сразу нарушилось. Морис сделал комплимент: он сказал, что у нее волосы и проч. просто потрясные. Она старалась остановить его, но он оставался глух и не понял, что докучает ей. Он вычитал где-то, что девушки всегда нарочно останавливают мужчин, делающих им комплименты. Он ее преследовал. Когда она в последний день визита уклонилась от мотоциклетной прогулки, Морис решил разыграть из себя этакого властного мужчину. Она — его гостья, отказываться нехорошо, и, увлекши ее в местечко, казавшееся ему романтическим, он стиснул ее маленькую ладонь в своих ладонях.
Не то чтобы мисс Олкот возражала, когда ей пожимают ладонь. Другие делали это, и Морис мог бы, если бы знал, как. А Глэдис поняла: тут что-то не то. Его прикосновение показалось ей отталкивающим. Это было прикосновение трупа. Вскочив, она закричала:
— Мистер Холл! Не ставьте себя в дурацкое положение. Я настаиваю, и говорю это не для того, чтобы вы вели себя еще глупее!
— Мисс Олкот… Глэдис… Да я скорее умру, чем вас обижу, — бубнил юноша, не выпуская руки.
— Придется возвращаться поездом, — решила она, чуть не плача. — Прошу меня извинить, так будет лучше.
Дома она появилась раньше Мориса с трогательной историей о головной боли и попавшей в глаз соринке, однако в семье сразу догадались: что-то стряслось.
За исключением этого эпизода каникулы прошли замечательно. Морис почитывал, больше следуя советам друга, нежели советам наставников. Раза два он подтвердил то, что уже стал взрослым. По его наущению мать прогнала Хауэллов, которые давно запустили сад и выезд, и вместо экипажа завела автомобиль. Покупка на всех, в том числе и на Хауэллов, произвела сильное впечатление. Еще он нанес деловой визит старому компаньону отца. Морис унаследовал некоторые способности к бизнесу и некоторую сумму денег, посему было условлено, что по окончании Кембриджа он войдет в фирму в качестве клерка: Хилл и Холл, брокерская контора. Морис занимал нишу, которую приготовила для него Англия.
IX
В прошлом триместре он достиг небывалой высоты мысли, но каникулы отбросили его на уровень школьника. Он стал менее подвижен и вновь вел себя так, как, по его разумению, полагалось себя вести — рискованное предприятие для тех, кто не наделен воображением. Его разум часто застилали облака, не затемняя полностью, и хотя мисс Олкот осталась в прошлом, та неискренность, что повлекла к ней, время от времени давала о себе знать. И главной тому причиной была его семья. Пока еще ему приходилось признавать, что они сильнее его и что их влияния на него неисчислимы. Три недели, проведенные в их обществе, лишили его цельности, раздробили его, словно он одержал много отдельных побед, но в итоге потерпел поражение. Опять он стал думать и даже говорить, как мать или Ада.
Пока не приехал Дарем, он не замечал в себе такого упадка. Дарем был нездоров и поэтому опоздал к началу занятий на несколько дней. Когда его лицо, бледнее обычного, появилось в дверях, Морис испытал приступ безысходности. Он старался вспомнить, на чем они остановились в том триместре, и вновь взять в руки нити давно начатой компании. Он казался себе слабаком, деятельность его пугала. На поверхность всплыло худшее, что в нем было, и заставило пожертвовать радостью во имя удобства.
— Привет, старик, — с трудом выговорил он.
Дарем вошел в комнату, не ответив на приветствие.
— Что случилось?
— Ничего, — был ответ, и Морис понял, что потерял с ним контакт. До каникул он догадался бы, что означает молчаливый приход Дарема.
— Садись, чего стоишь?
Дарем сел на пол поодаль от Мориса. Вечерело. Звуки майского триместра, запахи Кембриджа в цвету вплывали через окно в комнату и говорили Морису: «Ты нас недостоин». Он знал, что он на три четверти мертв, что он — чужак, мужлан в Афинах. Здесь ему делать нечего, даже с таким другом.
— Знаешь, Дарем…
Дарем придвинулся ближе. Морис протянул руку и почувствовал, как голова прильнула к ладони. Он позабыл, что хотел сказать. Те же звуки и запахи шептали: «Ты — это мы, мы — это юность». Он несмело погладил волосы Дарема и, перебирая их пальцами, погрузился в них, словно хотел приласкать самый мозг.
— Дарем, как ты?
— А ты?
— Плохо.
— А писал, что хорошо.
— Мне было плохо.
Сказанная правда заставила его затрепетать. «Каникулы пропали, а я и не понял», — подумал он и удивился, как много времени ему потребовалось, чтобы это понять. Он боялся, что туман спустится вновь, и, горестно вздохнув, он положил голову Дарема на колени как талисман, обещавший безоблачную жизнь. Голова лежала у него на коленях, а он с новой нежностью гладил и гладил ее от виска к подбородку. Потом, убрав обе руки и прижав их к бокам, он сидел и вздыхал.
— Холл.
Морис посмотрел на Дарема.
— Что-то случилось?
Морис погладил Дарема и снова отдернул руку. То, что у него нет друга, казалось ему столь же несомненным, как и то, что друг у него есть.
— Что-нибудь с той девушкой?
— Нет.
— Ты писал, что она тебе нравится.
— Нет, теперь — нет.
Глубокие вздохи вырывались из груди. Они клокотали у него в горле, обращаясь в стон. Морис запрокинул голову и забыл о тяжести Дарема на его коленях, забыл о том, что Дарем видит его вязкую муку. Он смотрел в потолок, у глаз и губ собрались морщинки, и не думалось ему ни о чем, кроме того, что человек этот создан, чтобы нести ему страдания и одиночество, когда нельзя ждать даже помощи сил небесных.
Теперь Дарем потянулся к нему и погладил его волосы. Они обнялись и вот уже лежали грудь к груди, голова на плече другого, но как только они соприкоснулись щеками, кто-то позвал со двора Холла, и тот ответил: он всегда отвечал на зов. Оба страшно перепугались, Дарем отскочил к камину и застыл, оперевшись рукой о каминную полку. Какие-то непонятные люди топотали на лестнице. Они хотели чаю. Морис пригласил их пройти, увлекся и не заметил за разговором, как его друг ушел. Что особенного случилось? Обычная беседа, внушал себе Морис, только чересчур сентиментальная. Он готовился непринужденно вести себя при следующей встрече.
А ее не пришлось долго ждать. После ужина он и еще шестеро направлялись в театр, когда его окликнул Дарем.
— Я понял: ты на каникулах прочел «Пир», — сказал он вполголоса.
Морису стало не по себе.
— И ты догадался, — продолжал Дарем, — без моих слов…
— О чем?
Дарем не мог больше ждать. Вокруг стояли люди. Глаза у Дарема стали необычайной голубизны, когда он прошептал:
— Что я люблю тебя.
Морис пришел в ужас, он был возмущен и потрясен до самых глубин своей провинциальной души. Он воскликнул:
— Какой вздор!
Нужные слова не приходили на ум. Морис не знал, как ему себя вести.
— Ты англичанин, Дарем. И я англичанин. Перестань нести чушь. Я не обижаюсь лишь потому, что знаю: ты совсем другое имел в виду, ведь это переходит все границы, и ты сам это понимаешь. Это — тягчайший из грехов, ты не должен никогда говорить об этом. Дарем! Право, какая мерзость…
Но друг его уже ушел — ушел, не сказав ни слова, он летел через двор к себе, и звук захлопнувшейся за ним двери раздался сквозь весенний шум.
X
Медлительные создания вроде Мориса зачастую кажутся бесчувственными, ибо им нужно время, чтобы прочувствовать. Их инстинкт — полагать, будто не случилось ни хорошего, ни дурного. Они противятся всякому вторжению. Но, однажды увлекшись, они чувствуют обостренно, а их переживания в любви особенно глубоки. Дайте им время, и они узнают экстаз; дайте им время — и они сойдут в самое сердце ада. Случилось так, что его мука началась как легкое сожаление; бессонным ночам и одиноким дням суждено было усилить ее до безумия, которое поглотило Мориса. Оно грызло его изнутри, пока не добралось до того корня, из которого растут тело и душа, до того «Я», которое его приучили подавлять и которое, наконец осознав себя, удвоило свои силы и стало сверхчеловеческим. Ведь даже безумие может стать радостью. В нем вырвались из-под спуда новые миры, и посреди запустения и руин он увидал, какого экстаза был лишен, какого причастия.
Они не разговаривали два дня. Дарем, верно, выдержал бы и дольше, но теперь у них было много общих знакомых, поэтому они были обречены на встречу. Осознав это, Дарем послал Морису сухую записку с просьбой вести себя так, словно ничего не случилось, — ради удобства дальнейшей жизни. Записка заканчивалась так: «Буду очень обязан, если ты не станешь упоминать о моей преступной порочности в разговорах с друзьями. Уверен, что ты так и поступишь, судя по тому благоразумию, с каким ты воспринял известную тебе новость».
Морис не ответил. Сначала он положил записку вместе с письмами, полученными на каникулах, а потом сжег и записку, и письма.
Он думал, что мука уже позади. Но он не знал еще, что такое настоящее страдание, равно как не знал еще ничего настоящего. Все-таки им пришлось встретиться. На третий день их угораздило попасть в одну четверку на теннисном корте. Мука стала невыносимой. Он едва держался на ногах, ничего не видя перед собой. Отбивая подачу Дарема, он принял мяч на предплечье. Затем они играли в одной паре; столкнувшись с Морисом, Дарем поморщился, но умудрился улыбнуться совсем как прежде.
Более того, он возвращался в колледж в коляске морисова мотоцикла. Влез он туда без возражений. Морис, не спавший двое суток, чувствовавший головокружение, повернул мотоцикл в узкий проулок и помчал на всех парах. Впереди показалась повозка, полная женщин. Он ехал прямо на них, и только когда те завизжали, нажал на тормоза, тем самым предотвратив беду. Дарем на это ничего не сказал. Как было обещано в записке, он говорил с Морисом лишь в присутствии посторонних. В остальном их общение прекратилось.
В тот вечер Морис лег спать как обычно. Но едва он положил голову на подушку, как слезы потекли рекой. Морис ужаснулся. Мужчина, и плачет! Фетерстонхоу может услышать. Он сдавленно рыдал под одеялом, потом вскочил, стучался головой о стену, вдребезги разбил фаянсовый кувшин. Кто-то и правда поднимался по лестнице. Морис мигом успокоился и не начинал рыдать, даже когда замерли шаги. Он зажег свечу и с удивлением посмотрел на порванную пижаму и дрожащие руки. Он продолжал плакать, потому что не мог остановиться, но минута отчаяния была уже позади. Тогда он поправил постель и лег. Когда он открыл глаза, в комнате прибирал слуга. Морису показалось странным, что тот сюда явился. Не заподозрил ли он чего, подумал Морис, и опять заснул. Проснувшись во второй раз, он обнаружил на полу три письма: одно от мистера Грейса, его деда, — в нем говорилось о предстоящем торжестве по поводу совершеннолетия Мориса; другое — от супруги одного из преподавателей, которая приглашала его на ленч («Мистер Дарем придет тоже, так что вам нечего стесняться»); еще одно — от Ады с упоминанием о Глэдис Олкот. И опять он заснул.
Не у всякого, но у Мориса истерика оказалась той грозой, которая разгоняет тучи. Буря бушевала в нем не три дня, как он считал, а шесть лет. Она назревала в потемках бытия, куда не проникают взоры, и то, что окружало его, лишь сгущало хмарь. И вот прорвалось, а он не умер. Вокруг него сиянье дня, а он стоит над грядой вершин — тех, что затемняли юность — стоит и смотрит.
Почти весь день он не смыкал глаз, словно глядя в покинутую им Долину. Теперь она казалась такой плоской. Он лгал. «Кормился обманом», — вот как он выразился бы, да ведь обман — это естественная пища ребенка, поэтому он и ел так жадно. Первым его решением было стать в будущем более разборчивым. Он станет жить обычной жизнью, но не потому что это для кого-то имеет значение, а ради своей затеи. Отныне он не будет обманывать себя. Он не будет — а это испытание — делать вид, что интересуется женщинами, тогда как единственный пол, к которому его тянет, — его собственный пол. Он любит мужчин и всегда любил только их. Он стремился раскрыть им объятия и смешать свое существо с их существом. Но только тот, кто ответил ему взаимностью, теперь для него потерян, и это надо признать.
После такого перелома Морис стал человеком. До этого — если людей можно так оценивать — он не был достоин чьей бы то ни было привязанности, кроме традиционной, мелкой, предательской, потому что и к себе он относился так же. Теперь он обрел высший дар, чтобы им делиться. Идеализм и брутальность, которые пронизывали всё его детство, наконец-то соединились, сплелись в любовь. Может, такая любовь никому не нужна, но он мог ее не стыдиться, поскольку она и была «он»: ни тело или душа, ни тело и душа, но «он» — растворенный и в том, и в другом. Морис по-прежнему страдал, даже ощущение триумфа куда-то ушло. Боль указала ему нишу позади суждений общества. Он мог туда удалиться.
Много чего еще оставалось изучить, а ведь прошли годы, прежде чем он исследовал лишь некоторые бездны своего бытия. Какими ужасными они оказались. Но он нашел метод и больше не думал о каракулях на песке. Он пробудился слишком поздно для того, чтобы испытать счастье, но не поздно для того, чтобы ощутить силу. Он мог чувствовать суровую радость бездомного, но хорошо вооруженного воина.
Триместр близился к концу, и Морис решил поговорить с Даремом. Он высоко ценил слова, так поздно их открыв. Почему он должен страдать и заставлять страдать других, когда слова способны все расставить по своим местам? Он уже слышал, как говорит Дарему: «Я люблю тебя так же, как ты меня», а тот отвечает: «Правда? Тогда я тебя прощаю». Такой разговор казался возможным пылкой юности, хотя почему-то он не мыслил его как путь к радости. Он предпринял ряд попыток, но, то ли из-за своей робости, то ли из-за робости Дарема, они оказались неудачными. Когда он приходил к нему, дверь бывала заперта или в комнате находился кто-то еще; стоило ему войти, как Дарем старался удалиться вместе с другими гостями. Морис звал его на ленч — тот ни разу не пришел; он соблазнял его теннисом — тот под любым предлогом отказывался. Даже если они встречались во дворе, и то Дарем притворялся, будто что-то забыл, и убегал прочь. Морис удивлялся, что их знакомые не замечают перемену в Дареме, но лишь немногие студенты наблюдательны, ведь им впору разобраться с собственной персоной. А вот один из преподавателей заметил, что Дарем перестал «женихаться с этим субъектом Холлом».
Возможность представилась в диспут-клубе, членами которого они оба являлись. Дарем — а у него на носу были итоговые экзамены — заявил о своем выходе из клуба, но прежде, желая отдать долг гостеприимства, предложил собраться у него. В этом был весь Дарем; он не выносил чувствовать себя кому-нибудь обязанным. Морис туда отправился и высидел скучнейший вечер. Когда все, в том числе хозяин, вышли на свежий воздух, он остался внутри, вспоминая свой первый визит в эту комнату и задаваясь вопросом: неужели прошлое не вернуть?
Вошел Дарем. Совершенно не замечая Мориса, он начал приготовления к ночи.
— Ты зверски жесток, — выпалил Морис. — Ты не знаешь, что такое смятение ума, и поэтому очень жесток.
Дарем помотал головой, словно отказывался верить ушам. Он так плохо выглядел, что у Мориса возникло неистовое желание сграбастать его и не выпускать.
— Ты мог бы дать мне шанс, вместо того, чтобы бегать от меня… Я хочу только кое-что обсудить.
— Мы и так весь вечер обсуждали.
— Я имею в виду «Пир», как древние греки.
— Ах, Холл, не юродствуй… Тебе ли не знать, до чего тяжело мне оставаться с тобой наедине! Пожалуйста, не начинай опять. Все кончено. Кончено. — Он прошел в другую комнату и начал раздеваться. — Прости мою неучтивость, но я просто не могу — за эти три недели нервы у меня стали никуда.
— У меня тоже! — воскликнул Морис.
— Бедняжка!
— Дарем, для меня наступил сущий ад.
— Ты выкарабкаешься. Это ад омерзения. Ты ведь не совершил ничего постыдного, значит, ты не можешь знать, что такое настоящий ад.
Морис издал страдальческий стон — такой неподдельный, что Дарем, собравшийся было закрыть между ними дверь, сказал:
— Отлично. Если хочешь, обсудим. Только что именно? Ты словно собрался просить прощения. С чего это вдруг? Ты ведешь себя так, будто это я на тебя сержусь. Ты-то что дурного сделал? Ты был исключительно порядочен от начала и до конца.
Морис протестовал, но напрасно.
— Настолько порядочен, что я обыкновенное дружелюбие принял за бог весть что. Ты был так добр ко мне — особенно в тот день, когда я вернулся из дому — вот я и подумал, что это нечто иное. Никакие слова не способны передать моего раскаяния. Я не имел права выходить за рамки моих книг и музыки, а именно это я и сделал, когда повстречал тебя. Видимо, мои извинения нужны тебе не больше, чем все остальное, что я могу предложить, но, Холл, я делаю это от чистого сердца. Меня не перестает мучить то, что я тебя оскорбил.
Голос его звучал тихо, но отчетливо, а лицо было неумолимо, словно меч. Морис проговорил какие-то напрасные слова про любовь.
— Я думаю, хватит. Побыстрей женись и забудь.
— Дарем, я люблю тебя.
Тот горько засмеялся.
— Я всегда…
— Спокойной ночи, спокойной ночи.
— Говорю тебе, я люблю… Я пришел сказать тебе это… так же, как и ты мне сказал… что я всегда был, как древние греки, и не знал об этом.
— Выражайся яснее.
Слова немедленно его покинули. Он умел изъясняться только тогда, когда этого не требовали.
— Холл, ты смешон, — сказал Дарем и поднял руку, останавливая Мориса, который хотел его перебить. — Я понимаю: очень порядочный молодой человек пришел меня утешить, но существуют же границы! Есть такое, что даже я не в состоянии вынести.
— Я не смешон…
— Извини, сорвалось с языка. Правда, оставь меня. Спасибо, что я попал в твои руки. Другой донес бы на меня декану или заявил в полицию.
— Иди ты к черту, там тебе самое место! — выкрикнул Морис, ринулся во двор и услышал за спиной звук хлопнувшей двери. В бешенстве он стоял на мостике, и ночь — сырая, с едва просвечивающими звездами — напоминала ту, первую. Он не учитывал того, что некто три недели испытывал мучения, не похожие на его собственные, и того, что яд, выделяемый одним, иначе действует на другого. Он негодовал, что нашел друга не таким, каким его оставил. Пробило полночь, час, два, а он продолжал думать, что сказать, когда говорить было нечего и возможности беседы были исчерпаны.
И вот, взбешенный, дерзкий, вымокший под дождем, он увидел с первым проблеском рассвета окно Дарема. Сердце ожило и запрыгало, и затрясло его. Оно кричало: «Ты любишь и любим». Морис обвел взглядом двор. Сердце кричало: «Ты силен, а он слаб и одинок». И сердце овладело его волей. Страшась того, что ему предстоит совершить, Морис ухватился за столбик, разделявший оконные проемы, и впрыгнул.
— Морис…
Приземлившись, он услышал свое имя, названное во сне. Ожесточение ушло из его сердца, и свободное место заняла чистота, о которой он никогда не помышлял. Его друг позвал его. Минуту он стоял потрясенный, а затем новое чувство нашло для него слова, и, осторожно положив руку на подушку, он ответил:
— Клайв!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
XII
Клайва, когда тот был мальчиком, мало что могло поставить в тупик. Вместо этого его искренняя душа, остро чувствовавшая, что хорошо, а что плохо, принудила его поверить, что на нем лежит проклятье. Глубоко религиозный, имевший страстное желание дойти до Бога и угодить Ему, он в раннем возрасте обнаружил в себе иное желание — происхождения, очевидно, содомского. Он ничуть не сомневался, куда оно нацелено: его эмоции, не столь расплывчатые, как у Мориса, не делились на брутальное и идеальное, и он не возводил годами мост над пучиной. Им владело побуждение, принесшее некогда гибель Содому и Гоморре. Оно не обязательно должно было становиться плотским, но почему из всех христиан именно ему выпало такое наказание?
Сначала он думал, что Господь испытывает его и что, если он не станет богохульствовать, то и Господь вознаградит его, как Иова. Поэтому он склонял голову, усердно постился и держался в стороне от тех, к кому испытывал тягу. Шестнадцатый от роду год прошел в неослабных муках. Он ни с кем не делился и в конце концов испытал нервный срыв, отчего пришлось бросить школу. Поправляясь, он нежданно влюбился в кузена, молодого женатого мужчину, который возил его на прогулку в больничном кресле. Итак, надежды не было — на нем лежало проклятье.
Те же страхи посещали и Мориса, но смутно: у Клайва же они были определенные, непрерывные, и на причастии не более назойливые, нежели в любом другом месте. Он никогда не обманывался на их счет и, несмотря на узду, продолжал питать недостойные надежды. Он мог управлять своим телом, но порочная душа сводила на нет все его молитвы.
Он всегда слыл прилежным учеником, чутким к печатному слову, и от ужасов, коими стращала библия, его рано или поздно должен был оградить Платон. Никогда не забыть ему переживаний, возникших при первом прочтении «Федра». Он обнаружил, что там его болезнь описана до тонкостей, хладнокровно — как страсть, которую мы можем, как любую другую, нацелить на хорошее или дурное. Там не было приглашения к злоупотреблению свободой. Сначала Клайв не поверил своему счастью — решил, что тут, должно быть, какое-то недопонимание и что они с Платоном думают о разном. Потом он убедился, что этот благоразумный язычник и правда постиг его душу и, скорее, проскользнув мимо Библии, нежели став к ней в оппозицию, он предлагает Клайву новый ориентир в жизни. «Получить как можно больше от того, чем обладаю». Не подавлять в себе это, не тешить себя напрасными надеждами, будто это нечто иное, но развивать это такими способами, чтобы не сердить ни Бога, ни Человека.
Однако он был обязан отказаться от христианства. Те, кто основывает свое поведение на том, каковы они, а не на том, какими должны быть, в конце концов обязаны отказаться от христианства. Кроме того, между темпераментом Клайва и этой религией существовала вековая усобица. Ни один здравомыслящий человек не может сочетать то и другое. Его темперамент, цитируем формулу закона, «не должно упоминать среди честных христиан», а легенда гласит, что все, обладавшие им, умирали в утро Рождества. Клайв сожалел об этом. Он происходил из семьи законоведов и сквайров, по большей части способных и достойных людей, и ему не хотелось отходить от их традиций. Ему хотелось найти хотя бы какой-то компромисс с христианством — и он искал поддержку в Святом Писании. Там говорилось о Давиде и Ионафане;3 еще говорилось об «ученике, которого любил Иисус».4 Но церковная интерпретация была против него; в церкви он не мог найти покой для своей души, не калеча ее; с каждым годом он все больше уходил в классическую литературу.
К восемнадцати он необычайно повзрослел и настолько научился владеть собою, что мог позволить себе находиться в дружеских отношениях с каждым, кто его привлекал. Вслед за аскетизмом пришла гармония. В Кембридже он питал нежные чувства к другим студентам, и его жизнь, дотоле серая, стала раскрашиваться бледными оттенками. Осторожный и благоразумный, он продвигался вперед, и не было в его осторожности ничего мелочного. Он был готов идти и дальше, только бы всегда быть уверенным, что идет верной дорогой.
На втором курсе он познакомился с Рисли, «того же поля ягодой». Клайв не спешил отвечать откровенностью на непринужденную откровенность Рисли, тем более что Рисли с его компанией не слишком понравился ему. Но Клайв получил стимул. Он был рад узнать, что вокруг немало таких, как он; их открытость подготовила его к разговору с матерью о своем агностицизме — однако, это было все, о чем он мог ей поведать. Миссис Дарем, дама светская, выказала лишь слабый протест. Беда пришла на Рождество. Будучи единственной в приходе знатью, Даремы причащались отдельно от остальных, и то, что вся деревня будет взирать на нее и дочерей, преклонивших колени на этой длинной скамеечке без Клайва, ожгло ее стыдом и не на шутку разгневало; она поссорилась с сыном. Он понял, какая она на самом деле: черствая, иссохшая, пустая — и в своем разочаровании вдруг обнаружил, что думает о Холле.
Холл: всего лишь один из тех, кто ему, пожалуй, нравился. У него тоже мать и две сестры, но Клайв был слишком трезвомыслящим, чтобы делать вид, будто это единственное, что их роднит. Должно быть, Холл нравится ему больше, чем ему казалось — должно быть, он немного в него влюбился. Как только они вновь встретились, он испытал наплыв эмоций, который привел к интимному признанию.
Холл буржуазен, туповат, неотшлифован — худший из наперсников. И все же он поведал ему о своих семейных неурядицах, растрогавшись тем, что тот выставил Чепмена за дверь. Когда Холл начал с ним дурачиться, Клайв был очарован. Остальные держались от него на известном расстоянии, считали его человеком строгих правил, а ему нравилось, если с ним возится сильный и красивый юноша. Когда Холл гладил его волосы — это было просто восхитительно: оба лица становились неотчетливыми; он наклонялся, покуда щека его не коснулась шершавой фланели брюк, и тогда он почувствовал, как теплая волна омывает его. Он не обманывался. Он понимал, что за удовольствие получает, и получал его честно, с уверенностью, что это не принесет вреда ни тому, ни другому. Холл был из тех, кому нравятся только женщины — это было видно с первого взгляда.
К концу того триместра он заметил, что Холл приобрел какое-то странное, но прекрасное выражение. Оно появилось совсем недавно и пока еще было едва различимо, лежало на глубине; он заметил его в первый раз, когда они спорили о теологии. Оно было нежным, добрым, в высшей степени естественным, но к нему примешивалось нечто, чего он раньше не замечал в этом человеке, какой-то налет… бесстыдства? Он не был уверен, но ему это нравилось. Оно вновь появлялось, когда они встречались или молчали. Оно пробивалось сквозь рассудок и звало: «Все прекрасно, ты умен, мы это знаем, но — приходи!» Оно преследовало Клайва, так что тот ждал его, даже когда ум и язык были заняты, и вот оно настигало, и тогда Клайв слышал свой ответ: «Приду… Я не знал». — «Теперь тебе с собой не справиться. Ты должен прийти». — «Я и не хочу с собой справляться». — «Тогда входи».
И он пришел. Он снес все преграды — не вдруг, ибо он жил не в таком доме, который можно было разрушить в один день. Весь тот триместр и потом, в письмах, он нащупывал путь. Убедившись, что Холл его любит, он дал свободу своей любви. Раньше любовь для него была развлечением, преходящим удовольствием для тела и ума. Теперь он презирал себя за это. Любовь стала гармоничной, безмерной. Он влил в нее достоинство и богатство своего существа, и действительно — в его хорошо темперированной душе то и другое стало одним. В Клайве не было ничего смиренного. Он знал себе цену и, когда собирался прожить жизнь без любви, винил в этом обстоятельства, а не себя. Холл, каким бы привлекательным и прекрасным он ни был, не снизошел до него. В следующем триместре они встретятся на равных.
Книги значили для него так много, что он забыл о том, что для иных они — головоломка. Если бы он доверился своему телу, то избежал бы беды, но, связывая их любовь с прошлым, он связал ее с настоящим и заставил друга вспомнить об условностях и страхе перед законом. Этого он не предусмотрел. Холл сказал то, что думал. Иначе зачем ему было это говорить? Холл возненавидел его. Он так и сказал: «Какой вздор!» — и слова эти ранили сильнее любого оскорбления. Они звенели в его ушах несколько дней. Холл — нормальный, здоровый англичанин, в котором так и не забрезжило понимание того, что происходит.
Велика была боль. Велико унижение, но худшее ждало впереди. Клайв настолько слился с возлюбленным, что стал себя ненавидеть. Рухнула философия всей его жизни, и на руинах возродилось чувство греховности, которое заполняло коридоры. Холл назвал его преступником, и поделом. На нем лежит проклятье. Впредь он никогда не посмеет дружить с юношей из-за боязни его испортить. Разве не он лишил Холла христианской веры, разве не он покусился на его чистоту?
За эти три недели Клайв кидался из стороны в сторону. Он не мог воспринимать никаких аргументов, когда Холл — доброе, неумелое создание — пришел к нему в комнату, чтобы утешить его, пытался и так и этак, но все без успеха, и в порыве негодования исчез. «Иди ты к черту, там тебе самое место». Нет ничего больней, чем услышать правду от любимого. Клайв еще сильнее расстроился: вся жизнь его разбита, и он не чувствует в себе сил построить ее сызнова и вытравить зло. Его умозаключение было таково: «Смешной мальчишка! Я никогда не любил его. Я только вообразил себе это своим извращенным умом, и да поможет мне Бог избавиться от наваждения».
Но наваждение это вновь посетило его во сне и заставило прошептать его имя:
— Морис…
— Клайв…
— Холл! — выдохнул он, проснувшись. Сверху струилось тепло. — Морис, Морис, Морис… О, Морис…
— Знаю.
— Морис, я люблю тебя.
— И я тебя.
Они целовались, едва ли этого желая. Затем Морис исчез так же, как появился: через окно.
XIII
— Я прогулял уже две лекции, — заметил Морис, завтракая в пижаме.
— Пропусти хоть все — он тебя внесет в штрафной список, и только.
— Поехали кататься?
— Поедем, только куда-нибудь подальше, — сказал Клайв, закурив сигарету. — Оставаться в Кембридже в такую погоду не годится. Отправимся за город, там можно искупаться. Я позанимаюсь в дороге… А, черт! — вырвалось у него, поскольку на лестнице послышались шаги.
Заглянул Джо Фетерстонхоу. Он предложил поиграть в теннис после обеда. Морис согласился.
— Морис! Зачем было соглашаться, глупый?
— Чтобы он поскорей отвязался. Ладно, Клайв, встретимся через двадцать минут в гараже. Бери с собой свои мерзкие учебники, да не забудь одолжить у Джо защитные очки. Мне надо переодеться. Вот еще — возьми что-нибудь поесть.
— А, может, лучше на лошадях?
— Слишком медленно.
Они встретились, как договорились. Позаимствовать очки у Джо не представило труда, поскольку того не оказалось дома. Но, когда они проезжали переулком Иисуса, их окликнул декан.
— Холл! Вы почему не на лекции?
— Проспал! — небрежно отозвался Морис.
— Холл! Холл! Остановитесь, когда я с вами разговариваю!
Морис проехал мимо.
— Неохота спорить, — сказал он Клайву.
За мостом они свернули на дорогу к Или. Морис пошутил:
— А теперь идем к черту.
Машина мощная, водитель бесстрашный. Они чуть не угодили в топь и все время догоняли удаляющийся небесный свод. Они превратились в облако пыли, вони, рева — так казалось со стороны, но воздух, который они вдыхали, был чист, а единственным шумом, который они слышали, был бодрящий свист ветра. Их ничто не беспокоило, они вырвались из людской толпы, и даже смерть, наступи она, явилась бы лишь продолжением этой погони за убегающим горизонтом. Башня, городок — это был Или — остались позади, на фоне того же неба, бледного вдали, словно предвещавшего встречу с морем. «Повернем направо», еще, потом «налево!», «направо!» — пока не утратилось всякое ощущение того, куда они держат путь. Яма, ограждение. Морис не заметил вовремя. Раздался хруст гравия под ногами. Ничего страшного не случилось, но мотоцикл замер посреди темных, мрачных полей. Слышалась песня жаворонка, позади еще клубилась дорожная пыль. Вокруг не было ни души.
— Давай перекусим, — предложил Клайв.
Они поели на травянистом берегу какого-то канала. Течение в нем было незаметно, в воде отражались бесконечные ивы. Человека, создавшего этот пейзаж, нигде не было видно. После ленча Клайв решил позаниматься. Он разложил учебники, но через десять минут заснул. Морис лежал у воды и курил. Показалась телега фермера. Морис подумал, что не мешало бы спросить, в каком они графстве. Но он ничего не спросил, а фермер как будто их не заметил. Когда Клайв проснулся, был уже четвертый час.
— Скоро нам захочется чаю, — справедливо заметил он.
— Ты умеешь чинить мотоцикл?
— Что-то заклинило? — зевнув, спросил Клайв и прогулялся к машине. — Нет, Морис, не умею. А ты?
— Пожалуй, нет.
Они прижались щеками и засмеялись. Происшествие казалось им необычайно забавным. Ничего себе, дедушкин подарок! Тот приурочил его к совершеннолетию Мориса, которое наступало в августе. Клайв сказал:
— Что, если оставить его здесь и пойти пешком?
— Конечно, что ему сделается! Спрячь вещи в коляску. И очки Джо.
— А книги?
— И книги положи.
— А они мне не понадобятся после обеда?
— Ой, не знаю. Сейчас чай важнее обеда. Само собой разумеется, если… Ну что ты смеешься?.. Если мы будем идти вдоль канала, то рано или поздно набредем на какую-нибудь пивную.
— Естественно, ведь они разбавляют пиво водой из этой канавы.
Морис легонько ударил его по ребрам, после чего они минут десять бегали между деревьев, слишком заигравшись, чтобы разговаривать. Присмирев, они спрятали мотоцикл в кустах шиповника и тронулись в путь. Клайв взял с собой записную книжку, но ей не суждено было выжить, поскольку канал, вдоль которого они шли, разветвлялся.
— Придется искать брод, — заявил Клайв. — Мы не можем вечно блуждать, так мы никуда не выйдем. Смотри, Морис, надо идти по прямой к югу.
— Хорошо.
Не имело значения в тот день, кто из них предлагал, и что — другой всегда соглашался. Клайв снял башмаки и носки, закатал брюки. Затем ступил в коричневую воду и пропал, но тут же появился вновь, барахтаясь.
— Ну и глубина! — отплевывался он, выбираясь на берег. — Мысль неудачная. А у тебя есть идеи, Морис?
— Конечно. Сейчас я тоже искупаюсь как следует, — сказал тот и сделал, а Клайв тем временем нес его одежду.
Солнце засветило ярче. Вскоре они набрели на ферму.
Жена фермера оказалась негостеприимной и нелюбезной особой, хотя после они вспоминали о ней, как о «совершенно потрясающей женщине». Все же она напоила их чаем и позволила Клайву просушить одежду над кухонным очагом. Заплатить она предложила «по их усмотрению», а когда они заплатили больше положенного, что-то недовольно проворчала. Однако ничто не могло испортить им настроение. Все им виделось только с хорошей стороны.
— До свидания, мы вам очень признательны, — сказал Клайв. — Если кто-нибудь сходит за мотоциклом, думаю, мы могли бы объяснить, где мы его оставили. В любом случае, вот карточка моего друга. Прикрепите ее к мотоциклу, будьте добры, и доставьте на ближайшую станцию. Что-нибудь в этом роде. Начальник станции нам сообщит.
Ближайшая станция находилась в пяти милях отсюда. Когда они добрались туда, солнце уже стояло низко, и они не успели возвратиться в Кембридж к обеду. Остаток дня прошел замечательно. Поезд по непонятной причине оказался полон. Они сидели рядом и улыбались под стук колес. В их расставании не было ничего необычного: никому из них не пришло в голову сказать что-то особенное. День как день. И все же таких дней не было раньше ни у кого из них, и не суждено было такому дню повториться.
XIV
Декан исключил Мориса из университета.
Мистер Корнуоллис не был чересчур строгим начальником, да и успеваемость у Мориса была удовлетворительная, но он не мог пройти мимо столь вопиющего нарушения дисциплины.
— Почему вы не остановились по моему требованию, Холл?
Холл ничего не отвечал, он даже не выглядел раскаявшимся, только метал огненные взгляды, и мистер Корнуоллис, сам чрезвычайно вспыльчивый, понял, что тут нашла коса на камень. Безжизненным, бледным прозрением он догадался, в чем здесь дело.
— Вчера вы пропустили общую молитву и четыре лекции, включая мой класс перевода. Вы не присутствовали на обеде. И это уже не впервые. Не слишком ли вызывающе, смею спросить? Как вам кажется? Что? Молчите? Сегодня же вы отправитесь домой и сообщите матери о причине. Я, в свою очередь, также проинформирую ее. И если вы не извинитесь передо мной в письменной форме, то я не допущу вас к занятиям в октябре. Извольте успеть на двенадцатичасовой поезд.
— Хорошо.
Мистер Корнуоллис жестом указал на дверь.
Дарема не наказали никак. В связи с предстоящими экзаменами он был освобожден от обязательного посещения лекций. Но, даже если бы он нарушил дисциплину, декан не побеспокоил бы его: лучший студент курса, он требовал особого отношения. Как хорошо, что Холл больше не будет сбивать его с толку. Мистер Корнуоллис всегда с подозрением относился к подобного рода дружбе.
Ненормально, когда два человека с такими разными характерами и вкусами слишком сближаются. И хотя на студентов, в отличие от школьников, можно положиться, педагоги все же сохраняли некоторую бдительность и считали правильным помешать любовной интриге, если только представлялась такая возможность.
Клайв помог Морису собрать вещи и проводил его до поезда. Он мало говорил, чтобы не огорчать друга, который все еще хорохорился, но, очевидно, пал духом. А для Клайва то был последний триместр, ибо мать не хотела оставлять его в университете еще на год. Значит, больше они никогда не встретятся с Морисом в Кембридже, где родилась их любовь — любовь, которая была настолько связана с их студенческим житьем, что Клайв и не помышлял о встрече где-нибудь еще. Он хотел, чтобы Морис не занимал столь непримиримой позиции по отношению к декану, но теперь было слишком поздно. Еще он хотел, чтобы отыскали мотоцикл. Ах, этот мотоцикл — он напоминал о сильных переживаниях: страдании на теннисном корте, радости вчерашнего дня. Связанные в едином движении, на мотоцикле они были ближе друг к другу, чем где бы то ни было; казалось, машина сама обрела жизнь, в которой они повстречались и осознали ту общность, что проповедовал Платон. И вот все ушло, и когда поезд тоже ушел, — а они с Морисом до последнего не разнимали рук, — Клайв потерял самообладание и, возвратясь к себе в комнату, написал несколько страстных и отчаянных страниц.
Морис получил письмо наутро. Оно довершило то, что начали домашние, и впервые он испытал вспышку негодования на весь белый свет.
XV
— Мама, я не могу извиниться. Я объяснил тебе вчера — мне не за что извиняться. Какое право они имели исключать меня, когда все прогуливают лекции! На мне просто отыгрались — спроси кого угодно. А ты, Ада, чем плакать, лучше бы кофе поставила.Ада рыдала:
— Морис, не изводи мать. Какой же ты бесчувственный и злой!
— Это не нарочно. Кроме того, я не вижу причин для подобных утверждений. Разве нельзя сразу заняться бизнесом, как отец, который прекрасно обходился безо всяких ученых степеней? Чем плохо?
— Прошу оставить отца в покое, он никогда не бывал таким грубым, — сказала миссис Холл. — Ах, Морри, дорогой, мы так надеялись, что ты закончишь Кембридж…
— Нечего слезы лить, — заявила Китти, которая стремилась к роли лидера семьи. — Морис еще заважничает, подумает о себе невесть что. Успокойтесь: он напишет декану скорее, чем мы думаем.
— Ты ошибаешься, это невозможно, — возразил брат, непреклонный, как сталь.
— Тогда я не понимаю.
— Маленькие девочки много чего не понимают.
— Не уверена!
Морис бросил на нее выразительный взгляд. Но Китти не успокоилась и сказала, что она понимает больше, чем иные маленькие мальчики, которые мнят себя маленькими мужчинами. Да она просто заговаривается! Опаска, смешанная с уважением, поднявшаяся было в Морисе, так же внезапно исчезла. Нет, он не станет извиняться. Он не сделал ничего дурного и не собирается сознаваться в том, чего не было. Впервые за годы он узнал вкус честности, а честность — она как честь. В непреклонности своей мальчик думал, что ему удастся прожить без компромиссов, отметая несогласных с ним или с Клайвом! Письмо Клайва свело его с ума. Конечно, он глупец — чуткий любящий извинился бы и вернулся, чтобы утешить друга — но то была глупость страсти, которой надо или все, или ничего.
Рыдания и упреки продолжались. Наконец, он встал и сказал:
— Не могу есть под такой аккомпанемент, — и вышел в сад.
Мать собрала поднос и отправилась следом. Даже ее мягкость раздражала его, ибо любовь закаляет бойца. Ей ничего не стоила эта возня с нежными словами и гренками: мать хотела лишь одного — чтобы и он смягчился.
Ей хотелось понять, не ослышалась ли она и правда ли он наотрез отказывается извиниться? Она гадала, что сказал бы на это их отец, и, между прочим, узнала, что подарок ко дню рождения лежит где-то при дороге в Восточной Англии. Это не на шутку ее встревожило, поскольку материальные потери были ей понятней, чем потеря ученой степени. Девочки пригорюнились тоже. Все утро они оплакивали мотоцикл, и хотя Морис мог заставить их замолчать или послать куда-нибудь подальше, он чувствовал, что излишняя уступчивость домашних может и его лишить сил, как это было во время пасхальных каникул.
К вечеру он испытал срыв, когда подумал о том, что провел с Клайвом всего-то один полный день! И надо же было им носиться, как дуракам, вместо того, чтобы обниматься! Морис не понимал, что все получилось наилучшим образом — он был слишком молод, чтобы распознавать тривиальность в соприкосновении ради соприкосновения. Если бы друг не сдерживал его, он бы вволю насытился страстью. А позже, когда любовь его обрела новую силу, он понял, какую услугу оказала ему судьба. Одно объятие во тьме и один долгий светлый день с ветром в лицо были двумя столпами, существовавшими нераздельно. И мучительная разлука, какую он переживал сейчас, явилась необходимым звеном, вместо того чтобы стать разрушительницей.
Он попробовал ответить на письмо Клайва. И уже боялся сфальшивить. Вечером пришло еще одно письмо, состоявшее из слов: «Морис! Я люблю тебя!». Он ответил: «Я люблю тебя, Клайв». Они стали обмениваться письмами ежедневно, старательно вызывая в душе друг у друга новые образы. Письма иногда тревожат больше, чем молчание. Клайв в страхе решил, будто что-то случилось, и почти накануне экзамена сорвался в Лондон. Они обедали с Морисом. Это было ужасно. Оба измучились, да к тому же выбрали ресторан, где с трудом слышали собственный голос. «Не скажу, что я получил удовольствие», — заметил на прощание Клайв. Морис испытал облегчение. Он и сам только делал вид, что радуется, и от этого лишь сильнее страдал. Они условились в письмах ограничиваться только фактами и писать по мере необходимости. Эмоциональное напряжение ослабло, и Морис, не ведавший, сколь он был близок к нервному срыву, провел несколько бессонных ночей, которые врачевали его. Но дневное существование оставалось жалким подобием жизни.
Положение в доме становилось ненормальным. Миссис Холл хотела, чтобы кто-нибудь помог ей разобраться с сыном. В пасхальные каникулы он проявил себя мужчиной — дал расчет Хауэллам, и вот теперь его самого выгнали из университета. А ведь ему еще нет и двадцати одного. Каково его место в их доме? Подстрекаемая Китти, она пыталась предъявлять претензии, но Морис, сначала искренне удивившись, показал зубы. Миссис Холл дрогнула и, движимая любовью к сыну, сделал неумный шаг: обратилась за помощью к доктору Бэрри. Мориса попросили зайти к нему вечерком на беседу.
— Ну что, Морис, как твоя карьера? Не то, что ожидал?
Морис по-прежнему побаивался соседа.
— Или, если выразиться точнее, не то, что ожидала твоя мать?
— Не то, что ожидали все, — сказал Морис, придав себе невозмутимый вид.
Доктор Бэрри продолжал:
— Знаешь, может, это и к лучшему. Зачем тебе университетская степень? Ни к чему она жителям предместья. Ты же не собираешься стать приходским священником, адвокатом или педагогом. Другое дело, если бы ты был дворянин. А так пустая трата времени. Сразу впрягайся в работу. Правильно сделал, что не лебезил перед деканом. Твое место в городе. А матушка, — он сделал паузу и раскурил сигару. Юноше предложено не было. — А матушка твоя этого не понимает. Переживает, что не извинился. А я думаю так: все само собой устроится. Ты попал в среду, к которой не был приспособлен, и естественно, что при первой возможности ты поспешил оттуда вырваться.
— Что вы имеете в виду, сэр?
— Разве не ясно? Дворянин, обнаружив, что он вел себя как хам, извинился бы инстинктивно. Ты же — человек иных традиций.
— Думаю, мне пора домой, — не без важности сказал Морис.
— Я тоже думаю, что пора. Надеюсь, ты понял, что тебя пригласили сюда не для того, чтобы провести приятный вечерок.
— Вы были со мной откровенны. Возможно, и я когда-нибудь смогу вам ответить тем же. Знаю одно: мне очень этого хочется.
Тирада Мориса вывела доктора из себя. Он закричал:
— Как смеешь ты мучить свою мать?! Выпороть бы тебя как следует. Сосунок! Ходишь гоголем, вместо того, чтобы попросить у нее прощения! Я все о тебе знаю. Она пришла ко мне вся в слезах и умоляла поговорить с тобой. Я уважаю и ее, и твоих сестер, слово женщины для меня закон. Не говорите мне ничего, сэр, не говорите, я не желаю слышать ваши речи, откровенные или лживые. Вы позорите рыцарство. Куда катится мир? Не знаю… Я разочарован тобой, Морис. Ты мне противен.
Морис, вырвавшись наконец из дома доктора Бэрри, схватился за голову. Ему даже стало некоторым образом стыдно. Он понимал, что обошелся с матерью дурно, и в то же время все, что было в нем от сноба, оказалось задетым за живое. Но он не мог отступить, не мог перемениться. Сойдя однажды с торной дороги, он думал, что сошел с нее навсегда. «Вы позорите рыцарство». Морис размышлял над этим обвинением. Если бы тогда в коляске мотоцикла находилась женщина и он все-таки отказался бы остановиться по требованию декана, стал бы доктор Бэрри принуждать его к извинениям? Наверное, нет. Морис с трудом поспевал за ходом своих мыслей. Он все еще был слаб головой. А она ему была ох как нужна, потому что обыденным мыслям и речам требовалась интерпретация, чтобы он мог понять, о чем ему толкуют.
Дома его встречала мать. Ей тоже было стыдно: она чувствовала, что пора прекратить придирки. Морис стал совсем взрослым, жаловалась она Китти, в нем не осталось ничего от ребенка. И это очень печально. Китти уверяла ее, что их брат все тот же мальчишка, однако женщины заметили, как изменились у него и глаза, и губы, и голос, когда он возвратился от доктора Бэрри.
XVI
Даремы жили в отдаленной части Англии на границе Уилтшира и Сомерсета. Хотя род их и не был древним, они владели землей на протяжении четырех поколений и испытывали несомненное влияние предков. Двоюродный прадед Клайва во времена правления Георга IV занимал пост председателя отделения королевской скамьи Высокого Суда. Он же свил в Пендже семейное гнездо, ныне основательно потрепанное ветрами. За сотню лет ни разу не пополненное богатым приданым состояние стало что обкусанный пирог, а дом и усадьба носили на себе черты не то чтобы упадка, но застылости, ему предшествующей.
Дом стоял посреди старого парка, изборожденного следами давно исчезнувших изгородей. Окрест раскинулись пастбища, где привольно было и лошадям, и олдернейским коровам. За пастбищами начинались рощи, посаженные еще старым сэром Эдвином, который некогда присоединил к своим владениям общественные выгоны. В парк было два въезда: один со стороны деревни, другой — с глинистой дороги от станции. В прежние времена никакой станции, разумеется, не было, и путь от нее — неказистый, пролегавший по задворкам — служил типичным примером задней мысли в истинно английском стиле.
Морис приехал вечером прямо из Бирмингема, где довольно невесело встретил совершеннолетие в доме деда. Несмотря на опалу, его не обделили подарками, которые, однако, и вручены, и приняты были без особой радости. А ведь он так ждал, когда ему исполнится двадцать один. Китти предположила, что он не веселится, потому что стал испорченным. За это он шутя ущипнул ее за ухо и поцеловал, что весьма ее разобидело. «Ты ни в чем не смыслишь», — сердито сказала она. Морис улыбнулся.
После Альфристон-Гарденса со всей родней и сытными чаепитиями, Пендж являл разительную перемену. Даже доброжелательные дворянские семьи таили в себе нечто тревожащее, и Морис вступил в усадьбу с благоговением. Правда, его встречал Клайв, который сидел теперь рядом в карете, но с ними была еще миссис Шипшенкс, прибывшая тем же поездом. С миссис Шипшенкс приехала горничная, которая в данный момент находилась в кебе, с багажом миссис Шипшенкс и Мориса следовавшем за каретой. Морис терзался мыслью: быть может, и ему надо было взять с собой слугу? Ворота в усадьбу отворила маленькая девочка. Миссис Шипшенкс потребовала, чтобы каждый отвешивал ей реверанс. Клайв при этих ее словах наступил Морису на ногу, хотя Морис не поручился бы, что это вышло не случайно. Морис ни о чем не мог судить наверняка. Когда они подъехали к дому, он принял задний вход за главный и ринулся отворять дверь. Миссис Шипшенкс произнесла: «О, какая галантность!», тем паче, что открывать двери в дом входило в обязанности дворецкого.
Их уже ждал крепкий чай, который миссис Дарем разливала, не глядя в чашку. Вокруг стояли люди, казавшиеся значительными по какой-то значительной причине. Очевидно, они были поглощены каким-то очень важным занятием. Мисс Дарем заручилась обещанием Мориса голосовать завтра в пользу тарифной реформы. Их политические взгляды сошлись, но возглас, каким она приветствовала сей альянс, совсем не порадовал Мориса:
— Мама, мистер Холл — наш человек!
Майор Вестерн, гостивший в доме на правах родственника, принялся расспрашивать его о Кембридже. Интересно, как относятся военные к исключенным из университета?.. Нет, здесь еще хуже, чем в том ресторане, поскольку Клайв чувствовал себя совершенно не в своей тарелке, как и тогда.
— Пиппа, мистеру Холлу уже показали его комнату?
— Голубую, да, мамочка?
— Ту, в которой нет камина, — уточнил Клайв. — Проводите его наверх.
А сам он повел к дверям каких-то посетителей. Мисс Дарем препоручила Мориса дворецкому. Поднимаясь по широкой лестнице, Морис заметил, что главный пролет отворачивает вправо, и заподозрил по отношению к себе некоторую пренебрежительность. Комната его оказалась маленькой, обставленной очень бедно. И вид из окна никакой. Став на колени, он начал выкладывать из чемодана вещи, и ему вдруг почудилось, будто он в Саннингтоне. Морис решил, что за время, какое он пробудет в Пендже, ему следует продемонстрировать весь привезенный гардероб. Пусть не думают, что он плохо одевается. Получше их всех. Едва он пришел к этой мысли, как в комнату влетел Клайв, и вслед за ним в дверь хлынуло солнце.
— Морис, дай я тебя поцелую, — сказал Клайв, и поцеловал.
— Как это… откуда ты?
— Я прошел через кабинет.
Он смеялся и весь сиял.
— Так вот почему…
— Морис! Морис, наконец-то ты приехал! Ты здесь. Никогда еще наш дом не был таким. Я готов полюбить его.
— Мне так хотелось к тебе приехать, — сказал Морис, задыхаясь от волнения. От счастья у него вдруг закружилась голова.
— Давай распаковывайся. Я нарочно так все устроил. В этой части дома мы одни. Мне хотелось, чтобы всё было похоже на наше университетское житье-бытье.
— Здесь даже лучше.
— Надеюсь, так оно и будет.
В дверь постучали. Морис испуганно замер, но Клайв, продолжая сидеть у него плече, спокойно сказал:
— Войдите.
Оказалось, горничная принесла горячей воды.
— Отсюда нам не придется никуда выходить, разве что к общему столу, — продолжал Клайв. — Мы будем проводить время или здесь, или в парке. Здорово, правда? У меня тут пианино. — Он повел его в кабинет. — Посмотри, какой отсюда вид! Можно стрелять зайцев прямо из окна. Кстати, если за обедом мама или Пиппа скажут, что они хотят завтра тебя чем-нибудь занять, не беспокойся и скажи «да». Они знают, что на самом деле ты приехал кататься со мной верхом. С их стороны это только ритуал. Даже если в воскресенье ты не пойдешь в церковь, они сделают вид, будто не заметили этого.
— Но у меня нет костюма для верховой езды.
— В таком случае, я с тобой не вожусь, — заявил Клайв и убежал прочь.
Когда Морис спустился в гостиную, он уже чувствовал, что у него больше прав находиться здесь, чем у кого бы то ни было. Он подошел к миссис Шипшенкс и, не испытывая прежнего смущения, заговорил раньше, чем та открыла рот. Он занял свое место в нелепом октете, образованном Клайвом и миссис Шипшенкс, майором Вестерном и какой-то дамой, неким джентльменом и Пиппой, им самим и хозяйкой дома. Последняя извинилась за малочисленность компании.
— Не стоит, — сказал Морис и поймал на себе свирепый взгляд Клайва: он употребил не ту фразу. Ведь миссис Дарем устраивала ему смотрины, но Морису было глубоко плевать, понравился он ей или нет. Она имела несомненное сходство с сыном и казалась столь же знающей, хотя и не столь искренней. Морис начал понимать, за что Клайв ее презирает.
После ужина мужчины закурили. Потом к ним присоединились дамы. То был вечер, похожий на вечера в предместье, с одной только разницей: в этих людях чувствовалась особая основательность — они либо уже устроили, либо собирались вот-вот устроить на свой вкус старую, добрую Англию. И это несмотря на то, что столбы ворот и дороги, как заметил Морис, едучи от станции, требовали ремонта, а балки подгнили, рамы заклинило, половицы скрипели. Впечатление, произведенное Пенджем, явно не оправдывало ожиданий.
Когда дамы удалились, Клайв сказал:
— Морис, кажется, тебя тоже клонит ко сну.
Морис понял намек, и уже через пять минут они встретились в кабинете, чтобы проговорить всю ночь напролет. Раскурили трубки. Впервые им было так спокойно вместе, им предстояло произнести особенные слова. Они оба это знали, и все-таки не торопились начать.
— Давай расскажу последние новости, — предложил Клайв. — Как только я приехал домой, так сразу повздорил с матерью. Я объявил ей, что хочу закончить четвертый курс.
Морис простонал.
— В чем дело?
— Меня-то исключили.
— Но ты же в октябре вернешься?
— Нет. Корнуоллис потребовал, чтобы я извинился, а я не стал… Я подумал, раз тебя не будет, то и мне незачем…
— А я решил продолжить учение, потому что думал, что ты останешься. Комедия ошибок.
Морис мрачно смотрел в никуда.
— Комедия ошибок, но не трагедия же. Ты можешь извиниться теперь.
— Слишком поздно.
Клайв засмеялся.
— Почему поздно? Так даже проще. Ты не хотел извиняться, пока не закончится учебный год. «Уважаемый господин Корнуоллис, теперь, когда этот год позади, я решился написать вам». Завтра же сочиню тебе это послание. Морис все взвесил и наконец воскликнул:
— Клайв, ты сущий бес!
— Да, это не очень красиво, признаю, но эти люди не заслуживают другого отношения. До тех пор, пока они будут толковать об отвратительном пороке древних греков, им не стоит рассчитывать на честную игру. Вот и матери я тоже не сказал правды, когда улизнул, чтобы поцеловать тебя перед обедом. Она не простила бы, если бы узнала, не попыталась, даже не попыталась бы понять, что я чувствую к тебе то же, что Пиппа к своему жениху, только мои чувства гораздо благороднее, гораздо глубже, и тело, и душа, но не в худосочно-средневековом смысле, это лишь… особенная гармония тела и души, о чем, я уверен, женщины никогда не помышляли. Ты понимаешь.
— Да. Я извинюсь.
Потом они надолго отвлеклись: обсуждали пропажу мотоцикла, о котором не было никаких известий. Клайв приготовил кофе.
— Скажи, как тебе пришло в голову разбудить меня после того вечера в диспут-клубе? Изложи подробно.
— Я все думал-думал, что сказать, и не мог придумать, наконец и думать уже не мог, и просто пришел.
— Поступок вполне в твоем духе.
— Издеваешься? — застенчиво спросил Морис.
— Боже упаси! — Последовало молчание. — Расскажи мне о том вечере, когда я впервые признался. Почему ты сделал нас обоих такими несчастными?
— Говорю же, не знаю. Я ничего не могу объяснить. Зачем ты сбил меня с толку этим проклятым Платоном? Я вконец запутался. Во мне возник клубок противоречий.
— Но ведь тебя тянуло ко мне, и не один месяц? Если точно, то с того дня, как мы впервые встретились у Рисли.
— Не спрашивай.
— Все равно, какая-то странная история.
— Странная.
Клайв радостно засмеялся, ерзая в кресле.
— Морис, чем больше я об этом думаю, тем очевидней становится, что из нас двоих бес — это ты.
— Ну коли ты так считаешь.
— Я так бы и прожил жизнь в полусне, если бы ты имел совесть и оставил меня в покое. Ум был бы разбужен, да, и чувства тоже, в известной мере, но тут… — И он указал мундштуком трубки на сердце. Они улыбнулись. — Наверно, мы оба разбудили друг друга. Во всяком случае, мне нравится думать именно так.
— А ты когда впервые обратил на меня внимание?
— Не спрашивай, — эхом отозвался Клайв.
— Будь же серьезным, ну… На что во мне ты обратил внимание прежде всего?
— Правда хочешь знать? — спросил Клайв, который пребывал в том настроении, что так обожал Морис: наполовину шаловливом, наполовину влюбленном. В настроении предельной искренности.
— Да.
— Ладно, скажу. На твою красоту.
— На мою — что?
— Красоту… Я всегда восхищался вот тем человеком над книжным шкафом.
— Смею сказать, я куда лучше этой картинки, — промолвил Морис, взглянув на репродукцию Микеланджело. — Клайв, ты глупенький, маленький дурачок, и раз уж мы заговорили об этом, то это ты мне показался самым красивым из всех, кого мне довелось встречать. Я люблю твой голос и все в тебе, вплоть до твоей одежды и комнаты, где ты живешь. Я тебя обожаю.
Клайв зарделся.
— Сядь прямо и давай сменим тему, — сказал он, и от безрассудства в нем не осталось и следа.
— Я не думал, что тебе это неприятно…
— Однажды это надо было сказать, иначе мы так и не узнали бы, что храним в сердце. Я не догадывался — во всяком случае, не догадывался, что это так сильно. Ты поступил правильно, Морис. — Он не переменил тему, но развил ее в другую, которая интересовала его в последнее время — насколько Желание влияет на наши эстетические суждения. — Посмотри, например, вот на эту картину. Я люблю ее, потому что, как сам художник, люблю изображенный на ней предмет. Я не сужу о ней глазами нормального человека. Мне кажется, к Прекрасному ведут два пути: один обыкновенный, и весь мир идет к Микеланджело именно этим путем, а второй — личный, он только для меня и еще немногих. Мы приходим к нему и так, и этак. С другой стороны — Грёз.5 Его темы меня отталкивают. Я могу дойти до него только одной дорогой. А все остальные находят две.
Морис не прерывал: для него все это было милой чушью.
— Возможно, насчет этих личных дорог я ошибаюсь, — добавил Клайв. — Но пока будут изображать человеческую фигуру, будут и они. Единственный безопасный в этом смысле объект — это пейзаж, ну и что-нибудь геометрическое, ритмическое, абсолютно обесчеловеченное. Любопытно, не о том ли знали магометане и старик Моисей, я недавно как раз думал об этом. Коль скоро ты представляешь изображение человека — тут же рождается или отвращение, или желание. Иногда неотчетливое, но все же. «Не делай себе кумира и никакого изображения», не потому ли, что невозможно сотворить его для всех сразу? Морис, не переписать ли нам историю? «Эстетическая философия Декалога». Я всегда находил замечательным, что в заповедях Господа нет проклятия таким, как мы с тобой. Я объяснял это его справедливостью. Хотя теперь склоняюсь к мысли, что он просто-напросто не ведал. И все же надо прояснить это обстоятельство. Как ты считаешь, я могу взять это в качестве темы диссертации?
— Тут я тебе не советчик, — сказал Морис смущенно.
И любовная сцена все продолжалась с бесценным обретением нового языка. Юношей не сдерживали никакие традиции. Никакие условности, устанавливающие, что поэтично, а что абсурдно. Они были поглощены страстью, какую признавали умом единицы среди англичан, и посему творили они беспрепятственно. Нечто изысканной красоты возникало в голове каждого из них — наконец; нечто незабываемое и вечное, но созданное из неприметных фраз и безыскусных эмоций.
— Ты меня поцелуешь? — спросил Морис, когда воробьи проснулись под скатом крыши, а далеко в лесу заворковали вяхири.
Клайв покачал головой, и они расстались с улыбкой, хотя бы на время внеся в свою жизнь совершенство.
XVII
Казалось, Морису не добиться уважения у семьи Даремов, но странно — они не испытывали к нему неприязни. С неприязнью они относились лишь к тем, кто хотел сойтись с ними близко — это было настоящей манией — и молва о том, что человек имеет намерение внедриться в сливки местного общества, могла послужить достаточно веской причиной для прекращения отношений с этим субъектом. Внутри же (вотчины возвышенного общения и благородных жестов) должен быть некто, кто, подобно мистеру Холлу, не возгордившись своим успехом и не боясь превратностей, готов, при необходимости, безропотно удалиться. Даремы понимали, что оказывают ему милость, обращаясь с ним как с равным и, тем не менее, были довольны, что он принимает это как должное. Ум их таинственным образом связывал благодарность с дурным воспитанием.
Нуждаясь лишь в пище и в друге, Морис не замечал своего успеха и поэтому удивился, получив от пожилой леди приглашение побеседовать, когда его визит близился к концу. Она расспросила его о семье и обнаружила в нем бесхитростность, но на сей раз ее манера была почтительной: она захотела узнать его мнение о Клайве.
— Мистер Холл, посоветуйте нам, пожалуйста. Клайв очень к вам прислушивается. Как вы полагаете, разумно ли ему оставаться в Кембридже на четвертый курс?
Морис же хотел поинтересоваться, какую лошадь дадут ему для послеобеденной прогулки: он наполовину отсутствовал, что производило впечатление глубокомысленности.
— Разумно ли это, учитывая плачевные результаты последней сессии?
— Он так считает, — отвечал Морис.
Миссис Дарем кивнула.
— Вы смотрите в корень. Клайв так считает. Что ж, он сам себе хозяин. Это поместье принадлежит ему. Он говорил вам?
— Нет.
— О, Пендж — целиком и полностью его собственность, согласно завещанию супруга. А мне, по всей видимости, придется после его женитьбы переехать во вдовий дом…
Морис вздрогнул; она смотрела на него и заметила, что он покраснел. «Выходит, есть, есть девушка», — подумала она. На время отвлекшись от главного, она вернулась к Кембриджу и заметила, что четвертый курс так мало дает «мужлану» — это слово было произнесено с ерническим упором — и как было бы желательно, чтобы Клайв занял свое место на родине. Здесь охота, арендаторы, политика, наконец.
— Его отец, как вам должно быть известно, представлял наш избирательный округ.
— Нет.
— О чем же он с вами говорил? — засмеялась она. — Так знайте: мой муж избирался в течение семи лет, и хотя теперь правят либералы, каждому ясно, что это ненадолго. Все наши старые друзья присматриваются к Клайву. Но сперва он должен занять свое место, найти себя, а в этом самое полезное… забыла, о чем это я…. Ах, да, успешная работа. Лучше бы ему провести этот год в путешествиях. Он должен побывать в Америке и, если получится, в колониях. Это совершенно необходимо.
— Он собирается поездить после Кембриджа. И меня зовет с собой.
— Уверена, что вы согласитесь. Но, мистер Холл, только не в Грецию. Это путешествие для развлечения. Отговорите его от Италии и Греции.
— Я тоже предпочел бы Америку.
— Разумеется, как всякий здравомыслящий человек, но он студентишка — такой мечтатель! Пиппа говорит, что он пишет стихи. Он вам не показывал?
Морис видел стихотворение, посвященное ему. Но он ничего не сказал. Просто удивился, что жизнь с каждым днем становится все интересней. Ужели это он был тот юноша, которого восемь месяцев тому назад озадачил многословный Рисли? Что заставило его прозреть? Ряд за рядом восставали полки рода человеческого. Живые, но немного абсурдные: они не могли его разгадать — демонстрировали свою слабость, а сами считали себя такими проницательными. Он не мог не улыбнуться.
— Вам, очевидно, известно… — И, сплеча: — Мистер Холл, у него кто-то есть? Какая-нибудь курсисточка? Пиппа утверждает, что есть.
— В таком случае вам лучше спросить у Пиппы, — парировал Морис.
На миссис Дарем это произвело впечатление. Он дерзостью ответил на дерзость. Кто мог ожидать от невзрачного юноши такой прыти? А тот остался равнодушен к своей победе и улыбался одному из гостей, спешившему по лужайке на чай. Тоном, который она держала про запас для ровни, миссис Дарем сказала:
— А про Америку вы ему внушите. Ему недостает ощущения реальности. Я заметила это еще в прошлом году.
Морис как следует внушил, когда они скакали вдвоем по просеке.
— Я так и думал, что ты им понравишься, — таково было резюме Клайва. — Похоже на них. На Джо они даже не взглянули бы. — Клайв был настроен безоговорочно против семьи: он ненавидел светскость, которая в его домашних сочеталась с полным пренебрежением к свету. — Дети — такое занудство, — обронил он посреди легкого галопа.
— Какие дети?
— Мои! Им нужен наследник для Пенджа. Матушка называет это женитьбой, но думает лишь об одном.
Морис промолчал. Прежде ему никогда не приходило в голову, что и он, и его друг должны оставить после себя жизнь.
— Вечно ко мне пристает. В доме всегда гостит какая-нибудь девица.
— Просто, становясь старше…
— Что-что?
— Ничего, — сказал Морис и натянул поводья. На душу легла безмерная печаль, а он-то всегда считал себя неподвластным такой напасти. Он и его возлюбленный когда-нибудь исчезнут — и не продолжатся ни в небесах, ни на земле. Они преодолели условности, но Природа смотрела на них и говорила им ровным голосом: «Что ж поделать, раз вы такие. Я не виню никого из своих детей. Но вы должны пройти путем бесплодия». Мысль о том, что он бесплоден, вдруг обожгла юношу стыдом. Быть может, его матери или миссис Дарем недостает ума и души, но они совершили очевидное: зажгли факел, который их сыновья хотят затоптать.
Он боялся растревожить Клайва, но все это прорвалось, когда они лежали в траве. Клайв не соглашался.
— Почему дети? — недоумевал он. — Почему обязательно дети? Для любви прекраснее завершиться там, где она началась, и Природа знает это.
— Да, но если каждый…
Благодаря Клайву все стало как прежде. Он битый час лопотал что-то о вечности. Морис ничего не понял, но голос друга успокоил его.
XVIII
В течение следующих двух лет Морису и Клайву досталось столько счастья, сколько может лишь примечтаться мужчинам под их звездой. Они были нежны, сходны по характеру и, благодаря Клайву, чрезвычайно благоразумны. Клайв знал, что экстаз не может быть долгим, зато он может пробить ход чему-нибудь продолжительному, и он устроил отношения так, чтобы они были постоянными. Если Морис источал любовь, то Клайв ее хранил и направлял ее реки для орошения сада. Он не терпел, когда зря пропадала хотя бы капля — ни в порыве сентиментальности, ни в приступе горечи — и с течением времени они стали воздерживаться от признаний («нами все уже сказано») и ласк. Уже быть вместе было для них счастьем; среди других они излучали некую безмятежность и смогли занять свое место в обществе.
Клайв как никогда далеко продвинулся в этом направлении с тех пор, как он понял греков. Та любовь, какую Сократ питал к Федру, теперь была доступна и ему — любовь страстная, но умеренная, которую могут понять только утонченные натуры, и он обнаружил, что Морис не вполне тонок, зато обворожительно усерден. Он вел любимого по узкой, но прекрасной тропе, высоко над бездной. Она продолжалась до финального мрака — другой опасности он не видел — и когда мрак конца падет, непременно окажется, что они прожили жизнь более полно, нежели святые или сластолюбцы, и извлекли для себя столько благородства и благоухания этого мира, сколько было возможно. Он воспитывал и просвещал Мориса, или, скорее, его душа воспитывала душу Мориса, ибо сами они стали равны. Не возникало даже мысли: «Я веду? Меня ведут?» Любовь избавила его от тривиальности, а Мориса — от путаницы, для того, чтобы два несовершенных создания смогли прикоснуться к совершенству.
Так они и жили — с виду как все остальные. Общество приняло их, как принимает оно тысячи других. Но позади Общества дремал Закон. Они в один год закончили Кембридж, вместе путешествовали по Италии. Затем сомкнулись двери несвободы, но тоже для них обоих. Клайв подвизался на ниве адвокатуры, Морис пахал у себя в конторе. Они по-прежнему были вместе.
XIX
К этому времени состоялось знакомство их семей. «Им никогда не найти общего языка, — соглашались друзья, — они принадлежат к разным слоям общества». Но, быть может, из своенравия, семьи сдружились, и Клайв с Морисом с изумлением наблюдали за их сближением. Оба были женоненавистники, в особенности Клайв. Во власти своего темперамента они не удосуживались хотя бы исполнять долг, и пока любовь продолжалась, женщины стали столь же от них далеки, как лошади или кошки; все эти создания казались им в равной степени неразумными. Когда Китти просила дать ей на руки ребенка Пиппы или когда миссис Дарем и миссис Холл посещали Королевскую Академию Искусств, им бросалось в глаза несходство не социального положения, а характеров, и они строили всякие догадки. На самом же деле ничего странного не было: ведь причиной всему явились они сами. Их взаимная страсть оказывала сильнейшее влияние на оба семейства и увлекала все в свое русло, как глубинное течение увлекает лодку. Миссис Холл и миссис Дарем совершали совместные выходы, потому что их сыновья дружили. «А теперь и мы подружились», — говаривала миссис Холл.Морис присутствовал в день, когда началась их «дружба». Матроны впервые встретились в лондонском доме Пиппы. Мужа Пиппы звали мистер Лондон — совпадение, произведшее неизгладимое впечатление на Китти, которая надеялась, что она все-таки перестанет думать об этом и не рассмеется во время чая. Аду по совету Мориса оставили дома, поскольку сочли, что она чересчур глупа для первого знакомства. Все прошло гладко. Затем Пиппа с матерью приехали на автомобиле с ответным визитом. Морис в это время был в городе, но, кажется, опять все прошло гладко, разве что Пиппа расхвалила киттин ум в разговоре с Адой и адину красоту в разговоре с Китти, чем обидела обеих девушек, а миссис Холл пыталась настроить миссис Дарем против установки парового отопления в Пендже. Потом они встречались еше, и, насколько мог судить Морис, всегда было одно и то же: гладко, гладко и опять гладко.
У миссис Дарем, конечно, имелись свои мотивы. Она присматривала жену для Клайва, и занесла в свой список девиц Холл. Мать Клайва придерживалась теории разумного смешения пород, а Ада, хоть и провинциалка, отличалась здоровьем. Девушка, без сомнения, глупа, но миссис Дарем, что бы она ни говорила, на деле не собиралась переселяться во вдовий дом, и рассчитывала, что управлять Клайвом у нее лучше всего получится через его жену. Китти миссис Дарем котировала не столь высоко. Китти была поумнее, пострашнее и победнее. Аде предстояло войти в право наследования значительного состояния деда, и она уже унаследовала его незлобивый нрав. Миссис Дарем видела мистера Грейса лишь однажды и полюбила его.
Если бы она заподозрила, что и у Холлов есть такие планы — тут же бы прекратила знакомство. Но, подобно Морису, они привлекали ее своей безучастностью. Миссис Холл была слишком ленива, чтобы строить планы, а девочки — слишком наивны. Миссис Дарем сочла Аду благоприятной кандидатурой и пригласила ее посетить Пендж. Только Пиппа, мозги у которой продувались современными веяниями, задумывалась о странной холодности брата. «Клайв, да вправду ли ты собираешься жениться?» — спросила она как-то вдруг. Но его ответ: «Нет, пойди и объясни это матери» — рассеял ее подозрения. Такой ответ мог дать только мужчина, собирающийся жениться вот-вот.
Мориса не беспокоил никто. В доме он установил единоличную власть, и мать начала говорить о нем с интонациями, какие она приберегала когда-то для мужа. Он был не только старшим сыном, но личностью — причем сверх ожиданий. Он держал в узде слуг, понимал в автомобиле, соглашался с тем и не соглашался с этим, налагал запрет на некоторых знакомых Ады и Китти. К двадцати трем годам он превратился в этакого провинциального тирана, чья власть становилась лишь сильней от того, что была достаточно справедливой и умеренной. Китти сопротивлялась, но ей недоставало ни поддержки, ни опыта. В конце концов и ей пришлось смириться и принять братнин поцелуй. Она не могла конкурировать с этим добродушным, немного враждебным ей молодым человеком и растеряла то преимущество, что предоставила ей его кембриджская выходка.
Привычки Мориса устоялись. Он съедал плотный завтрак и в 8.36 садился в поезд до Лондона. В вагоне он успевал прочитать «Дейли Телеграф». До часу работал, затем — легкий ленч и вновь работа до вечера. Возвратясь домой, он совершал небольшую тренировку, сытно ужинал, прочитывал вечернюю газету, отдавал распоряжения, поучал, иногда играл в бильярд или в бридж.
Но каждую среду он оставался ночевать у Клайва, в его лондонской квартире. Уик-энды также были незыблемы. Дома говорили: «Нельзя посягать ни на среды, ни на уикэнды Мориса. Он очень рассердится».
XX
Клайв успешно выдержал адвокатский экзамен, но перед тем, как получить право заниматься практикой, подхватил легкую инфлюэнцу и провалялся с высокой температурой несколько дней. Морис навестил уже выздоравливавшего друга, заразился и тоже слег. Поэтому несколько недель они почти не виделись, а когда снова встретились, Клайв был бледен и легко возбудим. Он приехал к Холлам, предпочтя их дом обществу Пиппы, в надежде, что хорошая пища и покой помогут ему выздороветь окончательно. Он мало ел, а если говорил, то на тему напрасности всего и вся.
— Я подался в адвокатуру, потому что это даст мне возможность войти в политику, — сказал он в ответ на вопрос Ады. — Но зачем мне входить в политику? Кому я нужен?
— Ваша матушка говорит, что вы нужны у себя в графстве.
— Если в графстве и хотят кого-то, то скорее радикала. В отличие от моей матушки, я общаюсь с разными людьми. Так вот — они устали от нас, представителей праздных классов, разъезжающих в автомобилях и ищущих, чем бы заняться. Все эти визиты с важным видом в знатные семьи — игра, притом невеселая. За пределами Англии в такие игры уже не играют. (Морис, я собираюсь в Грецию.) Мы никому не нужны. Никто никому не нужен. Все хотят только спокойствия в своем доме.
— Но политика как раз и обеспечивает покой в каждом доме, — визгливо вставила Китти.
— Обеспечивает, или должна обеспечивать?
— Ну, а разве это не одно и то же?
— Обеспечивает и должна обеспечивать — это не одно и то же, — сказала миссис Холл, гордая тем, что уловила отличие. — Ты не должна прерывать мистера Дарема, и тем не менее…
— …прерываешь, — подхватила Ада, и веселый смех семьи заставил Клайва содрогнуться.
— Мы делаем и мы должны делать, — заключила миссис Холл. — Большая разница.
— Не всегда, — возразил Клайв.
— Не всегда, запомни это, Китти, — эхом отозвалась миссис Холл, но в голосе ее не чувствовалось назидания: прежде не было случая, когда он ей перечил.
Китти вновь принялась отстаивать первоначальное суждение, Ада говорила абы что, Морис не говорил ничего, он спокойно поглощал еду и не замечал, что подобная застольная беседа, которая была ему не в новинку, раздражает друга. Между блюд он рассказал анекдот. Все замолчали, чтобы внимать Морису. Говорил он медленно, вяло, не заботясь о словах и не удосужившись быть интересным. Вдруг Клайв вымолвил:
— Простите, у меня закружилась голова, — и упал со стула.
— Дай подушку, Китти. Одеколон, Ада! — распорядился их брат. Он распустил Клайву воротник. — Мама, обмахивай его, нет, не так, вот так обмахивай…
— Глупо как вышло, — пробормотал Клайв.
Когда он заговорил, Морис его поцеловал.
— Мне уже лучше.
В комнату вбежали девушки и слуги.
— Я могу встать, — сказал Клайв. К нему вернулся нормальный цвет лица.
— Конечно же нет, — воскликнула миссис Холл. — Морис отнесет вас… Мистер Дарем, держитесь за него покрепче.
— Давай, старина. Доктор! Да позвоните же кто-нибудь доктору!
Он поднял друга, который был так слаб, что начал плакать.
— Морис, я дурак…
— Пусть дурак, — сказал тот и понес его по лестнице в комнату, положил на кровать и раздел. Постучалась миссис Холл. Выйдя к ней, Морис скороговоркой сказал:
— Мама, ты не должна никому рассказывать, что я поцеловал Дарема.
— Разумеется нет!
— Он бы этого не одобрил. Я очень испугался и сделал это нечаянно. Ты ведь знаешь, мы большие друзья, почти родные.
Этого оказалось достаточно. Ей нравилось делить с сыном маленькие секреты — это напоминало ей о том времени, когда она значила для него гораздо больше, чем теперь. Пришла Ада с кувшином горячей воды. Морис принял кувшин и направился к своему пациенту.
— Сейчас придет доктор, а я в таком виде, — рыдал Клайв.
— Вот и хорошо.
— Почему?
Морис закурил сигарету и сел на край кровати.
— Мы хотим, чтобы он посмотрел тебя именно в таком состоянии. Как же это Пиппа отпустила тебя одного?
— Я думал, со мной все в порядке.
— Черт тебя подери.
— Можно войти? — раздался за дверью голос Ады.
— Нет. Когда появится доктор — пусть сразу идет сюда.
— Он уже здесь, — крикнула Китти снизу.
Привели человека немногим старше Мориса и Клайва.
— Привет, Джаввит, — сказал Морис, поднимаясь ему навстречу. — Вылечите мне этого парня. Он перенес инфлюэнцу, думали, выздоровел. А он упал в обморок, и не переставая плачет.
— Все ясно, — проговорил мистер Джаввит и сунул в рот Клайву градусник. — Перетрудился?
— Да, а теперь собирается в Грецию.
— Ну и поедет. А сейчас выйдите все. Я к вам спущусь.
Морис подчинился, нисколько не сомневаясь, что Клайв серьезно болен. Джаввит вышел к ним минут через десять и сообщил миссис Холл, что не обнаружил ничего страшного — обыкновенный рецидив. Он выписал рецепты и сказал, что надо пригласить сиделку. Морис проводил его и в саду, положив руку на плечо доктора, спросил:
— А теперь скажите откровенно, что у него? Ведь это не просто рецидив. Это что-то более серьезное. Прошу вас, скажите мне всю правду.
— Он в полном порядке, — повторил доктор. Раздраженно, ибо кичился как раз тем, что всегда говорил правду. — Я полагал, что вы это поняли. У него прекратилась истерика, и он уснул. Это обыкновенный рецидив. Просто сейчас ему надо быть более осторожным, вот и все.
— И сколько будет продолжаться этот, как вы его назвали, обыкновенный рецидив? Неужели в любую минуту могут повториться ужасные страдания?
— У него всего лишь недомогание… Он думает, что простудился в машине.
— Джаввит, вы что-то от меня скрываете. Взрослый мужчина не станет плакать ни с того ни с сего.
— Это просто слабость.
— Ах, называйте вещи своими именами, — досадливо проговорил Морис и убрал руку. — Должно быть, я вас задерживаю.
— Ничуть, мой юный друг. Я здесь затем, чтобы вы не испытывали затруднений.
— Хорошо, если это такой пустяк, зачем тогда сиделка?
— Чтобы он не скучал. Насколько я понимаю, он не беден?
— А разве с нами ему будет скучно?
— Вам нельзя, подхватите инфекцию. Вы же присутствовали, когда я говорил вашей матери, что никому из вас нельзя входить к нему в комнату.
— Я думал, вы имели в виду только моих сестер.
— И вас в равной степени, даже в большей, поскольку вы недавно уже от него заразились.
— Я не стану звать сиделку.
— Миссис Холл уже позвонила в клинику.
— Почему все делается в такой спешке? — сказал Морис, повысив голос. — Я сам буду за ним ухаживать.
— А потом станете катать ребенка в колясочке?
— Простите, что?
Джаввит, посмеиваясь, удалился.
Тоном, не допускавшим возражений, Морис заявил матери, что будет спать в комнате больного. Он не позволил затащить туда кровать, чтобы не разбудить Клайва, и устроился на полу, подложив под голову скамейку для ног и читая при свете газовой лампы. Вскоре Клайв заворочался и слабо простонал:
— О проклятье, проклятье…
— Тебе что-нибудь нужно? — спросил Морис.
— Живот схватило.
Морис поднял его из постели и усадил на вазу. После того, как наступило облегчение, он перенес его на кровать.
— Я сам мог дойти. Ты не должен этим заниматься.
— Ты бы тоже сделал это, для меня.
Он вынес горшок в уборную, опорожнил и вымыл его. Теперь, видя Клайва таким жалким и слабым, он любил его как никогда.
— Ты не должен, — повторил Клайв, когда тот вернулся. — Это противно…
— Не зли меня, — сказал Морис, укладываясь. — Попробуй опять уснуть.
— Доктор сказал, что пришлет сиделку.
— Зачем тебе сиделка? Подумаешь, понос прошиб! Да по мне пусть хоть всю ночь… Честно, мне это не трудно, я говорю это не для красного словца. Правда нетрудно.
— Но я не могу согласиться… Твоя контора…
— Послушай, Клайв, кого ты предпочитаешь: профессиональную сиделку или меня? Сиделка придет, но я распорядился, чтобы ее отослали назад, потому что мне лучше уволиться из конторы, лишь бы ухаживать за тобой, да и ты поступил бы так на моем месте.
Клайв долго молчал, и Морис решил, будто тот заснул. Наконец Клайв сказал со вздохом:
— А все же я предпочел бы сиделку.
— Верно, она лучше о тебе позаботится. Возможно, ты прав.
Клайв ничего не ответил. Ада добровольно вызвалась дежурить в гостиной, и Морис, как договаривались, трижды постучал и, ожидая ее прихода, всматривался в неясное, покрытое испариной лицо Клайва. Доктор ему соврал: у друга агония. Ему хотелось обнять его, но он помнил, что это уже довело его до истерики и, вдобавок, Клайв был очень требователен, почти привередлив. Ада все не шла, и тогда он спустился в гостиную и обнаружил, что она заснула. Она, олицетворение здоровья, лежала в глубоком кожаном кресле, свесив руки и вытянув ноги. Грудь ее вздымалась и опускалась, подушкой служили тяжелые черные волосы, а меж полуоткрытых губ виднелись зубы и алый язычок.
— Просыпайся! — в сердцах крикнул Морис.
Ада проснулась.
— Ты же не услышишь входную дверь, когда придет сиделка!
— Как мистер Дарем?
— Очень болен. Опасно болен.
— Ой, Морис, Морис!
— Сиделка пусть остается. Я звал тебя, но ты не слышала. Ладно, иди спать, все равно от тебя никакого толку.
— Мама сказала, мне надо тут быть, потому что даму не должен впускать в дом мужчина — это неприлично.
— Не понимаю, как вы успеваете думать о таком вздоре, — сказал Морис.
— Мы должны заботиться о репутации нашего дома. Он помолчал, а потом закатился тем смехом, что был так неприятен сестрам. В глубине души они вообще недолюбливали Мориса, но боялись в этом признаться. Лишь его смех вызывал у них открытое недовольство.
— Сиделки плохие. Ни одна порядочная девушка не станет сиделкой. И уж наверняка они не из хороших семей, иначе сидели бы дома.
— Ада, а давно ли ты сама перестала ходить в школу? — спросил брат, наливая себе выпить.
— Ходить в школу я и называю сидеть дома.
Он со стуком поставил стакан и вышел из комнаты. Глаза у Клайва были открыты, но он не заговорил и никак не отреагировал на возвращение Мориса. Приход сиделки также не вызвал у него никакого интереса.
XXI
Через несколько дней стало ясно, что с гостем ничего страшного. Болезнь, несмотря на драматическое начало, оказалась не столь серьезной, как предшествующая, и вскоре Клайву было разрешено переехать в Пендж. Внешний вид и душевное состояние его оставались неважными, но после инфлюэнцы это было естественно, поэтому никто, кроме Мориса, не испытывал беспокойства.
Морис редко задумывался о болезни и смерти, но всякий раз он думал о них с отвращением. Нельзя, чтобы они портили жизнь ему и его другу. И он отдавал свое здоровье и молодость, чтобы повлиять на Клайва. Он постоянно был при нем, наезжал без приглашения в Пендж на уик-энды и праздники, собственным примером, а не поучением, стараясь его взбодрить. Клайв не отзывался. Он мог оживиться в компании и даже проявить интерес к проблемам, то и дело возникавшим между Даремами и английским народом, но когда они оставались вдвоем — он погружался в уныние, почти все время молчал, а если разговаривал, то полушутя, полусерьезно, что свидетельствовало об умственном истощении. Клайв окончательно решился поехать в Грецию. Это было единственной темой, за которую он крепко держался. Он обязательно поедет, хотя бы в сентябре, и один. «Непременно, — говорил он. — Я дал обет. Каждый варвар должен хоть однажды увидеть Акрополь».
Мориса в Грецию не тянуло. Его интерес к классическому искусству, слабый и неосознанный, пропал, когда он полюбил Клайва. Рассказы о Гармодии и Аристогитоне,6 о Федре, о фиванских воинах — интересны тем, у кого пусто на сердце, да и то они не замена жизни. То, что Клайв нередко отдавал им предпочтение, озадачивало Мориса. В Италии, которая ему нравилась, несмотря на кухню и фрески, он отказался пересечь море ради еще более священной земли по ту сторону Адриатики. «Я слышал, там ничего не реставрировано, — таков был его аргумент. — Груда древних камней, даже не разрисованных. Во всяком случае это, — он указал на библиотеку Сиенского собора, — что ни говори, находится в рабочем состоянии». Клайв в восторге прыгал по плитам Пикколомини, и смотритель лишь посмеивался вместо того, чтобы сделать ему внушение. В Италии было чудесно — что душе угодно для любителей достопримечательностей — но в последние дни у них вновь зашел спор о Греции. Морис теперь ненавидел одно это слово и со странным упорством связывал его с болезнью и смертью. Что бы он ни затевал: играть в теннис, нести чепуху — во все вторгалась Греция. Клайв заметил его антипатию и дразнил Мориса, причем не всегда по-доброму.
Но Клайв и не был добрым. Для Мориса это явилось важнейшим из всех симптомов. Клайв мог ранить сказанным будто невзначай словом, пользуясь для этого сведениями личного характера. Но он терпел неудачу: сведения его были неполными, иначе он знал бы, что разозлить влюбленного атлета невозможно. Если Морис иногда и огрызался, то лишь потому, что считал гуманным ответить — он не принимал Христа, подставлявшего другую щеку. Внутренне он ни на что не досадовал. Желание быть вместе оказывалось сильнее обиды. Но порой с беззаботным видом он заводил встречный разговор и нарочно задевал Клайва за живое, следуя, однако, собственной дорогой к свету — в надежде, что друг пойдет за ним.
Именно так протекал последний их разговор. Это было вечером накануне отъезда. Клайв пригласил всю семью Холлов поужинать с ним в «Савое» — в знак благодарности за доброту к нему он потчевал их в тесном кругу друзей.
— Если вы на этот раз свалитесь со стула, мы будем знать причину! — воскликнула Ада, кивая на шампанское.
— Ваше здоровье! — провозгласил Клайв. — И здоровье всех дам! Верно, Морис?
Ему нравилось казаться чуть-чуть старомодным. Здоровье было выпито, и лишь Морис уловил подспудную горечь.
После банкета Клайв спросил:
— Будешь ночевать дома?
— Нет.
— Я думал, ты захочешь проводить своих.
— Кто-кто, только не он, мистер Дарем, — вмешалась мать. — Никакие мои уговоры не заставят его пожертвовать средами. У Мориса привычки завзятого старого холостяка.
— В моей квартире все вверх дном от чемоданов, — обронил Клайв. — Я отъезжаю утренним поездом прямо до Марселя.
Морис промолчал на это и пошел за ним. Зевая, они ждали лифт, потом, зевая, поднимались, еще один пролет одолели пешком и прошли по коридору, напоминавшему подход к комнатам Рисли в Тринити-колледже. Квартира, маленькая, темная и безмолвная, располагалась в конце. В ней, как и предупреждал Клайв, был беспорядок, но приходящая домработница приготовила Морису постель как обычно и поставила напитки.
— Опять, — проворчал Клайв.
Морис любил спиртное и не пьянел.
— Пойду спать. Вижу, ты нашел что искал.
— Береги себя. По руинам всяким не шастай. Кстати, — он достал из кармана флакон, — я знал, что ты об этом не позаботишься. Хлородин.
— Хлородин! Твоя лепта?
Морис кивнул.
— В Грецию с хлородином… Ада мне сказала, что ты думаешь, будто я еду на смерть. Почему ты так печешься о моем здоровье? У меня нет страха перед смертью. По-моему, нет более чистого и цельного переживания, нежели смерть.
— Я тоже знаю, что когда-то умру, и не хочу умирать, и ты не хочешь. Если один из нас уйдет, все закончится для обоих. Не пойму — это ты называешь чистым и цельным?
— Да, это.
— Тогда я предпочитаю грязь, — сказал Морис после паузы.
Клайв вздрогнул.
— Что, не согласен?
— О, ты становишься как все остальные. Привык строить теории. Мы не можем спокойно идти вперед, мы постоянно должны предлагать формулы, даже если ни одна из них не подтверждается. «Грязь любой ценой» — это твоё. А я утверждаю, что бывают случаи, когда становишься слишком грязным. Тогда Лета, ежели есть такая река, смывает эту грязь. Но, возможно, такой реки вовсе нет. Греки предполагали не так много, хотя и не так уж мало.
Возможно, забвения нет и в могиле. И наше жалкое снаряжение, быть может, остается с нами навечно. Иными словами, за могилой нас может ждать ад.
— Бред какой-то.
Клайв, как правило, получал удовольствие от своей метафизики. И на этот раз он продолжал:
— Забыть обо всем — даже о счастье. Счастье! Случайное самоублажение — и больше ничего. Вот если бы мы не были любовниками! Тогда, Морис, и я, и ты — оба мы лежали бы спокойные и безмятежные. Мы спали бы вечным сном среди первых людей земли, что возвели себе уединенную обитель…
— Клайв, что ты несешь?
— …или как тайные безвременные роды, нас бы не было, как младенцев, которые так и не увидели белого света. Но, раз уж… Да не смотри ты на меня так серьезно!
— А ты не старайся выглядеть смешным, — сказал Морис. — Для меня твои разглагольствования всегда были темным лесом.
— Слова скрывают мысль. Такова теория?
— Слова производят ненужный шум. Впрочем, мне и до мыслей твоих нет дела.
— Тогда что тебя привлекает во мне?
Морис улыбнулся: стоило прозвучать этому вопросу, как он стал счастлив, и воздержался от ответа.
— Моя красота? — цинично продолжал Клайв. — Но это увядающие прелести. Мои волосы редеют. Ты заметил?
— К тридцати станешь лыс, как яйцо.
— Как тухлое яйцо. Может быть, ты любишь меня за ум? Во время болезни, и после, со мной, наверно, было очень приятно общаться.
Морис посмотрел на него с нежностью. Он изучал его, как в первые дни их знакомства. Только тогда он хотел узнать, какой он, а теперь хотел понять, что с ним стряслось. Болезнь все еще тлела в Клайве, подтачивала его мозг и делала мозг угрюмым и своенравным, но Морис не обижался на это: он надеялся преуспеть там, где ничего не добились доктора. Он знал свои силы. Скоро любовь поведет эти силы и вылечит друга, но в данный момент он его изучал.
— Я склонен думать, что ты действительно любишь меня за ум, вернее, за его отсутствие. Ты всегда понимал, что я глуп. Но ты удивительно тактичен — даешь мне полную свободу и не одергиваешь, как одергивал за столом своих домашних.
Казалось, он ищет ссоры.
— Правда, иногда прижимаешь к ногтю… — Он ущипнул его, желая казаться игривым. Морис вздрогнул. — Что теперь не так? Устал?
— Пойду-ка я спать.
— Ну вот, значит, устал. Почему не ответил прямо? Я ведь не спрашивал, устал ли ты от меня, хотя мог бы.
— Ты заказал такси на девять?
— Нет, у меня еще нет билета. Возьму и вообще не поеду. Может быть, Греция окажется такой же невыносимой, как Англия.
— Что ж, спокойной ночи, старина.
Глубоко озабоченный, Морис удалился к себе в комнату. С чего это все решили, что Клайв готов к путешествию? Даже сам Клайв понимает, что не готов. Всегда такой точный, а тут отложил покупку билета на последний момент. Может, еще и не поедет. Однако выражать надежду значило разрушить ее. Морис разделся и, поймав свое отражение в зеркале, подумал: «Счастье, что хоть я здоров». Он увидел хорошо тренированное, послушное тело и лицо ему под стать. Возмужалость внесла в них гармонию и покрыла то и другое темной порослью. Надев пижаму, он нырнул в постель — встревоженный, и все-таки глубоко счастливый, ибо в нем было достаточно сил, чтобы жить за двоих. Клайв однажды помог ему. Клайв поможет ему опять, когда все переменится, а тем временем он сам должен помогать Клайву, и это чередование будет продолжаться всю жизнь. Когда он засыпал, ему привиделась еще одна картина любви, не столь далекая от ее высшего проявления.
Раздался стук в стену, разделявшую их комнаты.
— В чем дело? — спросил Морис, и потом позвал: — Входи! — ибо Клайв уже стоял на пороге.
— Можно мне лечь с тобой?
— Ложись, — сказал Морис, подвигаясь.
— Мне так холодно и горько. Не могу заснуть. Не знаю, почему.
Морис понял его правильно. Он знал и разделял его точку зрения на этот вопрос. Они лежали рядом, не касаясь друг друга. Вскоре Клайв сказал:
— И здесь не лучше. Я пойду.
Морис не огорчился, поскольку тоже не мог заснуть, хотя и по другой причине, и боялся, что Клайв услышит, как бьется его сердце, и догадается, почему.
XXII
Клайв сидел в театре Диониса. Сцена была пуста, как пустовала уже много веков; амфитеатр был пуст. Солнце уже зашло, хотя от Акрополя за спиной все еще струился жар. Он смотрел на равнины, сбегавшие к морю, на Саламин, на Эгину, на горы. Все смешалось в фиолетовых сумерках. Здесь обитали его боги — и прежде всего Афина Паллада: если бы захотел, он мог бы вообразить ее нетронутое капище и ее статую, уловившую последний отблеск заката. Она понимала всех людей, хотя сама была девой и не имела матери. Годами он стремился к ней, чтобы возблагодарить, ибо она вырвала его из трясины.
Но он увидел лишь умирающий свет и мертвую землю. Он не произносил молитв, не верил ни в одно божество и знал, что прошлое лишено смысла так же, как настоящее, и служит прибежищем для трусов.
Наконец-то он решился написать другу. Его письмо было уже на пути к морю. Там, где одно бесплодие смыкается с другим, его погрузят на борт, и поплывет оно мимо Суния и Киферы, вновь окажется на суше, потом опять на корабле и вновь на суше. Морис получит его с утренней почтой, отправляясь на службу. «Вопреки своей воле я стал нормальным. Я ничего не могу с этим поделать». Эти слова уже написаны.
Он устало спускался по амфитеатру. Ну что тут поделаешь? Не только в сексе, но и во всем, люди идут вслепую, возникнув из слизи, чтобы вновь обратиться в слизь, когда минует эта случайная череда событий. Mη φυναι τoν απαντανικα λoγoν — вздыхал актер на этом самом месте две тысячи лет тому назад. Но даже эта реплика, более далекая от суетности, чем остальные, была суетой.7
XXIII
«Дорогой Клайв,
пожалуйста, возвращайся сразу, как получишь это письмо. Я изучил расписание, ты можешь уже во вторник на следующей неделе быть в Англии, если отправишься сразу же. Я очень встревожен твоим последним письмом, поскольку из него видно, что ты очень болен. Я целых полмесяца ждал от тебя вестей и теперь вот получаю две строчки, которые, как мне кажется, означают то, что ты больше не можешь любить людей одного с тобой пола. Вот вернешься, тогда посмотрим, так ли это!
Вчера заезжал к Пиппе. Она поглощена тяжбой и считает, что твоя мать совершила ошибку, перекрыв дорогу. А матушка твоя сказала сельчанам, что она сделала это вовсе не назло им. Я заезжал, чтобы узнать новости о тебе, но Пиппа тоже не получала от тебя писем. Тебя, верно, позабавит, что в последнее время я начал слушать классическую музыку и еще занимаюсь гольфом. В конторе «Хилл и Холл» дела идут сверх ожиданий. Мама после долгих колебаний и сборов уехала на неделю в Бирмингем. Вот и все новости. Телеграфируй мне, когда получишь это письмо, и еще раз из Дувра.
Морис».
Клайв прочитал это и покачал головой. С приятелями по отелю они пошли на Пентеликон, и на вершине горы он разорвал письмо в клочки. Он перестал любить Мориса — в этом надо было честно признаться.

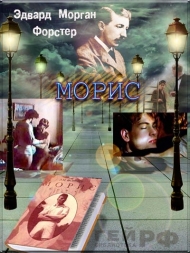



1 комментарий