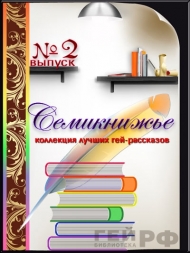Cyberbond
Соглядатай
Аннотация
Забавно вспомнить свои полудетские фантазии над вполне детскими еще книжками когдатошних времен…
Ну, и мысль о том, что естество важнее прочих наворотов нашего сознания, принимаемых за решающие условия нашей жизни…
Забавно вспомнить свои полудетские фантазии над вполне детскими еще книжками когдатошних времен…
Ну, и мысль о том, что естество важнее прочих наворотов нашего сознания, принимаемых за решающие условия нашей жизни…
 В конце мая мы выехали на дачу. Я, мелкий и вредный, с книжкой рассказов из русской истории, в которой как бы на время и поселился. Началось в моей жизни то, что невежды зовут зачем-то не раем, а только каникулами.
В конце мая мы выехали на дачу. Я, мелкий и вредный, с книжкой рассказов из русской истории, в которой как бы на время и поселился. Началось в моей жизни то, что невежды зовут зачем-то не раем, а только каникулами.…Итак, в самом начале лета я был представлен известному нашему полководцу Суворову. Я волновался, зная, что он прыток, как сумасшедший, и весь — сплошной парадокс. Однако ж, будучи наглецом, из чувства противоречия, я напыжился быть полной противоположностью тому, что могло бы понравиться великому человеку: напудрился, напомадился, надушился.
В шелковых чулках и лаковых туфлях, в мундире, который стоил 500 золотых, я предстал пред ним, отсалютовав эспонтоном. И после сделал светский поклон по всем правилам: шаркнул ногой, помахал треуголкой, держа при сем корпус в прилично согбенной позиции.
Суворов тотчас подпрыгнул, обмер. Затем ноздри великого человека задергались так, что и кончик носа его задвигался, покраснев:
— Помилуй бог: п а х у ч к а![1] — вскричал он, всплеснув короткими ручками.
— Простите, ваше превосхо?..
— Пахучка, говорю, пахучка! ДухИ!
— Это французские, — сказал я, улыбаясь нагло-милостиво молодою своей улыбкой. Дескать, что взять с тебя, фрунтовой кошон?!
— Помилуй бог, французские…
Он как бы даже и стушевался, точно начальством теперь сделался я, но тотчас кольнул меня смеющимся взглядцем и приказал по-немецки:
— Князь, извольте сопровождать меня сей же час! Я покажу вам войска.
Подали лошадей под жестким казацким седлом. Мои туфли и чулки как бы на мне заранее (мысленно) вспыхнули.
В тот день Суворов проволок меня на коне через реку, болото, лесок, пустошь. Комья грязи летели из-под копыт его лошади мне в лицо.
Ах, у меня был заранее зуб на него (о чем я скажу в свое время), но тут этот зуб превратился в слоновий бивень. Я молча поклялся всеми силами мстить, мстить, мстить этому верткому, как комар, герою.
Он же, что странно, остался доволен моею каменною физиономией:
— Б у д е т толк! — сказал Суворов как бы себе. И, взглянув на меня, тоненько, хитро рассмеялся.
*
Сестра моя княжна Аграфена была прекрасна и так же тупа, как статуя. Словно лоб ее стягивала повязка, не допускавшая в голову никаких иных мыслей, кроме как о замужестве. Но замужество пугало ее, потому что казалось сестре (отчего-то) стыдным, бессмысленным, «грязным».
Аграфена была старше меня на три года и, повторю, бестрепетна, хотя, порой из-за глупого совсем повода (например: ах, лето — оно через месяц закончится!) молча беззвучно плакала, уперши упрямый лоб в любое пространство перед собой.
Бабушка, маленькая, кругленькая, в чепчике, края которого крылышками задорно топорщились над ее ушками, бодро била нас по щекам и закармливала, — тем ее заботы о нас и приканчивались.
Если бы не мое легкомыслие и не Аграфенова тупость, мы, пожалуй, страдали бы в обширном бабушкином доме, полном зловещих «дур» приживалок, большею частью вороватых, и хмельных лакеев, сонных, как осенние мухи.
Моим счастьем было лишь то, что бабушка приставила ко мне (подарила, можно сказать) то ли татарчонка, то ли калмычонка Муслимчика с густым черным волосом и узкими пламенными глазами.
Муслимчик был совершенно дик. Стоило его чем-то задеть, он бешено скалился и кидался на любого обидчика (даже и на меня). Но как только его щекотали за ушком и ласково окликали «Муслимушка, миленький», он кувырк голову тебе на плечо и ну чесаться своим жестким ворсом о щеку, о шею окликнувшего, точно умильный кот.
Нечего говорить, что с Муслимушкой у меня очень рано случились свои тайны — тайны свойства, может быть, и греховного, но приятного, — вы меня понимаете…
Мой раздушенный гувернер Арно был на родине у себя парикмахером. Благодаря ему я рано познал прелесть развратных французских романчиков. Именно носатый Арно гордо утвердил меня в знании, что нос мужчины многое может раскрыть о характере его естества, панталонами скучно сокрытого.
Среди дворни я, Муслимчик и Арно (очевидно, руководясь своим же назиданием насчет носа) выделили арапа Ибрагима, рослого негра с всегда удивленным лицом и носом именно картофелеобразным, о, как бы бомбою! Ибрагим возил бабушку по парку в колясочке — остальное время проводил в девичьей, за два года пополнив дворню тремя смугленькими творениями от разных женского полу лиц. Но и против наших с ним упражнений он вовсе не возражал.
Можно ли считать это все развратом, не мне судить.
*
В осьмнадцать лет я уже числился поручиком и по протекции дяди моего князя Прозоровского, тестя суворовского[2], явился в Ногайские степи, где случились тогда военные действия с туземцами.
После «прогулки» с Суворовым я едва приплелся к мазанке, мне отпущенной у самой стены городка Ейска, где квартировали наши войска. Муслимчик сидел на приступке, вперив взор в полутьму вечера, в котором, однако, еще пламенели вершины далеких Кавказских гор, покрытые снегом и как бы облитые в этот час прощальным оранжевым заревом. Вид прекрасный, но я был слишком измучен, чтобы сполна насладиться им в сию минуту.
Муслимчик лишь на третий мой оклик очнулся от грез. И тотчас метнулся ко мне, пораженный истерзанным видом барина. Я приказал согреть воду: хотел вымыться в походной ванне моей. Муслимчик помог мне раздеться, но когда увидел алые натертости моих бедер (ибо седло было слишком жестким, а кюлоты[3] слишком при этом узкими), — итак, увидев эти обширные алые пятна, он всплеснул руками и плачевно загомонил на своем языке, который и я понимал отчасти.
Между прочим, за кюлоты он обозвал меня дураком, которому лишь бешеных кобылиц под хвосты целовать. Но точно желая загладить эту невольную дерзость, бросился целовать и лизать мои пятна, что было во всех смыслах очень, очень чувствительным! Натирая их мазью, мы и совсем увлеклись, отдав дань Эроту уже сполна и взаимно.
О, юность, слишком пылкая, чтобы так глупо хворать!..
После я, как пишут ныне досужие романисты, «провалился в сон». Я и впрямь окунулся в глухую, бескрайнюю тьму, вполне в духе поэзии чудесного Оссиана, где пускай бродят призраки, но нет никаких мятежных ногаев и никакого чересчур находчивого Суворова. Все сомненья, все печали и страхи отлетели от меня на некоторое время, — но на время, мне затем показалось, такое краткое!
Я почти тотчас открыл глаза, будто меня толкнули, и обнаружил, что в мазанке совершенно один. Теплый, нежный Муслимушка, подле которого я вот только что так блаженно уснул, — исчез! Может быть, я и проснулся так внезапно в самую ту минуту, когда он покинул дом.
Тревога предчувствия сжала мне сердце…
*
Но прежде, чем продолжить, я должен вернуться в моем рассказе к той памятной всему моему телу прогулке с великим Суворовым. Ибо, как родственник супруги его, тогда — и не в первый раз — очевидно ему неверной, я стал мишенью его внезапного душевного бешенства, точно виноват был сам, что и я — Прозоровский.
— Помилуй бог! Что за семя, что за племя вы, Прозоровские, долгоносы лукавые! — кричал он отрывисто, загнав меня в болото по брюхо лошади. (Я же в такой оказии чувствовал себя кентавром, обреченным в жертву разгневанному Юпитеру). — Секунд-маиор! Иван Ефремыч-то. Сам Сырохнев! Экое романтичество! Да и он молодец! Отчего же не пошалить с женой-то, с супругой-то генерал-поручика[4], хапнуть начальникова, коль само на хер плывет? Небось, тем себя тож в генералы и произвел! Но моя-то, моя? Варвара-то! Варюта! Ах, все вы, Прозоровские, воры сердец да безбожные в а р в а р ы суть!
Сырохнев Иван Ефремович был статный офицер его штаба. Это особенно задевало самолюбье Суворова: исправный служака, чудо вполне богатырь, — и предал своего воспитателя, воинского начальника.
— У нее на секунд-маиоров — голод бабий, скажи! С моим-то с племянничком, с Николаем-то Сергеичем, с секунд-маиором тож, — и с ним ведь была! Тут я, пожалуй, не придерись: и он Суворов!..
Полководец матерно выругался, обнаружив большое искусство в том и всю пылкость оскорбленной мужской фантазии.
Мне сделалось жаль его. О, как хорошо, что судьба освободила меня от возможной всякому мужу неверности жениной!..
На моем лице нечто тут прочитав (тень, наверно, сочувствия), Суворов замолк, потом произнес тихо, тоном почти отцова внушения:
— На б а б е, смотри, не женись, только на девке, князь! Моя-то бабой уже под венцом была. А кто виноват — пойди дознайся!
Он хлестнул свою лошадь. Та мигом вымахнула на берег. Я за ним виновато последовал.
Перед нами расстилалась плоская, унылая степь. У края неба вздымались горы, похожие вершинами на глыбы весеннего, уставшего от солнца хмурого перед смертью льда. В травяном колышущемся просторе, вроде таком глазу податливом, тянулась слишком человеку несоразмерная пустынность, однообразно тоскливая, точно необоримое наваждение.
— Не видать их пока! — Прищурился Александр Васильевич, поднеся руку козырьком ко лбу. — А ведь время им собираться государыне присягать.
И он, будто начисто забыв супружескую обиду, коротко посвятил меня в обстоятельства местной степной политики.
*
— Места сии благодатны неизъяснимо. Не земля, а пиздища живородящая! Но народец дерзкий здесь обретается и смотрит в сторону Порты[5], враждебной нам. Посему решено перевесть народец ногаев к Уралу, а сюда казачков наших переселить, границу тем укрепить.
— Но законно ли так, ваше превосходительство? И захотят ли они?
— Э, мой друг, чья сила, того и воля! Хотя ногаи — народец отчаянный! Себя, жену, детей, скот зарежут, а не сдадут в полон. Гордецы-молодцы! Всяк казан[6] помнит, что Чингизова семени!..
— Такой способ не есть ли путь к их истреблению?
Он зорко взглянул на меня:
— Верно мыслите, князь! Почему и стараюсь мирно с ними покаместь соседствовать. А дале — кто кого согнет, тот того и бьет! Судьба всех человеков, увы, такова есть! Однако, кажется, подъезжают…
Со стороны гор появилось серое облачко пыли. Оно росло на глазах, и вот уже ясно стали различимы черные, белые, синие черкески на всадниках, гарцевавших плотною кучей.
— О, Муса-бей дорогой первым пожаловал! — всплеснул руками Суворов. — Так и знал! Умный старик! Люблю его.
Он дал шпоры коню. Я последовал за Суворовым. Муса-бей оказался сухоньким старичком с длинной, хоть и негустой белою бородой, с раскосыми по-монгольски глазами, но стройным орлиным носом, вполне кавказским. (Потом я заметил, что эти черты странно перемешаны в лицах ногаев).
Пламенного цвета шелковый чекмень Мусы был несколько запылен, из-под белой папахи молодо блестели зоркие, быстрые глаза.
Не слезая с коней, Суворов и гость обнялись.
— Сын мой! Сынок!.. — произнес ногайский князь растроганно, даже (мне показалось) любовно.
Суворов, который за несколько минут до того с холодным фатализмом политика обсуждал участь ногаев, сам был сердечно тронут и чуть слезу не смахнул с ресниц.
Смугло-пыльные лица остальных ногаев были непроницаемы.
Назавтра назначенное принесение присяги государыне завершилось обширным пиршеством. О, много ногайских мурз и джигитов перепилось тогда, дерзостно нарушив запрет пророка — как бы в доказательство верности теперь уж престолу российскому!..
Наши все переглядывались.
— Эх, будто ведь с горя пьют! — кто-то из офицеров изрек с сожалением.
*
Итак, возвращаю благосклонного моего читателя в раннее утро памятного дня присяги, когда, проснувшись, я обнаружил, что Муслимчик исчез.
Первым делом я, конечно, прислушался. Где-то в городке пели петухи. Послышался стук копыт.
— Салам, Муслим! — произнес хриплый низковатый голос. Словно он не здоровался, а приказывал.
— Салам, Иса! — ответил Муслимчик. Такого тона у него я еще не слыхал! В голосе его мне почудились растерянность и заранее будто покорство.
Разговаривали по-ногайски, но язык-то благодаря дружбе с Муслимом я понимал. Другое дело, что говорили тихо, порой слов было не разобрать.
— Ты, Муслим, даже пахнешь теперь, как урус!
— Но душа правоверного.
— Делом докажи! Твой господин по виду дурак. Я видел его вчера. Дурак?..
— Не так, чтобы… Молодой еще.
— Пока дурак, нужно пользоваться. Богат?
— Богат, очень. Но всё в руках у бабки его — он сам и сестра его.
— Есть сестра у него? Здесь?
— Нет, в России.
— Жаль. Сколько у него с собой золота?
Муслимчик назвал троекратно меньшую сумму, чем на самом деле была со мной.
Вероятно, на лице собеседника выразилось недоверие.
— Он родич Суворова, — добавил тогда Муслим не без гордости, будто стремясь поправить мой кредит у собеседника своего.
— Хорошо! Это — главное.
Полушепот.
— Ты хочешь выкрасть его, Иса?! За выкуп? — почти вскрикнул Муслим.
— Выкуп — да, но не главное! Выкуп — я, я хочу, а сам Тав-султан, думаю, захочет, ха, по частям посылать Суворову родича! Чтобы урусы ушли.
— Э, Иса, он мне, как брат! И не Суворов приказ такой отдать может, как Тав-султан хочет. Даже и не Потемкин. Сгубишь моего бессмысленно!
— Ты забыл, кто ты?!
Свист плетки. Муслим охнул.
— Скажешь ему — сучком, упряжью. Скажешь уж что-нибудь! Вечером еще приду. И помни, Муслим, голову твоей матери-невольницы, е с л и ч т о, найдешь на этом пороге. Если не согласишься!
Топот копыт, смягченный густою пылью.
Муслим явился не сразу. Я притворился, что сплю, но меж ресниц следил за ним. Лицо парня было совершенно потеряно, бледно сквозь загар, и алый свежий рубец от удара плети сбегал со щеки на шею.
Муслим сел на приступку у самой двери и оттуда долго, пристально смотрел на меня. Кажется, он не мог понять, сплю ли я или притворяюсь. Точнее бы так: он видел перед собою спящего, но чувствовал в этом подвох.
— Муслим, я ведь с л у ш а л вас, — сказал я ему по-ногайски, не желая притворствовать долее. — Твоя мать — раба?
Муслим опустил голову. Слеза покатилась по алому следу.
Я встал, подошел к нему, сел рядом и обнял за плечи, прижав к себе.
— Я знал, что любой человек всегда один на один с этим миром, и все связи ему даны здесь, как сеть, на него накинутая судьбой, дабы его приневоливать.
Муслимчик глядел на меня с изумлением. Кажется, я выдал сию истину по-французски, и он, слава богу, не понял ее. Ах, при чем здесь спорные истины досужих умников, когда речь идет о насущнейшем?!..
— Муслимчик, мы должны непременно спасти ее — и сами спастись! Всем назло!
Я сказал это горячо, как заповедь, и по-ногайски.
Муслим резко, с надеждой, впечатал свое ухо (но губы, наверно, хотел) мне в нос так, что кровь полилась.
О, порыв чистых сердец!
Кровью из моего носа тут и сплотились мы о к о н ч а т е л ь н о!..
*
Среди объятий, слез отчаянья и все же надежды Муслимчик поведал мне то, что скрывал все это время — историю своей жизни до плена. Подумать только — азиятская лукавая душа его таила в закоулках своих память об обстоятельствах, едва ли не печальнейших, чем нынешнее рабство его в доме моей бабушки!
Итак, Муслим был сыном Азата, небогатого мурзы из окружения Тав-султана — главного недруга России у ногаев в те годы. Иса и Муслим были его сыновья, но — Иса от законной третьей жены, а Муслим — от купленной на невольничьем рынке наложницы.
Сыновей у мурзы от разных женщин имелось восемь, так что самым младшим, Муслимом, пренебрегали, и никто, кроме матери, не оказывал ему знаков тепла душевного.
Однажды разбойники выкрали Муслима и продали его одному русскому офицеру. Тот никак не мог сладить с горячим нравом полуребенка и перепродал его моей бабушке, справедливо полагая, что в «бабьем доме» Муслим или сгинет (и поделом ему, непокорному!), или обретет свое холопское «счастие». Всеобщая безмятежность, царившая в доме бабушки, сделалась для сурового дикаря родом как бы небрежного добродушия со стороны окружающих. Ну, а во мне он и впрямь друга обрел — и друга сердечного!
И вот теперь, когда ногайские мурзы и джигиты собрались приносить присягу императрице в тесном Ейске, Иса приметил Муслима в толпе, узнал его, выследил и по приказу горячего и неумного фанатика отца решил сделать орудием жестокой как бы международной интриги!
При горестных сих словах Муслимчик так весь зашелся, что чуть в обморок не упал. Мне пришлось глубоким, чувствительным лобзанием вернуть его к жизни и к необходимому, неизбежному теперь действию.
— Муслим, — сказал я ему, — я должен обо всем рассказать Суворову! Он человек умный да и ко мне, как будто, неплохо относится.
— Он спасет, может быть, нас! А мать?
— Один только путь: выкрасть ее, Муслим!
Тот выставил зубы, как волк:
— О, я выкраду, да, ее! Проникну туда и…
— Но Иса явится уже ввечеру, не найдет тебя и тот же час заподозрит для них неладное, — напомнил я.
Мы задумались.
— Сначала нам надо узнать, где находится твоя матушка. Ежели она здесь, в свите твоего отца (там же ведь видел я много прислужниц у их шатров), то нам похитить ее надобна только ночь. Но ежели она в становище Азата-мурзы… Оно, ведь за Кубанью, рекой?
— День пути.
— Давай, сделаем так… — и я посвятил его в свой план.
— А пока — в р е м я т я н у т ь! — закончил я.
И получил горячий поцелуй, благодарный и радостный, — и меткий на этот раз.
*
Все, что случилось в Ейске в тот день, выглядело истинным сумасшествием! Ногайские мурзы с многочисленными свитами прибывали все утро, разметав свои шатры у земляной насыпи, которая защищала городок от совсем недавних их же кровавых набегов.
Посередь единственной площади установлен был некий помост, прикрытый ковром, на нем стол под богатою тканой скатертью. На столе покоились Библия и Коран. Осененный знаменами, на отдельной приступке сиял бронзовый свеженачищенный бюст нашей императрицы. (Должно быть, наивное представленье ногаев мыслило его золотым).
Вынесенные из дома градоначальника кресла, впрочем, довольно жалкие, заняли в час пополудни Суворов и начальство, военное и гражданское. Явились также мулла и православный священник.
При виде меня великий мой родственник (и вчерашний мучитель) махнул рукой, указав приблизиться к самому помосту и встать за его креслом. Сердце мое при сем его жесте сжалось предчувствием: ведь где-то в толпе ногаев скрывался сейчас Иса! Суворов сам невольно указал ему на меня.
Я почувствовал себя добычей, чьим-то зорким взглядом тотчас отмеченной.
До того мига я был в сомнении, посвящать ли Суворова в наши тревожные обстоятельства. Но дерзость юности соблазнила меня действовать самостоятельно. Возможно, в этом и была роковая моя ошибка!
Я оглянулся, следует ли за мной Муслим. Однако его и след простыл. В толпе русских рубах, армяков и одежд ногайских его синий чекмень слился с массой подобных ему. (Надобно указать: Муслимушку в нашем доме обряжали всегда в нарядный ногайский чекмень с серебряным пояском и в мягкие татарские сапоги, что самому ему нравилось до чрезвычайности. Он признался мне как-то, что таким нарядным еще никогда не ходил).
Итак, жадная до зрелищ толпа разделила нас.
Тут Суворов встал и сказал несколько горячих, но кратких слов о величии России и дальновидной мудрости местных жителей.
Дальше затянул молитву их мулла, напевно и жалостно, с грустными переливами.
Первым вышел к столу Муса-бей. Просвещенный сравнительно человек, почтенный старик принес не только устную присягу на Коране, но даже и расписался красивыми и таинственными арабскими знаками.
После Суворов обнял его, и они расцеловались троекратно по-русски.
Дальше началась однообразная долгая церемония: мурзы выходили к столу, клялись на Коране за себя и за своих соплеменников, иные ставили подписи или отмечались оттиском пальца.
Их было довольно много, я заскучал. О, надо найти Муслима! Шаря взглядом по толпе, я наткнулся, наконец, на синий его чекмень, схваченный серебряным поясом, с кинжалом в серебряных ножнах. Черная папаха бросала тень на пол-лица, и только свежий прелестный рот над решительным подбородком, — эти родные мне, горячо меня час назад целовавшие губы!..
Я отступил от кресла Суворова и смешался с толпой, стараясь поскорее пробиться к Муслимушке моему. Вместе — о, вместе нам и сам черт не брат!
Проделав в толпе немалую эволюцию, я очутился рядом с ним и тронул его за пояс. Он рассеянно прошелся ладонью по моему мундиру, не оборачиваясь, лишь краем глаза отметив меня. Скучная церемония слишком уж увлекла его.
Как тепло, как нежно душа волнуется, когда стоишь рядом с тем, чье сильное, ловкое, дерзкое тело еще час назад было в твоих объятьях, в твоей алчной, ласкающей власти!..
— Любимый! — шепнул я ему на ухо по-ногайски. Черная его папаха вздрогнула, и Муслим крепко сжал мою руку. В этом пожатье была такая сила, такое сердечное участие — е г о сила, е г о участье сердечное!
Тело мое нескромно откликнулось на его пожатье — так, что я даже смутился: увидят ведь!
Я повернулся к нему несколько боком, чтобы только он заметил неуместное сейчас, неудобное, но неизбежное мое возбуждение.
Муслимушка нечто прошептал — какую-то длинную фразу по-ногайски, но одними губами, так что я не мог разобрать ее.
Улыбка коснулась его губ: он уловил мой недоуменный, вопрошающий взгляд, — и лишь еще крепче, еще сердечней сжал мою руку…
Есть неизъяснимая сладость в единении двух влюбленных сердец посередь равнодушной, ничего не подозревающей толпы! Оно подобно объятью на плоту среди грозного океана — словно мы дразним судьбу и торжествуем над ней, хотя бы даже на миг…
*
…Уже церемония подходила к концу. Уже потянуло дымком от костров, разложенных у земляных укреплений, — там готовилось жирное, обильное угощенье новым российским подданным. Уже солдаты выкатили первую бочку с вином под гул одобрения собравшихся русских и ногайских молодцов.
Суворов приметно скучал однообразьем происходившего, искал быстрыми глазами кого-то, — возможно, меня?.. Приятно было думать, будто я нахожусь сейчас вне пределов его власти. Явилась и мысль, что в нашем с Муслимом чувстве мы независимы перед любой властью земной. Заблужденье романическое — и тем более сладостное!
Кажется, мое настроение передалось Муслимушке: он улыбался отрешенно, блаженно, едва (я заметил) удерживаясь от более явного проявленья чувств.
Самое время было бы нам уединиться сейчас, отринув, забыв всё окружающее, что прямо до нас не касается!..
Тут кто-то взял меня за кушак сзади, и довольно решительно.
— «Иса!»
Не сразу решился я оглянуться. Тот, кто держал меня за кушак, словно обратал мою волю и потягивал на себя, как будто нетерпеливо. Наконец, я оглянулся.
Черная папаха, синий чекмень и лицо — то же почти лицо, что у Муслима, но суровое и тревожное. Какое сходство! А ведь только братья единокровные!..
Я перевел взгляд на Муслимушку. Он в этот миг внимательно, даже алчно уставился на помост, где Муса-бей говорил что-то своим соплеменникам, по тону увещевая или напутствуя их.
Одно лицо!.. С минуту я был, как пловец в море, вдруг потерявший из виду берег. Кто есть кто из двоих?!
Тут догадка пронзила меня: тот, кто держал мою руку, был Иса, а этот, сзади — Муслим! Он что-то порывался шепнуть мне на ухо, но не мог изловчиться: толстый ногай в черной черкеске и косматой папахе, громко сопя, все время оттирал его от меня, будто бы по рассеянности.
Церемония, между тем, закончилась. Толпа с гвалтом повалила к бочке. Оглянувшись на меня, Иса приметил Муслима, выпустил мою руку и мгновенно затерялся в толпе.
— Это Иса! — почти прокричал Муслим мне на ухо уже очевидное.
Толстый ногай оглянулся на нас и гнилозубо осклабился.
*
С трудом мы выдрались из толпы.
— Я знаю! — объявил Муслим, тяжело дыша. Глаза его бегали. Растерянность, тревога, надежда боролись в нем.
— Что?! Что знаешь ты, сейган (любимый)?
Муслим коротко рассказал. Среди шатров, раскинутых ногаями у земляных стен города, он нашел обиталище Азата-мурзы. Мать Муслима была там среди прочих прислужниц.
— Я видел ее! — вскричал Муслимушка. И зарыдал одним голосом, совершенно без слез, по-птичьи клокоча всем горлом.
— Прекрасно! — ответил я, сжав крепко его за плечи. — Тем проще будет избавить ее из неволи!
Первый порыв мой был — за помощью обратиться к Суворову. Я кратко изъяснил ему положение, не углубляясь в наши с Муслимушкой отношения.
— Так ты, поди, и не женишься? — Суворов остро взглянул на меня и усмехнулся краешком губ, мне показалось, презрительно.
— Ваше превосх… Ведь тут дело о жизни человеческой! — не смутившись ничуть, взмолился я. И дерзко добавил, потеряв уже голову. — Или вам хочется получать по частям прегадкого Прозоровского?..
Суворов вскинул брови, взглянув на меня с любопытством уже уважительным:
— Ежели таким узлом дело у вас… Но кто я, чтобы вас судить?
Он задумался.
— Ты поимей в виду, князюшка: невместно сейчас, в день присяги, учинять суетню вокруг блядства вашего. Здесь интерес державы Российской! А ногай твой не сдаст тебя, думаю… Ну, ежели что, одной бабенкой меньше станет, увы!
Он подмигнул мне и потрепал по плечу:
— Крепитесь, князь! Вы есть слуга престола нашего и отечества! Засим — не смею задерживать!
То, как Суворов бездушно отнесся к нашей истории, потрясло меня. Конечно: он был прав — прав кругом! Но ведь и действовать не запретил!
Новый план сложился тотчас.
— Муслим! Айда (пошли)!
*
План мой был наивен и дерзок одновременно. Впрочем, обстоятельства, как будто, способствовали ему. Мурзы уселись за столы вместе с русским начальством, прочие разбрелись по городу и у его стен, раскинув достарханы на траве, на земле. Вино полилось рекой. Молодые ногаи там и тут зачинали пляски свои. Дикая удаль и точность, опасная меткость движений поразили меня. Это были дерзкие пляски войны, а совсем не веселья.
За столом начальства Муслим указал мне Азата-мурзу, присягу которого я тогда, увлеченный Исой, пропустил. Азат был сорокалетний ногай в белой папахе и черном чекмене, рослый, статный, с довольно густой для ногая окладистой бородой. Отрешенный, рассеянный вид говорил о том, что мысли его не здесь. Темное узкоглазое лицо было точно выточено из дерева и, кажется, отродясь добра никому сулить не могло — не умело.
Я взглянул на Муслима. Лицо того было непроницаемо.
Мы выбрались за городской вал, прошли меж шатров и палаток. Муслим напрягся, как тетива, вглядываясь в суетившихся с угощеньем женщин.
Вдруг он встал, как вкопанный, и не сразу голос к нему вернулся.
— Мама! — хрипло выдавил он по-ногайски, указав на худенькую почти старушку, плотно покрытую серым с малиновою каймой платком.
Черты лица ее были измождены, но когда-то, вероятно, красивы. От матери Муслиму досталась некоторая мягкость в лице, но в целом он был больше похож на отца.
Женщина наливала кумыс из бурдюка в кувшин, чтобы нести к столу.
Я огляделся, запоминая место, где был шатер (по видимости Азата) и весь путь к нему. Чья-то черная папаха мелькнула между палаток, но более людей поблизости не случилось.
— Тихонько покличь ее?.. — предложил я Муслиму.
— Нет! Она женщина, — покачал головой Муслим. Он боялся, что вскрик нечаянной радости его матери может нам всем повредить сейчас.
Муслим отвернулся. Я понял: прячет слезы мой дорогой сейган.
Среди хмельных, однако же стройных песен, треньканья зурн и гудения дудок, среди криков, как будто, веселья и удали мы пробирались в нашу мазанку, как всему чуждые здесь настороженные изгнанники или лазутчики.
Кажется, с этих минут я полюбил Муслима еще глубже, еще основательней!
*
В нашей хижине на столе меня ждал конверт. В нем было два письма: по-русски от бабушки и по-французски от Аграфены. Бабушка извещала с деловитой ворчливой радостью, что «эфтот олух граф Зорин Петр Ильич, сосед, приехавши из града Неаполя и привезши оттуда тьму всякого каменного хламу побитого древнего, умом, видать, вовсе тронулся и, влюбившись в нашу дуреху, зовет ее под венец. А та, негодяйка-то, и согласна, лишь бы от ненавистной бабки сбежать, коль сжить ее со свету пока что не удалось».
(Бабушка в нас души не чаяла, но представляла всегда дело так, что мы ее завзятые погубители).
Также я был извещен ею, что дворня от рук вовсе отбилась, и рябая Матрешка «сёмый месяц ходит брюхата, а от француза иль от арапа, сама не ведает, и ждем, когда натура новорожденного укажет нам мерзавца родителя».
Письмо сестры являло грустную противоположность бабушкиному уютному ворчанью. Аграфена сообщала, что еще не решила, какие чувства испытывает к графу, «но ясно, как день, что замужество — к несчастью, единственная возможность покинуть мне дом, в котором полно страстей столь низменных, что и приличных слов для их обозначенья нет. При всей распущенности твоей ты человек умный, и хотя бы рассудком, если не чувством поймешь, каково девушке жить посреди этих гротескных игр приапических! Я иду замуж, как в монастырь, и лишь надеюсь на защиту и пониманье графа, человека все-таки просвещенного».
О, бедная Аграфена! Однако упреки ее принять на свой счет я, конечно, не мог, имея теперь опыт любви, которая лишь ее суровому девственному неведению могла показаться недостойными играми мосьё Приапа.
Все же я спросил у Муслима, не ровесник ли он с Исой. Тот оказался на два месяца старше. Теперь стала понятна причина разительного сходства их. Но что бы сказала строгая Аграфена, живи она под законом магометанским?..
Я спросил Муслима: ревность, вероятно, не в обычаях мусульманок? Он возразил: мать Исы, молоденькая и злая, страшно возревновала его матушку, всячески утесняла ее, распространив свою ненависть и на Муслима — в особенности за сходство его с Исой.
Что ж, никакая религия не отменит естественных чувств человеческих — любой бы вере дОлжно подстраиваться под них!..
Между тем, ночь незаметно приблизилась. Обговорив еще раз наш замысел, мы стали тревожно ждать.
*
Иса явился лишь за полночь. Муслимушка ждал его у двери снаружи с мешочком золотых монет, которые он якобы для него выкрал у барина. Иса, по словам Муслима, был алчен неимоверно, блеск золота ослеплял разум его. На это мы и надеялись.
Я заранее был слабо связан по рукам — по ногам и завернут в кошму. Рот был завязан платком. Бесформенным свертком лежал я в комнате у самой двери.
Наконец, дробный топот копыт.
— Салам, Муслим! Ну как?
— Салам, Иса! Я согласен.
— Молодец! Наши все перепились, ослы.
— Праздник! Он тоже напился. Я свяжу его, приготовлю. Но знаешь, Иса…
— Говори!
— Ты мать мою привези сначала…
— Обмен? Ты не веришь мне?
— Я бедный человек, раб. Пусть хоть мать будет со мной. А что князя выкрали, старая барыня меня не убьет: только свяжи мне руки покрепче. А мать пока в саду спрячется. Потом скажет: сбежала сама. Привезешь — я покажу, где его золото, мне оно ни к чему. Вот тебе в залог, пока немного, а я теперь вор, твой сообщник. Ходу назад-то нет! Веришь мне?
— Якши (хорошо)! — довольно воскликнул Иса.
Звякнул мешочек. Топот копыт.
Именно в этот миг я почувствовал, что, быть может, на краю гибели нахожусь.
Муслимчик вернулся в дом, погладил мой куль во всю длину.
— Сейчас вернется, — прошептал Муслим. Столько было в его голосе печали, нетерпения, тревоги и нежности — и ко мне, и к несчастной родительнице его! О, слышала б это моя сестрица!..
Он еще раз нащупал карман моего кафтана. Нож был на месте. Отчего-то мы верили, что Иса не будет разворачивать кошму до конца: увидев, что я связан, так и оставит лежать до утра беспомощным свертком, наутро намереваясь в их аул переправить тайком.
Было ль сие прозренье — или наивность, для меня смертельно опасная?..
В эти полчаса мы с Муслимушкой не обменялись и пятью, наверно, словами.
Мы ждали — каждый своей судьбы.
*
И вот опять нетерпеливый стукот копыт! Муслим метнулся за дверь. Его вскрик — и женский вскрик почти тотчас, и женский плач, причитания.
— Уйди к конюшне пока, у нас не всё дело сделано, — приказал Иса женщине.
Муслим и Иса вошли в дом.
Край кошмы был резко отброшен, и два лица склонились надо мной. Два лица? Нет, только два подбородка неясно проступили в лунном свете, на остальное падала густая тень папах. Но подбородки, но губы были совершенно одинаковы! Это и потрясло: я сейчас не смог бы сказать, кто здесь кто! А ведь оба питали ко мне противоположные чувства! Голос крови был так в них разителен, что на миг я испугался, не предаст ли меня Муслимушка?..
Перед тем, как Исе вернуться, я выпил две рюмки — ведь я должен был представлять пьяного. Я и представился пьяным и спящим, и храпел исправно, густо, с фиоритурами, полуразвлекая этим (о юность!) себя.
Иса потянул воздух ноздрями, прошептал с презреньем:
— Свинья…
Край кошмы упал на мое лицо.
Они проволокли сверток со мной к порогу, затем подняли, вынесли к лошади.
— Ну, и где еще золото? — спросил Иса недоверчиво.
Они вернулись в дом, снова звякнули там монеты, приготовленные мною заранее.
Иса настолько повеселел, что тихо запел какую-то детскую песенку. Напевая и хихикая, он связал Муслимушку.
Выйдя затем, начал подымать сверток со мной с земли, кряхтел. Лошадь недовольно дернулась, сверток свалился на землю.
Иса выругался сквозь зубы, звонко хлопнул ладонью по крупу коня. Я продолжил храпеть как бы беспамятно, чувствуя, что Иса вновь надо мной склонился.
Вдруг он вскрикнул, и я услышал звук паденья его на землю. Мешочек с монетами звякнул опять, и быстро угасший топот чьих-то ног унесся куда-то в сторону.
*
Так и пролежали б мы до рассвета: труп Исы и спеленутый я, ведь Муслим был связан. Однако же мать его отважилась приблизиться к нам. Обнаружив, что Иса мертв, она вскрикнула. Я тотчас позвал ее:
— Айша!
Она робко отогнула край кошмы. Я коротко изъяснил ей наш обрушенный внезапным вторженьем убийцы план и всё происшедшее. Она снова вскрикнула:
— А Муслим?!
И после моего объяснения бросилась в дом.
Воссоединившись все трое, мы рассмотрели труп. Очевидно, за Исой кто-то следил, — и как только завладел тот золотом, но был занят возней с поклажей, его ударили кинжалом в спину, сразу в сердце попав. Золота при Исе, разумеется, уже не было. Мне вспомнился толстый гнилозубый ногай в черной папахе.
Муслим хотел вытянуть кинжал из раны, но я запретил:
— Утром пускай обнаружат сами, что я был ограблен. Да и кинжал — ногайский. Кстати, Муслим, вот еще золотой. Брось его рядом, будто впопыхах обронили.
Потрясение от всего пережитого было столь велико, что, оказавшись в постели, я тотчас уснул. Муслим и Айша остались сидеть за столом, забыв о времени в разговоре бесконечном, нежном и радостном.
…Наутро меня разбудили громкие голоса.
Сам Суворов, широко распахнувши дверь, стоял на пороге по-утреннему в одной рубашке.
— Ну, князюшка, проспали, прохлопали золото вы свое? — смеясь, бодро вскричал Суворов. И обернулся к нескольким мурзам, стоявшим у трупа. — Проворонили золото! Но вина на князе — о н ротозей!
Мурзы загомонили между собой, довольные, что вину ногаям не предъявляют и что «урус-шайтан-мурза» сам виноват: юлер (дурак).
Суворов довольно хихикал и подмигивал мне. Вид у меня и впрямь был до смешного спросонья растерянный.
Вечером Суворов вызвал меня к себе.
— Бабу эту, Айшу, надо спроворить к тебе в именье, а то мало ли… С курьером и поедет, я курьера государыне шлю о присоединении края сего. А ты изволь бабушке написать. И — вот твое золото.
Он бросил два мешочка на стол.
— Но ваше превосх… Я думал, это ногай?
— Ногай и был. Только это м о й ногай. Тут не всё твое золото отдаю. Десяток я ему за работу, князь, отсчитал.
— О, можно было б и больше!
— Э, князь, сейчас видать Прозоровского! Кто рубля не бережет, тот и копейки не стоит. Так и растрясете всё княжество-то свое.
— Ах, Александр Васильевич, но ведь вы могли заранее мне сказать…
— Зачем? Мне тебя испытать надо было, пахучка ты этакий. Что ж, товарищи вы с твоим Муслимкой лихие, надежные. Молодцы!
Он усмехнулся, но только уголком губ. И закончил:
— Ну, а теперь — с л у ж б а, дружок! Теперь ждут вас дела серьезные!
…Ветер бил в лицо. Впереди было все лето. Я, мелкий и вредный, ехал на дачу, и в голове у меня перекатывалось громами и красками «осьмнадцатое столетие».
30.01.2025
[1] Здесь автор, прячась за рожу псевдорассказчика, почти дословно цитирует рассказ детского писателя С. П. Алексеева «Пахучка» из его сборника «Рассказы о Суворове и русских солдатах».
[2] Генерал-аншеф князь Иван Андреевич Прозоровский (1712 — 1786), отец жены Суворова Варвары Ивановны (1750 — 1806).
[3] Штаны до колен, модные в 18 веке.
[4] В это время (лето 1783 г.) Суворов имел чин генерал-поручика. Графом стал только в 1789 г.
[5] Турции.
[6] Здесь: семья ногайская.