Андре Жид
Фальшивомонетчики
Аннотация
Запутанные отношения трех семей – представителей крупной буржуазии, объединенных преступлением, пороком и лабиринтом саморазрушительных страстей, становятся фоном для истории взросления двух юношей – двух друзей детства, каждому из которых предстоит пройти свою собственную, очень непростую школу «воспитания чувств».
Роман Андре Жида, удостоенного Нобелевской премии "за глубокие и художественно значимые произведения, в которых человеческие проблемы представлены с бесстрашной любовью к истине и глубокой психологической проницательностью".
Запутанные отношения трех семей – представителей крупной буржуазии, объединенных преступлением, пороком и лабиринтом саморазрушительных страстей, становятся фоном для истории взросления двух юношей – двух друзей детства, каждому из которых предстоит пройти свою собственную, очень непростую школу «воспитания чувств».
Роман Андре Жида, удостоенного Нобелевской премии "за глубокие и художественно значимые произведения, в которых человеческие проблемы представлены с бесстрашной любовью к истине и глубокой психологической проницательностью".
III
Вопреки первоначальному впечатлению и несмотря на то что каждый, как говорится, шел на уступки, отношения между Эдуардом и Бернаром ладились лишь наполовину. Лаура тоже не чувствовала себя удовлетворенной. Да и как могла бы она почувствовать удовлетворение? Обстоятельства принудили ее взять на себя роль, для которой она не была создана; порядочность Лауры стесняла ее. Подобно всем любящим и покорным созданиям, которые обращаются в преданнейших супруг, она вернее испытывала потребность в соблюдении приличий и чувствовала себя обессиленной, как только была выбита из колеи. Ее положение по отношению к Эдуарду с каждым днем казалось ей все более ложным. Обстоятельством, от которого она особенно страдала и которое становилось для нее положительно невыносимым, едва она задерживала на нем немного свое внимание, было то, что ей приходилось жить на счет своего покровителя, то есть не давая ему ничего взамен; или еще точнее: то, что Эдуард не спрашивал у нее ничего взамен, между тем как она чувствовала себя готовой ради него на все. «Благодеяния, — говорит Тацит в перефразировке Монтеня, — бывают приятны только в тех случаях, когда мы имеем возможность платить тем же»; конечно, это верно лишь по отношению к душам благородным, но Лаура, несомненно, принадлежала к их числу. В то время как она хотела бы отдавать, ей приходилось беспрестанно получать, и это раздражало ее против Эдуарда. Больше того: когда она припоминала прошлое, ей казалось, что Эдуард обманул ее; что он пробудил в ней любовь, которую она до сих пор еще ощущала в себе, а потом увильнул от этой любви и оставил неутоленными чувства Лауры. Не было ли это тайной причиной ее ошибок, брака с Дувье, чему она покорилась и до которого ее довел Эдуард? Причиной того, что она так легко поддалась вскоре после этого зовам весны? Ибо она вынуждена была признаться себе, что в объятиях Винцента искала Эдуарда. И, не будучи в состоянии объяснить себе холодность своего возлюбленного, она возлагала ответственность за это на себя, говорила себе, что могла бы покорить его, если бы была покрасивее и посмелее; не будучи в силах его ненавидеть, она обвиняла себя, уничижалась, считала себя никчемной, не видела смысла в своем существовании и не признавала больше за собой никаких достоинств.
Прибавим еще, что эта бивуачная жизнь, обусловленная расположением комнат, которая могла показаться такой занятной спутникам Лауры, сильно оскорбляла ее стыдливость. И она не видела никакого выхода из своего положения, которое ей было бы очень трудно сносить продолжительное время.
Лишь придумывая по отношению к Бернару все новые обязанности крестной матери и старшей сестры, Лаура получала немного утешения и радости. Она была чувствительна к поклонению, которым окружил ее этот исполненный грации юноша; обожание, предметом которого она была, удерживало ее от презрения и отвращения к себе, что может привести к крайностям самые нерешительные существа. Каждое утро, когда экскурсия в горы не поднимала его до зари (он любил вставать рано), Бернар проводил возле нее целых два часа за чтением по-английски. Экзамен, на который он должен был явиться в октябре, был удобным предлогом.
По правде говоря, его обязанности секретаря не отнимали у него много времени. Они были довольно неопределенными. Бернар, соглашаясь исполнять их, уже воображал себя сидящим за рабочим столом, пишущим под диктовку Эдуарда, переписывающим набело его рукописи. Эдуард ничего не диктовал; рукописи, если только они у него были, оставались запертыми в чемодане; в любой час дня Бернар был свободен; но так как лишь от Эдуарда зависело, использовать ли то рвение, каковое всячески стремилось найти себе применение, то Бернар не слишком был озабочен своей праздностью и тем, что его служебные обязанности не стоят в соответствии с широким образом жизни, который он вел благодаря щедрости Эдуарда. Он твердо решил отбросить всякую щепетильность. Он верил, не решусь сказать, в провидение, но, во всяком случае, в свою звезду и в то, что ему причитается его доля счастья так же, как легким полагается то количество воздуха, которым они дышат; Эдуард одарил его этим счастьем по тому же праву, по какому церковный проповедник, согласно Боссюэ, одаряет своих слушателей божественной мудростью. Впрочем, теперешний образ жизни Бернар рассматривал как временный, будучи твердо уверен, что настанет день, когда ему представится возможность расквитаться, когда он реализует те богатства, изобилие которых он чувствовал в своем сердце. У него вызывало досаду лишь то обстоятельство, что Эдуард ни разу не пожелал обратиться к дарованиям, которые Бернар ощущал в себе и не обнаруживал у Эдуарда. «Он не умеет использовать меня, — думал Бернар, подавляя самолюбие и благоразумно себя успокаивая: — Тем хуже для него».
Но, в таком случае, откуда могла появиться принужденность в отношениях Эдуарда и Бернара? Бернар, кажется мне, принадлежит к той категории умов, которые приобретают уверенность, противореча чему-нибудь. Для него было невыносимо, чтобы Эдуард приобрел власть над ним, и, не желая подчиниться его влиянию, он брыкался. Эдуард, который вовсе не помышлял сломить его, то раздражался, то приходил в отчаяние, находя в Бернаре столько упорства, столько готовности постоянно оказывать противодействие или, по крайней мере, защищать себя. Его начинало поэтому брать сомнение, не совершил ли он промаха, взяв с собою два этих существа, которых он соединил, казалось, лишь для того, чтобы настроить против себя. Не способный проникнуть в затаенные чувства Лауры, он принимал за холодность ее отчуждение и сдержанность. Он испытал бы большое замешательство, если бы ему открылась истина, и Лаура это понимала; в результате все силы ее отвергнутой любви уходили на то, чтобы скрытничать и молчать.
За чаем они обыкновенно собирались все трое в большой комнате; часто случалось, что, по их приглашению, к ним присоединялась госпожа Софроницкая, особенно в те дни, когда Борис и Броня отправлялись на прогулку. Она предоставляла им полную свободу, несмотря на их юный возраст; она вполне полагалась на Броню, зная ее благоразумие, в особенности в отношении Бориса, который удивительно ее слушался. Места кругом были безопасные; и можно было быть совершенно спокойным, что они не отправятся в горы и не станут даже взбираться на скалы, расположенные невдалеке от отеля. Однажды, когда дети получили разрешение дойти до самого ледника при условии не уклоняться в сторону от дороги, госпожа Софроницкая, приглашенная к чаю и подстрекаемая Бернаром и Лаурой, набралась храбрости и стала просить Эдуарда рассказать о его будущем романе, если, конечно, это не будет ему неприятно.
— Нисколько, но я не могу изложить вам его содержание.
Однако он, по-видимому, готов был рассердиться, когда Лаура спросила его (вопрос явно неловкий):
— На что эта книга будет похожа?
— Ни на что! — воскликнул он и продолжал, словно только и ожидал этого вызова: — Зачем пережевывать то, что было уже сделано другими или мной самим, или то, что могло бы быть сделано другими?
Едва Эдуард произнес эти слова, как почувствовал их неуместность, утрированность и нелепость; ему показалось, во всяком случае, что слова эти неуместны и нелепы; или, по крайней мере, он опасался, что они покажутся таковыми Бернару.
Эдуард был болезненно чувствителен. Как только с ним заговаривали о его работе и особенно как только его самого просили рассказать о ней, он терял самообладание.
С полным презрением он относился к обычному чванству литераторов и изо всех сил старался ему не поддаваться; по своей скромности он неизменно искал поддержку в уважении других людей; не встречая его, скромность Эдуарда мгновенно улетучивалась. Ему очень хотелось добиться расположения Бернара. Не ради ли этого он, находясь в его обществе, пришпоривал своего Пегаса? Эдуард прекрасно чувствовал, что такое поведение — верное средство потерять уважение Бернара; он без конца зарекался этого не делать; однако вопреки принятому решению, едва оказавшись рядом с Бернаром, начинал держать себя совсем иначе, чем хотел, и изъясняться тоном, который сам же находил нелепым (он и в самом деле был нелеп). Можно ли на этом основании предположить, что подобный тон Эдуарду нравился? Вряд ли, я так не думаю. Чтобы вызвать у нас гримасу презрения или снискать нашу пылкую любовь, достанет мелкого тщеславия.
— Не потому ли, что из всех литературных жанров, — вещал Эдуард, — роман остается самым свободным, самым lawless… (Беззаконным; здесь: свободным от жанровых правил (англ.)) не из-за боязни ли этой самой свободы (ибо художники, которые больше всего жаждут свободы, чаще всего совсем теряются, когда им удается ее добиться) роман всегда так трусливо цеплялся за действительность? И я имею в виду не только французский роман. Совершенно так же, как и английский роман, русский роман, сколь бы он ни был свободен от традиционных форм, порабощен правдоподобием. Единственный прогресс, который роман принимает во внимание, заключается в еще большем приближении к природе. Нет, роман никогда не знал того «грозного размывания очертаний», о котором говорит Ницше, и того сознательного удаления от жизни, что позволило возникнуть искусству большого стиля, например греческой драме или французской трагедии XVII века. Знаете ли вы что-либо более совершенное, более глубоко человечное, чем эти произведения? Но человечны они как раз потому, что глубоки; они не кичатся созданием иллюзии человечности или хотя бы иллюзии реальности. Они остаются произведениями искусства.
Из опасения, как бы не создать у слушателей впечатления, будто он читает лекцию, Эдуард встал, налил себе чаю, прошелся по комнате, выжал в чашку лимон, не переставая при этом говорить:
Так как Бальзак был гений и так как каждый гений находит, по-видимому, для своего искусства формулу окончательную и неповторимую, то вот и провозгласили, будто главной целью романа является «соперничество с укладом частной жизни». Бальзак воздвиг здание своего творчества, но он никогда не притязал составить кодекс правил романа; его статья о Стендале ясно показывает это. Соперничать с укладом частной жизни! Как будто и без того на земле недостаточно уродов и ничтожеств! Какое мне дело до уклада частной жизни! Уклад — это я, художник; касается ли мое произведение частной жизни или нет, ни к какому соперничеству оно не стремится.
Эдуард, который разгорячился, — может быть, немножко искусственно, — заговорил более спокойным тоном. Он притворялся, будто вовсе не смотрит на Бернара, но на самом деле он обращался именно к нему. Будучи с ним наедине, он не нашелся бы, что ему сказать; он был признателен женщинам, что они вызвали его на этот разговор.
— Иногда мне кажется, что ничем в литературе я так не восхищаюсь, как, скажем, спором Митридата с сыновьями в трагедии Расина; нам прекрасно известно, что никогда ни один отец не мог так разговаривать с сыновьями, и, несмотря на это (мне следовало бы сказать, именно благодаря этому), все отцы и все сыновья в этой сцене могут узнать себя. Локализируя и уточняя, мы ограничиваем. Есть только частные психологические истины, это правда; но искусство всегда всеобще. Вся задача заключается именно в этом: выразить общее при помощи частного; добиться того, чтобы частное выражало общее. Вы позволите мне выкурить трубку?
— Пожалуйста, пожалуйста, — ответила Софроницкая.
— Так вот! Я желал бы написать роман, который был бы одновременно таким же правдивым и таким же далеким от действительности, таким же глубоко человеческим и таким же вымышленным, который содержал бы в себе столько частных подробностей и являлся бы в то же время таким обобщающим, как «Гофолия», «Тартюф» или «Цинна».
— А… каков сюжет этого романа?
— У него нет сюжета, — резко ответил Эдуард, — и в этом, может быть, его самая примечательная особенность. У моего романа нет сюжета. Да, я отлично сознаю: мое утверждение кажется нелепостью. Если хотите, скажем так — он не ограничивается одним сюжетом… «Кусок жизни», — говорила натуралистическая школа. Большим недостатком этой школы является то, что она отрезает свой кусок всегда в одном направлении — в направлении времени, в длину. Почему не в ширину? Не в глубину? Что касается меня, то я вовсе не хотел бы резать. Поймите меня: я хотел бы все вместить в мой роман. Не нужно ножа, чтобы разрезать в каком-нибудь определенном месте по его живому телу. Уже больше года я работаю над ним, и нет такого предмета, который я не включил бы в него, который я не хотел бы в него вместить: все, что я вижу, все, что я знаю, все, чему научает меня жизнь других и моя собственная…
— И все это будет стилизовано? — спросила Софроницкая явно с легким оттенком иронии, хотя на ее лице было изображено самое живое внимание. Лаура не могла сдержать улыбку. Эдуард слегка пожал плечами и продолжал:
— Нет, не к этому, собственно, я стремлюсь. Я стремлюсь к тому, чтобы изобразить, с одной стороны, действительность, а с другой — то усилие стилизовать ее, о котором я вам сейчас говорил.
— Мой бедный друг, вы уморите ваших читателей, — заметила Лаура; будучи не в силах сдержать улыбку, она откровенно рассмеялась.
— Вовсе нет. Чтобы добиться указанного мной результата, я создаю персонаж романиста, которого делаю центральной фигурой романа; и сюжетом книги, если угодно, как раз и является борьба между тем, что приподносит ему действительность, и тем, что он мечтает из этой действительности сделать.
— Да, да, понимаю, — вежливо заметила Софроницкая, которая начинала уже заражаться смехом Лауры. — Может получиться очень любопытно. Но, вы знаете, в романах всегда опасно изображать умных людей. Они наводят скуку на публику; в их уста удается обыкновенно вложить одни общие места, и всему, что их трогает, они придают абстрактную форму.
— И я прекрасно вижу, что из этого получится! — вскричала Лаура. — Этого романиста вам придется попросту списать с самого себя.
Обращаясь к Эдуарду, она с некоторых пор усвоила себе насмешливый тон, который изумлял ее саму и сбивал с толку Эдуарда, тем более что отражение его он подмечал в лукавых взглядах Бернара. Эдуард запротестовал:
— Нет, нет, я приложу все старания, чтобы сделать его как можно более неприятным.
Лаура закусила удила.
— Так, так, все узнают в нем вас, — сказала она, так звонко расхохотавшись, что заразила своим смехом всех остальных.
— И план этой книги уже готов? — спросила Софроницкая, стараясь снова стать серьезною.
— Естественно, нет.
— Как? Почему «естественно»?
— Вам следовало бы понять, что для книги такого рода план принципиально недопустим. Вся она будет звучать фальшиво, если я что-нибудь предрешу наперед. Я жду, чтобы мне его продиктовала действительность.
— А я думала, что вы хотите устраниться от действительности.
— Мой романист будет стремиться устраниться от нее, но я непрестанно буду возвращать его к ней. Строго говоря, вот сюжет: борьба между фактами, предлагаемыми действительностью, и действительностью идеальной.
Непоследовательность его суждений была вопиющей, она самым тягостным образом бросалась в глаза. Ясно, что в голове Эдуарда находили приют два несовместимых требования и его старание примирить их было безуспешным.
— И много вы уже сделали? — вежливо осведомилась Софроницкая.
— Это зависит от того, как понимать ваш вопрос. Что касается самой книги, то, по правде говоря, я еще не написал ни строчки. Но уже много над ней поработал. Каждый день я беспрестанно думаю о ней. Я работаю над ней очень странным способом, который заключается в следующем: изо дня в день я заношу в записную книжку заметки о состоянии этого романа в моем уме; да, это род дневника, который я веду о нем, наподобие тех дневников, что составляются о развитии ребенка… Иными словами, я не довольствуюсь решением каждого затруднения по мере того, как оно возникает передо мною (ведь каждое произведение искусства есть не что иное, как сумма решений определенного количества мелких затруднений, последовательно возникающих перед художником); я излагаю, я изучаю каждое из этих затруднений. Если хотите, записная книжка содержит непрерывную критику моего романа или более того — романа вообще. Подумайте, какой интерес представила бы для нас подобная тетрадь с записями Диккенса или Бальзака; быть обладателями дневников «Воспитания чувств» или «Братьев Карамазовых»! История произведения, его вынашивание! Да это было бы захватывающе… интереснее, чем само произведение…
У Эдуарда была робкая надежда, что его попросят прочесть эти заметки. Но никто из его слушателей не проявил ни малейшего любопытства.
— Мой бедный друг, — сказала Лаура печальным тоном, — я прекрасно вижу, что этот роман никогда не будет вами написан.
— Ну, что ж! — страстно воскликнул Эдуард. — Могу вас уверить, мне это безразлично. Да, я, может быть, и не напишу этой книги, значит, ее история заинтересует меня больше, чем она сама; заменит ее мне. Тем лучше.
— А не боитесь ли вы, покидая реальность, затеряться в губительно абстрактных сферах и сочинить роман, героями которого будут не живые люди, а идеи? — робко спросила Софроницкая.
— А хотя бы и так! — вскричал Эдуард с еще большей горячностью. — Неужели мы должны осуждать роман идей на том основании, что он не дается плохим писателям? Под видом идейных романов нам преподносились до сих пор ужасающие романы на заданную тему. Но вы понимаете, конечно, что это совсем не то. Идеи… идеи, признаюсь вам, интересуют меня больше, чем люди: интересуют больше всего. Они живут, борются, умирают, как люди! Понятно, можно утверждать, что мы познаем их только благодаря людям, точно так же, как мы узнаем о существовании ветра только по тростнику, который ветер клонит к земле; и все же ветер важнее тростника.
— Ветер существует независимо от тростника, — осмелился заметить Бернар.
Его возражение вызвало воинственное настроение в Эдуарде, который давно уже ожидал его вмешательства.
— Да, я знаю, что идеи существуют лишь благодаря людям; но в этом как раз и заключается трагизм: идеи живут за счет людей.
Бернар слушал все это с напряженным вниманием; он был полон скептицизма и почти готов был принять Эдуарда за пустого мечтателя; однако в эти мгновения красноречие последнего взволновало его; он почувствовал, что под дуновением этого красноречия мысль его наклоняется; но — сказал себе Бернар — она скоро снова выпрямится, как распрямляется тростник, когда стихает ветер. Ему вспомнилось то, чему его учили в лицее: страсти руководят человеком, а не идеи. Между тем Эдуард продолжал:
— Я хотел бы сочинить, поймите меня, нечто похожее на Искусство фуги. И не вижу, почему то, что возможно в музыке, окажется невозможным в литературе…
На это Софроницкая заметила, что музыка есть искусство математическое и что, кстати, рассматривая ее исключительно со стороны численной и изгнав из нее всякий пафос и человечность, Бах добился создания абстрактного шедевра скуки, некоего астрономического храма, куда могут проникнуть лишь немногие посвященные. Эдуард тотчас же возразил, что он находит этот храм великолепным, видит в нем завершение и увенчание всей творческой жизни Баха.
— После чего, — вставила Лаура, — композиторы были надолго вылечены от фуги. Не находя для себя места в ней, человеческие чувства стали искать себе другие прибежища.
Спор становился бесплодным. Бернар, хранивший до сего времени молчание, но начинавший уже нетерпеливо ерзать на стуле, в заключение не выдержал; крайне почтительно, даже преувеличенно почтительно, как всегда при своих обращениях к Эдуарду, но таким веселым тоном, что это почтение казалось почти насмешкой, он сказал:
— Извините, сударь, что я знаю название вашей книги; виной тут моя нескромность, которую вы пожелали, однако, предать забвению, если не ошибаюсь. Это название как будто содержало в себе указание на повесть?…
— Ах, скажите нам это название, — стала упрашивать Лаура.
— Мой дорогой друг, если вы хотите… Но предупреждаю вас, что я, может быть, изменю его. Боюсь, как бы оно не показалось несколько обманчивым… Ну-ка, скажите им его, Бернар.
— Вы разрешаете?… «Фальшивомонетчики», — сказал Бернар. — Теперь, в свою очередь, скажите нам, пожалуйста, кто, собственно, такие… эти фальшивомонетчики?
— Право, не знаю, — отвечал Эдуард.
Бернар и Лаура переглянулись, затем взглянули на Софроницкую; послышался долгий вздох; мне кажется, что он вырвался у Лауры.
Сказать по правде, думая о фальшивомонетчиках, Эдуард имел сначала в виду некоторых своих собратьев по перу, особенно виконта де Пассавана. Но вскоре слово приобрело значительно более широкий смысл. Смотря по тому, откуда у него дул ветер — из Рима или из других мест, его герои становились последовательно то патерами, то франкмасонами. Его мысли, когда он предоставлял их собственному течению, тотчас устремлялись к абстрактному, и он чувствовал себя в этой области весьма привольно. Идеи подмены, обесценения, инфляции мало-помалу заполняли его книгу, как теории одежды вытеснили из «Sartor Resartus» Карлейля живых действующих лиц. Не будучи в силах говорить об этом, Эдуард самым неловким образом замолчал, и его молчание, как будто свидетельствовавшее о скудости мысли, начинало сильно тяготить его собеседников.
— Случалось вам когда-нибудь держать в руках фальшивую монету? — спросил он.
— Да, — отвечал Бернар, но «нет» двух женщин заглушило его слова.
— Так вот! Вообразите фальшивую золотую монету в десять франков. Ее истинная цена каких-нибудь два су. Она будет стоить десять франков, пока не узнают, что она фальшивая. Если, следовательно, я отправлюсь от той мысли, что…
— Но зачем отправляться от мысли? — нетерпеливо прервал Бернар. — Если вы отправитесь от хорошо изложенного факта, мысль сама вселится в него. Если бы я писал «Фальшивомонетчиков», я начал бы с фальшивой монеты, той монетки, о которой вы только что говорили… вот она.
Говоря это, он вынул из жилетного кармана десятифранковую монету и бросил ее на стол.
— Слышите, как она хорошо звенит. Почти так же, что и другие монеты. Можно побожиться, что она золотая. Я попался на ней сегодня утром, так же, как попался, по его словам, лавочник, который мне ее вручил. У нее нет нужного веса, мне кажется; но она блестит и звенит почти совсем как настоящая; снаружи она позолочена, так что стоит все же несколько больше двух су, но она стеклянная. После долгого употребления она станет прозрачной. Нет, нет, не трите: вы мне обесцените ее. И сейчас она уже почти просвечивает.
Эдуард взял монету и с большим любопытством стал ее рассматривать.
— От кого же лавочник ее получил?
— Он не помнит. По его мнению, она лежит у него в ящике уже несколько дней. Он в шутку вручил ее мне, чтобы посмотреть, попадусь ли я. Я готов был принять ее, честное слово! Но так как он человек честный, то вывел меня из заблуждения; затем продал ее мне за пять франков. Он хотел сохранить ее, чтобы показывать тем, кого он называет «любителями». Я подумал, что ему, пожалуй, не найти лучшего любителя, чем автор «Фальшивомонетчиков», вот я и взял ее, чтобы показать вам. А теперь, когда вы посмотрели, отдайте ее мне. Я вижу, увы! что действительность вас не интересует.
— Это правда, — сказал Эдуард, — но она приводит меня в замешательство.
— Очень жаль, — отвечал Бернар.
ДНЕВНИК ЭДУАРДА
(Вечером того же дня)
Софроницкая, Бернар и Лаура спрашивали меня о моем романе. Почему я стал им отвечать? Я нес сплошную чепуху. К счастью, меня выручило возвращение детей; они раскраснелись, запыхались, словно после долгой беготни. Едва войдя, Броня бросилась к матери; мне показалось, что она вот-вот расплачется.
— Мама, — вскричала она, — побрани, пожалуйста, Бориса. Он хотел лечь в снег совсем голым.
Софроницкая посмотрела на Бориса, который стоял на пороге, опустив голову и устремив в землю пристальный, почти злобный взгляд; она, казалось, совсем не замечала странного выражения лица мальчика и восхитительно спокойным тоном сказала:
— Послушай, Борис, этого нельзя делать вечером. Если хочешь, мы пойдем туда завтра утром и ты сначала попробуешь пройтись по снегу босиком… — Она нежно ласкала при этом голову своей дочери, но та вдруг упала на пол и забилась в конвульсиях. Мы все страшно разволновались. Софроницкая взяла ее на руки и уложила на оттоманку. Борис, не трогаясь с места, смотрел на эту сцену широко раскрытыми бессмысленными глазами.
Мне кажется, что методы воспитания Софроницкой в теории превосходны, но она, пожалуй, заблуждается относительно упрямства находящихся на ее попечении детей.
— Вы поступаете так, словно добро всегда должно торжествовать над злом, — сказал я немного позже, оставшись с ней наедине. (После обеда я пошел осведомиться о здоровье Брони, которая не могла спуститься в столовую.)
— Это верно, — отвечала Софроницкая. — Я твердо убеждена, что добро должно торжествовать. Я в это верю.
— Однако чрезмерная уверенность может привести к ошибкам…
— Да, мне случается обманываться, но это бывает в тех случаях, когда моя вера недостаточно сильна. Сегодня, отпуская детей, я не сумела скрыть от них некоторого беспокойства; они это почувствовали. Все и проистекло отсюда. — Она схватила меня за руку: — Вы, по-видимому, не верите в силу убеждений… я хочу сказать, в их действенную силу.
— Вы правы, — возразил я, смеясь, — я не мистик.
— А я, — воскликнула она в каком-то восторженном порыве, — всей душой убеждена, что без мистицизма здесь, на земле, не делается ничего великого и прекрасного.
В списке туристов я отыскал имя Виктора Струвилу. По справкам содержателя гостиницы, он выехал из Саас-Фе за два дня до нашего приезда после почти месячного пребывания. Любопытно было бы повидать его. Софроницкая, несомненно, с ним встречалась. Нужно будет расспросить ее.
IV
— Я хотел спросить вас, Лаура, — начал Бернар. — Есть ли, по-вашему, что-нибудь на этой земле, в чем нельзя было бы усомниться?… Сомнительно даже, что нельзя было бы взять само сомнение в качестве точки опоры, ибо оно-то уж, мне кажется, никогда нас не подведет. Я могу сомневаться в реальности всего на свете, но только не в реальности моего сомнения. Мне хотелось бы… Извините, что я выражаюсь как педант: я не педант по натуре, но я исхожу из философии, и вы не можете себе представить, какую печать накладывают на ум постоянные рассуждения; клянусь вам, я исправлюсь.
— Зачем это отступление? Вам хотелось бы?…
— Мне хотелось бы написать историю человека, который, прежде чем решиться на что-нибудь, сначала выслушает каждого, с каждым посоветуется, по примеру Панурга; убедившись на опыте, что мнения различных людей по каждому вопросу противоречат друг другу, он в заключение придет к выводу, что следует слушать только самого себя, и сразу станет очень сильным.
— Это стариковский замысел, — сказала Лаура.
— Я более зрелый человек, чем вы думаете. В течение нескольких дней я веду дневник, как и Эдуард; на правой странице записываю одно мнение, а на левой, напротив, — мнение противоположное. Помните, например, как-то вечером Софроницкая сказала нам, что заставляет спать Бориса и Броню при открытых окнах. Все, что она говорила в защиту такого режима, нам казалось — не правда ли? — совершенно разумным и убедительным. Но вот вчера в курительной отеля я слышал, как недавно приехавший немецкий профессор развивал противоположную теорию, которая, признаюсь, показалась мне более разумной и куда лучше обоснованной. Самое существенное, говорил он, по возможности ограничивать во время сна расход энергии и всякого рода взаимодействий, совокупность коих составляет жизнь, — он называл это карбюрацией; только при этих условиях сон действительно восстанавливает силы. Он приводил в пример птиц, которые прячут голову под крыло, и всех вообще животных, которые во время сна свертываются в комочек так, чтобы едва-едва дышать; точно так же, говорил он, племена, наиболее близко стоящие к природе, крестьяне, слабее всего затронутые культурой, забиваются в помещения, где спят; арабы, когда им приходится спать на открытом воздухе, непременно покрывают голову капюшонами своих бурнусов. Но, возвращаясь к Софроницкой и детям, которых она воспитывает, я прихожу к убеждению, что она все же права и то, что хорошо для других, было бы вредно для них, так как, насколько я понял, они предрасположены к туберкулезу. Словом, я сказал себе… Но вам скучно меня слушать?
— Не тревожьте себя такими предположениями. Что вы сказали себе?
— Забыл.
— Полно! Не сердитесь! И не стыдитесь своих мыслей.
— Я сказал себе, что нет такой вещи, которая была бы хороша для всех; каждая вещь хороша только для отдельных людей; что ничего не бывает истинно для всех; любое положение истинно только для того, кто верит в его истинность; что нет метода или теории, которые были бы в равной мере приложимы к каждому; что если, совершая поступок, нам приходится делать выбор, то мы, по крайней мере, обладаем свободой выбора; а если у нас нет свободы выбора, то дело обстоит еще проще; и для меня становится истинным (не абсолютно истинным, конечно, но истинным по отношению ко мне) то, что позволяет мне наилучшим образом применить свои силы, пустить в ход свои положительные качества, потому что я не способен подавить свои сомнения и в то же время питаю отвращение к нерешительности. «Мягкая и покойная подушка» Монтеня создана не для моей головы, потому что мне еще не хочется спать и я не нуждаюсь в покое. Долог путь, ведущий от того, чем я думаю быть, к тому, чем я, может быть, являюсь сейчас. Я иногда боюсь, что встал слишком рано.
— Вы боитесь?
— Нет, я ничего не боюсь. Но знаете ли вы, что я уже сильно изменился, или, по крайней мере, мой душевный кругозор совсем не тот, каким он был в день, когда я покинул мой дом; с тех пор я встретил вас. И сразу же перестал ставить превыше всего свою свободу. Может быть, вы еще не поняли, что я готов служить вам.
— Что следует под этим понимать?
— О, вы отлично знаете! Почему вы хотите заставить меня сказать это? Вы ожидаете от меня признаний?… Нет, нет, прошу вас, не делайте такого грустного лица, меня от этого бросает в холод. Улыбнитесь!
— Но, мой милый Бернар, неужели вы вообразили, что начинаете меня любить?
— О нет! — воскликнул Бернар. — Вы сами, должно быть, начинаете это чувствовать, но вы не в силах мне помешать.
— Мне было так приятно во всем доверять вам. Если теперь мне придется подходить к вам не иначе как с предосторожностями, словно к легко воспламеняющемуся веществу… Постарайтесь представить себе безобразное, раздувшееся существо, в которое я скоро превращусь. Один взгляд на меня способен будет вас вылечить от любви.
— Да, если бы я любил только вашу внешность. Кроме того, я вовсе не болен, или если любить вас, значит быть больным, то я предпочитаю не выздоравливать.
Он говорил все это серьезно, почти печально и смотрел на Лауру таким нежным взором, каким на нее никогда не смотрели ни Эдуард, ни Дувье; но во взоре этом было столько почтительности, что он не мог ее огорчить. Лаура держала на коленях английскую книжку, которую они только что читали и которую она рассеянно перелистывала; казалось, она совсем его не слушала, так что Бернар продолжал, не испытывая большого смущения:
— Я воображал, что любовь — вулкан; по крайней мере, та любовь, для которой я был рожден. Да, я действительно считал, что могу любить только дикой, опустошительной любовью, на манер Байрона. Как плохо я знал себя! Это вы, Лаура, открыли мне глаза на то, каков я; как сильно я отличаюсь от того существа, за которое я принимал себя. Я разыгрывал роль мерзавца и изо всех сил старался быть на него похожим. Когда я вспоминаю о письме, которое написал моему мнимому отцу перед тем, как покинуть его дом, мне становится бесконечно стыдно, уверяю вас. Я принимал себя за мятежника, outlaw (Изгоя (англ.)), попирающего все, что служит преградой для осуществления его желаний; и вот, подле вас, у меня нет больше желаний. Я стремился к свободе как к высшему благу и стал свободен, лишь подчинившись вашим… Ах, если бы вы знали, как противно держать в голове кучу фраз великих писателей, непреодолимо срывающихся с языка, когда хочешь выразить искреннее чувство! Это чувство так ново для меня, что я не успел еще найти для него подходящие слова. Допустим, что оно — не любовь, раз это слово вам не нравится; допустим, что оно — благоговение. У меня такое впечатление, словно ваши законы очертили границы моей свободы, которая до сих пор казалась мне безграничной. Такое впечатление, что все, что бушевало во мне мятежного и беспорядочного, ныне в мерном танце кружится вокруг вас. Если какая-либо из моих мыслей обнаруживает склонность отделиться от вас, я бросаю ее… Лаура, я не прошу у вас любви; сейчас я ничто, простой школьник; я не стою вашего внимания; но все мои поступки отныне диктуются желанием заслужить немного вашу… (ах, противное слово!)… ваше уважение.
Он бросился на колени перед нею, и, хотя она сначала немножко было отодвинулась, Бернар коснулся головой ее платья, откинув руки назад, словно в знак благоговения; но, почувствовал у себя на лбу руку Лауры, он схватил эту руку и припал к ней губами.
— Какое вы дитя, Бернар! Я тоже больше не свободна, — сказала она, отнимая руку. — Возьмите и прочтите вот это.
Она вытащила из-за пояса измятую бумажку и протянула Бернару.
Бернару прежде всего бросилась в глаза подпись. Как он и опасался, это была подпись Феликса Дувье. Несколько мгновений он держал письмо в руке, не читая; он поднял глаза на Лауру. Она плакала. Тогда Бернар почувствовал, что в его сердце разрывается еще одна связь, одна из тех тайных нитей, что привязывают каждого из нас к нам самим, к нашему эгоистическому прошлому. Затем он прочел:
«Возлюбленная моя Лаура!
Во имя ребенка, который должен у тебя родиться и которого я торжественно обещаю любить так, как если бы был его отцом, заклинаю тебя вернуться. Не думай, что малейший упрек может встретить здесь твое возвращение. Не слишком вини себя, потому что это как раз и причиняет мне наибольшие страдания. Не медли. Я жду тебя всей душой, которая обожает тебя и простирается ниц перед тобою».
Бернар сидел на полу, у ног Лауры; не глядя на нее, он спросил:
— Когда вы получили письмо?
— Сегодня утром.
— Я думал, он ничего не знает. Вы сами ему написали?
— Да, я призналась ему во всем.
— Эдуард знает?
— Он ничего не знает.
Бернар замолчал, опустив голову; затем, повернувшись к ней, спросил:
— Что же… вы собираетесь теперь делать?
— Вы серьезно спрашиваете меня?… Вернуться к нему. Мое место возле него. С ним я должна жить. Вы знаете это.
— Да, сказал Бернар.
Наступило долгое молчание. Бернар снова спросил:
— Вы убеждены, что можно любить ребенка от другого как своего собственного? Да?
— Не знаю, убеждена ли, но надеюсь.
— Ну, а я убежден. Напротив, я не верю в то, что так глупо называют «голосом крови». Да, я считаю, что этот пресловутый голос не более чем миф. Я читал где-то, что у некоторых полинезийских племен существует обычай усыновлять чужих детей и что этим усыновленным детям оказывается даже предпочтение. В книге — я хорошо помню — было сказано, что «их больше балуют». Знаете, о чем я думаю сейчас?… Я думаю, что тот, кто заменял мне отца, никогда не сказал и не сделал ничего такого, что позволяло бы заподозрить, будто я не его настоящий сын; думаю, что, написав ему, как я это сделал, будто мной всегда ощущалась разница в его отношениях ко мне и к другим детям, я солгал; что, напротив, он проявлял ко мне особенную любовь, и я был чувствителен к этому, так что моя неблагодарность к нему тем более отвратительна; словом, думаю, я поступил дурно но отношению к нему. Лаура, друг мой, я хотел бы вас спросить… Как, по-вашему: должен я просить у него прощения, вернуться к нему?
— Нет, отвечала Лаура.
— Почему? Вы ведь возвращаетесь к Дувье…
— Вы мне только что говорили, что истинное для одного не истинно для другого. Я чувствую себя слабой, вы сильны. Господин Профитандье, очень возможно, вас любит; но, если я правильно поняла то, что вы мне рассказали о нем, вы не созданы для взаимного понимания… Или, по крайней мере, не торопитесь. Не возвращайтесь к нему с покаянным видом. Хотите знать все, что я думаю? Ради меня, а не ради него вы затеваете это; чтобы добиться того, что вы называете моим уважением… Вы не добьетесь его, Бернар, если я буду чувствовать, что вы его добиваетесь. Я могу любить вас, только когда вы естественны. Предоставьте раскаяние мне; оно не для вас, Бернар.
— Я начинаю почти любить свое имя, когда слышу его. из ваших уст. Знаете, к чему я питал там наибольшее отвращение? К роскоши. Столько комфорта, столько удобств… Я чувствовал, что становлюсь анархистом. Теперь, наоборот, мне кажется, что я превращаюсь в консерватора. Я внезапно понял это на днях по негодованию, которое охватило меня, когда я услышал, как один из туристов стал хвастать тем, что ему удалось ловко надуть таможню. «Обокрасть государство — значит никого не обокрасть», — говорил он. Дух противоречия вдруг заставил меня понять природу государства. И я проникся любовью к государству просто потому, что по отношению к нему была совершена несправедливость. Никогда раньше я не размышлял на эту тему. «Государство — это взаимное соглашение», — продолжал турист. Какой прекрасной вещью было бы соглашение, покоящееся на доброй воле каждого… если бы на свете существовали одни честные люди. Слушайте, если бы кто-нибудь спросил меня сегодня, какую добродетель я считаю самой прекрасной, я не колеблясь ответил бы: честность. Ах, Лаура! Я хотел бы всю свою жизнь при малейшем ударе издавать звук чистый, честный, подлинный. Почти все люди, которых я знал, звучат фальшиво. Пусть твоя ценность в точности равняется тому, чем ты кажешься; не старайся казаться стоящим больше твоей подлинной ценности… Мы хотим вводить в заблуждение и до такой степени бываем поглощены заботой о внешности, что в конце концов утрачиваем представление, кто же мы такие на самом деле… Извините, что я говорю вам все это. Я делюсь с вами моими ночными размышлениями.
— Вы думали о монетке, которую вчера показывали нам. Когда я уеду…
Она была не в силах закончить фразу; слезы выступили у нее на глазах; Бернар видел, что она пытается сдержаться, отчего губы ее задрожали.
— Вы уедете, Лаура, — произнес он печально. — Боюсь, что, когда я не буду больше чувствовать вас подле себя, я потеряю всякую ценность или почти потеряю… Но, скажите, я хотел бы вас спросить… уехали ли бы вы, написали бы мужу, если бы Эдуард… не знаю как выразиться… (Тут Лаура покраснела.) — Если бы Эдуард стоил большего? Ах, не возражайте. Я хорошо знаю, что вы о нем думаете.
— Вы говорите так потому, что уловили вчера мою улыбку во время его рассуждений; вы тотчас заключили, что мы о нем одинакового мнения. Но нет, не заблуждайтесь. По правде говоря, я не знаю, что я о нем думаю. Никогда он не бывает долгое время одинаковым. Он ни к чему не привязывается; но ничто так не привлекательно, как его бегство. Вы слишком мало знакомы с ним, чтобы его судить. Его существо беспрестанно разрушается и снова восстанавливается. Думаешь, что схватил его… а это Протей. Он принимает форму всего, что любит. Чтобы понять, его тоже нужно любить.
— Вы любите его. Ах, Лаура, я ревную вас не к Дувье и Винценту, а к Эдуарду.
— Зачем вам ревновать? Я люблю Дувье, люблю Эдуарда, но по-разному. Если бы мне случилось полюбить вас, это опять была бы другая любовь.
— Лаура, Лаура, Дувье вы не любите. Вы чувствуете к нему привязанность, жалость, уважение, но это не любовь. Я думаю, что тайна вашей печали (потому что вы печальны, Лаура) заключается в том, что жизнь лишила вас цельности; любовь не захватила вас всю целиком; вы распределяете среди нескольких то, что хотели бы отдать одному. Я же чувствую себя нераздельным; я могу отдать себя только целиком.
— Вы слишком молоды, чтобы так говорить. Вы не можете быть уверены, не лишит ли и вас жизнь цельности, как вы говорите. Я могу принять от вас только… благоговение, которое вы мне предлагаете. Прочие ваши чувства тоже будут предъявлять известные требования, которые должны будут искать себе удовлетворения в другом месте.
— Неужели это правда? Вы хотите наперед отнять у меня вкус и к себе самому, и к жизни.
— Вы совсем не знаете жизни. Вы можете всего ожидать от нее. Знаете, в чем заключалась моя вина? В том, что я больше ничего не ждала от жизни. Когда я подумала, увы! что мне нечего больше ожидать, я махнула на все рукой. Я жила той весной в По так, словно это последняя моя весна, словно все мне было безразлично. Теперь, когда я за это поплатилась, я вправе сказать вам: Бернар, никогда не отчаивайтесь в жизни.
Какая польза говорить все это юному существу, полному огня! К тому же слова, произнесенные Лаурой, и не были обращены к Бернару. Движимая симпатией, она думала вслух в его присутствии вопреки своему желанию. Она была неискусна по части притворства, плохо умела владеть собою. Как раньше она была не в силах противостоять порыву, увлекавшему ее всякий раз, когда она думала об Эдуарде, и выдававшему ее любовь, так теперь она уступала какой-то потребности читать мораль, унаследованной ею, по всей вероятности, от отца. Но Бернар питал отвращение к наставлениям, увещаниям, хотя бы они исходили от Лауры; его улыбка дала понять это Лауре, которая продолжала более спокойным тоном:
— Вы намерены оставаться секретарем Эдуарда и по возвращении в Париж?
— Да, если он согласится найти мне какое-нибудь дело; до сих пор он не поручает мне никакой работы. Знаете, что было бы мне интересно? Написать вместе с ним книгу, которой он один никогда не напишет; вчера вы правильно сказали ему об этом. Я считаю нелепым изложенный им вчера метод работы. Хороший роман пишут с куда большей наивностью. И прежде всего нужно верить в то, о чем рассказываешь, — как вам кажется? — и рассказывать бесхитростно. Я сначала думал, что могу помочь ему. Если бы он ощущал потребность в сыщике, я, может быть, ее удовлетворил бы. Он работал бы над фактами, которыми его снабжали бы мои поиски… Но с теоретиком мне делать нечего. Подле него я ощущаю в себе душу репортера. Если он будет упорствовать в своем заблуждении, я стану работать самостоятельно. Мне нужно иметь заработок. Я предложу свои услуги какой-нибудь газете. Между делом буду сочинять стихи.
— Ибо в обществе репортеров вы наверняка будете ощущать в себе поэтическую душу.
— Не издевайтесь надо мной! Я знаю, что я смешон, не заставляйте меня лишний раз это почувствовать.
— Оставайтесь с Эдуардом; вы будете помогать ему, и он поддержит вас. Он добрый.
Раздался колокол, призывавший к завтраку. Бернар встал; Лаура взяла его за руку:
— Еще одно: монетка, которую вы показывали нам вчера… в память о вас, когда я уеду… — Она преодолела себя и на этот раз нашла силы закончить фразу: — Не могли бы вы подарить ее мне?
— Вот она, возьмите, — сказал Бернар.
V
Так случается почти со всеми болезнями человеческого ума, от которых мы воображаем себя излечившимися. Мы только загоняем их внутрь, как говорят в медицине, и на их место появляются другие.
Сент-Бев. «Понедельники», т. I, стр. 19.
ДНЕВНИК ЭДУАРДА
Я начинаю уяснять себе то, что я назвал бы «глубинным сюжетом» моей книги. Сюжет этот, несомненно, борьба реального мира и нашего представления о нем. Способ, каким мир явлений навязывается нам, и каким мы, в свою очередь, пытаемся навязать внешнему миру наше субъективное толкование, составляет драму нашей жизни. Встречая сопротивление со стороны фактов, мы переносим нашу идеальную конструкцию в мечты, в чаяния, в будущее, и там наша вера питается разочарованиями, постигшими нас здесь. Реалисты отправляются от фактов, приспособляют свои идеи к фактам. Бернар — реалист. Боюсь, что мне не удастся найти с ним общий язык.
Как мог я покорно выслушать заявление Софроницкой, что во мне нет никакого мистицизма? Я вполне готов признать вместе с ней, что без мистицизма человеку не удалось бы совершить ничего великого. Но разве не мистицизм и ставит мне в вину Лаура, когда я говорю ей о своей книге?… Предоставим им спорить на эту тему.
Софроницкая снова завела со мной разговор о Борисе, от которого ей удалось, по ее мнению, добиться полного признания. У бедного мальчика не осталось больше ни одного уголка, ни одного кустика, где бы он мог укрыться от взглядов докторши. Он выбит со всех укрепленных позиций. Софроницкая развинтила и вынула на свет все самые интимные колесики его душевного механизма, подобно часовщику, разбирающему на части приводимые им в порядок часы. Если после этого мальчик не будет отбивать точное время, значит, труд ее пропал понапрасну. Вот что Софроницкая рассказала мне.
Когда Борису исполнилось девять лет, его отдали в одну из варшавских гимназий. Там он подружился с товарищем по классу, неким Батистином Крафтом, мальчиком на год или два старше, научившим его тайному занятию, которое эти дети, наивно изумленные, считали «магией». Так называли они свои порок на том основании, что где-то услышали или прочитали, что магия позволяет таинственно войти в обладание тем, чего мы желаем, безгранично расширяет наши силы и т. п. Они чистосердечно верили, будто им удалось открыть секрет, позволяющий им взамен отсутствующей реальности утешаться призраками; вовсю предавались галлюцинациям и вкушали восторги в пустоте, которую их взвинченное воображение населяло чудесами, отчего наслаждение значительно обострялось. Само собой разумеется, Софроницкая не пользовалась этими терминами; я хотел было, чтобы она в точности передала мне выражения Бориса, но она утверждает, будто ей удалось вылущить только что изложенные факты, за верную передачу которых она, однако, поручилась мне, лишь из беспорядочной массы выдумок, умолчаний и искажений.
— Я нашла, таким образом, прибавила она, — давно уже отыскиваемое мной объяснение клочка пергамента, который Борис всегда хранит на своей груди в ладанке рядом с иконками, которые заставляет его носить мать. На этом клочке пергамента старательным детским почерком выведены печатными буквами пять слов, значения которых я тщетно у него добивалась:
Газ. Телефон. Сто тысяч рублей.
«Это ничего не значит. Это магия», — неизменно отвечал он на мои расспросы. Это все, чего я могла добиться. Я знаю теперь, что эти загадочные слова написаны рукой юного Батистина, великого знатока и учителя магии, и что пять этих слов служили для детей своего рода заклинанием — «Сезам, отворись» — постыдного рая, куда вводило их наслаждение. Борис называл этот пергамент мой талисман. Мне стоило уже большого труда убедить его показать мне этот талисман и стоит еще большего — заставить расстаться с ним (это было в начале нашего пребывания здесь); ибо я хотела, чтобы он расстался с ним, как он освободился уже раньше — мне известно это теперь от своих дурных привычек. Я надеюсь, что вместе с талисманом исчезнут тики и мании, которыми он страдает. Но он упорно держался за него, а болезнь цеплялась за талисман как за последнее убежище.
— Вы говорите, однако, что он освободился от этих привычек…
— Нервная болезнь началась потом. Вне всякого сомнения, она обусловлена усилиями, которые Борис должен был затратить, чтобы освободиться от этих привычек. Я узнала от него, что мать однажды застигла его за «занятиями магией», как он говорит. Почему она никогда не говорила мне об этом?… Стыдилась?
— И, несомненно, оттого, что знала, что ее сын исправился.
— Это нелепо… в этом-то и заключается причина, которую я так давно нащупывала. Я вам сказала, что считаю Бориса совершенно невинным.
— Вы сказали также, что это как раз и беспокоит вас.
— Вы видите, как я была права!.. Мать должна была бы предупредить меня. Борис был бы уже здоров, если бы я с самого начала имела возможность все ясно видеть.
— Вы сказали, что эти расстройства начались у него лишь потом…
— Я утверждаю, что они были рождены в нем духом протеста. Мать, вероятно, бранила его, умоляла, увещевала. Тут последовала смерть отца. Борис был убежден, что его тайные занятия, которые были изображены ему как преступление, повлекли за собой заслуженное наказание; он стал считать себя ответственным за смерть отца; возомнил себя преступником, осужденным. Бориса обуял страх; и вот тогда-то его хилый организм, как загнанный зверь, изобрел множество маленьких уловок, в которых находит себе выход его внутренняя тревога и которые являются как бы призваниями.
— Если я правильно вас понимаю, вы считаете, что для Бориса было бы менее вредно, если бы он спокойно продолжал заниматься своей «магией»?
— Я думаю, что для излечения от этих занятий не было необходимости его устрашать. Перемены образа жизни, вызванной смертью отца, было бы, вероятно, достаточно для отвлечения его от дурной привычки, а отъезда из Варшавы — для избавления от влияния друга. Устрашением не добьешься ничего хорошего. Когда я узнала обо всей этой истории, то, заведя с ним речь о ней и оживив в его сознании прошлое, я устыдила его за то, что он мог предпочесть обладание воображаемыми благами обладанию благами подлинными, которые служат, сказала я ему, наградою за усилие. Вовсе не пытаясь чернить его порок, я изобразила ему его просто как одну из форм лени, и я действительно убеждена, что это так; форма самая утонченная, самая коварная…
При этих словах мне вспомнилось несколько строчек из Ларошфуко, и я захотел показать их ей. Несмотря на то что я мог бы процитировать их наизусть, я пошел за книжечкой, которую везде вожу с собой. Я прочел ей из «Максима»:
«Из всех страстей наименее известной нам является лень: она самая жгучая и самая зловредная из всех, хотя страшная ее сила неощутима для нас, и вред, причиняемый ею, спрятан очень глубоко… Ленивый покой есть тайное прельщение души, которая вдруг откладывает самые горячие свои стремления и самые упорные свои решения. Чтобы дать в заключение истинную идею этой страсти, следует сказать, что лень есть как бы блаженство души, которое утешает ее во всех ее утратах и служит ей заменой всех благ».
— И вам кажется, — сказала мне тогда Софроницкая, — что Ларошфуко хотел намекнуть здесь на то, о чем мы говорили?
— Возможно, но я не думаю. Богатство наших классиков в том, что они позволяют нам как угодно их истолковывать. Их точность тем более удивительна, что она не сопряжена с ограниченностью.
Я попросил ее показать мне пресловутый талисман Бориса. Она ответила, что у нее больше его нет, что она подарила его одному проезжему, который проявил интерес к Борису и попросил оставить ему этот талисман на память. «Это был некий господин Струвилу, которого я встретила здесь незадолго до вашего приезда».
Я сказал Софроницкой, что видел эту фамилию в списке постояльцев гостиницы, что был знаком когда-то давно с одним Струвилу и мне было бы интересно узнать, он ли это. По ее описанию невозможно было сомневаться, что это он, но она не могла сообщить мне о нем ничего такого, что удовлетворило бы мое любопытство. Я узнал лишь, что он был очень любезен, очень услужлив, что он показался ей весьма умным и начитанным, но несколько ленивым, «если только позволительно употребить это слово», прибавила она, смеясь. Я рассказал ей, в свою очередь, то, что мне было известно о Струвилу, и тут по ассоциации перешел к рассказу о пансионе, где мы встречались с ним, о родителях Лауры (которая, со своей стороны, кое о чем поведала Софроницкой), наконец, о старике Лаперузе, о его родственных связях с маленьким Борисом и об обещании, которое я дал ему, прощаясь с ним, привезти этого мальчика. Так как Софроницкая сказала мне раньше, что она считает нежелательным, чтобы Борис продолжал жить с матерью, я спросил ее: «Почему бы вам не поместить его в пансион к Азаисам?» Внушая ей эту мысль, я думал главным образом о том, как безмерно обрадуется дедушка, узнав, что Борис находится совсем рядом с ним, у друзей, где он может видеть его когда ему будет угодно; тут я прибавил, что не могу допустить, чтобы мальчик, со своей стороны, не почувствовал там себя хорошо. Софроницкая сказала, что подумает над этим, а пока она крайне заинтересована всем, что я ей только что рассказал.
Софроницкая все время повторяет, что маленький Борис выздоровел; это лечение должно подтвердить правильность ее метода; но боюсь, не слишком ли рано она празднует победу. Понятно, я не хочу ей противоречить; я согласен с ней, что его тики, нервные судороги, умолчания почти исчезли, но мне кажется, что болезнь попросту переместилась в более глубинные области его существа, словно желая укрыться от испытующего взгляда врача, и теперь поразила саму его душу. Подобно тому как онанизм сменился нервными судорогами, эти последние уступают теперь место какому-то непонятному трансу. Софроницкая, правда, беспокоится, видя, как Борис вслед за Броней все больше оказывается во власти своеобразного детского мистицизма; она слишком умна, чтобы не понять, что это новое «блаженство души», которого ищет сейчас Борис, в конце концов не слишком отличается от «блаженства», которое он вызывал раньше искусственно, и что, хотя оно не так дорого обходится, не так разрушительно для организма, все же не в меньшей степени отвлекает его от усилия и от стремления претворять его в определенный результат. Но когда я говорю ей об этом, она мне отвечает, что такие души, как Борис и Броня, не могут обходиться без грез и химер и что, если их отнять, они впадут: Броня — в отчаяние, а Борис — в вульгарный натурализм; она полагает, кроме того, что не вправе разрушать доверие этих детей и, хотя считает их иллюзии обманчивыми, все же желает видеть в них сублимирование низменных инстинктов, более высокое устремление, благородное побуждение, предохраняющее их, и т. п. Не веря сама в церковные догматы, она верит в действенную силу веры. Она с волнением говорит о набожности этих детей, которые вместе читают Апокалипсис, приходят в возбуждение, ведут беседы с ангелами и облекают свои души в белые плащаницы. Как все женщины, она полна противоречий. Но она права: я положительно не являюсь мистиком… как не являюсь и ленивцем. Я очень рассчитываю на атмосферу пансиона Азаисов и вообще парижский дух, чтобы сделать из Бориса работника и окончательно вылечить его от искания «воображаемых благ». Там он найдет для себя спасение. Софроницкая привыкает, мне кажется, к мысли доверить его мне, но, вероятно, она сама привезет его в Париж, желая лично присмотреть за его устройством у Азаисов и успокоить, таким образом, его мать, согласия которой она берется добиться.
VI
Есть пороки, которые, будучи выгодно показаны, сверкают ярче, нежели сама добродетель.
Ларошфуко
ПИСЬМО ОЛИВЬЕ К БЕРНАРУ
«Дружище!
Прежде всего сообщаю тебе, что я успешно выдержал выпускной экзамен. Но это не столь важно. Мне представился исключительный случай отправиться в путешествие. Я все еще колебался, но после прочтения твоего письма разом решился. Сначала легкое сопротивление матери, но его быстро преодолел Винцент, который выказал ко мне предупредительность, какой я от него не ожидал. Я не могу поверить, что в обстоятельствах, на которые намекает твое письмо, он мог поступить по-свински. В нашем возрасте мы обладаем досадной склонностью слишком строго судить людей и безапелляционно выносить им приговор. Многие поступки кажутся нам достойными порицания, даже гнусными просто потому, что мы недостаточно проникаем в их мотивы. Винцент не… Но это завело бы меня слишком далеко, а я хочу сообщить тебе множество вещей.
Да будет тебе известно, что тебе пишет главный редактор нового журнала „Авангард". Поразмыслив немного, я решил взять на себя обязанности, которые, по мнению графа Робера де Пассавана, я достоин исполнять. Он является издателем журнала, но не слишком желает, чтобы об этом было известно, и на обложке будет значиться только моя фамилия. Выпуск нашего журнала приурочен к октябрю; постарайся прислать мне что-нибудь для первого номера; мне было бы неприятно, если бы твоя фамилия не красовалась рядом с моей в первом оглавлении. Пассаван хочет, чтобы в первом номере появилось нечто очень вольное и пряное, потому что, по его мнению, самый худший упрек, который может навлечь на себя молодой журнал, — это упрек в чрезмерном целомудрии; я весьма склонен разделять это мнение. Мы много спорим по этому поводу. Он попросил меня написать что-нибудь в таком роде и снабдил меня достаточно рискованным сюжетом для коротенького рассказа; я немножко беспокоюсь, как бы это не причинило огорчения моей матери; но будь что будет. Как говорит Пассаван: чем человек моложе, тем меньше компрометирует скандал.
Я пишу тебе из Виццавоне. Виццавоне — крохотная деревушка на склонах одной из самых высоких гор Корсики, запрятавшаяся в густом лесу. Гостиница, где мы живем, расположена довольно далеко от деревни и служит туристам как бы отправным пунктом для экскурсий. Мы здесь всего несколько дней. Сначала недолго жили в одной харчевне, поблизости от восхитительной бухты Порто, совершенно пустынной, куда мы спускались купаться по утрам и где можно разгуливать нагишом целый день. Это было чудесно; но стало слишком жарко, и мы вынуждены были подняться в горы.
Пассаван восхитительный спутник: он совсем не чванится своим титулом, хочет, чтобы я называл его Робер, и выдумал для меня уменьшительное имя Олив. Ну разве не очаровательно? Он делает все, чтобы заставить меня забыть о своем возрасте, и, уверяю тебя, ему удается добиться этого. Моя мать была немного напугана моим отъездом, потому что она едва с графом знакома. Я колебался из боязни доставить ей огорчение. Перед получением твоего письма я совсем было отказался. Винцент ее успокоил, а твое письмо вдруг наполнило меня храбростью. Последние дни перед отъездом ушли у нас на беготню по магазинам. Пассаван так щедр, что хотел все предоставить в мое распоряжение, и мне постоянно приходилось его останавливать. Но он находил мои жалкие наряды ужасными: рубашки, галстуки, носки, все, что было у меня, ему не нравилось; он повторял, что, когда я буду жить с ним, ему будет очень неприятно видеть меня одетым не comme il faut (Как принято; аристократически; изысканно (франц.)), иными словами: не так, как ему нравится. Понятно, все покупки посылались к нему из опасения, как бы они не встревожили маму. Сам он изысканно элегантен; но, главное, у него прекрасный вкус, и множество вещей, которые казались мне терпимыми, сейчас возбуждают во мне отвращение. Ты не можешь себе вообразить, как занятно бывать в магазинах и мастерских. Он так остроумен. Я хочу дать тебе представление об этом: мы находились у Брентано, куда он отдал в починку свое вечное перо. За ним стоял огромный англичанин, который хотел подойти к прилавку вне очереди и, когда Робер довольно грубо его оттолкнул, стал ворчать что-то по его адресу; Робер обернулся и очень спокойно сказал:
— Не утруждайте себя. Я по-английски не понимаю.
Англичанин, взбешенный, отвечал на чистейшем французском:
— Вам следовало бы знать английский, милостивый государь.
Тогда Робер с улыбкой и очень вежливо:
— Вы видите, что это совершенно ни к чему.
Англичанин кипел от негодования, но не нашелся, что ответить. Это было уморительно.
Другой раз мы были в „Олимпии". Во время антракта прогуливались в фойе, где бродило множество проституток. Две из них, с виду довольно невзрачные, пристали к нему:
— Не угостишь кружкой пива, милок?
Мы сели с ним за столик.
— Человек! Пива для этих дам.
— А для господ?
— Для нас?… О, мы возьмем шампанского, — проронил он небрежно. И заказал бутылку моэт, которую мы и выдули. Если бы ты видел рожи несчастных девок! Я думаю, он питает отвращение к проституткам. Он признался мне, что ни разу не был в публичном доме, и дал мне понять, что очень рассердился бы, если бы я туда пошел. Ты видишь, таким образом, что это человек очень чистоплотный, несмотря на свой напускной цинизм и циничные суждения, вроде того, что в дороге он называет „унылым днем" день, когда не встретил before lunch (До ланча (англ.)), по крайней мере, пяти женщин, коими хотел бы обладать. Доложу тебе в скобках, что я не возобновлял… ты понимаешь меня.
У него очень забавный и своеобразный способ морализировать. Он однажды обратился ко мне:
— Видишь ли, мой мальчик, самое важное в жизни — не поддаваться никаким увлечениям. Увлечешься одним, глядишь — уж другая вещь увлекла тебя, а потом перестаешь сознавать, куда идешь. Так, я знал одного молодого человека, очень порядочного, которому пришлось жениться на дочери моей кухарки. Как-то ночью он случайно вошел к какому-то мелкому ювелиру. Убил его. Затем ограбил. И скрыл все это. Ты видишь, куда это ведет. Последний раз, когда я его видел, он уже стал лгуном. Прими к сведению.
И он всегда такой. Словом, я не скучаю. Мы отправились с намерением много работать, но до сих пор занимаемся только тем, что купаемся, жаримся на солнце и болтаем. У него необычайно оригинальные мнения и мысли о каждом предмете. Я всячески побуждаю его опубликовать недавно изложенные им мне совершенно новые теории о животных морских глубин и о том, что он называет „собственным светом" этих животных, позволяющим им обходиться без солнечного света, который он уподобляет свету благодати и „откровению". Изложенные в нескольких словах, как у меня сейчас, эти теории не производят никакого впечатления, но, уверяю тебя, когда он их развивает, это интересно, как роман. Широкой публике неизвестно, что он большой эрудит в естественных науках; но он кокетничает тем, что скрывает свои познания. Он называет их своим тайным богатством. Он говорит, что только снобы тешатся, выставляя напоказ все свои драгоценности, особенно когда те поддельные.
Он удивительно умеет пользоваться идеями, образами, людьми, вещами: иными словами, из всего извлекает выгоду. Он говорит, что сложное искусство жить заключается не столько в уменье наслаждаться, сколько в уменье извлекать из жизни пользу.
Я написал несколько стихотворений, но не настолько ими доволен, чтобы послать их тебе.
До свидания, старина. До октября. Ты и меня найдешь изменившимся. С каждым днем я приобретаю все больше уверенности. Я рад был узнать, что ты в Швейцарии, но, видишь, у меня нет оснований тебе завидовать.
Оливье».
Бернар протянул это письмо Эдуарду, который прочел его, ничем не выдав тех чувств, которые оно у него вызвало. Все, что Оливье с таким удовольствием рассказывал о Робере, возмущало его и в конце концов наполнило ненавистью. В особенности его огорчило, что он не был даже упомянут в этом письме, что Оливье, казалось, совсем позабыл его. Он тщетно старался разобрать тщательно зачеркнутые три строчки постскриптума: «Скажи дяде Э., что я постоянно думаю о нем; я не могу простить ему, что он меня бросил, я храню в сердце жестокую обиду».
Это были единственные искренние строчки во всем этом хвастовском письме, продиктованном досадой. Оливье вымарал их.
Эдуард возвратил Бернару ужасное письмо, не сказав ни слова; Бернар молча взял его. Я сказал уже, что они мало разговаривали; какая-то странная, необъяснимая принужденность овладевала ими, едва они оставались одни. (Я не люблю этого слова «необъяснимая» и пишу его здесь только из-за отсутствия более подходящего.) Но вечером, когда они пришли к себе в комнату и собирались ложиться спать, Бернар, преодолев себя, спросил сдавленным голосом:
— Лаура показывала вам письмо, которое получила от Дувье?
— У меня не было никаких сомнений, что Дувье поступит как джентльмен, — сказал Эдуард, ложась в постель. — Это очень славный парень. Немного слабый, может быть, но все же очень славный. Он будет обожать ребенка Лауры, я уверен. И ребенок, наверное, будет крепче, чем если б он родился от него. Ведь господин Дувье не ахти какой здоровяк.
Бернар слишком любил Лауру, чтобы не почувствовать себя шокированным развязностью Эдуарда, но все же ничем не выдал своих чувств.
— Слава Богу! — проговорил Эдуард, гася свечу. — Я рад, что так хорошо кончается вся эта история, у которой, казалось, был только один исход — отчаяние. Каждому случается делать ложный шаг. Самое важное — не упорствовать…
— Разумеется, — сказал Бернар, желая прекратить этот разговор.
— Должен признаться вам, Бернар, я боюсь, не сделал ли я с вами…
— Ложного шага?
— Увы, да. Несмотря на всю привязанность, какую я питаю к вам, в последние дни я все больше и больше убеждаюсь, что мы не созданы для взаимного понимания и что… — он помедлил несколько мгновений, подыскивая слова, — …дальнейшее ваше пребывание в моем обществе собьет вас с пути.
Бернар держался того же мнения, пока Эдуард не высказался; но, конечно, никакие слова Эдуарда не могли бы больнее задеть Бернара за живое. Увлекаемый духом противоречия, Бернар запротестовал:
— Вы не знаете меня как следует, да и сам я хорошенько себя не знаю. Вы не подвергли меня испытанию. Если у вас нет каких-либо упреков по отношению ко мне, могу я попросить вас подождать еще? Я допускаю, что мы очень мало похожи друг на друга; но мне казалось, что наше взаимное несходство как раз и является обстоятельством, служащим на пользу каждому из нас. Мне кажется, что если я могу помочь вам чем-нибудь, то главным образом своими отличиями, тем новым, что я принес бы вам. Если я обманываюсь, то всегда будет время дать мне понять это. Я не принадлежу к числу людей, вечно жалующихся и обвиняющих других в несправедливости. Послушайте, вот что я предлагаю вам; может быть, это глупо… Маленький Борис, насколько я понял, должен поступить в пансион Ведель-Азаис. Не выражала ли вам Софроницкая своих опасений, что он будет чувствовать себя там несколько потерянным? Если я сам заявлюсь туда с рекомендацией Лауры, не могу ли я надеяться получить там какую-нибудь работу: сделаться репетитором, надзирателем или чем-нибудь в этом роде? Мне нужен заработок. За то, что я буду там делать, я много не спрошу, удовлетворюсь столом и комнатой… Софроницкая питает ко мне доверие, а с Борисом я прекрасно умею ладить. Я буду оказывать ему покровительство, помогать ему, сделаюсь его наставником, другом. В то же время я мог бы остаться в вашем распоряжении, работал бы для вас в свободные часы и отвечал бы на малейший зов с вашей стороны. Что вы на это скажете?
И, как бы для того, чтобы придать слову «это» больший вес, прибавил:
— Я думаю над этим уже целых два дня.
Это была неправда. Если бы он сочинил этот прекрасный проект не сию минуту, он уже рассказал бы о нем Лауре. Правда, которой он не высказывал, заключалась в том, что со времени нескромного прочтения дневника Эдуарда и встречи с Лаурой он часто думал о пансионе Веделей; он желал познакомиться с Арманом, другом Оливье, о котором Оливье никогда ему не говорил; еще больше он желал познакомиться с Сарой, младшей сестрой; но его любопытство было глубоко затаено; из уважения к Лауре он не признавался в нем даже самому себе.
Эдуард ничего не отвечал; однако проект, предлагаемый Бернаром, нравился ему, если бы он обеспечил молодому человеку жилье. Ему мало улыбалась необходимость дать ему приют у себя. Бернар потушил свечу и снова заговорил:
— Не думайте, будто я ничего не понял из того, что вы рассказывали о своей книге и о конфликте, который, по-вашему, имеет место между голой реальностью и…
— Я не выдумываю этого конфликта, он существует в жизни.
— Но именно поэтому не будет ли очень кстати, если я стану снабжать вас фактами, чтобы дать вам возможность бороться с ними? Я буду наблюдать за вас.
Эдуард не был уверен, что в словах его собеседника не заключена скрытая издевка над ним. По правде говоря, он чувствовал себя несколько посрамленным Бернаром. Бернар выражал свои намерения слишком отчетливо…
— Мы обсудим этот вопрос, — сказал Эдуард.
Наступило продолжительное молчание. Бернар тщетно пытался уснуть. Письмо Оливье мучило его. В конце концов он не выдержал и, услышав, что Эдуард ворочается в своей постели, сказал вполголоса:
— Если вы не спите, то разрешите мне обратиться к вам еще с одним вопросом… что вы думаете о графе Пассаване?
— Черт, вы это отлично знаете, — отвечал Эдуард. Затем, через несколько мгновений: — А вы?
— Я… — прошептал Бернар с ненавистью, — я бы убил его.
VII
Путник, достигший вершины холма, садится и всматривается в даль, прежде чем продолжать свой путь, который теперь пойдет под гору; он старается разглядеть, куда же приведет его избранная им извилистая тропа, которая, кажется ему, теряется в сумраке и — так как спускается ночь — даже во мраке. Так и непредусмотрительный автор останавливается на мгновение, переводит дух и с беспокойством спрашивает себя, куда же приведет его рассказ.
Боюсь, что, доверяя маленького Бориса Азаисам, Эдуард совершает оплошность. Как уберечь его от этого поступка? Каждое живое существо действует по своим собственным законам, а законы, управляющие поведением Эдуарда, заставляют его без конца экспериментировать. Сердце у него доброе, это верно, но для спокойствия других я часто предпочел бы, чтобы в своих поступках он руководился расчетом, ибо великодушие, увлекающее его, часто является лишь спутником любопытства, которое может стать жестоким. Он знает пансион Азаисов; знает отравленный воздух, которым в нем дышат под удушающим покровом морали и религии. Он знает Бориса, его нежность, его хрупкость. Ему следовало бы предвидеть, какого рода воздействиям он его подвергает. Но он соглашается принимать в расчет только покровительство, помощь и поддержку, которые неустойчивая чистота ребенка может найти в суровости старика Азаиса. К каким софизмам он прислушивается? Наверное, дьявол нашептывает ему их, ибо он не стал бы слушаться, если бы они исходили от других.
Эдуард не раз раздражал меня (хотя бы своими отзывами о Дувье), даже приводил в негодование; надеюсь, что я не слишком обнаруживал свои чувства; но теперь я могу откровенно в этом признаться. Его поведение по отношению к Лауре, подчас столь благородное, не раз казалось мне возмутительным.
Мне совсем не нравятся доводы, которыми Эдуард оправдывает свои поступки. Зачем он пытается убедить себя, что заботится о благе Бориса? Лгать другим куда ни шло, но лгать самому себе! Разве поток, в котором тонет ребенок, утоляет его жажду, как он утверждает?… Я не отрицаю, что в мире существуют поступки благородные, великодушные и даже бескорыстные; я утверждаю только, что за самым высоким мотивом часто прячется хитрый чертенок, который умеет извлечь выгоду из того, что мы, казалось, у него отвоевали.
Воспользуемся периодом летнего отдыха, разбросавшего наших героев, и на досуге разглядим их повнимательнее. К тому же мы достигли того срединного момента нашей истории, когда течение ее замедлилось и как будто набирается новой энергии, чтобы устремиться вперед с большей скоростью. Бернар, несомненно, слишком еще молод, чтобы взять на себя руководящую роль в интриге. Он взялся охранять Бориса; он будет в состоянии самое большое наблюдать за ним. Мы видели уже перемену, происшедшую в Бернаре; страсти могут еще больше изменить его. Я нахожу в своей записной книжке несколько фраз, в которых выражено то, что я думал о нем раньше:
«Мне следовало бы отнестись с недоверием к тому слишком резкому поступку, который совершил Бернар в начале этой истории. Мне кажется, если судить по его последующим настроениям, он как бы истощил в этом поступке все свои анархические наклонности, которые, вероятно, продолжали бы жить в нем, если бы он, как ему приличествовало, остался прозябать под гнетом своей семьи. Совершив этот поступок, он испытывал в дальнейшем как бы реакцию, ощущал в себе протест против него. Приобретенная им привычка к бунту и противоречию приводит его к мятежу против самого бунта. Несомненно, он не является тем из моих героев, которые доставили бы мне большое разочарование, потому что он не был, пожалуй, тем, на кого я возлагал слишком большие надежды. Пожалуй, он слишком рано положился на собственные силы».
Но эти соображения больше не кажутся мне справедливыми. Я думаю, Бернару следует оказать некоторое доверие. Рыцарское отношение к нему его ободряет. Я чувствую в нем мужество, силу, он способен исполниться негодованием. Он, пожалуй, слишком любуется своими речами, но нужно признать, говорит он хорошо. Я отношусь с недоверием к чувствам, которые чересчур быстро находят для себя выражение. Это прекрасный ученик, но новые чувства не очень легко отливаются в заученные формы. Проявление собственного творчества сделало бы его косноязычным. Он уже, много прочитал, много запомнил и гораздо больше узнал из книг, чем из жизни.
Я крайне огорчен капризом судьбы, поставившим его на место Оливье подле Эдуарда. События сложились неудачно. Эдуард любил Оливье. С какой заботливостью он следил бы за его духовным развитием! С каким любовным вниманием он руководил бы им, поддерживал его, приобщал к своим замыслам! Пассаван испортит его, в этом нет сомнения. Ничто так не губительно для Оливье, как эта беззастенчивая лесть. Я надеялся, что Оливье сумеет лучше защищаться; но душа у него нежная и чувствительная. Лесть туманит его мысли. Более того, по отдельным нюансам его письма к Бернару мне показалось, что он немного тщеславен. Чувственность, досада, тщеславие, сколько поводов для нарекания на него! Когда Эдуард снова встретится с ним, боюсь, будет слишком поздно. Но Оливье еще молод, и мы вправе на него надеяться.
Пассаван… о нем говорить не стоит, не правда ли? Нет людей столь отпетых и в то же время окруженных таким всеобщим одобрением, как мужчины его типа, разве что женщины, подобные леди Гриффитс. Первоначально, сознаюсь, она казалась мне довольно содержательной. Но я раскусил ее и понял свою ошибку. Такие персонажи выкроены из материала крайне непрочного. Во множестве их поставляет Америка, но не она одна производит их. Богатство, ум, красота — все, кажется, у них есть, кроме души. Винценту, конечно, скоро придется убедиться в этом. Их не сдерживают никакие традиции, никакие ограничения; для них нет законов, нет авторитетов, нет угрызений совести; свободные и полные прихотей, они приводят в отчаяние романиста, которому удается добиться от них лишь пустых капризов, обусловленных минутой. Надеюсь, я надолго расстаюсь с леди Гриффитс. Мне жаль, что она похитила у нас Винцента, который возбуждал во мне большой интерес; от частого общения с ней он пошлеет; обработанный ею, он утрачивает свою угловатость. Жаль: именно в ней и заключалась известная прелесть.
Если мне случится когда-нибудь сочинить еще роман, я населю его только закаленными характерами, которых жизнь не притупляет, а, напротив, изощряет. Лаура, Дувье, Лаперуз, Азаис… что делать со всеми этими людьми? Я не искал их; следуя за Бернаром и Оливье, я просто встретился с ними на своем пути. Тем хуже для меня; отныне я перед ними в долгу.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ПАРИЖ
Когда мы будем обладать еще несколькими хорошими новыми монографиями, посвященными изучению отдельных областей, тогда, и только тогда, группируя их данные, сравнивая и самым тщательным образом сопоставляя их, мы будем в состоянии снова поставить вопрос об общей картине, сообщить ему новое и плодотворное движение. Поступать иначе — значило бы мчаться в курьерском поезде со скудным багажом из двух или трех простых и грубых идей. Это значило бы проходить в большинстве случаев мимо частного, индивидуального, неправильного, словом, мимо самого интересного.
Люсьен Февр. «Земля и эволюция человека»
I
Возвращение в Париж не доставило ему никакого удовольствия.
Флобер. «Воспитание чувств»
ДНЕВНИК ЭДУАРДА
22 сентября
Жара, скука. Возвратился в Париж на неделю раньше. Моя торопливость всегда будет до призыва гнать меня под знамена. Скорее любопытство, чем усердие; желание предвосхищать события. Я никогда не умел совладать со своей жаждой.
Привел Бориса к дедушке. Софроницкая, предупредившая накануне старика, сообщила мне, что госпожа Лаперуз поступила в богадельню. Уф!
Позвонил и оставил мальчика на площадке лестницы, решив, что будет деликатнее не присутствовать на первом свидании: боялся благодарности старика. Расспрашивал потом мальчика, но не мог добиться от него ни слова. Софроницкая, с которой я тоже виделся, сказала мне, что и ей Борис ничего не сказал. Когда час спустя она пришла за ним, как было условлено, ей открыла дверь служанка; Софроницкая застала старика сидящим за партией в шашки; мальчик стоял надувшись в противоположном углу комнаты.
— Странно, — сказал Лаперуз, совершенно растерявшись, — мне казалось, что игра развлекает его, но он вдруг заупрямился. Боюсь, что он немного нетерпелив…
Было ошибкой оставлять их одних на столь продолжительное время.
27 сентября
Сегодня утром встретил Молинье под галереями Одеона. Полина и Жорж возвращаются только послезавтра. Находясь в Париже еще со вчерашнего дня, Молинье подобно мне скучал в одиночестве; поэтому нет ничего удивительного, что он очень обрадовался нашей встрече. Мы решили позавтракать вместе и в ожидании часа завтрака отправились посидеть в Люксембургский сад.
В моем обществе Молинье напустил на себя игривость и заговорил шутливым тоном, который, видимо, по его мнению, больше всего должен был прийтись по вкусу писателю. Он желал еще показать себя бодрым и крепким.
— В сущности, я человек страстный, — заявил он. Я понял, что он хочет сказать «похотливый». Я улыбнулся, как мы улыбаемся, когда слышим от женщины заявление, что у нее красивые ноги; улыбка, которая обозначает: «Поверьте, я в этом никогда не сомневался». До сего дня я видел в Молинье только чиновника; он впервые представал передо мной без мундира.
Я подождал, пока мы усядемся за столик у Фуайо, и заговорил с ним об Оливье; сказал, что получил недавно известия о его сыне от одного из его товарищей, который сообщал мне, что мальчик путешествует по Корсике с графом де Пассаваном.
— Да, это друг Винцента, предложивший Оливье поехать с ним. Так как Оливье только что с успехом выдержал выпускные экзамены, мать не сочла себя вправе отказать ему в небольшом удовольствии… Этот граф де Пассаван — литератор. Вы, вероятно, его знаете.
Я не скрыл от Молинье, что мне не очень нравятся его книги и он сам.
— Собратья по перу часто судят друг друга чересчур строго, — возразил он. — Я дал себе труд прочитать его последний роман, который до небес превозносят некоторые критики. Не скажу, чтобы я нашел в нем что-то особенное, но, вы знаете, я в этом мало смыслю…
Затем, в ответ на мои опасения относительно дурного влияния, которое Пассаван может оказать на Оливье, он промямлил:
— По правде сказать, лично я не одобрял этого путешествия. Но нужно всегда помнить, что, начиная с известного возраста, дети ускользают от нашего влияния. Это в порядке вещей, и ничего с этим не поделаешь. Полина хотела бы вечно присматривать за ними. Я говорю ей иногда: «Ты только раздражаешь своих сыновей. Оставь их в покое. Ты сама внушаешь им всякие мысли своими расспросами…» Я держусь того мнения, что от долгого присмотра за ними нет никакого проку. Важно, чтобы первоначальное воспитание привило им добрые принципы. Особенно важно, чтобы у них были крепкие задатки. Видите ли, дорогой мой, наследственность торжествует над всем. Есть дурные субъекты, которых ничто не способно исправить; те, кого мы называем «неисправимыми». Их необходимо держать в большой строгости. Но когда имеешь дело с добрыми натурами, можно немного ослабить вожжи.
— Вы сказали мне, однако, продолжал я, — что не давали согласия на эту поездку Оливье.
— Ах, мое согласие… мое согласие, — сказал он, уткнув нос в тарелку, — иногда обходятся и без моего согласия! Нужно принять во внимание, что в семьях — даже в тех, где супруги живут душа в душу, — решающее слово не всегда принадлежит мужу. Вы не женаты, вас это не интересует…
— Извините, пожалуйста, сказал я со смехом, — но я романист.
— В таком случае вы, несомненно, должны были заметить, что не всегда по слабости характера мужчина позволяет жене вертеть собой.
— В самом деле, — согласился я, чтобы ему польстить, — есть твердые и даже властные мужчины, которые в семейной жизни проявляют кротость ягненка.
— Знаете, чем это объясняется?… спросил он. — Если муж уступает жене, это в девяти случаях из десяти признак того, что за ним водятся грешки. Добродетельная жена, дорогой мой, извлекает выгоду из всего. Стоит мужу немного нагнуться, как она садится ему на шею. Ах, друг мой, бедные мужья иногда тоже достойны сожаления! Когда мы молоды, мы желаем целомудренных супруг, не зная того, во что нам обойдется их добродетель.
Облокотившись на стол и подперев рукой подбородок, я наблюдал Молинье. Бедняга не подозревал, насколько согбенное положение, на которое он жаловался, казалось естественным для его спины; он часто вытирал лоб, много ел, будучи похож не столько на гурмана, сколько на обжору, и, казалось, особенно смаковал заказанное нами старое бургундское. Очень довольный тем, что его слушали, понимали и, по его мнению, вероятно, одобряли, он изливался в признаниях.
— Особенности судебного чиновника, — продолжал он, — привели меня к знакомству с женщинами, которые отдавались своим мужьям против воли, скрепя сердце… и которые, однако, приходят в негодование, когда несчастный отверженный начинает искать себе «пищу» на стороне.
Судебный чиновник начал фразу в прошедшем времени; муж закончил ее в настоящем, ясно свидетельствовавшем о желании самооправдаться. Он прибавил тоном поучения, между двумя глотками:
— Аппетит другого легко кажется чрезмерным, когда его не разделяешь. — Выпив большую рюмку вина, он продолжал: — Вот вам, дорогой друг, объяснение, как муж утрачивает главенство в семейной жизни.
Но я слышал больше и угадывал в кажущейся несвязности его речей желание переложить ответственность за свои грешки на добродетель жены. Таким развинченным, как этот паяц, существам, думал я, недостаточно всего их эгоизма, чтобы как-то скреплять не согласующиеся друг с другом элементы их личности. Стоит нам только немного забыться, и они разваливаются на куски. Он замолчал. Мне захотелось подбавить несколько своих замечаний, как подливают масло в машину, которая только что совершила перегон; поэтому, чтобы побудить его продолжать, я отважился сказать:
— К счастью, Полина рассудительна.
Он произнес: «Да…», но так протяжно, что оно прозвучало у него, как сомнение, затем продолжал:
— Есть, однако, вещи, которых она не понимает. Знаете, как бы ни была рассудительна женщина… Впрочем, я согласен, что в данном случае я действовал не особенно ловко. Я вздумал рассказать ей о маленьком приключении, когда сам считал, даже был убежден, что история не зайдет слишком далеко. Однако она имела продолжение… а вместе с ней стали все больше расти подозрения Полины. Я совершил ошибку, пустив ей, как говорится, блоху в ухо. Пришлось притворяться, лгать… Вот что значит не вовремя распускать язык. Что поделаешь! Я от природы откровенен… Но Полина страшно ревнива, и вы не можете представить, как мне пришлось хитрить.
— И давно это? — спросил я.
— О, это длится уже около пяти лет, и я думаю, что мне удалось совершенно успокоить ее. Но все грозит повториться сначала. Представьте себе, что позавчера… Не спросить ли нам еще бутылку помара, а?
— Только не для меня, прошу вас.
— Может быть, они подают и не целыми бутылками? Я сосну потом часок. Жара одолевает меня… Так вот, позавчера, возвратившись домой, открываю я свой письменный стол, чтобы привести в порядок бумаги. Выдвигаю ящик, в котором прячу письма… особы, о которой идет речь. Представьте себе мой ужас, дорогой мой: ящик пуст. Ах, черт возьми, для меня ясно, как все произошло! Две недели тому назад Полина приезжала с Жоржем в Париж на свадьбу дочери одного из моих коллег; я не имел возможности присутствовать на этой свадьбе, так как, вы знаете, находился в Голландии… кроме того, все эти церемонии, скорее, женское дело. Праздная, в пустой квартире, под предлогом уборки… вы знаете, что женщины всегда немного любопытны… она, наверно, начала рыться… о, ничего дурного я не хочу подозревать. Я не обвиняю ее. Просто у Полины всегда была священная потребность наводить порядок… Как, по-вашему, я должен теперь объяснить ей все, когда у нее в руках доказательства? Если бы еще крошка не называла меня по имени! Такое согласное супружество! Когда я думаю о том, что мне следует предпринять…
Бедняга путался в своих признаниях. Он вытирал себе лоб, обмахивался платком. Я выпил гораздо меньше, чем он. Сердце не обладает способностью соболезновать по заказу; я испытывал к нему лишь отвращение. Я соглашался видеть в нем отца семейства (хотя мне и тяжело было сознавать, что он отец Оливье), порядочного и честного буржуа, отставного чиновника; но влюбленный он был мне только смешон. Особенно неприятное впечатление на меня производили нескладность и тривиальность его объяснений, его жалкая мимика; ни его лицо, ни его голос, казалось, не были созданы для передачи чувств, которые он выражал; впечатление контрабаса, пытающегося передать эффекты альта: его инструмент издавал лишь сильные звуки.
— Вы сказали, что с ней был Жорж…
— Да, она не хотела оставить его одного. Но, понятно, в Париже он не всегда висел у нее на шее… Могу вас уверить, дорогой мой, что за все двадцать шесть лет нашего супружества у нас не было ни одной ссоры, ни одной размолвки… Когда я начинаю думать о том, что мне предстоит… ведь Полина возвращается через два дня… Давайте лучше поговорим о другом. Да! Что вы скажете о Винценте? Князь Монако, прогулка на яхте… Черт возьми!.. Как, вы не знаете?… Да, он недавно отправился наблюдать измерение морских глубин и морские промыслы подле Азорских островов. Ах, о нем мне нечего беспокоиться, уверяю вас! Этот сам пробьет себе дорогу.
— Как его здоровье?
— Совершенно восстановилось. Будучи обладателем такого ума, он, по-моему, добьется славы. Граф де Пассаван не скрыл от меня, что считает его одним из самых замечательных людей, с кем ему приходилось встречаться. Он даже сказал: самым замечательным… но это, конечно, преувеличение…
Завтрак подходил к концу; он закурил сигару.
— Могу я спросить у вас, — снова обратился он ко мне, — что это за друг Оливье передал вам известия о нем? Замечу вам, что я придаю огромное значение знакомствам моих детей. Я полагаю, в этом отношении нужно быть крайне бдительным. Мои дети, к счастью, обладают естественной склонностью сходиться только с самыми лучшими людьми. Смотрите: Виицент дружит с князем, Оливье — с графом де Пассаваном… Даже Жорж отыскал в Ульгате своего одноклассника, юного Адаманти, который к тому же поступит вместе с ним в пансион Ведель-Азаис; мальчик очень надежный: отец его сенатор с Корсики. Но заметьте, до какой степени нужно быть осмотрительным: у Оливье был друг, по-видимому, из хорошей семьи: некий Бернар Профитандье. Нужно вам сказать, что Профитандье-отец — мой сослуживец: один из самых замечательных людей, и я питаю к нему особенное уважение. Но… пусть это останется между нами… я узнал недавно, что он не является отцом мальчика, носящего его имя! Что вы скажете на это?
— Как раз этот самый Бернар Профитандье и сообщил мне новости об Оливье, — сказал я.
Молинье несколько раз затянулся сигарой и, высоко подняв брови, от чего его лоб покрылся морщинами, произнес:
— Я предпочитаю, чтобы Оливье не слишком общался с этим мальчиком. Я получил компрометирующие сведения о нем, которые, впрочем, не очень меня удивили. Согласитесь, что нет основания ожидать добра от ребенка, рожденного при таких печальных обстоятельствах. Я не хочу сказать, что незаконный ребенок не может обладать крупными достоинствами, даже добродетелями; но, будучи плодом самовольства и неподчинения, он обязательно носит в себе зародыши анархии… Да, дорогой мой, то, что должно было случиться, случилось. Юноша Бернар внезапно покинул семейный очаг, возврат куда отныне ему заказан. Он отправился «жить своей жизнью», как говорил Эмиль Ожье; жить неизвестно как и неизвестно где. Несчастный Профитандье, сам рассказавший мне об этой передряге, вначале, казалось, был сильно потрясен. Я постарался убедить его, что дело не следует принимать столь близко к сердцу. В общем, уход этого мальчика все поставил на свои места.
Я возразил, что достаточно знаю Бернара, чтобы поручиться в его благородстве и порядочности (понятно, я воздержался от рассказа об истории с чемоданом). Но Молинье тотчас же набросился на меня:
— Оставьте! Я вижу, что мне придется рассказать вам еще кое о чем.
Затем, придвинувшись ко мне, продолжал вполголоса: — Моему сослуживцу Профитандье было поручено следствие по одному крайне грязному и щекотливому делу, оно таково как по существу, так и по шуму, который может вызвать, и последствиям, какие может иметь. Совершенно фантастическая история, которой так не хотелось бы верить… Дело идет, дорогой мой, о настоящем притоне разврата, о… нет, не хочу употреблять непотребные слова, скажем, о чайном домике, чьей скандальной особенностью является то, что завсегдатаи его гостиных состоят по большей части и почти исключительно из совсем зеленой школьной молодежи. Говорю вам, это совершенно невероятно. Дети, наверное, не отдают себе отчета в серьезности своих поступков, потому что они почти не пытаются их скрывать. Это происходит по окончании классов. Они закусывают, разговаривают, развлекаются с этими дамами; и развлечения находят себе продолжение в комнатах, примыкающих к гостиным. Понятно, туда нет доступа всем желающим. Нужно быть представленным, отрекомендованным. Кто несет издержки по устройству этих оргий? Кто платит за помещение? Обнаружить это было, по-видимому, не так трудно, но необходимо было вести расследование с крайней осторожностью из опасения узнать слишком много и быть вынужденным в итоге привлечь к допросу и скомпрометировать почтенные семьи, на детей которых пало подозрение как на главных клиентов заведения. Вследствие этого я сделал все возможное, чтобы умерить пыл Профитандье, который набросился как разъяренный бык на это дело, не подозревая, что первым ударом рогов… ах, извините меня, я сказал это не нарочно, ха! ха! смешно, вырвалось у меня нечаянно… он рискует проткнуть собственного сына. К счастью, каникулы привели к перерыву собраний; школьники разъехались, и я надеюсь, все это дело будет замято и потушено без скандала после кое-каких предупреждений и не подлежащих огласке санкций.
— Вы вполне уверены, что Бернар Профитандье замешан в этом деле?
— Не вполне, но…
— Что же заставляет вас предполагать это?
— Прежде всего, тот факт, что он незаконнорожденный. Вы понимаете, конечно, что мальчик его лет способен порвать с семьей, только потеряв всякий стыд… Кроме того, у меня есть основания предполагать, что Профитандье собрал некоторые улики, так как его пыл вдруг остыл; больше того, он как будто даже забил отбой, и в последний раз, когда я спрашивал его о состоянии дела, он обнаружил замешательство. «Я думаю, что мое следствие окончится безрезультатно», — сказал он мне и тотчас же переменил тему разговора. Бедняга Профитандье! Честное слово, он не заслужил того, что с ним стряслось. Это порядочный человек, и, что, может быть, встречается реже, славный малый. Да, кстати, дочь его только что очень удачно вышла замуж. Я не мог присутствовать на свадьбе, потому что был в Голландии, но Полина и Жорж специально приезжали в Париж. Я ведь уже говорил вам об этом? Ну, мне пора пойти вздремнуть… Как, вы хотите заплатить за все? Бросьте! Разделим по-товарищески… Не стоит? Ну, до свидания. Не забывайте, что Полина приезжает через два дня. Заходите к нам. И потом, не называйте меня больше Молинье, говорите просто Оскар!.. Я уже давно хотел просить вас об этом.
Сегодня вечером получил записку от Рашели, сестры Лауры:
«Мне нужно поговорить с вами по важному делу. Можете ли вы, если это не доставит вам неудобства, прийти в пансион завтра после двенадцати? Вы окажете мне большую услугу».
Если бы Рашель желала поговорить со мной о Лауре, она не стала бы ждать. Она пишет мне в первый раз.
II
ДНЕВНИК ЭДУАРДА
(продолжение)
28 сентября
Я встретил Рашель на пороге большой классной комнаты на первом этаже пансиона. Два служителя подметали пол. Она тоже была в переднике, с тряпкою в руке.
— Я знала, что могу рассчитывать на вас, — сказала она мне, подавая руку, с выражением нежной грусти и покорности, но с улыбкой более трогательной, чем красота. — Если вы не очень спешите, то лучше поднимитесь сначала наверх и поздоровайтесь с дедушкой и мамой. Если они узнают, что вы приходили и не навестили их, они будут огорчены. Но не задерживайтесь, мне непременно нужно поговорить с вами. Вы меня найдете здесь, видите, я наблюдаю за уборкой.
Из какого-то ложного стыда она никогда не говорит «я работаю». Всю жизнь Рашель держалась в тени; нет ничего более деликатного и скромного, чем ее добродетель. Ее самоотречение таково, что ни один из членов семьи не чувствует к ней благодарности за ее вечное самопожертвование. Это самая прекрасная женская душа, какую я знаю.
Поднялся на третий этаж к Азаису. Теперь старик почти не покидает своего кресла. Он усадил меня подле себя и сразу же завел речь о Лаперузе.
— Меня очень беспокоит его одиночество, и я хотел бы убедить его переехать к нам в пансион. Вы знаете, мы старые друзья. Я заходил к нему недавно. Боюсь, что переезд его дорогой жены в Сент-Перин очень расстроил его. По моему мнению, обыкновенно мы едим слишком много; но во всем нужно соблюдать меру, и можно пересолить в ту или другую сторону. Он считает излишней роскошью, чтобы для него одного стряпали обед; но если бы он обедал с нами, то вид обедающих возбуждал бы у него аппетит. Он был бы здесь подле своего прелестного внука, между тем при теперешних условиях ему представится очень мало случаев видеться с ним, ибо улица Вавен в предместье Сент-Оноре — это дальний путь. Кроме того, мне не хотелось бы, чтобы ребенок ходил один по Парижу. Я давно уже знаком с Анатолем Лаперузом. Он всегда был чудаком. Это не упрек, но он от природы немного горд и не принял бы, наверное, гостеприимства, которое я ему предлагаю, не внося плату за свое содержание. Поэтому мне пришла в голову мысль предложить ему присматривать за занятиями учеников, что будет для него не слишком утомительно и, кроме того, доставит ему некоторое развлечение, отвлечет от мыслей о себе. Он хороший математик и мог бы, в случае надобности, давать уроки по геометрии или по алгебре. Теперь, когда у него нет учеников, обстановка и рояль больше не нужны ему; ему следовало бы бросить свою квартиру; и так как после переезда сюда ему не пришлось бы платить за помещение, я подумал, что мы, пожалуй, согласились бы брать с него маленькую плату за пансион, чтобы его подбодрить и чтобы он не чувствовал себя всем обязанным мне. Вы должны постараться убедить его и сделать это не откладывая, потому что при его теперешнем образе жизни, боюсь, он скоро ослабеет. Кроме того, через два дня возобновятся занятия в пансионе; было бы полезно знать, чего держаться и можно ли также рассчитывать на него… как он может рассчитывать на нас.
Я обещал поговорить с Лаперузом завтра же. Словно почувствовав облегчение, он продолжал:
— Какой славный мальчик ваш протеже Бернар! Он так любезно изъявил готовность оказывать нам небольшие услуги; он предложил наблюдать за занятиями младших учеников; но боюсь, что сам он немного молод и не сумеет заставить их относиться к себе с почтением. Я долго разговаривал с ним и нашел его весьма симпатичным. Как раз из характеров такого закала и выковываются лучшие христиане. Крайне прискорбно, что первоначальное воспитание направило эту душу по ложному пути. Он сознался мне, что неверующий; но он сказал это таким тоном, который исполнил меня доброй надеждой. Я ответил ему, что надеюсь найти в нем все качества, необходимые для образования храброго Христова воина, и что он должен приложить все усилия, чтобы пустить в дело вверенные ему Богом таланты. Мы вместе перечитали притчу, и я думаю, что доброе семя упало не на бесплодную почву. Он был взволнован моими словами и обещал мне подумать над ними.
Бернар уже рассказал мне об этой беседе со стариком: мне было известно, что он о ней думал, поэтому разговор становился для меня в достаточной мере тягостным. Я поднялся уже, чтобы уйти, но Азаис не выпускал протянутую мною руку и продолжал:
— Да, вот еще что! Я виделся с нашей Лаурой. Я узнал, что моя милая внучка провела с вами целый месяц в горах, по-видимому, это принесло большую пользу ее здоровью. Я рад, что она снова подле мужа, который, должно быть, уже страдал от ее долгого отсутствия. Очень жаль, что занятия не позволили ему приехать к вам туда.
Я рвался уйти, испытывая все большее замешательство, так как не знал, что могла сказать ему Лаура, но он привлек меня к себе порывистым и повелительным движением руки и нагнулся к моему уху:
— Лаура сообщила мне по секрету, что питает надежды, но, тс!.. Она желает пока скрывать это. Я говорю вам потому, что знаю — вы в курсе дела, а мы оба умеем молчать. Бедная девочка была совсем сконфужена, доверяя мне свою тайну, и вся раскраснелась; она так скромна. Она бросилась на колени передо мной, и мы вместе возблагодарили Бога за то, что он благословил этот союз.
Мне кажется, Лаура лучше сделала бы, если бы отложила свое признание, к которому не принуждало еще ее состояние. Если бы она обратилась за советом ко мне, я предложил бы ей подождать встречи с Дувье, прежде чем говорить о чем-либо. Азаис видит здесь только пылкость, но другие члены семьи вряд ли окажутся такими простаками.
Старик исполнил еще несколько вариаций на разные пасторские темы, затем сказал, что его дочь будет рада увидеться со мной, и я спустился на этаж, который занимали Ведели.
Перечитал только что написанное. Говоря так об Азаисе, не его, а себя воображаю я в невыгодном свете. Я отлично это понимаю и прибавляю несколько строчек в назидание Бернару на тот случай, если его очаровательная нескромность снова побудит его сунуть нос в эту тетрадь. Несмотря на недолгое свое знакомство со стариком, он поймет, что я хочу сказать. Я очень люблю старика и «сверх того», как он говорит, уважаю его; но едва я оказываюсь подле него, мне становится как-то не по себе; вследствие этого его общество в достаточной степени меня тяготит.
Я очень люблю его дочь, пасторшу. Госпожа Ведель похожа на Эльвиру Ламартина, правда, состарившуюся. Разговор ее не лишен прелести. Ей довольно часто случается не заканчивать произносимых фраз, отчего мысль окутывается как бы поэтической дымкой. Неточность и незаконченность она превращает в бесконечность. Она от будущей жизни ожидает всего, чего ей недостает на земле; это позволяет ей безгранично расширять область своих надежд. Самая узость ее кругозора способствует ее устремлению ввысь. Достаточно ей редко встречаться с Веделем, чтобы вообразить, будто она его любит. Достойный человек постоянно в отлучке: тысяча всяких дел, забот, проповеди, съезды, посещение бедных и больных вынуждают его лишь изредка бывать дома. Он всегда пожимает вам руку на ходу, но тем более сердечно.
— Очень тороплюсь и не могу поговорить с вами.
— Встретимся на небесах, там и наговоримся, — отвечаю я ему, но он не успевает меня услышать.
— Ни минуточки свободной, — вздыхает госпожа Ведель. — Если бы вы знали, сколько работы он взваливает на себя, с тех пор как… Так как всем известно, что он никогда не отказывается, то… Вечером, когда он возвращается, он бывает иногда таким усталым, что я почти не осмеливаюсь заговаривать с ним из страха, что… Он столько отдает другим, что у него ничего не остается для своих.
Когда она говорила это, мне вспомнились некоторые возвращения Веделя во времена, когда я жил в пансионе. Вспомнилось, как он охватывал голову руками и громко зевал. Но уже тогда мне казалось, что он, пожалуй, скорее страшился этого краткого отдыха, чем желал его, и что больше всего ему был бы тягостен досуг, который позволил бы ему привести в порядок свои мысли.
— Вы не откажетесь выпить чашку чаю? — обратилась ко мне госпожа Ведель, когда служанка принесла поднос с чайным прибором.
— Мадам, у нас сахару нет.
— Я уже сказала, что вы должны обращаться за этим к барышне Рашель. Ступайте живо… Вы звали наших молодых людей?
— Мсье Бернар и мсье Борис ушли.
— А мсье Арман?… Живее!
Затем, не дожидаясь, когда служанка выйдет:
— Эта бедная девушка родом из Страсбурга. У нее нет никакой… Все приходится растолковывать ей… Ну, чего же вы ждете?
Служанка обернулась словно змея, которой наступили на хвост.
— Внизу ждет репетитор, он хотел подняться сюда. Говорит, что не уйдет, пока ему не заплатят.
Лицо госпожи Ведель приняло трагическое выражение.
— Ну сколько раз мне повторять, что не я занимаюсь денежными делами. Скажите ему, чтобы он обращался к барышне. Ступайте!.. Ни минуты покоя! Ей-богу, не понимаю, о чем думает Рашель.
— Мы не будем ждать ее к чаю?
— Она никогда не пьет чаю… Ах, это начало занятий нам причиняет столько беспокойства! Репетиторы, предлагающие свои услуги, требуют непомерной платы, а когда их требования приемлемы, они сами оказываются никуда не годными. Папа принужден был выразить последнему свое неудовольствие; он проявил слишком большую слабость по отношению к нему; теперь этот репетитор нам угрожает. Вы слышали, что говорила девушка. У всех этих людей на уме только деньги… словно в мире нет ничего более важного… Пока мы не знаем, кем его заменить. Проспер всегда того мнения, что нужно только помолиться Богу, и все устроится…
Служанка принесла сахар.
— Вы позвали мсье Армана?
— Да, барыня, он сейчас придет.
— А Сара? — спросил я.
— Она возвращается только через два дня. Она гостит у друзей в Англии — у родителей той молодой девушки, которую вы видели у нас. Они были очень любезны, и я рада, что Сара может немного… Лаура тоже. Я нашла, что она выглядит гораздо лучше. Это пребывание в Швейцарии после юга принесло ей много пользы, и вы были очень любезны, что уговорили ее. Один лишь несчастный Арман не покидал Парижа все каникулы.
— А Рашель?
— Ах да, вы правы: она тоже. У нее было много предложений, но она предпочла остаться в Париже. К тому же дедушка нуждался в ее помощи. И затем в этой жизни не всегда удается делать то, что хочешь. Время от времени я должна повторять детям эту истину. Нужно помнить и о других. Неужели вы думаете, что мне самой не доставило бы удовольствия прокатиться в Саас-Фе? Или что Проспер, отправляясь в путешествие, делает это ради удовольствия? Арман, ты прекрасно знаешь, что я не люблю, когда ты приходишь сюда без воротничка, — прибавила она, увидя входящего в комнату сына.
— Дорогая мама, вы мне внушили, как религиозную обязанность, не придавать значения внешности, — сказал он, подавая мне руку. — И очень кстати, потому что прачка приходит только во вторник, а оставшиеся у меня воротнички все изорваны.
Я вспомнил то, что Оливье говорил мне о своем приятеле, и мне действительно показалось, что за его злой иронией скрывалось выражение глубокой тревоги. Черты лица Армана обострились; длинный крючковатый нос нависал над тонкими бесцветными губами. Он продолжал:
— Вы сообщили вашему знатному гостю, что наша постоянная труппа к открытию зимнего сезона пополнилась несколькими новыми звездами: сыном одного глубокомысленного сенатора и юным виконтом де Пассаваном, братом знаменитого писателя? Не считая двух рядовых артистов, которых вы уже знаете, но которые от этого являются не менее почтенными: князя Бориса и маркиза де Профитандье; а также еще нескольких, титулы и достоинства которых еще предстоит установить.
— Вы видите, он все такой же, — сказала бедная мать, с улыбкой слушавшая эту насмешливую речь.
Боясь, чтобы он не заговорил о Лауре, я поспешил откланяться и спустился к Рашели.
Она, засучив рукава блузки, помогала убирать классную комнату, но поспешно опустила их, заметив мое приближение.
— Мне очень тяжело обращаться к вам за помощью, — начала она, увлекая меня в соседнюю комнату, служившую для занятий с учениками. — Я хотела было обратиться к Дувье, который просил меня об этом; но когда я увиделась с Лаурой, то поняла, что не могу больше этого сделать…
Рашель была очень бледна, и, когда она произносила последние слова, ее губы и подбородок конвульсивно задрожали, так что на несколько мгновений она принуждена была замолчать. Не желая ее смущать, я отвернулся. Она прислонилась к двери, прикрывши ее за собой. Я хотел тихонько пожать ей руку, но она вырвалась. Наконец, сделав над собой огромное усилие, она спросила сдавленным голосом:
— Можете вы одолжить мне десять тысяч франков? Набор у нас нынче хороший, и я надеюсь, что скоро буду в состоянии возвратить вам долг.
— Когда вам нужны деньги?
Она не ответила.
— Тысяча франков с лишним сейчас при мне, — продолжал я. — Завтра утром я принесу вам всю сумму… Даже сегодня вечером, если необходимо.
— Нет, можно и завтра. Но если бы вы могли оставить мне сейчас тысячу франков…
Я вынул деньги из бумажника и протянул ей:
— Хотите тысячу четыреста?
Она опустила голову и сказала «да» так тихо, что я едва расслышал, затем, шатаясь, подошла к парте, тяжело опустилась на нее, облокотилась обеими руками на пюпитр, закрыла лицо и сидела несколько минут неподвижно. Мне показалось, она плачет, но, когда я положил ей руку на плечо, она подняла голову, и я увидел, что глаза у нее сухие.
— Рашель, — сказал я, — не стыдитесь вашей просьбы. Я счастлив, что могу оказать вам услугу.
Она пристально посмотрела на меня:
— Мне особенно тяжело просить вас не говорить об этом ни дедушке, ни маме. С тех пор как они поручили мне ведение хозяйства пансиона, я держу их в уверенности, что… словом, они ни о чем не знают. Не говорите им ничего, умоляю вас. Дедушка стар, а у мамы столько неприятностей.
— Рашель, вам, а вовсе не ей приходится терпеть все эти неприятности!
— Она уже столько натерпелась. Теперь она устала. Пришла моя очередь. Мне только и осталось, что заботы по хозяйству.
Она совсем просто произносила эти простые слова. Я не чувствовал в ее самоотречении никакой горечи, скорее, какую-то спокойную ясность.
— Не подумайте, что дела у нас плохи, продолжала она. — Просто сейчас трудный момент, потому что некоторые кредиторы проявляют нетерпение.
— Я слышал сейчас от вашей служанки о каком-то репетиторе, требующем уплаты жалованья.
— Да, он устроил дедушке очень тяжелую сцену, которую я, к несчастью, не могла предотвратить. Это дерзкий и грубый человек. Мне необходимо тотчас же расплатиться с ним.
— Хотите, я пойду вместо вас?
Некоторое время она была в нерешительности, тщетно пытаясь улыбнуться.
— Спасибо вам. Нет, лучше я сама… Только выйдите, пожалуйста, вместе со мной. Я немножко его боюсь. В вашем присутствии он не посмеет говорить мне дерзости.
Двор пансиона возвышается на несколько ступенек над садом, который составляет его продолжение и отделяется от него балюстрадой; репетитор опирался об эту балюстраду откинутыми назад локтями. Он был в широкополой фетровой шляпе и курил трубку. Пока Рашель вела с ним переговоры, ко мне снова подошел Арман.
— Рашель выклянчила у вас денег, — сказал он цинично. — Вы пришли весьма кстати, чтобы выручить ее из больших неприятностей. Скотина Александр, мой братец, наделал долгов в колониях. Рашель пожелала скрыть это от родителей. Она уже пожертвовала половиной своего приданого, чтобы немного увеличить приданое Лауры; теперь же пошла прахом и другая половина. Бьюсь об заклад, она ничего не сказала вам об этом. Ее скромность меня бесит. Жизнь жестоко издевается над людьми: можно быть уверенным, что всякий жертвующий собой для других стоит большего, чем они… Сколько она сделала для Лауры! Славно ей отплатила эта девка!
— Арман, — вскричал я с негодованием, — вы не имеете права осуждать вашу сестру.
Но он возразил резким, прерывающимся тоном:
— Напротив, я осуждаю ее именно потому, что я не лучше, чем она. Я себя знаю. Рашель — та не осуждает нас. Она никогда никого не осуждает… Да, Лаура — шлюха, шлюха… То, что я думаю о ней, я никому не поручал передавать ей, клянусь вам… И вы покрыли все это, взяли под свою защиту! Между тем как вы знали… Дедушка видит во всем этом только темперамент. Мама всячески старается ничего не понимать. Что касается папы, то он полагается на Господа: так удобнее. При каждом затруднении он молится Богу и предоставляет выпутываться Рашели. Больше всего он боится смотреть действительности прямо в глаза. Он мечется, разрывается на части, почти никогда не бывает дома. Я понимаю, что он задыхается здесь: я сам здесь подыхаю. Он старается одурманить себя, черт возьми! А мама в это время сочиняет стихи. О, я не смеюсь над ней; я тоже пишу стихи. Но я, по крайней мере, знаю, что я мерзавец, и никогда не пытался выдавать себя за что-либо другое. Ну, скажите, разве не отвратительно: дедушка, который «проявляет милосердие» к Лаперузу, потому что нуждается в репетиторе… — Потом вдруг Арман спросил: — Что этот негодяй смеет там говорить моей сестре? Если он не поклонится ей, уходя, я заеду ему кулаком в рыло…
Он бросился к человеку в широкополой шляпе, и я уже думал, что он сейчас его ударит. Но репетитор при его приближении снял шляпу и отвесил глубокий театральный и иронический поклон, затем направился к воротам. В этот момент калитка открылась и показался пастор. Он был в длиннополом сюртуке, в цилиндре и черных перчатках, словно возвращался с крестин или похорон. Экс-репетитор и пастор обменялись церемонными поклонами.
Рашель и Арман подошли ко мне. Когда Ведель поравнялся с нами, Рашель сказала:
— Все устроилось.
Пастор поцеловал ее в лоб:
— Вот видишь, дитя мое, Бог никогда не оставляет уповающих на него.
Затем, подавая мне руку:
— Вы уже уходите?… До скорого свидания, не так ли?
III
ДНЕВНИК ЭДУАРДА
(продолжение)
29 сентября
Визит к Лаперузу. Служанка не решалась впускать меня. «Барин никого не принимает». Я настаивал, и она провела меня в гостиную. Ставни были закрыты; в полумраке я едва различил моего старого учителя, неподвижно сидевшего в глубоком кресле. Он не встал. Не глядя на меня, он протянул мне свою вялую руку, которая тотчас упала, после того как я ее пожал. Я сел с ним рядом, так что мне виден был только его профиль. Черты его оставались жесткими и неподвижными. Губы иногда шевелились, но он молчал. Я начинал сомневаться, узнал ли он меня. Часы пробили четыре; тогда, точно заведенный, он медленно повернул голову и сказал голосом торжественным, громким, но глухим и как бы загробным:
— Почему вас впустили? Я ведь наказал служанке, чтобы всякому, кто придет меня спрашивать, она отвечала, что господин де Лаперуз умер.
На меня произвели тяжелое впечатление не столько эти нелепые слова, сколько тон, каким они были сказаны: тон театральный, чрезвычайно напыщенный, к которому мой старый учитель, обыкновенно столь естественный и непринужденный со мной, меня не приучил.
— Ваша девушка просто не захотела лгать, — ответил я наконец. — Не браните ее за то, что она мне открыла. Я очень рад вас повидать.
Он тупо повторил: «Господин де Лаперуз умер». Затем снова погрузился в немоту. Я раздраженно встал, решив уйти и отложить до другого дня попытку отыскать смысл этой печальной комедии. Но в эту минуту в комнату вошла служанка, неся чашку дымящегося шоколаду:
— Пусть барин постарается, барин сегодня еще ничего не кушал.
Лаперуз нетерпеливо дернулся, словно актер, весь эффект выступления которого погублен каким-нибудь неловким статистом:
— Потом. Когда уйдет этот господин.
Но едва горничная закрыла дверь:
— Друг мой, будьте добры, принесите мне стакан воды, прошу вас. Стакан простой воды. Я умираю от жажды.
Я отыскал в столовой графин и стакан. Он налил воды в стакан, залпом выпил и вытер губы рукавом своего старенького люстринового пиджака.
— Вас лихорадит? — спросил я его.
Мои слова тотчас исполнили его сознанием разыгрываемой роли:
— Нет, господина де Лаперуза не лихорадит. Он ничего больше не чувствует. Со среды господин де Лаперуз перестал жить.
Я решил, что, пожалуй, лучше будет попасть ему в тон:
— Не в среду ли как раз маленький Борис приходил к вам в гости?
Он повернулся ко мне лицом; при имени Бориса улыбка, словно тень его прежних улыбок, осветила его черты, и он согласился наконец прекратить разыгрывать эту роль:
— Друг мой, могу сказать вам, доверить вам: среда была последним днем, который остался мне. — Затем продолжал, понизив голос: — Последним днем, который я дарил себе перед тем, как… кончить все.
Мне было очень больно слышать, что Лаперуз возвращается к своему мрачному замыслу. Признаться, я никогда не принимал всерьез его речей на эту тему, так что совсем позабыл о них; теперь я упрекал себя за это. Я вспомнил все, но был удивлен, потому что раньше старик говорил мне о более отдаленном сроке; когда я обратил его внимание на это, он признался мне тоном, снова ставшим естественным и даже несколько ироническим, что он обманул меня относительно срока и несколько отодвинул его из боязни, как бы я не попытался удержать его и не ускорил своего приезда, но несколько вечеров подряд он на коленях молил Бога дать ему возможность перед смертью увидеть Бориса.
— Я даже условился с Богом, — прибавил он, — что в случае надобности отложу на несколько дней свой уход… вследствие данного вами ручательства привезти его, помните?
Я взял его руку; она была ледяная, и я принялся согревать ее в своих ладонях. Он монотонно продолжал:
— Затем, когда я узнал, что вы возвратились, не дожидаясь конца каникул, и я могу увидеть мальчика, не откладывая из-за свидания с ним свой уход, я подумал, что… мне показалось, Бог услышал мою молитву. Я подумал, что он одобряет мое решение. Да, я подумал это. Я не сразу понял, что Господь насмехается надо мною, как всегда.
Он отнял свою руку и продолжал более живым тоном:
— Итак, я назначил осуществление своего решения на вечер среды, а в среду днем вы привели ко мне Бориса. Должен вам сознаться, что при виде его я не испытал всей радости, которую предвкушал. Я размышлял об этом потом. Очевидно, я был не вправе надеяться, что этому мальчику может доставить удовольствие свидание со мной. Мать его никогда не говорила ему обо мне.
Он остановился; губы его дрожали, и я думал, что он сейчас разрыдается.
— Борис очень расположен любить вас, но дайте ему время поближе вас узнать, рискнул я заметить.
— После того как мальчик покинул меня, продолжал Лаперуз, не слушая меня, — и вечером я снова остался один (ведь вы знаете, что госпожи де Лаперуз здесь больше нет), я сказал себе: итак, час настал! Нужно вам заметить, что мой покойный брат завещал мне пару пистолетов, которые я всегда держу в ящике у изголовья постели. Так вот, я отправился за этим ящиком. Сел в кресло, вот как сейчас сижу. Зарядил один из пистолетов…
Он повернулся ко мне и повторил резко, грубо, словно я сомневался в его словах:
— Да, зарядил. Вы можете проверить: он и сейчас заряжен. Что произошло? Не могу понять. Я поднес пистолет ко лбу. Долго держал его, приставив к виску. И не выстрелил. Не мог… В последнее мгновение, стыдно сказать… у меня не хватило храбрости.
Разговор воодушевил его. Взгляд стал более живым и кровь слегка подрумянила щеки. Он смотрел на меня, качая головой.
— Как это объяснить? Вещь, на которую я решился, о которой уже много месяцев непрестанно думал… Может быть, как раз поэтому. Может быть, постоянно думая о ней, я истощил все свое мужество…
— Так же, как перед возвращением Бориса вы истощили радость свидания с ним, — сказал я ему; но он продолжал:
— Я долго сидел так с пистолетом, приставленным к виску. Палец мой лежал на курке. Я слегка нажимал, но недостаточно сильно. Я говорил себе: «Через мгновение я нажму сильнее, и раздастся выстрел». Я чувствовал холод металла и повторял: «Через мгновение я больше ничего не буду чувствовать. Но сначала услышу страшный шум…» Подумайте только: у самого уха! Это главным образом и удержало меня: боязнь шума… Нелепо, ведь с момента, когда умрешь… Да, но я надеялся, что смерть придет как сон, а гром выстрела не усыпляет, он пробуждает… Да, я испугался именно этого грома. Я испугался, что не усну, а, напротив, буду внезапно разбужен.
Он, казалось, старался совладать с собой или, вернее, привести в порядок свои мысли, и несколько мгновений губы его снова беззвучно шевелились.
— Все это, — продолжал он, — я сказал себе лишь потом. На самом же деле я не убил себя потому, что не был свободен. Я говорю теперь: я испугался; но это неправда: тут было не то. Нечто совершенно чуждое моей воле, более сильное, чем моя воля, удержало меня… Словно Бог не пожелал, чтобы я отправился на тот свет. Вообразите марионетку, которая захотела бы уйти со сцены до конца спектакля… Стой! Ты еще нужна для финала. Ах, вам казалось, будто вы можете положить конец вашей жизни, когда вам будет угодно!.. Я понял, что то, что мы называем своей волей, есть только ниточка, приводящая в движение марионетку, ниточка, за которую дергает Бог. Вы улавливаете мою мысль? Я поясню вам. Вот я говорю себе сейчас: «Я подниму правую руку» — и поднимаю ее. — Он действительно поднял правую руку. — Но это произошло оттого, что ниточка уже был дернута, чтобы заставить меня подумать и сказать: «Я хочу поднять правую руку…» И доказательством, что я несвободен, служит то, что, если бы я должен был поднять другую руку, я сказал бы вам: «Я собираюсь поднять левую руку…» Нет, я вижу, что вы не понимаете меня. Вы несвободны понять меня… О, теперь я ясно сознаю, что Бог забавляется. Когда он заставляет нас делать что-нибудь, он забавляется тем, что предоставляет нам думать, будто мы сами хотели это сделать. В этом и заключается его гнусная игра… Вы думаете, я схожу с ума? Кстати, представьте себе, что госпожа де Лаперуз… Вы знаете, что она поступила в богадельню… Так вот, представьте себе, что она вбила себе в голову, что это дом сумасшедших и я засадил ее туда, чтобы отделаться от нее, с намерением выдать за сумасшедшую… Согласитесь, что это странно: любой прохожий, с которым встречаешься на улице, понял бы вас лучше, чем та, которой вы отдали жизнь… В первое время я ходил к ней каждый день. Но едва она замечала меня, как сейчас же заводила: «Ах, опять вы! Вы пришли, чтобы шпионить за мной…» Я принужден был отказаться от этих посещений, которые ее раздражали. Как можно чувствовать привязанность к жизни, если утрачена возможность делать добро?
Рыдания заглушили его голос. Он опустил голову, и мне показалось, что он снова впадет в оцепенение. Но он заговорил с внезапным оживлением:
— Знаете, что она сделала перед отъездом? Взломала мой письменный стол и сожгла все письма моего покойного брата. Она всегда была ревнива к моему брату, особенно с тех пор, как он умер. Устраивала мне сцены, когда застигала меня ночью за чтением его писем. Кричала: «Ах, вы ждали, чтобы я легла! Вы прячетесь от меня». И затем: «Будет гораздо лучше, если вы пойдете спать. Вы утомляете глаза». Со стороны можно было подумать, будто она окружила меня заботой; но я знаю ее: она ревновала. Она не хотела оставлять меня наедине с братом.
— Это оттого, что она вас любит. Не бывает ревности без любви.
— Но согласитесь, что печально положение вещей, когда любовь вместо того, чтобы составлять счастье жизни, становится ее бедствием… Несомненно, такой любовью и любит нас Бог.
Он очень оживился, говоря это, и вдруг заявил:
— Я голоден. Когда я хочу есть, служанка постоянно приносит мне шоколад. Госпожа де Лаперуз, должно быть, сказала ей, что я не ем ничего другого. Вы оказали бы мне большую любезность, если бы пошли в кухню… вторая дверь направо по коридору… и посмотрели, нет ли там яиц. Помнится, она говорила мне, что у нее есть яйца.
— Вы хотели бы, чтобы она приготовила вам яичницу?
— Мне кажется, я съел бы даже два яйца. Вы будете настолько добры? Если я пойду сам, она меня не послушается.
— Дорогой друг, — сказал я ему, возвратившись, — ваша яичница будет готова через несколько минут. Если вы позволите, я останусь и посмотрю, как вы будете кушать; да, это доставит мне удовольствие. Мне было очень тяжело слышать, когда вы сказали сейчас, будто вы больше никому не в силах делать добро. Вы как будто забываете о вашем внуке. Ваш друг, господин Азаис, предлагает вам переехать к нему в пансион. Он поручил мне передать вам это. Он полагает, что теперь, когда госпожи де Лаперуз больше нет здесь, ничто вас не удерживает.
Я ожидал от него сопротивления, но он лишь осведомился о предлагаемых ему условиях.
— Хотя я и не застрелился, я все же мертв. Здесь ли, там ли, мне безразлично, — сказал он. — Можете перевозить меня.
Я условился, что приду за ним послезавтра, а до тех пор предоставлю в его распоряжение два сундука, чтобы он мог уложить в них необходимые ему костюмы, белье и все, что ему хотелось бы с собой взять.
— Впрочем, — прибавил я, — поскольку за вами сохранится право распоряжаться квартирой до истечения срока контракта, то вы всегда успеете забрать отсюда все, что вам понадобится.
Служанка принесла яичницу, которую он с жадностью проглотил. Я заказал для него обед, с облегчением видя, что природа снова вступает в свои права.
— Я причиняю вам много хлопот, — повторил он, — вы страшно добры.
Я хотел было, чтобы он отдал мне свои пистолеты, с которыми, сказал я ему, ему больше нечего делать, но он не согласился.
— Теперь вам нечего бояться. Я знаю, я никогда не буду в силах сделать то, чего не сделал в тот день. Но они являются теперь единственной вещью, которая осталась у меня от брата, и мне необходимо, чтобы они напоминали, что я только игрушка в руках Божьих.
IV
В день начала занятий было очень жарко. Через открытые окна пансиона Ведель видны были верхушки деревьев в саду; над ними плавало лето, конца которого еще не ощущалось.
Этот день послужил для старика Азаиса поводом для произнесения речи. Он, как подобает, стоял у кафедры, лицом к ученикам. На кафедре восседал старик Лаперуз. Он встал, когда вошли ученики, но Азаис дружеским жестом пригласил его сесть. Его беспокойный взгляд устремился сначала на Бориса и поверг мальчика в замешательство, тем более что Азаис, представляя детям в своей речи их нового учителя, счел своим долгом намекнуть на родство последнего с одним из мальчиков. Лаперуз, однако, был огорчен тем, что не встретил взгляда Бориса. «Равнодушие, холодность», — думал он.
«О, если бы, — думал Борис, — он оставил меня в покое! Если бы не обращал на меня внимания!» Товарищи внушали ему ужас. Выйдя из лицея, ему пришлось идти вместе с ними и по дороге в пансион выслушивать замечания, которыми они обменивались. Испытывая потребность в симпатии, он хотел бы попасть им в тон, но его слишком деликатная натура этому противилась; слова замирали у него на губах; он сердился на себя за свое замешательство, старался не выдать его, пытался даже смеяться, чтобы предупредить насмешки; но все напрасно: среди других он выглядел как девочка, чувствовал это и был в отчаянии.
Почти сразу же образовались группы. Некий Леон Гериданизоль составлял центральную фигуру и уже внушал к себе почтение. Немного старше других и более успевающий, смуглый, черноволосый и черноглазый, он не был особенно высок и не отличался большой силой, но был, что называется, «малый с перцем». Настоящая чертова перечница. Даже маленький Жорж Молинье признавал, что Гериданизоль «утрет ему нос, а, ты знаешь, утереть мне нос — это не так просто!». Разве не видел он, не видел собственными глазами, как тот подошел сегодня утром к одной молодой женщине, державшей на руках ребенка.
— Это ваш ребенок, сударыня? — спросил он, отвешивая глубокий поклон. — Он порядочный урод, ваш мальчишка. Но успокойтесь: долго он не проживет.
Жорж все еще хохотал над этой «шуткой».
— Правда? Ты не врешь? — спрашивал Филипп Адаманти, его друг, которому Жорж рассказал эту историю.
Эта наглая выходка очень их веселила; она казалась им верхом остроумия. Леон, уже достаточно тертый калач, просто повторял своего двоюродного брата Струвилу, но Жорж об этом не подозревал.
В пансионе Молинье и Адаманти добились того, чтобы сидеть рядом с Гериданизолем, на пятой скамейке, и не быть, таким образом, слишком на виду у надзирателя. Налево от Молинье помещался Адаманти, направо — Гериданизоль, которого товарищи называли Гери; с краю сидел Борис. На следующей скамейке было место Пассавана.
После смерти отца Гонтран де Пассаван вел печальную жизнь, да и прежде его жизнь не была особенно веселой. Он давно уже понял, что ему не следует ожидать от брата никакой любви, никакой поддержки. Каникулы он провел в Бретани, в семье старой своей няни, верной Серафины. Он замкнулся в себе и работал. Его подстегивает тайное желание доказать своему брату, что он лучше его. Он сам по собственному решению поступил в пансион, руководимый отчасти нежеланием жить у брата, в особняке на улице Бабилон, с которым у него связаны одни грустные воспоминания. Серафина, не захотевшая расставаться с ним, сняла себе отдельную квартирку: ей позволяет это маленькая пенсия, которую выплачивают сыновья покойного графа на основании особой статьи духовного завещания. У Гонтрана есть там комната, где он поселяется в дни отпуска; он обставил ее по своему вкусу. Дважды в неделю он обедает с Серафиной; последняя ухаживает за ним и следит, чтобы он ни в чем не терпел недостатка. Приходя к ней, Гонтран охотно болтает, хотя и не может говорить с ней почти ни на одну из интересующих его тем. В пансионе он не позволяет товарищам задевать себя; он выслушивает их насмешливые замечания краем уха и нередко отказывается от участия в их играх. Играм в закрытом помещении он предпочитает чтение. Он любит спорт, все виды спорта, но оказывает предпочтение тем из них, которыми можно заниматься в одиночестве; он горд и водится далеко не со всеми. По воскресеньям, в зависимости от времени года, он катается на коньках, плавает, гребет или отправляется в далекие экскурсии за город. У него есть антипатии, и он не старается преодолеть их; вообще он стремится не столько расширить свой ум, сколько закалить его. Он, может быть, далеко не так прост, как думает и как желает быть; мы видели его у изголовья смертного ложа отца; но он не любит таинственного; после того как он обнаружил свое несходство с отцом, ему стало скучно об этом думать. Когда ему случается занять первое место в классе, то это объясняется его прилежанием, а не способностями. Борис нашел бы в нем защитника, если б умел искать, но его влечет к соседу, Жоржу. Что касается Жоржа, то он обращает внимание только на Гери, которому на всех плевать.
У Жоржа было важное дело к Филиппу Адаманти, но он считал более благоразумным не писать ему о нем.
Сегодня, в день возобновления занятий, он пришел в лицей за четверть часа до начала уроков и тщетно поджидал Филиппа у ворот. Как раз во время этого ожидания, прохаживаясь около ворот, он услышал упомянутое выше остроумное обращение Гериданизоля к молодой женщине; затем между обоими мальчишками завязался разговор, который обнаружил, к великой радости Жоржа, что они будут товарищами по пансиону.
Только по выходе из лицея Жоржу удалось наконец встретиться с Фифи. Они направились в пансион Азаиса вместе с другими школьниками, но немного поотстали, чтобы иметь возможность говорить откровеннее.
— Ты бы хорошо сделал, если бы спрятал это, — начал Жорж, показывая пальцем на желтую розетку, которая по-прежнему торчала в петличке у Фифи.
— Почему? — спросил Филипп, заметив, что Жорж больше не носит своей розетки.
— Ты рискуешь попасться. Я хотел сказать тебе об этом, мой милый, перед классами; тебе следовало только прийти пораньше. Я поджидал тебя у ворот, чтобы предупредить.
— Но я не знал, — сказал Филипп.
— «Не знал», «не знал», — передразнил его Жорж. — Ты должен был, кажется, смекнуть, что у меня есть кое-что для тебя, после того, как мы расстались в Ульгате.
Эти два мальчика постоянно озабочены желанием одержать верх друг над другом. Фифи обладает некоторыми преимуществами благодаря положению и состоянию своего отца; но Жорж сильно превосходит его дерзостью и цинизмом. Фифи приходится немного надсаживаться, чтобы не отстать от него. Он мальчик незлой, но бесхарактерный.
— Ну, выкладывай твои новости, — сказал он.
Подошедший к ним Леон Гериданизоль слышал их разговор. Жорж был доволен этим обстоятельством; если Гери удивил его давеча, то и он тоже держал про запас нечто, способное поразить Гери; он сказал поэтому Фифи самым обыкновенным тоном:
— Пралиночка посажена.
— Пралина! — вскричал Фифи, испуганный хладнокровием Жоржа. Так как на лице у Леона изобразился интерес, то Фифи спросил Жоржа:
— Можно ему сказать?
Жорж только выругался, пожав плечами. Тогда Фифи сказал Гери, показывая на Жоржа:
— Это его цыпка. — Затем, обращаясь к Жоржу: — Откуда ты знаешь?
— Мне сказала Жермена, которую я недавно встретил.
И он рассказал Фифи, как во время своего приезд в Париж, двенадцать дней тому назад, пожелал зайти в ту квартиру, которую прокурор Молинье назвал давеча «ареной, где совершаются эти оргии», и нашел дверь запертой; рассказал, как, бродя потом по кварталу, встретил Жермену, цыпку Фифи, которая осведомила его о событиях: в начале каникул был обыск. Но этим женщинам и этим детям осталось неизвестно, что для производства сей операции Профитандье терпеливо дождался времени разъезда несовершеннолетних преступников, желая исключить возможность их захвата при обыске и избавить от скандала родителей.
— Ну, слава Богу, старина!.. — только и повторил Фифи, считая, что они с Жоржем счастливо отделались.
— Это бросает тебя в холод, а? — насмешливо спросил Жорж. Признаваться в собственном испуге ему казалось совершенно излишним, особенно в присутствии Гериданизоля.
На основании изложенного диалога может показаться, будто эти дети более испорчены, чем это есть на самом деле. Они говорят так главным образом из желания казаться испорченными, я в этом уверен. В их поведении много бахвальства. Что нужды: Гериданизоль слушает их; слушает и подстрекает одним своим присутствием. Этот разговор весьма позабавит его кузена Струвилу, которому он передаст его сегодня вечером.
Вечером Бернар пришел к Эдуарду.
— Как прошло начало занятий?
— Недурно. — Бернар замолчал.
Тогда Эдуард обратился к нему:
— Мсье Бернар, если у вас нет настроения рассказывать, не рассчитывайте, что я буду вытягивать из вас ответы. Мне противны допросы. Но позвольте мне напомнить, что вы предложили мне свои услуги и я вправе надеяться на получение от вас кое-каких сведений…
— Что же вы хотите знать? — спросил Бернар весьма нелюбезным тоном. — Что папаша Азаис произнес торжественную речь, в которой он предлагал детям «одушевиться общим порывом и приступить к исполнению своих обязанностей с юношеским жаром»?… Я запомнил эти слова, потому что они были повторены трижды. Арман уверяет, будто старик вставляет их в каждую свою речь. Мы уселись с ним на последней скамейке, в самой глубине класса, наблюдая, как собираются мальчишки, на манер того, как Ной наблюдал сбор животных в ковчег. Там были все породы: жвачные, толстокожие, моллюски и другие беспозвоночные. Когда после речи они принялись говорить друг с другом, мы с Арманом заметили, что каждые четыре фразы из десяти начинались у них: «Держу пари, что ты не…»
— А остальные шесть?
— «А вот я…»
— Боюсь, очень правильное наблюдение. А что еще?
— Некоторые из них, показалось мне, обладают штампованными физиономиями.
— Что вы разумеете под этим? — спросил Эдуард.
— Я имею в виду особенно одного из них, сидевшего рядом с маленьким Пассаваном (сам Пассаван показался мне заурядным скромным мальчиком). Сосед его, которого я долго наблюдал, по-видимому, избрал себе в качестве правила жизни «Ne quid minis» («Ничего слишком» (лат.)) древних. Не кажется ли вам, что в его возрасте этот девиз нелеп? Костюмчик в обтяжку, скромненький галстук; он весь таков, вплоть до шнурков на ботинках, завязанных аккуратными бантиками. Как ни мало я говорил с ним, он все же нашел время сказать, что видит всюду напрасную трату сил, и повторил несколько раз, словно припев: «Не нужно лишних усилий».
— Черт бы побрал расчетливых, — сказал Эдуард. — В искусстве из них выходят самые многословные.
— Почему?
— Потому что они боятся упустить что-либо. Ну а что еще? Вы ничего не рассказываете об Армане. Любопытный экземпляр, этот Арман. Правду сказать, он не особенно мне нравится. Я не люблю исковерканных людей. Он, конечно, не глуп, но ум его направлен только на разрушение; впрочем, он, кажется, больше всего озлоблен на самого себя; он стыдится всего, что есть в нем хорошего, великодушного, благородного, нежного. Ему следовало бы заняться спортом, проветриться. Он ожесточается, сидя взаперти весь день. Как будто ищет моего общества, я не бегу от него, но не могу приспособиться к его характеру.
— Не кажется ли вам, что его сарказмы и ирония скрывают повышенную чувствительность и, может быть, большое страдание? Так думает Оливье.
— Может быть, я подумал об этом. Я еще плохо его знаю. Остальные мои мысли еще не созрели. Мне нужно разобраться в них, я их вам сообщу, но потом. Вы меня извините, что сегодня я вас покину. Через два дня экзамен, и кроме того, признаться… мне что-то взгрустнулось.
V
С каждой вещи, если не ошибаюсь, следует срывать только цветок…
Фенелон
После вчерашнего возвращения в Париж Оливье проснулся совсем отдохнувшим. Воздух был теплый, небо чистое. Когда он выходил, свежевыбритый, принявший душ, изящно одетый, с сознанием своей силы, молодости и красоты, Пассаван еще спал.
Оливье торопится к Сорбонне. Сегодня утром у Бернара должен быть письменный экзамен. Откуда Оливье знает об этом? Но он, может быть, вовсе и не знает. Он идет узнать. Он спешит. Он не виделся со своим другом с той ночи, когда Бернар приходил искать приюта в его комнате. Как все изменилось с тех пор! Кто знает: может быть, он больше сгорает желанием показать себя, чем повидать друга? Досадно, что Бернар так равнодушен к изяществу! Но вкус к нему появляется иногда вместе с достатком. Оливье узнал это на опыте, благодаря графу де Пассавану.
Бернар держит сегодня письменный экзамен. Он выйдет только в полдень. Оливье ожидал его во дворе. Он узнает нескольких товарищей, пожимает им руку; затем отходит в сторону. Он немножко смущен своим элегантным костюмом и смущается еще больше, когда Бернар, наконец освободившийся, спускается во двор и восклицает, протягивая руку:
— Ну и красавчик!
Оливье, думавший, что он уже никогда не будет краснеть, краснеет. Как не заметить иронии в этих словах, несмотря на их очень сердечный тон? Ведь на Бернаре все тот же костюм, какой был на нем в день его бегства из дому. Он не ожидал встречи с Оливье. Засыпая его вопросами, он уводит его с собой. Радость встречи у него самая неподдельная. Если он слегка улыбнулся при виде изысканного костюма Оливье, то в улыбке его не было заключено никакого коварства; у него доброе сердце; он незлопамятен.
— Ты позавтракаешь со мной, не правда ли? Да, в половине второго я должен возвратиться на экзамен по латинскому языку. Утром был экзамен по французскому.
— Доволен?
— Я — да. Но не знаю, придется ли высиженное мною по вкусу экзаменаторам. Нужно, было высказать свое мнение о четырех стихах Лафонтена:
Парнасский мотылек, подобный пчелам лета,
С которыми Платон сравнил удел поэта,
Я легок и крылат и рею здесь и там,
С предмета на предмет и от цветов к цветам (Перевод этих стихов Лафонтена, заимствованных из «Discours a Madame de la Sabliere», принадлежит М. Лозинскому. Содержащийся в нем намек на Платона касается следующего места из диалога «Ион»: «Подобно корибантам, пляшущим в исступлении, подлинные песнотворцы не в здравом уме творят свои прекрасные песни, но войдя в действие гармонии и ритма и ставши вакхантами и одержимыми; как вакханки черпают из рек мед и молоко в состоянии одержимости, а находясь в здравом уме — нет, так бывает и с душой песнотворцев. Ведь говорят же нам поэты, что, летая как пчелы, они собирают свои песни у медовых источников в садах и рощах муз и приносят их нам; и правду говорят: ведь поэт — существо легкое, крылатое и священное, и творить он способен не прежде, чем станет вдохновенным и исступленным и не будет в нем более рассудка: пока же у человека есть это достояние, он не способен творить и вещать». (Прим. пер.)).
— Скажи, пожалуйста, что бы ты сделал с этим?
Оливье не мог удержаться от желания блеснуть:
— Я сказал бы, что, изображая самого себя, Лафонтен дал портрет художника, который соглашается брать от мира только внешнее, поверхностное, срывать цветы. Затем параллельно я нарисовал бы портрет ученого, исследователя, человека, который копает в глубину, и показал бы в заключение, что, в то время как ученый ищет, художник находит; что тот, кто копает, забирается вглубь, а кто забирается вглубь, слепнет; показал бы, что истина — видимость, что тайна — в форме и что самое глубокое у человека — это его кожа.
Последнюю фразу Оливье заимствовал у Пассавана, который, в свою очередь, сорвал ее с уст Поль-Амбруаза, когда тот ораторствовал в каком-то салоне. Пассаван считал позволительным присваивать все, что не было напечатано; он называл это идеями, «носящимися в воздухе»; попросту говоря, это были чужие идеи.
По какому-то неуловимому оттенку в тоне Оливье Бернар почувствовал, что эта фраза не принадлежала его другу. В голосе Оливье слышалась какая-то нерешительность. Бернар чуть было не спросил: «Это откуда?» Но помимо того, что он не желал обижать друга, он боялся услышать имя Пассавана, которое его собеседник до сих пор остерегался произнести. Бернар ограничился тем, что пристально и испытующе посмотрел на него; Оливье снова покраснел.
Изумление Бернара при виде чувствительного Оливье, выражающего мысли, совершенно отличные от тех, которые были ему свойственны, почти сразу же сменилось крайним негодованием; чувством внезапным и неожиданным, непреодолимым, как циклон. Он вскипел негодованием не столько против самих этих мыслей, хотя они и показались ему нелепыми. В конце концов они, быть может, вовсе не так уж нелепы. В своей тетрадке противоречивых мнений он мог бы поместить их рядом со своими собственными. Если бы они были подлинными мыслями Оливье, он не пришел бы в ярость ни против него, ни против них; но он чувствовал, что за ними кто-то таится; он вознегодовал против Пассавана.
— Подобными идеями отравляют Францию! — пылко вскричал он. Он хватил слишком высоко из желания затмить Пассавана. Сказанное им удивило его самого, словно слова обогнали его мысль, ту самую мысль, что он развил сегодня утром в экзаменационном сочинении; из-за какого-то стыда он никогда не решался в дружеской беседе, в частности разговаривая с Оливье, выставлять напоказ то, что он называл «высокими чувствами». Будучи выражены в словах, чувства эти тотчас же начинали казаться ему менее искренними. Поэтому Оливье никогда не приходилось слышать, чтобы его друг говорил об «интересах Франции»; пришла его очередь изумляться. Он сделал большие глаза и даже не подумал улыбнуться. Он не узнавал своего Бернара; в каком-то столбняке Оливье переспросил:
— Францию?… — Затем, снимая с себя ответственность за сказанное, потому что Бернар явно не шутил: — Но, старина, это не мои мысли, так думает Лафонтен.
Бернар вошел в раж.
— Черт возьми! — вскричал он. — Я отлично, черт возьми, знаю, что это не твои мысли, но они не принадлежат и Лафонтену. Если бы он обладал одной этой легковесностью, о которой, впрочем, он в конце своей жизни сожалеет и в которой раскаивается, он никогда не стал бы художником, которым мы восхищаемся. Как раз это самое я высказал в своем сочинении и постарался доказать множеством цитат, ты ведь знаешь, у меня довольно приличная память. Но, оставив вскоре Лафонтена и допустив право некоторых поверхностных умов думать, будто они могут найти опору в его стихах, я оплатил это тирадой против духа беспечности, бахвальства и иронии; словом, против того, что именуется «французским духом», который иногда стоит нам столь прискорбной репутации у иностранцев. Я сказал, что в нем нужно видеть даже не улыбку, но гримасу Франции; что подлинным духом Франции был дух пытливости, логики, любви и терпеливого проникновения; что, если бы этот дух не оживлял Лафонтена, он написал бы может быть, свои сказки, но никогда бы не создал басен, а также того изумительного послания (я показал, что знаю его), из которого заимствовано четверостишие, предложенное в качестве темы для сочинения. Да, старина, этот бурный натиск обойдется мне, может быть, дорого. Но мне плевать, я чувствовал, что мне нужно высказать это.
Оливье не слишком дорожил только что высказанными соображениями. Попросту он не устоял против желания блеснуть и процитировал как бы вскользь фразу, которая, казалось ему, должна была поразить Бернара. Теперь, когда Бернар заговорил с ним таким тоном, ему оставалось только пойти на попятный. Его слабой стороной было то, что он испытывал гораздо большую потребность в любви Бернара, нежели последний в его любви. Тирада Бернара унижала, позорила его. Он сердился на себя за свои слишком необдуманные слова. Теперь было уже поздно оправдываться, возражать, как он, наверное, поступил бы, если бы предоставил Бернару высказаться первым. Но как мог он предвидеть, что Бернар, который был так полон задора, когда они расстались, выступит теперь на защиту чувств и мыслей, на кои Пассаван учил его смотреть не иначе как с улыбкой? Однако он положительно не чувствовал больше никакого желания смеяться; ему было стыдно. И не будучи в состоянии ни отречься от своих слов, ни выступить против Бернара, неподдельное волнение которого производило на него сильное впечатление, он заботился только о том, как бы защититься, выпутаться из ложного положения:
— Ну, если ты это навалял в своем сочинении, то не в меня были выпущены твои стрелы… Я, скорее, согласен с тобой.
Оливье говорил уязвленным тоном, не так, как ему хотелось.
— Но сейчас я говорю это тебе, — сказал Бернар.
Эта фраза ударила Оливье в самое сердце. Бернар сказал ее, должно быть, без враждебного намерения; но можно ли было понять ее иначе? Оливье замолчал. Между ним и Бернаром разверзалась пропасть. Он искал вопросов, которые мог бы перебросить с одного края пропасти на другой, чтобы восстановить общение. Искал безнадежно. «Неужели он не чувствует моего к себе отвращения?» — думал он; и это отвращение все росло. Ему, может быть, не приходилось сдерживать слезы, но он убеждал себя, что было от чего заплакать. Вот еще один промах: это свидание показалось бы ему менее печальным, если бы он ожидал от него меньше радости. Когда два месяца тому назад он спешил навстречу Эдуарду, он испытывал такое же настроение. С ним всегда будет так, говорил он себе. Ему захотелось бросить Бернара, убежать куда глаза глядят, забыть Пассавана, Эдуарда… Неожиданная встреча нарушила грустное течение его мыслей.
В нескольких шагах перед ними, на бульваре Сен-Мишель, куда они сворачивали, Оливье вдруг заметил Жоржа, своего младшего брата. Он схватил Бернара за руки и, круто повернув назад, поспешно увлек его за собой.
— Как ты думаешь, заметил он нас?… Мои не знают, что я в Париже.
Жорж был не один, Леон Гериданизоль и Филипп Адаманта сопровождали его. Между тремя мальчиками шел очень оживленный разговор; но интерес, проявляемый к нему Жоржем, не мешал ему «быть начеку», как он говорил. Чтобы послушать их, оставим ненадолго Оливье и Бернара; тем более что, зайдя в ресторан, наши друзья больше занялись едой, чем разговором, к великому облегчению Оливье.
— Ну, в таком случае ступай туда ты, — говорит Фифи Жоржу.
— О, трусишь, трусишь! — отвечает тот, вкладывая в свои слова все ироническое презрение, на какое только способен, чтобы подзадорить Филиппа.
Гериданизоль говорит покровительственно:
— Деточки мои, если вы не хотите, скажите об этом прямо. Мне не составит труда отыскать других ребят, которые будут похрабрее вас. Ну-ка, дай ее мне!
Он поворачивается к Жоржу, который зажимает в ладони монету.
— Ладно, иду! — восклицает Жорж, внезапно охваченный решимостью. — Ступайте со мной.- (Они стоят перед табачной лавочкой.)
— Нет, — говорит Леон, — мы подождем на углу. Пойдем, Фифи.
Минуту спустя Жорж выходит из лавочки с пачкой папирос «Люкс»; угощает друзей.
— Ну? — с тревогой спрашивает Фифи.
— Что «ну»? — произносит Жорж тоном напускного равнодушия, словно поступок, только что им совершенный, столь естествен, что не стоит утруждать себя рассказом о нем. Но Филипп настаивает:
— Сбыл?
— Еще бы!
— Тебе ничего не сказали?
Жорж пожимает плечами:
— Что, по-твоему, должны были мне сказать?
— И сдачу дали?
На этот раз Жорж даже не удостаивает его ответом. Но так как Филипп все еще с некоторым недоверием и опаской настаивает: «Покажи», — Жорж вытаскивает из кармана деньги. Филипп считает: семь франков серебром. Он сгорает от желания спросить: — «Ты вполне уверен, что они настоящие?» — но сдерживается.
Жорж заплатил один франк за фальшивую монету. Мальчики условились поделить сдачу. Он протягивает три франка Гериданизолю. Что касается Фифи, то он не получит ни су; самое большее — папиросу; пусть это послужит ему уроком.
Ободренный первым успехом, Фифи теперь тоже хотел бы рискнуть. Он обращается к Леону с просьбой продать ему другую монету. Но Леон считает Фифи хвастунишкой и, чтобы охладить его пыл, выражает презрение за проявленную им трусость и притворяется рассерженным. «Ему следовало бы решиться чуть раньше; теперь игра будет идти без него». К тому же Леон считает неблагоразумным рисковать еще раз. Наконец, уже поздно. Кузен Струвилу ждет его к завтраку. Гериданизоль — парень, который себе на уме и сумеет сам сбыть монеты; но, следуя инструкциям своего взрослого кузена, заботится о том, чтобы иметь соучастников. Он даст ему отчет в отлично выполненном задании.
— Мальчишки из хороших семей, понимаешь, это именно то, что нам нужно, потому что, если нас накроют, родители постараются замять дело. — Так говорит ему за завтраком кузен Струвилу, на чьем попечении он временно находится. — Однако система продажи монет по одной замедляет сбыт. Я хочу сплавить пятьдесят две коробочки, по двадцать монет в каждой. Их нужно продавать по двадцати франков, но, понятно, не первому встречному. Самое лучшее было бы образовать общество, при вступлении в которое каждый должен вносить известный залог. Нужно, чтобы мальчишки скомпрометировали себя и дали нам штуки, которые позволили бы держать в руках их родителей. Прежде чем пускать в оборот монеты, постарайся дать им это понять; только не пугай. Детей никогда не нужно запугивать. Ты говорил, что отец Молинье — судебный чиновник. Прекрасно. А отец Адаманти?
— Сенатор.
— Еще лучше. Ты уже достаточно взрослый, чтобы понять, — нет семьи без тайны; заинтересованные лица дрожат, как бы кто ее не выведал. Нужно науськивать мальчишек на охоту: это займет их. Дома, в семье, они ведь чертовски скучают! Кроме того, это может приучить их к наблюдательности, к поискам. Это так просто: кто ничего не принесет, ничего и не получит. Когда родители поймут, что их держат в руках, некоторые из них дорого заплатят за молчание. Черт возьми, у нас вовсе нет намерения шантажировать, мы — люди честные! Мы просто хотим держать их в руках. Их молчание в обмен на наше. Пусть они молчат и заставляют молчать других, тогда и мы будем молчать. Выпьем за их здоровье!
Струвилу наполнил два бокала. Они чокнулись.
— Было бы хорошо, — продолжал он, — даже необходимо — создать круговую поруку между гражданами, так складываются крепкие общества. Все держат друг друга! Мы держим малышей, малыши — своих родителей, а родители — нас. Идеально! Улавливаешь?
Леон улавливал с полуслова и хихикал.
— Жоржик… — начал он.
— Какой Жоржик?…
— Молинье. Думаю, он созрел. Он выкрал у отца письма от певички из «Олимпии».
— Ты их видел?
— Да, он показывал. Я подслушал его разговор с Адаманта. Мне кажется, они были польщены, что я их слушаю; во всяком случае, не прятались; я принял меры и сервировал им блюдо в твоем вкусе, чтобы завоевать их доверие. Жорж говорил Фифи (чтобы пустить ему пыль в глаза): «У моего отца есть любовница». На что Фифи, не желая остаться в долгу, заявил: «А у моего — две». Это было глупо, и тут нечем хвастаться; но я подошел к ним и сказал Жоржу: «Откуда ты знаешь?» «Я видел письма», — ответил он. Я изобразил на роже сомнение и сказал: «Ну и вранье…» Словом, заставил его быть откровенным до конца; потом он сказал, что письма при нем; вытащил их из большого бумажника и показал:
— Ты прочел их?
— Не успел. Заметил только, что написаны они одним и тем же почерком; одно адресовано «моему милому толстенькому котеночку».
— Как подписано?
— «Твоя беленькая мышка». Я спросил Жоржа: «Где ты их раздобыл?» Он расхохотался и, вытащив из кармана брюк огромную связку ключей, сказал: «Тут есть чем открыть любой замочек».
— А что сказал мсье Фифи?
— Ничего. Думаю, завидовал.
— Жорж тебе даст письма?
— Если нужно, я могу его убедить. Не хотелось бы отнимать силой. Он сам отдаст, если Фифи поступит так же. Они друг друга подзадоривают.
— Да, это и есть то, что называется соревнованием. Ну а нет ли еще подходящего материала среди пансионеров? Не заметил?
— Поищу.
— Я хотел сказать тебе вот что… В числе пансионеров должен находиться некий Боря. Оставь его в покое.
Он помедлил, затем прибавил, понизив голос:
— До поры до времени.
Оливье и Бернар сидят уже за столиком в ресторане на бульваре. Под теплой улыбкой друга подавленное настроение Оливье тает, как иней на солнце. Бернар избегает произносить имя Пассавана; Оливье это чувствует; какой-то тайный инстинкт оберегает его, но имя Пассавана у него на устах; ему нужно произнести его, будь что будет.
— Да, мы возвратились немного раньше, чем я писал домой. Вечером «Аргонавты» устраивают! банкет. Пассаван очень хочет присутствовать. Он желает, Чтобы наш новый журнал был в хороших отношениях со своим старшим братом и не вступал с ним в соперничество… Ты должен прийти и, знаешь ли… приведи Эдуарда… Может быть, не на сам банкет, потому что для этого нужно иметь приглашение, но сейчас же по его окончании. Соберутся в одном из залов второго этажа, в ресторане «Пантеон». Будут главные редакторы «Аргонавтов», несколько будущих сотрудников «Авангарда». Наш первый номер почти готов, но… скажи, почему ты ничего мне не прислал?
— Потому, что у меня не было ничего готового, — отвечает Бернар несколько суховато.
Голос Оливье становится почти умоляющим.
— Я поставил твою фамилию рядом с моей в содержании… Можно будет немного подождать, если надо… Все равно что, но дай что-нибудь… Ты же обещал…
Бернару тяжело огорчать Оливье, но он проявляет твердость:
— Послушай, старина, лучше сказать откровенно: боюсь, мне не удастся столковаться с Пассаваном.
Но ведь редактор я! Он дает мне полную свободу. Кроме того, мне очень не нравится твое предложение прислать «что-нибудь». Не хочу я писать «что-нибудь».
Я сказал «что-нибудь», потому что отлично знаю, что все тобою написанное будет всегда превосходно… что оно никогда не окажется «чем-нибудь»…
Он не знает, что сказать. Бормочет что-то бессвязное. Если он не чувствует подле себя друга, то журнал перестает его интересовать. Такой заманчивой была мечта дебютировать вместе.
— Кроме того, старина, хотя я начинаю неплохо понимать, чего я не хочу делать, все же недостаточно отчетливо представляю, что я должен делать. Не знаю, право, буду ли я писать.
Это заявление повергает Оливье в уныние. Но Бернар продолжает:
— Ничего из того, что я мог бы легко написать, меня не прельщает. Суть в том, что фразы легко мне удаются, а я питаю отвращение к ловко составленным фразам. Отсюда не следует, что я люблю трудность ради трудности; но я нахожу, что современные литераторы слишком уж далеки от всяких усилий. Написать роман я не могу: очень мало я знаю жизнь других людей, да и сам еще не жил. Стихи надоели мне. Александрийский стих затаскан до дыр, свободный размер бесформен. Единственный поэт, способный сейчас доставить мне наслаждение, — Артюр Рембо.
— Именно об этом я пишу в манифесте.
— В таком случае, мне не стоит повторяться. Нет, дружище, я не знаю, буду ли я писать. Мне кажется иногда, что писательское ремесло мешает жить и что можно лучше выражать себя в действиях, чем в словах.
— Произведения искусства суть действия, которые остаются навсегда, — робко осмелился заметить Оливье, но Бернар его не слушал.
— Больше всего Рембо восхищает меня тем, что литературе он предпочел жизнь.
— И продал ее за бесценок.
— Откуда ты знаешь?
— Ах, молчи, старина…
— Никогда нельзя судить о жизни других со стороны. Но допустим даже, что она ему не удалась; он изведал несчастье, нищету, болезнь… Я завидую жизни, которую он прожил; да, даже несмотря на ее жалкий конец, завидую ей больше, чем, скажем, жизни…
Бернар не кончил фразы; он затруднялся выбрать из множества знаменитых современников. Пожав плечами, он продолжал:
— Я смутно ощущаю в душе необыкновенные порывы, своего рода зыбь, движение, волнение, которые мне непонятны, — я не хочу их понимать, не хочу даже видеть, из страха им помешать, прогнать их. Еще не так давно я беспрестанно копался в себе. У меня была привычка постоянно разговаривать с самим собою. Теперь, если бы я даже захотел сделать это, не мог бы. Эта мания исчезла у меня так внезапно, что я даже и не заметил. Мне кажется, что этот монолог, «диалог человека со своей душой», как говорил наш преподаватель, требовал своего рода раздвоения, на которое я уже не способен с того дня, как полюбил больше всего на свете существо, которое отлично от меня.
— Ты имеешь в виду Лауру? — спросил Оливье. — Ты по-прежнему ее любишь?
— Нет, — отвечал Бернар, — с каждым днем люблю ее все больше. Мне кажется, что основным свойством любви является невозможность оставаться неизменной; она обязана расти, иначе пойдет на убыль; в этом ее отличие от дружбы.
— Однако и дружба может ослабевать, — печально заметил Оливье.
— По-моему, в дружбе нет таких широких возможностей.
— Скажи… ты не рассердишься, если я задам тебе один вопрос?
— Посмотрим.
— Я не хотел бы злить тебя.
— Если ты будешь темнить, я разозлюсь еще больше.
— Мне хотелось бы знать, испытываешь ли ты к Лауре… влечение?
Бернар вдруг посерьезнел.
— Ну, раз уж ты… — начал он. — Да, дружище, больше всего странно то, что после знакомства с ней я вовсе перестал испытывать желания. Недавно я, помнишь, воспламенялся любовью сразу к двадцати женщинам, которых встречал на улице (это и было причиной, мешавшей мне остановить свой выбор на ком-нибудь), теперь же мне кажется, что я больше никогда не могу быть чувствителен к другой форме красоты; что никогда я не смогу полюбить другой лоб, другие губы, другой взгляд. Но я питаю к ней благоговение, и всякая плотская мысль кажется мне святотатством. Мне теперь кажется, что я заблуждался относительно себя, что по природе я очень целомудрен. Благодаря Лауре мои инстинкты сублимировались. Я чувствую в себе огромные нерастраченные силы. Мне хотелось бы найти им применение. Я завидую монаху-картезианцу, смиряющему гордыню и подчиняющемуся правилам устава; человеку, которому говорят: «Я рассчитываю на тебя». Завидую солдату… Нет, вернее, не завидую никому; но буйство скрытых во мне сил угнетает меня, и я стремлюсь их дисциплинировать. Они подобны пару, который может либо вырваться со свистом (это и есть поэзия), либо привести в движение поршни и рычаги, либо, наконец, разнести машину. Знаешь, при помощи какого поступка, мне иногда кажется, лучше всего я мог бы выразить себя? Какого?… О, я прекрасно знаю, что не лишу себя жизни, но я превосходно понимаю Дмитрия Карамазова, когда тот спрашивает брата, понимает ли тот, что причиной самоубийства может стать восторг, просто избыток жизни… чрезмерность.
Бернар словно лучился каким-то неземным светом. Как прекрасен был он, выражая эти мысли! Оливье созерцал его в каком-то экстазе.
— Я тоже, — робко пробормотал он, — понимаю, отчего лишают себя жизни; но для этого нужно раньше изведать радость, столь сильную, что в сравнении с ней вся дальнейшая жизнь покажется бледной; такую радость, что думаешь, хватит, я доволен, никогда больше я не…
Но Бернар его не слушал. Он молчал. Зачем говорить в пустоту? Весь горизонт его души вновь омрачался тучами. Бернар вынул часы:
— Мне пора. Так ты говоришь, сегодня вечером… в котором часу?
— О, думаю, часов в десять будет совсем не поздно. Ты придешь?
— Да, и постараюсь вытащить Эдуарда. Но ты знаешь: он недолюбливает Пассавана и собрания литераторов ему несносны. Он придет только для того, чтобы повидаться с тобой. Скажи: нельзя ли мне будет снова встретиться с тобой после экзамена по латинскому языку?
Оливье ответил не сразу. Он с отчаянием подумал, что обещал Пассавану встретиться с ним в будущей типографии «Авангарда» в четыре часа. Чего бы он не дал за возможность быть свободным!
— Я очень хочу, но уже дал слово.
Его подавленность ничем себя не обнаружила; Бернар ответил:
— Тем хуже.
На этом друзья расстались.
Оливье не сказал Бернару ни одной из заготовленных им для него фраз. Он боялся не понравиться ему. Он не нравился себе самому. Еще утром полный задора, он теперь шел опустив голову. Дружба Пассавана, которой он в первое время так гордился, угнетала его; он чувствовал, что над ней тяготеет осуждение Бернара. Если сегодня вечером, на банкете, он снова встретится со своим другом, он не в силах будет заговорить с ним на глазах у всех. Этот банкет мог бы доставить ему удовольствие лишь в том случае, если бы предварительно им удалось восстановить согласие. В довершение всего какая нелепая мысль была продиктована ему тщеславием: пригласить на вечеринку и дядю Эдуарда! Подле Пассавана, в обществе старших собратьев, будущих сотрудников «Авангарда», ему придется ломать комедию; за это Эдуард еще больше его осудит, осудит, вероятно, навсегда… Если бы, по крайней мере, он мог повидаться с ним до банкета! Встретиться с ним немедленно; он бросился бы ему на шею; может быть, зарыдал бы; рассказал бы о себе все… До четырех часов есть еще время. Живо, такси.
Он называет адрес шоферу. С бьющимся сердцем подходит к дверям, звонит… Эдуарда нет дома.
Бедный Оливье! Вместо того чтобы прятаться от родителей, почему бы ему не возвратиться к ним не мешкая? Он нашел бы Эдуарда у своей матери.
VI
ДНЕВНИК ЭДУАРДА
Романисты вводят нас в заблуждение, когда изображают развитие индивидуума, не принимая в расчет давления на него окружающей среды. Лес дает форму деревьям. Как мало места предоставлено каждому из них! Сколько побегов атрофируется! Каждое дерево ветвится, как может. Таинственным своеобразием человек чаще всего бывает обязан тесноте. Он может вырваться на простор, только устремившись в высоту. Не понимаю, как Полина может обходиться без этого устремления ввысь, каких еще давлений со стороны окружающего она ожидает. Она разговаривала со мною более доверительно, чем когда-либо раньше. Признаюсь, я не подозревал, сколько таится в ней горечи и безропотной покорности судьбе под маскою внешнего благополучия. Я согласился, однако, что ей нужно было бы обладать слишком уж пошлой душой, чтобы не быть разочарованной в Молинье. Во время своего позавчерашнего разговора с ним я мог измерить его возможности. Как могла Полина выйти за него замуж?… Увы! Самое жалкое убожество — убожество характера — часто глубоко скрыто и обнаруживается лишь при длительном общении.
Полина всячески старается замаскировать недостатки и слабости Оскара, скрыть их от чужих глаз, особенно от глаз детей. Она умудряется заставить их относиться с уважением к отцу; ей действительно приходится преодолевать огромные трудности; но она делает это так искусно, что я сам этого не замечал. Она говорит о своем муже без презрения, но с какой-то снисходительностью, которая свидетельствует о многом. Она сожалеет, что он теряет авторитет у детей; когда же я выразил огорчение по поводу того, что Оливье проводит каникулы в обществе Пассавана, то понял, что, если бы решение зависело только от нее, поездка Оливье на Корсику не состоялась бы.
— Я не одобряла этой поездки, — сказала она, — и этот мсье Пассаван, по правде говоря, не особенно мне нравится. Но что поделаешь? Если я вижу, что не в состоянии помешать чему-либо, я предпочитаю добровольно дать свое согласие. Оскар, тот всегда уступает; уступает и мне. Но когда я считаю долгом выступить с возражением против какого-нибудь плана детей, воспрепятствовать им, проявить характер, я не нахожу у него поддержки. Даже Винцент вмешался в это дело. При таких обстоятельствах какое противодействие могла я оказать Оливье, не рискуя потерять его доверие ко мне? А доверием его я дорожу больше всего.
Она штопала старые носки; те носки, которые, сказала она, Оливье больше не носит. Она замолчала, чтобы продеть нитку в иголку, затем продолжала, несколько понизив голос, тоном более интимным и печальным:
— Его доверие… Будь, по крайней мере, я еще убеждена в том, что он питает его ко мне! Но нет, я его утратила…
Возражение, которое я рискнул сделать без особого убеждения, вызвало у нее улыбку. Она уронила свою работу на колени и сказала:
— Послушайте, я знаю, что он сейчас в Париже. Жорж встретил его сегодня утром, он сказал об этом вскользь, и я притворилась, будто не слышу его, потому что мне не нравится, когда он доносит на брата. Так или иначе, я знаю об этом. Оливье скрывается от меня. Когда я увижу его, он будет вынужден лгать мне, и я буду делать вид, будто верю ему, как делаю вид, будто верю его отцу каждый раз, когда он прячется от меня.
— Он боится причинить вам огорчение.
— Но, поступая так, он огорчает меня еще больше. Я вовсе не такая нетерпимая. Есть множество маленьких провинностей, с какими я мирюсь, закрываю на них глаза.
— О ком говорите вы сейчас?
— О, об отце и сыновьях в равной мере.
— Притворяясь, что вы не замечаете этих провинностей, вы тоже им лжете.
— Но как же прикажете мне поступать? Мне дорого стоит уже то, что я не жалуюсь; не могу же я, однако, одобрять их! Видите ли, я пришла к убеждению, что рано или поздно любимый человек ускользает от вас и что самая нежная любовь ничего не может поделать с этим. Да что я говорю? Она вызывает раздражение, досаждает. Я дошла до того, что даже скрываю эту любовь.
— Теперь вы говорите о сыновьях.
— Почему вы так считаете? Полагаете, что я больше не способна любить Оскара? Иногда я действительно так думаю, но я думаю также, что недостаточно люблю его из боязни причинить себе большие страдания… И… да, вы, пожалуй, правы: если дело идет об Оливье, я предпочитаю терпеть.
— А Винцент?
— Несколько лет тому назад я сказала бы о Винценте все, что я говорю вам об Оливье.
— Бедная… Скоро вам придется говорить это о Жорже.
— Но мало-помалу покоряешься. Между тем я не предъявляла больших требований к жизни. Теперь я приучаюсь требовать от нее еще меньше… с каждым годом все меньше. — Помолчав, она прибавила с мягкой улыбкой: — А к себе с каждым годом становишься все более требовательной.
— С такими мыслями вы стали уже почти христианкой, — промолвил я, улыбаясь.
— Как раз об этом я иногда думаю. Но, чтобы быть христианином, их недостаточно.
— Точно так же, как недостаточно быть христианином, чтобы их иметь.
— Я часто думала — разрешите мне сказать об этом вам, — что, за неспособностью отца, поговорить с детьми могли бы вы.
— Винцент далеко.
— Ну, тут уже слишком поздно. Я имею в виду Оливье. У меня было желание, чтобы он отправился в поездку с вами.
При этих словах, которые вдруг заставили меня живо представить себе, что могло бы быть, если бы я не бросился так необдуманно в авантюру, сильное волнение сдавило мне горло, и в первую минуту я не мог вымолвить ни слова; но, когда слезы выступили у меня на глазах, я сказал со вздохом, желая придать моему волнению видимость объяснения:
— Боюсь, как бы тут тоже не было слишком поздно.
При этих словах Полина схватила меня за руку.
— Как вы добры! — воскликнула она.
Чувствуя замешательство от неправильно истолкованного моего порыва и не будучи в состоянии вывести ее из заблуждения, я пожелал, по крайней мере, отвлечь разговор от этой слишком чувствительной для меня темы.
— А Жорж? — спросил я.
— Он причиняет мне гораздо больше хлопот, чем старшие, — ответила она. — Не могу сказать, чтобы он ускользал от меня, потому что он никогда не был близок мне и никогда меня не слушался.
Несколько мгновений она была в нерешительности. Несомненно, ей стоило большого труда рассказать мне следующее:
— Этим летом произошло одно тяжелое событие; мне очень неприятно рассказывать вам о нем, тем более что по поводу его у меня остались кое-какие сомнения… Из шкафа, в который я обыкновенно запирала свои деньги, исчез вдруг стофранковый билет. Боязнь ошибиться в своих подозрениях удержала меня от каких-либо конкретных обвинений; совсем молоденькая девушка, которая служила нам в гостинице, казалась мне честной. Я сказала в присутствии Жоржа, что потеряла эти деньги, так как, признаюсь вам, мои подозрения падали на него. Он не смутился, не покраснел… Мне стало стыдно своих подозрений; я захотела проверить, не ошиблась ли я; произвела заново подсчет расходов. Увы! Не оставалось места для сомнений: недоставало ста франков. Я не решалась повергнуть Жоржа допросу и не без колебаний оставила его в покое. Боязнь быть свидетельницей, что воровству сопутствует еще и ложь, удержала меня. Допустила ли я ошибку, поступив таким образом?… Да, теперь я упрекаю себя за то, что действовала без достаточного упорства; может быть, я также испугалась необходимости проявить большую строгость или, наоборот, своей неспособности быть слишком строгой. И вот я еще раз притворилась, что ничего не знаю, но это дорого обошлось мне, уверяю вас. Я упустила время и подумала, что будет уже слишком поздно и что наказание последует через слишком большой промежуток времени после преступления. Да и как наказать его? Я ничего не сделала: я упрекаю себя за это… но что я могла бы сделать? Я думала послать его в Англию; хотела даже обратиться к вам за советом по этому поводу, но не знала, где вы… По крайней мере, я не скрыла от него огорчения и беспокойства и думаю, что он не останется нечувствительным к этому, потому что у него доброе сердце, вы ведь знаете. Я придаю большое значение упрекам, которые он сам будет предъявлять себе, если только он действительно виноват, чем острастке, которую могла бы сделать ему я. Он больше не станет воровать, я в этом уверена. Он находится в обществе одного очень богатого товарища, который, несомненно, толкал его на расходы. Конечно, если я буду оставлять шкаф открытым… Еще раз повторяю, я не вполне уверена, что это сделал он. Много случайных людей заходило в гостиную…
Я удивлялся, с какой изобретательностью она отыскивала всевозможные оправдания своему сыну.
— Я желал бы, чтобы он положил деньги туда, откуда взял, — сказал я.
— Я тоже думала об этом. Так как он этого не сделал, то я склонна видеть в этом доказательство его невиновности. Впрочем, у него могло не хватить решимости.
— Вы говорили об этом его отцу?
В течение некоторого времени она оставалась в нерешительности.
— Нет, — сказала она наконец. — Я предпочитаю, чтобы отец ничего об этом не знал.
Тут ей, вероятно, послышался шум из соседней комнаты, потому что она отправилась удостовериться, нет ли там кого-нибудь; затем снова села подле меня.
— Оскар мне сказал, что на днях вы вместе завтракали. Он так расхвалил мне вас, что я подумала, уж не пришлось ли вам выслушивать его излияния. — Она печально. улыбнулась, произнося эти слова. — Если он делал вам признания, я не требую от вас неделикатности… хотя я знаю о его частной жизни гораздо больше, чем ему кажется… Но со времени моего возвращения я не понимаю, что с ним. Он так ласков со мной, я чуть было не сказала: подобострастен… Я почти обеспокоена этим. Такое впечатление, точно он меня боится. Он, право, ошибается. Уже давно я в курсе отношений, которые он поддерживает… я знаю даже с кем. Он считает, что они мне неизвестны, и принимает огромные предосторожности, чтобы скрыть их от меня; но эти предосторожности так бьют в глаза, что чем больше он прячется, тем больше себя выдает. Каждый раз, когда, собираясь уходить, он напускает на себя деловой, недовольный и озабоченный вид, я знаю, что он бежит к своей любовнице. Мне очень хочется сказать ему: «Друг мой, ведь я тебя не удерживаю; неужели ты боишься, что я ревную?» Я смеялась бы над ним, если бы была злой. Я боюсь единственно только, как бы дети чего не заметили: он так рассеян, так неловок! Он не подозревает об этом, но иногда я, право, бываю вынуждена приходить ему на помощь, как если бы была его соучастницей. В результате это почти забавляет меня, уверяю вас; я придумываю для него извинения; кладу ему обратно в карман пальто письма, которые он всюду забывает.
— Вот именно, — сказал я, — он боится, что вы перехватываете его письма.
— Он сказал вам это?
— Поэтому он так робок.
— Неужели вы думаете, что я интересуюсь их содержанием?
Своего рода уязвленная гордость заставила ее выпрямиться. Я должен был прибавить:
— Речь идет не о тех письмах, которые он мог обронить по рассеянности, но о письмах, спрятанных им в ящик письменного стола; по его словам, он их там больше не находит. Он думает, что вы их похитили.
При этих словах я увидел, что Полина бледнеет, и ужасное подозрение, которое зародилось у нее, вдруг овладело моим умом. Я пожалел, что сказал об этом, но было уж слишком поздно. Она отвернулась от меня и пробормотала:
— Боже, если бы это было так!
Она казалась раздавленной.
— Что делать? — повторяла она. — Что делать? — Затем, снова повернувшись ко мне: — Скажите, вы не могли бы поговорить с ним?
Хотя она, подобно мне, избегала произносить имя Жоржа, было очевидно, что она думала о нем.
— Попытаюсь. Подумаю об этом, — сказал я, вставая.
Провожая меня в переднюю, она снова обратилась ко мне:
— Не говорите ничего Оскару, прошу вас. Пусть он продолжает подозревать меня, думать то, что думает… Так будет лучше. Приходите поскорее.
VII
Между тем Оливье, огорченный тем, что не застал дядю Эдуарда дома, был не в силах переносить одиночество и в поисках дружбы решил обратить свое сердце к Арману. Он направился к пансиону Ведель.
Арман принял его в своей комнате. Туда нужно было подниматься по черной лестнице. Комната была маленькая и узкая, с окном, выходящим во внутренний двор, в который выходили также окна туалетов и кухонь соседнего дома. Дневной свет, посылаемый покоробившимся цинковым рефлектором, был совсем серым и тусклым. Комната плохо проветривалась; ее пропитывал тяжелый запах.
— Ко всему привыкаешь, — сказал Арман. — Мои родители, понятно, отводят лучшие комнаты для платных пансионеров. Это в порядке вещей. Комнату, которую я занимал в прошлом году, я уступил одному виконту: брату твоего знаменитого друга Пассавана. Комната княжеская; но все, что в ней делается, слышно в комнате Рашели. Здесь масса комнат, но все они сообщаются одна с другой. Так, бедная Сара, приехавшая сегодня утром из Англии, чтобы попасть в свою новую каморку, принуждена проходить через комнату родителей (что мало ее устраивает) или через мою, которая, говоря правду, первоначально была какой-нибудь уборной или кладовой. Здесь я, по крайней мере, обладаю тем преимуществом, что могу входить и выходить, когда мне угодно, не боясь, что за мной будут подглядывать. Я предпочел это мансардам, куда помещают прислугу. Честно сказать, я не в большой претензии за невзрачность обстановки; мой отец назвал бы это склонностью к умерщвлению плоти и объяснил бы тебе, что все, что причиняет ущерб телу, способствует спасению души. Впрочем, он никогда не заходит сюда. У него, видишь ли, есть другие заботы и некогда уделять внимание обиталищу своего сына. Мой папа презанятнейший тип. Он знает наизусть массу утешительных фраз на главнейшие события жизни. Приятно послушать. Жаль, что у него никогда нет времени поговорить… Ты рассматриваешь мою картинную галерею? Утром она бывает более выгодно освещена. Вот эта гравюра в красках ученика Паоло Учелло; предназначена для ветеринаров. В мощном творческом усилии артист сконцентрировал на одной лошади все бедствия, с помощью которых провидение очищает лошадиную душу; обрати внимание на одухотворенность взгляда… Вот это символическое изображение возрастов человека, начиная от колыбели и кончая могилой. В отношении рисунка вещь не особенно сильная; в ней ценен главным образом замысел. Дальше полюбуйся фотографией, сделанной с одной куртизанки Тициана, которую я повесил над своей кроватью, чтобы возбуждать у себя похотливые видения. Вот эта дверь в комнату Сары.
Жалкая комната произвела тягостное впечатление на Оливье; постель не убрана, и вода из умывальной чашки на туалетном столике не вылита.
— Да, мою комнату я убираю сам, — сказал Арман в ответ на его тревожный взгляд. — Вот здесь мой рабочий стол. Ты представить не можешь, на что вдохновляет меня атмосфера этой комнаты:
О воздух милого приюта…
Ей обязан я идеей моего последнего стихотворения «Ночной сосуд».
Оливье пришел к Арману с намерением поговорить с ним о своем журнале и получить у него согласие на сотрудничество; теперь у него пропала охота. Но Арман сам заговорил на эту тему:
— «Ночной сосуд»! Не правда ли, прекрасное заглавие? Со следующим эпиграфом из Бодлера:
Что это: погребальная урна, ждущая капелек слез?
Я пользуюсь там (вечно юным) античным сравнением с демиургом-горшечником, который лепит каждое человеческое существо как сосуд, предназначенный хранить в себе неведомое содержимое. В лирическом порыве я сравниваю себя самого с вышеупомянутым сосудом; мысль, которая, как я тебе говорил, возникла у меня вполне естественно при вдыхании запахов этой комнаты. Особенно я доволен началом стихотворения:
Без геморроя кто дожил до сорока…
Чтоб успокоить читателя, я хотел сначала сказать: «до пятидесяти…», но это никак не вмещалось в размер. Что касается «геморроя», то это, несомненно, одно из самых благозвучных слов… даже независимо от его значения, — со смешком прибавил он.
Оливье молчал, испытывая гнетущее впечатление от слов Армана.
— Излишне говорить, — продолжал Арман, — что ночной сосуд особенно польщен посещением горшка, подобно тебе, до верху наполненного ароматами.
— И ты ничего не написал, кроме этого? — с отчаянием спросил наконец Оливье.
— Я собирался предложить мой «Ночной сосуд» в твой славный журнал, но по тону, каким ты только что сказал «кроме этого», ясно вижу, что у него не много шансов тебе понравиться. Правда, в таких случаях поэт всегда может заявить: «Я пишу не для того, чтобы нравиться» — и остаться в убеждении, что он одарил мир шедевром. Но не стану скрывать от тебя, что нахожу свое стихотворение гнусным. Впрочем, я написал только первый стих. Я говорю «написал», но это неточное выражение, потому что я лишь сию минуту сварганил его в твою честь… Нет, в самом деле, у тебя была мысль напечатать что-нибудь из моих стихотворений? Ты хотел привлечь меня в число сотрудников? Не считал, значит, меня не способным написать что-нибудь чистоплотное? Различил на моем бледном челе печать гения? Я знаю, что здесь недостаточно светло, чтобы увидеть свое изображение в зеркале; но когда мне, этакому Нарциссу, случается созерцать себя в нем, я вижу только лицо неудачника. Конечно, это, может быть, всего-навсего эффект дурного освещения… Нет, дорогой мой Оливье, нет, я ничего не написал этим летом, и если ты рассчитывал на меня для твоего журнала, то можешь разувериться. Но довольно болтовни… Значит, на Корсике все было благополучно? Ты вволю насладился путешествием? Извлек из него пользу? Отдохнул от трудов? Набрался…
Оливье наконец не выдержал:
— Замолчи, пожалуйста, перестань ерничать. Если ты думаешь, что это меня веселит…
— Неужели ты думаешь, что это веселит меня! — воскликнул Арман. — Нет, дорогой мой, нисколько не забавляет! Я вовсе не такой дурак. У меня еще достаточно ума, чтобы понять, что все сказанное мной тебе — паясничество.
— Ты не можешь, значит, говорить серьезно?
— Мы начнем сейчас говорить серьезно, раз тебе нравится серьезный жанр. Моя старшая сестра Рашель слепнет. Ее зрение сильно ослабело в последнее время. Уже два года, как она не может читать без очков. Я думал сначала, что ей просто нужно переменить стекла. Этого оказалось недостаточно. По моему настоянию она пошла к специалисту. По-видимому, у нее ослабляется чувствительность сетчатки. Ты понимаешь, что это две различные вещи; при несовершенной аккомодации хрусталика приходят на помощь очки. Но даже после того как они удалили или приблизили зрительный образ, он может производить недостаточно сильное раздражение сетчатки и вследствие этого передаваться в мозг в очень смутном виде. Ясно тебе? Ты почти не знаешь Рашели, так что не подумай, будто я желаю растрогать тебя ее участью. Зачем же, в таком случае, я рассказываю тебе все это?… Затем, что, размышляя над ее болезнью, я пришел к убеждению: подобно зрительным образам, представления тоже могут доходить до мозга с большей или меньшей отчетливостью. Тупая башка получает только смутные восприятия; но именно поэтому она не способна отдать себе ясный отчет, что она тупая. Ее тупость могла бы причинить ей страдание только в том случае, если бы она сознала ее; но, чтобы сознать свою тупость, она должна поумнеть. Теперь представь себе на одно мгновение такого урода: дурака, который достаточно умен, чтобы ясно понять, что он дурак.
— Если он поймет это, то, право же, не будет больше дураком!
— Будет, дорогой мой, поверь мне. Я отлично знаю это, потому что этот дурак — я сам.
Оливье пожал плечами. Арман продолжал:
— Дурак в подлинном смысле слова не сознает мыслей, превосходящих его разумение. Я сознаю их. Но тем не менее я дурак, так как я знаю, что никогда не буду в силах овладеть ими…
— Но бедняга Арман, — промолвил Оливье в порыве симпатии, — мы все так созданы, что могли бы быть лучше, и я думаю, что величайшим умом является как раз тот, который больше всего страдает от своей ограниченности.
Арман оттолкнул руку, которую Оливье с дружеским участием положил ему на плечо.
— У других есть чувство того, чем они обладают, — сказал он, — я же чувствую только свои недостатки. Недостаток денег, недостаток сил, недостаток ума, недостаток любви. Недостаток во всем; таким я останусь всегда.
Он подошел к туалетному столику, намочил головную щетку в грязной воде умывальника и нелепо начесал себе волосы на лоб.
— Я сказал тебе, что ничего не написал; однако в эти последние дни у меня родилась идея трактата, который я назвал бы трактатом о неполноценности. Но, понятно, у меня недостаточно сил, чтобы его написать. Я сказал бы в нем… Но я раздражаю тебя.
— Нисколько; ты раздражаешь меня своими шутками; теперь, напротив, меня очень интересует все, что ты говоришь.
— Я занялся бы там отысканием, в мировом масштабе, пограничной точки, за пределами которой нет ничего. Пример пояснит тебе, в чем здесь дело. Недавно газеты писали о смерти одного рабочего, убитого электрическим током. Не приняв мер предосторожности, он возился с электрическими проводами; напряжение было не очень высокое; но все его тело было, по-видимому, покрыто потом. Смерть его объясняется этим влажным покровом, который позволил току окутать его тело. Если бы его тело было менее влажно, несчастья не произошло бы. Но прибавим пот, капелька за капелькой… Еще одна капелька: готово.
— Не понимаю, — сказал Оливье.
— Это оттого, что я выбрал неудачный пример. Я всегда выбираю неудачно свои примеры. Ну, вот тебе другой: в одной лодке собралось шестеро потерпевших кораблекрушение. Десять дней буря носит их по океану. Трое умерли, двоих спасли. Шестой был в обмороке. Надеялись еще возвратить его к жизни. Организм достиг пограничной точки.
— Да, да, понимаю, — сказал Оливье, — часом раньше его удалось бы спасти.
— Часом! Эка ты хватил! Я принимаю в расчет крайнее мгновение: еще можно; еще можно… больше нельзя! Мой ум движется по узкой грани. Вот эту-то демаркационную линию между бытием и небытием я стараюсь провести повсюду. Граница сопротивления… возьмем, например, то, что мой отец назвал бы искушением. Человек еще крепится; веревка, за которую тянет дьявол, натянута до предела… Еще одно маленькое усилие, и веревка разрывается: человек осужден. Понятно тебе теперь? Чуть-чуть меньше — и небытие. Бог не создал бы мира. Ничего не было бы… «Лицо мира изменилось бы», — говорит Паскаль. Но я не довольствуюсь мыслью: «Если бы нос Клеопатры был покороче». Я требую точности. И я спрашиваю: короче… насколько? Ведь в конце концов он мог бы быть короче на самую малость, не правда ли?… Постепенный переход; постепенный переход; потом внезапный скачок… «Natura non fecit saltus» («Природа не совершает скачков» (лат.)) — пустая болтовня! Я словно араб в пустыне, изнемогающий от жажды. Я достигаю той строго определенной точки, где, понимаешь ли, одна капля воды могла бы еще спасти его… или одна слеза…
Голос его прерывался, приобретая патетическую интонацию, удивившую и взволновавшую Оливье. Он продолжал мягким, почти ласковым тоном:
— Помнишь: «Я пролил эту слезу за тебя…»
Да, Оливье помнил фразу Паскаля; ему даже было неприятно, что его друг процитировал неточно, и он не мог удержаться, чтобы не поправить: «Я пролил эту каплю крови…»
Возбуждение Армана внезапно спало. Он пожал плечами:
— Что мы можем тут? Есть такие, которые будут приняты без труда… Понимаешь теперь, что такое чувствовать себя всегда «на грани»? Мне всегда будет недоставать маленькой малости.
Он принялся хохотать. Оливье почувствовал, что смех этот был средством заглушить рыдания. Ему очень хотелось высказаться самому, сказать Арману, как он взволнован его словами и сколько душевной боли слышится ему в этой раздражающей иронии. Но он торопился на свидание с Пассаваном.
— Я должен расстаться с тобой, — сказал он, вынув часы. — Ты сегодня вечером свободен?
— А что?
— Я хочу пригласить тебя в ресторан «Пантеон». «Аргонавты» устраивают там банкет. Приезжай к концу. Будет масса типов, более или менее знаменитых и подвыпивших. Бернар Профитандье обещал прийти. Может получиться очень занятно.
— Я небрит, — мрачно сказал Арман. — Да и что мне делать среди знаменитостей? Но знаешь что? Пригласи Сару, утром она вернулась из Англии. Я уверен, это доставит ей большое удовольствие. Хочешь, я передам ей приглашение от твоего имени? Бернар ее проводит.
— Ладно, идет, — ответил Оливье.
VIII
Итак, было условлено, что Бернар и Эдуард, пообедав вместе, заедут за Сарой около десяти часов. Сара с радостью приняла переданное Арманом приглашение. В половине десятого она удалилась в свою комнату, куда проводила ее мать. Чтобы попасть туда, нужно было пройти через комнату родителей; но другая дверь, которая считалась заколоченной, вела из комнаты Сары в комнату Армана и выходила, как мы уже сказали, на черную лестницу.
В присутствии матери Сара притворилась, что собирается лечь спать, и попросила оставить ее; но едва дверь за матерью закрылась, она подошла к туалетному зеркалу, чтобы подкрасить себе губы и подрумянить щеки. Туалетный столик маскировал закрытую дверь и был не настолько тяжел, чтобы Сара не могла бесшумно его отодвинуть. Она открыла потайную дверь.
Сара боялась встречи с братом, насмешки которого были ей неприятны. Арман, правда, оказывал содействие самым рискованным ее затеям; казалось, даже находил в этом удовольствие; но снисходительность его была весьма условна, ибо потом он еще суровее осуждал ее; в результате Сара не могла бы сказать с уверенностью, не является ли в конце концов любезность брата только издевательской игрой блюстителя нравов.
Комната Армана была пуста. Сара села на низенький табурет и в ожидании предалась размышлениям. Из духа протеста она давно уже культивировала в себе презрительное отношение ко всем домашним добродетелям. Семейный гнет напрягал ее энергию, раздражал ее бунтарские инстинкты. Во время пребывания в Англии она сумела раскалить добела свою смелость. Подобно мисс Абердин, молоденькой пансионерке-англичанке, Сара решила завоевать себе свободу, обеспечить возможность делать что угодно, отважиться на все. Она чувствовала себя готовой выдержать любое презрение и любое порицание, способной на любой вызов. В своих авансах Оливье она одержала уже победу над природной скромностью и врожденной стыдливостью. Пример старших сестер послужил ей уроком; она рассматривала благочестивую покорность Рашель как надувательство; соглашалась видеть в браке Лауры только жалкую сделку, приводящую к рабству. Образование, которое она получила, которое дала себе сама, которого добилась, весьма мало предрасполагало ее, как ей казалось, к тому, что она называла супружеской преданностью. Она совершенно не понимала, чем мог бы превосходить ее человек, за которого она вышла бы замуж. Разве она не получила аттестата зрелости так же, как и мужчина? Разве у нее не было о любом предмете своих мнений и своих идей? В частности, о равенстве полов; ей даже казалось, что в практической жизни, а при случае и в политике женщина часто обнаруживает больше здравого смысла, чем многие мужчины…
Шаги на лестнице. Сара насторожилась, затем тихонько отворила дверь.
Бернар и Сара еще не были знакомы. Коридор не освещался. В полутьме они едва различали друг друга.
— Мадемуазель Сара Ведель? — тихо спросил Бернар.
Она бесцеремонно взяла его под руку.
— Эдуард ожидает нас в авто на углу. Он предпочел не выходить из автомобиля, боясь встретиться с вашими родителями. Ну а мне это не страшно, вы ведь знаете, я здесь живу.
Бернар позаботился оставить калитку полуоткрытой, чтобы не привлечь внимания привратника. Через несколько минут автомобиль подкатил всех троих к ресторану «Пантеон». Когда Эдуард расплачивался с шофером, часы пробили десять.
Банкет окончился. Кушанья были убраны, но стол был заставлен чашками кофе, бутылками и рюмками. Все курили; становилось нечем дышать. Госпожа де Брусе, жена редактора «Аргонавтов», требовала свежего воздуха. Ее резкий голос отчетливо раздавался среди шума разговоров. Открыли окно. Но Жюстиньен, собравшийся произнести речь, велел тотчас же снова закрыть его — «для акустики». Поднявшись, он начал стучать ложечкой по рюмке, но ему не удалось привлечь к себе внимание. Вмешался редактор «Аргонавтов», которого называли президент де Брусе, и сумел добиться относительной тишины; голос Жюстиньена начал изливать целые моря скуки. Банальность мысли он прикрывал потоками образов. Остроумие заменял напыщенностью и ухитрялся каждому присутствующему отпустить тяжеловесный комплимент. После первой паузы, когда в зал входили Эдуард, Бернар и Сара, раздались снисходительные аплодисменты; некоторые хлопали дольше, чем требовали приличия, иронически, без сомнения, и как бы в надежде положить конец речи; но тщетно: Жюстиньен начал снова; ничто не в силах было охладить жар его красноречия. Теперь он стал осыпать цветами риторики графа де Пассавана. Он говорил о «Турнике» как о новой «Илиаде». Стали пить за здоровье Пассавана. У Эдуарда, Бернара и Сары не было рюмок, что избавило их от обязанности чокаться с ним.
Речь Жюстиньена закончилась пожеланием процветания новому журналу и несколькими комплиментами его будущему редактору, «юному и талантливому Молинье, любимцу муз, благородному и чистому челу которого недолго придется дожидаться лавров».
Оливье сидел около входной двери, чтобы иметь возможность встретить своих друзей. Преувеличенные комплименты Жюстиньена явно были ему неприятны, но он не мог уклониться от маленькой овации, последовавшей за этим.
Трое вновь прибывших пообедали слишком скромно, чтобы чувствовать себя настроенными в тон собранию. На такого рода пиршествах опоздавшие плохо или же слишком хорошо объясняют себе возбуждение остальных. Они судят, тогда как судить не следовало бы, и предаются, хотя бы невольно, безжалостной критике; так, по крайней мере, было с Эдуардом и Бернаром. Что касается Сары, для которой все в этом обществе было ново, то она хотела только поучиться, заботилась только о том, чтобы попасть в тон.
Бернар никого не знал. Оливье, который взял его под руку, хотел представить его Пассавану и де Бруссу. Бернар отказался. Выручил Пассаван: подойдя, он протянул ему руку, которую Бернар не мог, конечно, не пожать.
— Я слышу о вас так давно, что мне кажется, будто уже знаком с вами.
— Я тоже, — сказал Бернар таким тоном, который сразу охладил пыл Пассавана. Отвернувшись, он подошел к Эдуарду.
Несмотря на свои частые путешествия и очень замкнутый образ жизни в Париже, Эдуард был достаточно хорошо знаком с несколькими из присутствующих и не чувствовал никакого стеснения. Эдуарда его собратья мало любили, но уважали, он мирился со своей репутацией гордеца, хотя на самом деле лишь держался на расстоянии. Он охотнее слушал, чем говорил.
— Ваш племянник обрадовал меня известием, что вы придете, — начал Пассаван вкрадчивым и тихим голосом. — Я был весьма польщен, потому что…
Иронический взгляд Эдуарда заставил его прервать фразу. Искусный льстец, привыкший всем нравиться, Пассаван, чтобы блистать, чувствовал потребность иметь перед глазами снисходительное зеркало. Однако он овладел собою, так как не принадлежал к числу тех, кто надолго теряет уверенность и примиряется с поражением. Он поднял голову, и в его глазах снова появилась наглость. Если Эдуард не согласится участвовать в его игре добровольно, он найдет способ его заставить.
— Я хотел вас спросить… — сказал Пассаван, как бы продолжая свою мысль, — нет ли у вас известий от вашего другого племянника, моего друга Винцента? Я был близок главным образом с ним.
— Нет, — сухо ответил Эдуард.
Это «нет» снова поставило в тупик Пассавана, который толком не понимал, должен ли он принимать его как вызов или как простой ответ на вопрос. Замешательство его длилось не более мгновения. Эдуард помимо своей воли вернул Пассавану самообладание, прибавив почти тотчас же:
— Я лишь узнал от его отца, что он путешествует с князем Монако.
— Да, я просил одну даму, с которой у меня дружеские отношения, представить его князю. Я счастлив, что мне удалось придумать для него эту прогулку; мне очень хотелось развлечь его после несчастной авантюры с госпожой Дувье… с которой, по словам Оливье, вы знакомы. Винцент чуть было не испортил себе жизнь.
Пассаван чудесно мог изобразить пренебрежение, презрение, снисходительность; но для него было достаточно выйти победителем из этого состязания и держать Эдуарда на почтительном расстоянии. Эдуард старался придумать какой-нибудь хлесткий ответ. У него до странности не хватало присутствия духа. Это обстоятельство было, несомненно, одной из причин его нелюбви бывать в обществе: он был вовсе лишен качеств, необходимых, чтобы блистать в гостиных. Брови его, однако, нахмурились. У Пассавана был нюх: как только ему собирались сказать что-либо неприятное, он сразу это чувствовал и делал крутой поворот. Не переводя дыхания и резко меняя тон, он улыбнулся и спросил:
— Кто эта прелестная девушка, пришедшая с вами?
— Это, — отвечал Эдуард, — мадемуазель Сара Ведель, сестра упомянутой вами госпожи Дувье, моего друга.
За неимением ничего лучшего он заострил «моего друга» как стрелу; но она не попала в цель, и Пассаван, подождав, когда она упадет, сказал:
— Вы были бы очень любезны, если бы познакомили меня с ней.
Он сказал эти последние слова и предшествующую фразу достаточно громко, чтобы Сара могла их услышать; так как она повернулась к ним, то Эдуард не мог увильнуть и сказал с натянутой улыбкой:
— Сара, граф де Пассаван желает удостоиться чести познакомиться с вами.
Пассаван велел принести три новые рюмки и наполнил их кюммелем. Все четверо выпили за здоровье Оливье. Бутылка была почти пуста, и так как Сару поразили — кристаллы, оставшиеся на дне, то Пассаван сделал попытку извлечь их при помощи соломинок. Тут подошел к ним какой-то странный тип, похожий на паяца, с нарумяненными щеками, подведенными глазами и прилизанными, словно молескиновая ермолка, волосами; с явным усилием выжимая из себя каждый слог, тип этот произнес:
— Так вам не вытащить. Дайте, я ее разобью.
Он схватил бутылку и одним ударом разбил о подоконник. Преподнося дно Саре, он сказал ей:
— С помощью этих маленьких острых многогранников очаровательная барышня без труда пробьет…
— Кто это чучело? — спросила Сара Пассавана, который усадил ее и сам сел рядом.
— Это Альфред Жарри, автор «Короля Юбю». «Аргонавты» произвели его в гении на том основании, что публика недавно освистала его пьесу. Все же она самое любопытное из всего, что написано для театра за последние годы.
— «Король Юбю» мне очень нравится, — сказала Сара, — и я очень довольна встречей с Жарри. Мне говорили, что он всегда пьян.
— Да, сейчас он, должно быть, пьян. Я видел, как он выпил за обедом два больших бокала чистого абсента. Незаметно, чтобы он чувствовал себя плохо. Хотите папиросу? Нужно курить самому, чтобы не задохнуться в табачном дыму.
Он наклонился к ней, поднося зажженную спичку. Она принялась грызть кристаллы.
— Да ведь это обыкновенный леденец, — сказала она, несколько разочарованная. — А я думала что-нибудь особенное.
Разговаривая с Пассаваном, она улыбалась Бернару, который оставался подле нее. Глаза ее блестели от возбуждения. Бернар не мог разглядеть ее в темноте и был теперь поражен ее сходством с Лаурой. Тот же лоб, те же губы… Черты ее, правда, не дышали такой ангельской грацией, и взгляды рождали какое-то смятение в его сердце. В каком-то замешательстве он обратился к Оливье:
— Познакомь же меня с твоим другом Беркаем.
Он встречался уже с Беркаем в Люксембургском саду, но никогда с ним не разговаривал. Робкий Беркай, чувствовавший себя слегка не по себе в обществе, куда его только что ввел Оливье, краснел каждый раз, когда его друг представлял его как одного из главных сотрудников «Авангарда». Дело в том, что его аллегорическое стихотворение, о котором он говорил Оливье в начале нашей повести, должно было появиться в первом номере нового журнала, сразу же после манифеста.
— На месте, которое я приберегал для тебя, — сказал Оливье Бернару. — Я уверен, что оно тебе понравится. Оно лучше всего, что есть в номере. И так оригинально!
Оливье доставляло больше удовольствия хвалить своих друзей, чем выслушивать похвалы себе. При приближении Бернара Люсьен Беркай встал; он так неловко держал чашку кофе, что в волнении пролил полчашки себе на жилет. В этот момент совсем близко от него раздался деревянный голос Жарри:
— Малютка Беркай сейчас отравится, потому что я насыпал яду в его чашку…
Жарри забавлялся робостью Беркая, и ему доставляло удовольствие смущать его. Но Беркай не боялся Жарри. Он пожал плечами и спокойно допил свою чашку.
— Кто это? — спросил Бернар.
— Как! Ты не знаешь автора «Короля Юбю»?
— Не может быть! Это Жарри? Я принял его за лакея.
— Ну что ты, — немного обиженно сказал Оливье: он гордился своими знаменитостями. — Приглядись к нему получше. Разве ты не находишь, что он необыкновенен?
— Он из кожи лезет, чтобы казаться таким, — сказал Бернар, который ценил только естественность, хотя относился с большим уважением к «Юбю».
Начиная от традиционного жокейского костюма, все в Жарри было нарочито; особенно его манера говорить, которой изо всех сил подражали некоторые «аргонавты»; манера, заключавшаяся в отчеканивании слогов, изобретении странных слов, причудливом коверкании некоторых других; но нужно признать, что только Жарри удалось добиться этого голоса без тембра, без теплоты, без интонации, без выражения.
— Когда узнаешь его ближе, уверяю тебя, находишь очаровательным, — сказал Оливье.
— Предпочитаю не знакомиться с ним. У него зверский вид.
— Это у него напускное. Пассаван думает, что в глубине души он очень нежен. Но он сегодня дьявольски пил: не воду, уверяю тебя, и даже не вино: только чистейший абсент и крепкие ликеры. Пассаван боится, как бы он не выкинул какого-нибудь фортеля.
Вопреки его желанию имя Пассавана то и дело навертывалось ему на язык, и тем упорнее, чем больше он стремился его избегать.
Раздраженный неумением владеть собой, словно человек, сам себя загнавший в западню, Оливье переменил тему:
— Тебе следует поговорить немного с Дюрмером. Боюсь, что он в смертельной обиде на меня за то, что я отбил у него редактуру «Авангарда»; но это не моя вина; я не мог поступить иначе и должен был дать свое согласие. Постарайся растолковать ему, успокоить его. Пасс… Мне сказали, что он просто взбешен от гнева на меня.
Он споткнулся, но на этот раз не упал.
— Надеюсь, что он взял обратно свою рукопись. Не люблю того, что он пишет, — сказал Беркай; затем, обращаясь к Профитандье: — Но вы, мсье, я думаю, что…
— Не называйте меня, пожалуйста, мсье… я отлично знаю, что у меня громоздкая и смешная фамилия… Если я буду писать, то придумаю себе псевдоним.
— Почему вы ничего нам не дали?
— Потому что у меня не было ничего готового.
Оливье, оставив своих друзей, подошел к Эдуарду:
— Как мило с вашей стороны, что вы пришли! Я не мог дождаться встречи с вами. Но мне хотелось увидеться с вами где-нибудь в другом месте… Сегодня днем я заходил к вам. Вам передали? Я был очень огорчен, что не застал вас дома, и если бы знал, где можно вас найти…
Он был приятно поражен, что ему удалось найти такой непринужденный тон: ведь еще недавно волнение, охватывавшее его в присутствии Эдуарда, лишало его речи. Он обязан был этой непринужденностью — увы! — банальности своих слов, а также выпитому вину. Эдуард с грустью это констатировал.
— Я был у вашей матери.
— Я узнал об этом, придя домой, — сказал Оливье, которого больно резануло «вы» Эдуарда. Он думал, как бы сказать ему об этом.
— И в этом обществе вы собираетесь жить? — спросил Эдуард, пристально на него глядя.
— О, я не поддаюсь его влиянию!
— Вы вполне в этом уверены?
Это было сказано таким серьезным, таким нежным, таким братским тоном… Оливье почувствовал, что его уверенность поколеблена.
— Вы находите, что мне не следует водиться с этими людьми?…
— Не со всеми, пожалуй, но с некоторыми из них, конечно.
Оливье принял это множественное число за единственное. Ему показалось, что Эдуард имеет в виду исключительно Пассавана, и это было, на его внутреннем небе, как бы ослепительной и болезненно ранящей молнией, рассекавшей тяжелую тучу, которая уже с утра грозно сгущалась в его сердце. Он любил Бернара, любил Эдуарда, любил слишком сильно, чтобы перенести их неодобрение. Подле Эдуарда в нем загоралось все, что в нем было лучшего. Подле Пассавана пробуждались самые худшие инстинкты; он это теперь сознавал; да и переставал ли когда-либо сознавать? Но разве его ослепление в обществе Пассавана не было добровольным? Его признательность графу за все, что тот сделал для него, обращалась в озлобление. Всеми силами души он отрекался от Пассавана. То, что он увидел, окончательно исполнило его ненависти к нему.
Пассаван, наклонившись к Саре, охватил рукой ее талию и проявлял все большую и большую настойчивость. Осведомленный о грязных сплетнях по поводу его отношений с Оливье, он пытался дать наглядное доказательство их необоснованности. И, чтобы еще больше обратить на себя внимание, он решил добиться от Сары согласия сесть к нему на колени. Сара до сих пор оказывала очень слабое сопротивление, но взгляды ее искали взглядов Бернара, и когда она их встречала, то улыбалась, как бы говоря ему: «Посмотрите, что можно позволить со мной».
Однако Пассаван боялся действовать слишком поспешно. Ему не хватало практики. «Если только мне удастся убедить ее выпить еще немного, я рискну», — говорил он себе, протягивая свободную руку к бутылке Кюрасао.
Оливье, наблюдавший за ним, предупредил его движение. Он схватил бутылку, просто чтобы отнять ее у Пассавана; но в этот момент, он вообразил, что ликер придаст ему больше храбрости; храбрости, в которой он как раз ощущал недостаток и которая была нужна ему, чтобы громко высказать Эдуарду жалобу, наворачивавшуюся ему на язык:
— Стоило только вам…
Оливье наполнил свою рюмку и залпом выпил ее. В этот момент он услышал, как Жарри, бродивший от группы к группе, сказал вполголоса, проходя мимо Беркая:
— А теперь мы пристрелим малютку Беркая.
Беркай резко повернулся к нему:
— Повторите вслух, что вы сказали.
Жарри был уже далеко. Обогнув стол, он повторил фальцетом:
— А теперь мы пристрелим малютку Беркая. — Затем вытащил из кармана большой пистолет, который «Аргонавты» часто видели у него в руках, и стал целиться.
Жарри пользовался репутацией отличного стрелка. Раздались протестующие возгласы. Никто не был уверен, что в его теперешнем состоянии опьянения он сумеет удержаться в пределах шутки. Но Беркай решил показать свое бесстрашие, взобрался на стул и, заложив руки за спину, принял наполеоновскую позу. Он был немного смешон; кое-кто действительно засмеялся, но смех был мигом заглушён аплодисментами.
Пассаван торопливо сказал Саре:
— Это может плохо кончиться. Он совершенно пьян. Спрячьтесь под стол.
Де Брусе пытался было удержать Жарри, но тот, вырвавшись, в свою очередь, взобрался на стул (тут Бернар заметил, что он был обут в лакированные бальные туфли). Оказавшись прямо против Беркая, Жарри протянул руку и стал целиться.
— Потушите свет! Живее! — крикнул де Брусе.
Эдуард, стоявший у двери, повернул выключатель. Сара встала, повинуясь приказанию Пассавана; едва только наступила темнота, она прижалась к Бернару, чтобы потащить его с собою под стол.
Раздался выстрел. Пистолет был заряжен холостыми. Но все же послышался чей-то крик: пыж угодил Жюстиньену прямо в глаз.
Когда снова был дан свет, все пришли в восторг от выдержки Беркая, который по-прежнему неподвижно стоял на своем стуле, все в той же позе, и разве лишь немного побледнел.
С супругой президента де Брусе сделалась истерика. Кругом все засуетились.
— Каким нужно быть идиотом, чтобы устраивать подобные развлечения!
Так как на столе не было воды, то Жарри, сойдя со своего пьедестала, намочил в вине носовой платок и в знак извинения принялся растирать виски госпоже де Брусе.
Бернар оставался под столом только мгновение; как раз столько времени, чтобы почувствовать на своих губах страстный поцелуй горячих губ Сары. Оливье последовал за ними, из дружбы, из ревности… Опьянение пробудило в нем то отвратительное чувство, которое он так хорошо знал, — боязнь остаться незамеченным. Когда он вылез из-под стола, голова у него немного кружилась. Тут он услышал восклицание Дюрмера:
— Поглядите-ка на Молинье! Он труслив, как баба.
Это было слишком. Не сознавая хорошенько, что он делает, Оливье с поднятой рукой бросился на Дюрмера. Ему казалось, что он производит движения во сне. Дюрмер от удара увернулся. Как во сне, рука Оливье встретила лишь пустоту.
Смятение сделалось всеобщим, и в то время как одни хлопотали подле госпожи де Брусе, которая продолжала жестикулировать, издавая пронзительный визг, другие окружили Дюрмера, кричавшего: «Он даже не прикоснулся ко мне! Он даже не прикоснулся ко мне!..»; третьи — Оливье, который с пылающим лицом собирался броситься еще раз, так что стоило большого труда его успокоить.
Прикоснулся к нему Оливье или нет, Дюрмер все равно должен был считать себя получившим пощечину; это старался растолковать ему Жюстиньен, растиравший свой обожженный глаз. Это был вопрос чести. Но Дюрмер обращал мало внимания на уроки чести, преподаваемые ему Жюстиньеном. Он упорно повторял:
— Не прикоснулся… Не прикоснулся…
— Оставьте его в покое, — сказал де Брусе. — Нельзя заставлять людей драться, если они этого не желают.
Оливье между тем заявлял во всеуслышание, что, если Дюрмер не считает себя удовлетворённым, он готов влепить ему еще одну пощечину; решив вызвать Дюрмера на дуэль, он просил Бернара и Беркая быть его секундантами. Ни тот, ни другой ничего не смыслили в так называемых «вопросах чести», но Оливье не решался обратиться к Эдуарду. Галстук его развязался; волосы растрепались; лоб был весь потный; по рукам пробегала конвульсивная дрожь.
Эдуард взял его под руку:
— Ступай смочи немного лицо. Ты словно с ума сошел.
Он повел его в уборную.
Только выйдя из зала, Оливье понял, насколько он пьян. Когда он почувствовал у себя под мышкой руку Эдуарда, ему показалось, что он лишается сознания, и он без всякого сопротивления дал себя увести. Из всего сказанного ему Эдуардом он понял только, что тот обращался к нему на «ты». Как грозовая туча проливается дождем, так и сердце его, казалось, истаивало в слезах. Намоченное полотенце, которое Эдуард приложил к его лбу, окончательно его протрезвило. Что произошло? У него сохранилось смутное сознание, что он действовал, как ребенок, как животное. Он чувствовал, что был смешон, отвратителен… Тогда в порыве сокрушения и любви он бросился на шею Эдуарду и, прижавшись к нему, зарыдал:
— Уведи меня.
Эдуард крайне разволновался.
— К родителям? — спросил он.
— Они не знают, что я в Париже.
Когда они проходили через кафе, направляясь к выходу, Оливье шепнул своему спутнику, что ему нужно написать несколько слов.
— Если сейчас бросить письмо в ящик, оно дойдет завтра в первом часу.
Сев за столик, он написал:
«Дорогой Жорж!
Да, это пишу я; я хочу просить тебя оказать мне маленькую услугу. Для тебя, конечно, не будет новостью, если я сообщу, что нахожусь в Париже, так как уверен, что сегодня утром ты видел меня около Сорбонны. Я остановился у графа де Пассавана (он дал адрес); мои вещи еще у него. По соображениям, которые очень долго излагать и которые мало для тебя интересны, я решил к нему не возвращаться. Кроме тебя, мне некого попросить привезти упомянутые вещи. Ты окажешь мне, не правда ли, эту услугу? Я не останусь в долгу. Там находится запертый сундук. Что касается остальных вещей, то ты сам уложишь их в мой чемодан и привезешь мне все к дяде Эдуарду. Я заплачу за авто. Завтра, к счастью, воскресенье; ты сможешь сделать это сейчас же по получении этого письма. Я рассчитываю на тебя, идет?
Твой старший брат
Оливье.
P.S. Я знаю, что ты малый расторопный, и не сомневаюсь, что справишься со всем как нельзя лучше. Но если тебе придется иметь дело непосредственно с Пассаваном, будь, пожалуйста, с ним как можно более холоден. До завтрашнего утра».
Те из гостей, которые не слышали оскорбительного заявления Дюрмера, не могли понять причину внезапного гнева Оливье. Казалось, что он потерял рассудок. Если бы он сумел сохранить хладнокровие, Бернар одобрил бы его поведение: он не любил Дюрмера; но не мог и не признать, что Оливье действовал как безумный и казался кругом виноватым. Бернар страдал, слыша, как все строго осуждали поведение Оливье. Он подошел к Беркаю и условился насчет свидания с ним. Как ни нелепо было это дело, им обоим необходимо было соблюсти корректность. Они решили повидаться со своим клиентом завтра, в девять часов утра.
После ухода друзей у Бернара не было больше никаких оснований и никакого желания оставаться. Он отыскал глазами Сару и весь задрожал от бешенства, увидя ее сидящей на коленях у Пассавана. Оба казались пьяными, Сара, однако, встала при приближении Бернара.
— Пошли домой, — сказала она, беря его под руку.
Она пожелала идти пешком. Путь был недолгий; они прошли его, не сказав друг другу ни слова. В пансионе все огни были потушены. Боясь привлечь к себе внимание, они ощупью добрались до черной лестницы, а затем стали освещать себе дорогу спичками. Арман не спал. Услышав их шаги, он вышел на площадку лестницы с лампой в руке.
— Возьми лампу, — сказал он Бернару (со вчерашнего дня они говорили друг другу «ты»). — Посвети Саре, у нее в комнате нет свечи… Дай мне спички, я хочу зажечь у себя огонь.
Бернар проводил Сару во вторую комнату. Не успели они войти туда, как Арман, наклонившись над лампой, задул ее и сказал насмешливо:
— Спокойной ночи! Только не шумите, пожалуйста, в соседней комнате спят родители.
Затем, вбежав в свою комнату, закрыл за ними дверь на задвижку.
IX
Арман лег, не раздеваясь. Он знает, что ему не удастся заснуть. Он ожидает рассвета. Размышляет. Слушает. Все спят: дом, город, вся природа; ни звука.
Как только слабый свет, который рефлектор посылает сверху, из узкой щели, в его комнату, позволяет ему снова различить ее мерзость, он встает. Направляется к двери, которую запер вчера на задвижку; тихонько приоткрывает ее…
Но на пороге двери оборачивается. Ему нужно разбудить Бернара. Последний должен возвратиться в свою комнату до того, как встанет кто-нибудь из живущих в пансионе. При легком шуме, который производит Арман, Бернар открывает глаза. Арман убегает, оставив дверь открытой. Он покидает свою комнату, спускается по лестнице, он где-нибудь спрячется; его присутствие будет стеснять Бернара; он не хочет с ним встречаться.
Несколько мгновений спустя он увидит из окна классной комнаты, как Бернар прошмыгнет, прижимаясь к стенам, словно вор…
Бернар спал недолго. Но он вкусил в эту ночь забвение более целительное, чем сон: и экстаз, и уничтожение своего существа. Он вступает в новый день чужой самому себе, ошеломленный, легкий, обновленный, спокойный и трепещущий, как Бог. Он оставил Сару спящей, украдкой высвободившись из ее объятий. Как? Без нового поцелуя, без последнего взгляда, без нового объятия? Он покидает ее так из-за своей бесчувственности? Не знаю. Он и сам не знает. Он старается вовсе не думать об этом, обеспокоенный необходимостью вплести эту необыкновенную ночь в ткань своей предшествующей жизни. Нет; это придаток, приложение, которое не может найти места в книге — книге, где повесть его жизни будет, не правда ли, продолжаться, как если бы ничего не случилось, будет идти своим чередом.
Он поднялся в комнату, которую занимает вместе с Борисом. Тот спит крепким сном. Какое дитя! Бернар откидывает одеяло на своей постели. Мнет простыни, чтобы создать впечатление будто он спал. Подходит к умывальнику, обливает себя водой, умывается. Но вид Бориса приводит ему на память Саас-Фе. Он припоминает сказанные там Лаурой слова: «Я могу принять от вас только благоговение, которое вы мне предлагаете. Прочие ваши чувства тоже будут предъявлять известные требования, которые должны будут удовлетворяться в другом месте». Эта фраза возмущала его. Ему кажется, что она до сих пор звучит в ушах. Он не думал больше о ней, но сегодня утром память у него удивительно свежа и деятельна. Помимо его воли мозг работает великолепно. Бернар прогоняет образ Лауры, хочет заглушить эти воспоминания; чтобы отвлечь свое внимание, он схватывает учебник и принуждает себя готовиться к экзамену. Но в комнате духота. Он идет заниматься в сад. Ему хочется выйти на улицу, ходить, бегать, выйти на простор, проветриться. Он наблюдает за калиткой; как только привратник открывает ее, он убегает.
Он приходит с книгой в Люксембургский сад и садится на скамью. Мысль его разматывается как шелковинка; но она непрочная; стоит ему потянуть сильнее, и нитка разрывается. Как только он хочет приняться за чтение, между его глазами и книгой тотчас начинают проноситься нескромные воспоминания; вспоминаются не острые моменты экстаза, но мелкие смешные и неловкие подробности, которые задевают его самолюбие, ранят и терзают его. Впредь он не проявит такой неопытности.
Около девяти часов он встает и направляется к Люсьену Беркаю. Затем они отправляются к Эдуарду.
Эдуард жил в Пасси, в верхнем этаже доходного дома. Комната его выходила в обширный рабочий кабинет. Когда на рассвете Оливье встал, Эдуард сперва не проявил беспокойства.
— Пойду прилягу на диване, — сказал Оливье. Боясь, как бы он не простудился, Эдуард велел ему взять с собою одеяла. Вскоре после этого поднялся и Эдуард. Положительно он не заметил, как заснул, потому что с удивлением увидел, что уже совсем рассвело. Он захотел посмотреть, как устроился Оливье; захотел снова увидеть его; может быть, им руководило какое-то неясное предчувствие…
Кабинет был пуст. Одеяла лежали на диване неразвернутыми. Удушливый запах газа заронил в Эдуарде страшное подозрение. К кабинету примыкала маленькая комнатка, служившая ванной. Запах, несомненно, шел оттуда. Эдуард подбежал к этой комнатке, но сначала не мог открыть дверь; мешал какой-то предмет; это было лежавшее у ванны тело Оливье, раздетое, холодеющее, посиневшее, отвратительно выпачканное блевотиной.
Эдуард мгновенно закрыл кран горелки, из которой шел газ. Что произошло? Несчастный случай? Удушье?… Он не верил своим глазам. Ванна была пуста. Эдуард взял Оливье на руки, перенес в кабинет, положил на ковер перед широко раскрытым окном. Став на колени, наклонился над ним и стал осторожно выслушивать. Оливье еще дышал, но слабо. Тогда Эдуард сделал отчаянную попытку раздуть еле тлеющую и готовую потухнуть искорку жизни в этом теле; он стал ритмично поднимать безжизненные руки, сжимать бока, растирать грудную клетку, словом, делать все, что — как он припоминал — полагается делать при удушье; сокрушался лишь тем, что он не может делать все это сразу. Глаза Оливье были по-прежнему закрыты. Эдуард приподнял пальцем веки, но они снова опустились над безжизненным взглядом. Сердце, однако, билось. Поиски коньяка, лекарств остались безрезультатны. Эдуард согрел воду и вымыл верхнюю часть тела и лицо. Затем уложил безжизненное тело на диван и укрыл его одеялами. Он хотел позвать врача, но не решался уйти из дому. Каждое утро квартиру убирала служанка, но она приходила только в девять часов. Едва Эдуард услышал ее звонок, так тотчас же послал ее за врачом; затем передумал и вернул ее, опасаясь необходимости подвергнуться допросу.
Между тем Оливье медленно возвращался к жизни. Эдуард сел подле дивана у изголовья больного. Он разглядывал это неподвижное лицо и становился в тупик перед заключавшейся в нем загадкой. Почему? Почему? Можно действовать безрассудно вечером, в состоянии опьянения; но решения, принятые на рассвете, являются вполне зрелыми. Он отказывался понимать что-либо до той минуты, когда Оливье будет в состоянии наконец разговаривать с ним. Впредь он больше с ним не расстанется. Он взял Оливье за руку и вложил в это пожатие все свое недоумение, всю свою мысль, всю жизнь свою. Наконец ему показалось, что рука Оливье слабо отвечает на пожатие… Тогда он нагнулся и прижался губами к этому лбу, который хмурился от какого-то огромного, непонятного Эдуарду страдания.
Раздался звонок. Эдуард пошел открыть. Это были Бернар и Люсьен Беркай. Эдуард принял их в передней и сообщил им о случившемся; затем, отведя Бернара в сторону, спросил его, не знает ли он за Оливье каких-нибудь внезапных головокружений, припадков?… Бернар вдруг вспомнил их разговор накануне, и в частности несколько фраз Оливье, которые тогда почти пропустил мимо ушей, теперь же расслышал с необыкновенной отчетливостью.
— Это я заговорил с ним о самоубийстве, — сказал он Эдуарду. — Я спросил его, понимает ли он, что можно убить себя от одного избытка жизни, «от восторга», как говорил Дмитрий Карамазов. Я был весь поглощен своей мыслью и сосредоточил все внимание на своих собственных словах; но сейчас вспоминаю, что он мне ответил.
— Что же он ответил? — нетерпеливо спросил Эдуард, потому что Бернар остановился и, казалось, не желал продолжать.
— Ответил, что ему понятно, как можно дойти до самоубийства, но лишь после достижения такой вершины радости, когда вся дальнейшая жизнь кажется падением.
Тут оба они переглянулись и замолчали. Свет загорался в их уме. Эдуард отвел взгляд в сторону, Бернар же рассердился на себя за то, что сказал это. Они снова подошли к Беркаю.
— Досадно, — сказал Беркай, что могут подумать, будто он захотел покончить с собой, чтобы уклониться от дуэли.
Эдуард больше не думал об этой дуэли.
— Поступайте так, словно ничего не случилось, — сказал он. — Отправляйтесь к Дюрмеру и попросите его свести вас с его секундантами. Объясняться будете уже с ними, если это идиотское дело не уладится само собою. Дюрмер не обнаруживал тогда большой готовности защищать свою честь.
— Мы не расскажем ему ничего, — сказал Люсьен, чтобы на него пал весь стыд за то, что он идет на попятный. Потому что, я уверен, он увильнет.
Бернар спросил, нельзя ли ему увидеть Оливье. Но Эдуард хотел, чтобы его оставили сейчас в покое.
Бернар и Люсьен собирались уже уходить, как вдруг пришел Жорж. Он был только что у Пассавана, но ему не удалось получить вещи брата.
«Господина графа нет дома, — был дан ему ответ. Он не оставил нам никаких распоряжений».
И лакей захлопнул дверь перед его носом.
Серьезность тона Эдуарда и поведение двух юношей обеспокоили Жоржа. Он почуял что-то неладное и начал расспрашивать. Эдуарду пришлось рассказать ему все.
— Только не говори ничего родителям.
Жорж был в восторге, что его посвятили в тайну.
— Мы умеем держать язык за зубами, — сказал он. Так как ему было нечего делать, то он предложил Бернару и Люсьену сопровождать их к Дюрмеру.
Когда трое посетителей ушли, Эдуард позвал служанку. Он попросил ее приготовить комнату, смежную с его спальней, чтобы можно было поместить в ней Оливье. Затем на цыпочках вошел в кабинет. Оливье спал. Эдуард сел подле него. Он взял книгу, но тотчас же отшвырнул ее, не раскрывая, и стал глядеть на своего спящего друга.
X
Ничто не просто из того, что дается душе; и душа никогда не дается как нечто простое.
Паскаль
— Я думаю, он будет рад увидеться с вами, — сказал Эдуард Бернару на другой день. — Он спрашивал сегодня утром, приходили ли вы вчера. Он, должно быть, слышал ваш голос, когда мне казалось, что он лежит без сознания… Глаза у него закрыты, но он не спит. Молчит. Часто подносит руку ко лбу от внутреннего страдания. Когда я обращаюсь к нему, лоб его хмурится, но, стоит мне уйти, он тотчас зовет меня и требует, чтобы я сидел подле… Нет, он больше не в кабинете. Я поместил его в комнате, смежной с моей спальней, чтобы иметь возможность принимать посетителей, не беспокоя его.
Они вошли к Оливье.
— Я пришел осведомиться о твоем здоровье, — ласковым тоном сказал Бернар.
Черты лица Оливье оживились при звуках голоса друга. Это была уже почти улыбка.
— Я тебя ждал.
— Я уйду, если мой приход утомляет тебя.
— Оставайся.
Но, произнося это слово, Оливье приложил палец к губам. Он просил, чтобы с ним не разговаривали. Бернар, которому через три дня предстояло явиться на устные экзамены, не расставался теперь с руководствами, где сосредоточен экстракт премудрости, которой он должен был владеть на экзамене. Он расположился у изголовья друга и погрузился в чтение. Оливье повернулся лицом к стене и, казалось, уснул. Эдуард ушел в свою комнату; иногда он показывался в двери, которая оставалась открытой. Через каждые два часа он заставлял Оливье выпивать чашку молока, но делал это только с сегодняшнего утра. Весь вчерашний день желудок больного не принимал никакой пищи.
Прошло много времени. Бернар поднялся, чтобы уходить. Оливье обернулся, протянул ему руку и сказал, стараясь улыбнуться:
— Ты придешь завтра?
В последний момент он подозвал его, сделал ему знак нагнуться, словно боясь, что его голос не будет услышан, и сказал совсем тихо:
— Нет, подумай, каким я был дураком!
Затем, желая предупредить возражение Бернара, он снова поднес палец к губам:
— Нет, нет… Потом я объясню все.
На другой день Эдуард получил письмо от Лауры; когда пришел Бернар, он ему дал прочесть его.
«Мой дорогой друг!
Спешу написать Вам, чтобы предупредить нелепейшее несчастье. Я уверена, Вы мне поможете, если только письмо придет вовремя.
Феликс уехал в Париж с намерением повидаться с Вами. Он желает получить от Вас сведения, которые я отказываюсь ему дать; он желает от Вас узнать имя человека, которого собирается вызвать на дуэль. Я сделала все возможное, чтобы удержать его от этого шага, но решение его остается непоколебимым, и все, что я ему говорю по этому поводу, только еще более укрепляет его в нем. Вам одному, может быть, удастся переубедить его. Он доверяет Вам и, я надеюсь, послушается Вас. Подумайте, ведь он никогда не держал в руках ни пистолета, ни рапиры. Мысль, что из-за меня он может подвергнуть опасности свою жизнь, мне невыносима, но больше всего я боюсь — мне стоит большого труда признаться в этом, — как бы он не поставил себя в смешное положение.
После моего возвращения Феликс чрезвычайно ласков со мной, предупредителен, любезен, но я не в силах притворяться, будто люблю его больше, чем на самом деле. Он страдает от этого; и мне кажется, именно его желание увеличить мое уважение к нему, мое восхищение им толкает его на этот шаг, который Вы сочтете опрометчивым; но он думает о нем каждый день, и после моего возвращения это положительно стало у него навязчивой идеей. Конечно, он простил меня, но он смертельно ненавидит своего соперника.
Умоляю Вас оказать ему такой же сердечный прием, какой Вы оказали бы мне; это будет самым лучшим доказательством дружбы, какое Вы можете мне дать. Извините, что я до сих пор не написала Вам, не выразила всей признательности, которую чувствую за участие и заботы, которыми Вы меня окружили во время нашего пребывания в Швейцарии. Воспоминание об этом времени согревает меня и помогает мне жить.
Вечно беспокойный и всегда преданный Вам друг
Лаура».
— Что вы собираетесь предпринять? — спросил Бернар, возвращая письмо.
Что же мне, по-вашему, предпринять? — отвечал Эдуард тоном, в котором слышалось раздражение, вызванное не столько вопросом Бернара, сколько тем, что он сам уже задавал его себе. — Если он придет, то я окажу ему наилучший прием. Я дам ему превосходный совет, если он обратится ко мне за советом, и постараюсь убедить его, что самое лучшее, что он может сделать, это сидеть спокойно дома. Люди, подобные бедняге Дувье, всегда совершают большую ошибку, стремясь выдвинуться на первый план. Поверьте, что и вы были бы того же мнения, если бы его знали. Лаура же рождена для первых ролей. Каждый из нас переживает драму в меру своих сил и получает свою долю трагического. Что мы тут можем? Драма Лауры в том, что она стала женой статиста. С этим ничего не поделаешь.
— А драма Дувье в том, что он женился на особе, которая всегда останется выше его, что бы он ни делал, — заметил Бернар.
— Что бы он ни делал… — повторил Эдуард как эхо, — и что бы ни делала Лаура. Замечательнее всего то, что, сожалея о своей вине, раскаиваясь в ней, Лаура хотела унизиться перед ним; но он тотчас же распростерся перед ней еще ниже; все, что ни делали он и она, в результате только умаляло его и возвеличивало ее.
— Мне очень его жаль, — сказал Бернар. — Но почему вы не допускаете, что, повергаясь ниц перед ней, он может духовно вырасти?
— Потому что у него не хватает лиризма, — отрезал Эдуард тоном, не допускающим возражений.
— Что вы хотите сказать?
— Что он никогда не находит забвения в том, что испытывает, и потому никогда не испытывает ничего великого. Не заставляйте меня слишком углубляться в эту тему. У меня есть свои мысли, но они не поддаются измерению, да я и не стараюсь измерить их. Поль-Амбруаз обыкновенно говорит, что он не хочет принимать в расчет ничего, что не может быть выражено в цифрах; но я думаю, что он играет словами «принимать в расчет», потому что «из этого расчета», как он говорит, приходится выбросить Бога. К этому, правда, он и стремится, этого и желает… Слушайте: мне кажется, я называю лиризмом состояние человека, который дает Богу возможность одержать над собой победу.
— Но не это ли состояние как раз означает слово «энтузиазм»?
— Может быть, еще и слово «вдохновение». Да, это как раз то, что я хочу сказать: Дувье — человек, не способный на вдохновение. Я согласен признать правоту Поль-Амбруаза, когда он рассматривает вдохновение как явление, причиняющее наибольший вред искусству, и я охотно верю, что художником человек бывает только при условии совладания с лирическим порывом; чтобы подчинить этот порыв своей власти, все же необходимо предварительно его пережить.
— А не кажется ли вам, что это состояние наития можно объяснить физиологически, при помощи…
— Та, та, та! — перебил Эдуард. — Такие соображения, хотя они совершенно правильны, способны привести в замешательство только дураков. Конечно, нет ни одного душевного движения, которое не имело бы материального соответствия. А дальше? Чтобы проявиться, дух не может обойтись без материи. Отсюда — тайна воплощения.
— Напротив, материя превосходно обходится без духа.
— Ну, об этом мы ничего не знаем, — со смехом сказал Эдуард.
Бернару было очень забавно слышать от Эдуарда такие речи. Обыкновенно тот не любил высказываться. Проявляемое им сегодня возбуждение объяснялось присутствием Оливье. Бернар понял это.
«Он говорит со мной, как если бы говорил с Оливье, — подумал он. — Ему следовало бы сделать своим секретарем Оливье. Как только Оливье выздоровеет, я уйду от него: мне здесь не место».
Он думал об этом без горечи, весь поглощенный теперь мыслями о Саре, с которой он виделся прошлую ночь и рассчитывал увидеться в будущую.
— Мы совсем уклонились от нашего разговора о Дувье, — сказал он, тоже рассмеявшись. — Вы скажете ему о Винценте?
— Нет. На кой черт?
— Не кажется ли вам, что для Дувье очень мучительно не знать, кого он должен подозревать?
— Вы, может быть, правы. Но сказать ему об этом — дело Лауры. Я не мог бы взять на себя роль осведомителя, не предав ее… К тому же я не знаю даже, где он.
— Винцент?… Пассаван, наверное, должен знать.
Звонок прервал их разговор. Это была госпожа Молинье, пришедшая осведомиться о здоровье сына. Эдуард принял ее в кабинете.
ДНЕВНИК ЭДУАРДА
Визит Полины. Я был в затруднении, как предупредить Полину, и в то же время не мог оставить ее в неведении относительно болезни сына. Я счел излишним рассказывать о его непонятном покушении на самоубийство; сказал, что у него был просто сильный приступ печени, который действительно остается наиболее явным результатом этого покушения.
— Я успокоилась, когда узнала, что Оливье у вас, — сказала мне Полина. — Я не могла бы ухаживать за ним лучше, чем вы, так как я ясно чувствую, что вы любите его не меньше меня.
Произнося эти последние слова, она посмотрела на меня как-то слишком уж пристально. Или же я выдумал намек, который, как показалось мне, она вложила в свой взгляд? Я чувствовал, что перед Полиной у меня, как говорится, «совесть нечиста», и мог пробормотать в ответ только что-то бессвязное. Нужно признаться, что после сильного нервного напряжения последних двух дней я утратил всякую способность владеть собой; мое волнение было, должно быть, слишком заметным, потому что она прибавила:
— Ваш румянец говорит красноречивее слов… Мой бедный друг, не ждите от меня упреков. Я бы осыпала вас ими, если бы вы не любили Оливье… Могу я видеть его?
Я провел ее к Оливье. Бернар, услышав наши шаги, удалился.
— Как он прекрасен! — прошептала она, наклонившись над постелью. Затем, обернувшись ко мне: — Вы поцелуете его от меня? Боюсь разбудить его.
Полина положительно необыкновенная женщина. Я думаю так уже давно. Но я никак не мог предположить, что ее понятливость зайдет столь далеко. Все же мне показалось, что за сердечностью ее слов и своего рода добродушной легкостью, которую она вкладывала в тон своего голоса, кроется некоторая принужденность (может быть, благодаря моим усилиям скрыть охватившее меня замешательство); мне припомнилась одна фраза из нашего последнего разговора, которая уже тогда показалась мне очень мудрой, хотя не в моих интересах было признавать ее такой: «Я предпочитаю добровольно давать свое согласие на то, чему все равно не могла бы воспрепятствовать». Полина явно принуждала себя к добровольному согласию; когда мы возвратились в кабинет, она сказала как бы в ответ на мою тайную мысль:
— Боюсь, не оскорбила ли я вас тем, что не выказала сейчас себя оскорбленной. Есть вольности мысли, на которые мужчины хотели бы сохранять монополию. Я не в состоянии, однако, притворяться и делать вид, будто испытываю возмущение. Жизнь научила меня. Я поняла, насколько хрупкая вещь — чистота мальчиков, даже когда она охраняется как будто самым заботливым образом. Больше того: я не думаю, чтобы целомудренные юноши становились впоследствии наилучшими мужьями; ни даже, увы! самыми верными, — прибавила она, печально улыбаясь. — Словом, пример отца заставил меня желать других добродетелей для сыновей. Но меня страшит перспектива распущенности или компрометирующих связей. Оливье так легко поддается увлечению. Вы, наверное, удержите его. Мне кажется, что вы можете сделать ему добро. Стоит вам только…
Эти слова наполнили меня смущением.
— Вы представляете меня лучшим, чем я есть на самом деле.
Это все, что я нашелся сказать ей, как нельзя более банальным и деланным тоном. Она отвечала с чрезвычайной деликатностью:
— Оливье сделает вас лучшим. Чего только мы не способны добиться от себя из любви!
— Оскар знает, что он у меня? — спросил я, чтобы немного разрядить атмосферу.
— Он не знает даже, что Оливье в Париже. Я ведь сказала вам, что он не слишком занимается своими сыновьями. Вот почему я просила вас переговорить с Жоржем. Вы исполнили мою просьбу?
— Нет, не успел еще.
Лицо Полины сразу же омрачилось:
— Я беспокоюсь все больше и больше. Он напустил на себя крайнюю уверенность, но я вижу в ней только беспечность, цинизм и самонадеянность. Он хорошо учится, преподаватели довольны им; моя тревога как будто ни на чем не основана…
Вдруг она утратила спокойствие и заговорила с такой горячностью, что я едва узнавал ее:
— Вы отдаете себе отчет в том, во что превратилась моя жизнь? Я оставила свои мечты о счастье; из года в год я принуждена была становиться все менее требовательной; одну за другой хоронила свои надежды. Я уступала, терпела, притворялась, что не понимаю, не вижу… Наконец, осталось только одно, и вот это последнее ускользает от меня!.. Вечером он приходит заниматься ко мне, садится подле моей лампы; когда ему случается поднимать голову от книги, я встречаю в его взгляде не любовь: я встречаю вызов. Я так мало заслужила это… По временам мне вдруг кажется, что вся моя любовь к нему обращается в ненависть; в такие минуты я не желала бы вовсе иметь детей.
Голос ее дрожал. Я взял ее за руку.
— Оливье вознаградит вас, ручаюсь вам.
Она сделала усилие, чтобы овладеть собой.
— Да, я не соображаю, что говорю, ведь у меня трое сыновей. Когда я думаю об одном, забываю остальных… Вы сочтете меня совсем безрассудной, но временами действительно разума бывает недостаточно.
— Между тем разум есть качество, которым я больше всего восхищаюсь в вас, — плоско заметил я в надежде ее успокоить. — Несколько дней тому назад вы говорили мне об Оскаре так рассудительно…
Полина вдруг порывисто выпрямилась. Она взглянула на меня и пожала плечами.
— Всегда бывает так: когда женщина совершенно безропотно покоряется судьбе, она кажется наиболее рассудительной! — вскричала она запальчиво.
Это рассуждение раздосадовало меня благодаря именно его справедливости. Чтобы не выдать своего чувства, я тотчас же спросил:
— Что нового в истории с письмами?
— Нового? Нового!.. Что нового, по-вашему, может произойти между Оскаром и мной?
— Он ждал объяснения.
— Я тоже ждала. Всю жизнь мы ждем объяснений.
— Но ведь, — перебил я, слегка задетый, — Оскар чувствовал себя в ложном положении.
— Друг мой, вы отлично знаете, что ничто так не затягивается, как ложные положения. Эта ваша задача, задача романистов, находить для них развязку. В жизни ничто не разрешается, все длится. Пребываешь в неуверенности и остаешься в ней до самой смерти, не зная, чего держаться; а в ожидании развязки жизнь идет, проходит, словно ничего не случилось. И с этим также примиряешься, как и со всем вообще… со всем. Ну, до свидания.
На меня произвели очень тягостное впечатление новые нотки, которые я уловил в ее голосе; своего рода агрессивность, внушившая мне мысль (может быть, не во время самого разговора, но когда я припоминал его), что Полина примирялась с моими отношениями с Оливье совсем не так легко, как о том говорила; совсем не так легко, как она примирялась со всем прочим. Я хочу верить, что она не осуждает их и даже в какой-то степени приветствует, как она дает мне понять; но, не признаваясь, может быть, в этом себе самой, она все-таки ревнует ко мне.
Этим только и объясняется, по-моему, ее внезапное резкое возмущение, в сущности, по куда более безразличному для нее поводу. Можно было подумать, что, дав мне с самого начала согласие на то, что стоило ей гораздо дороже, она истощила весь запас своей душевной доброты и внезапно оказалась обессиленной. Отсюда ее несдержанные, почти сумасбродные реплики, в которых прорывалась ее ревность и которым, вероятно, она сама будет удивляться, когда станет вспоминать наш разговор.
Я задаюсь вопросом, каким может быть состояние женщины, которая отказывается покоряться судьбе? Я подразумеваю состояние «честной женщины»… Как будто то, что называют «честностью» у женщин, не заключает в себе всегда покорности судьбе!
К вечеру Оливье стало значительно лучше. Но возвращающаяся жизнь снова наполняет нас тревогами. Я всячески стараюсь успокоить его.
— Как быть с дуэлью?
— Дюрмер сбежал в деревню. Нельзя же искать его там.
— А журнал?
— Им занимается Беркай.
— Вещи, оставленные у Пассавана?
Это самый деликатный пункт. Мне пришлось признаться, что Жоржу не удалось получить их; но я дал ему слово, что завтра сам отправлюсь за ними. Как мне показалось, он боится, чтобы Пассаван не удержал их в качестве залога; я не могу допустить этого ни на мгновение.
Вчера, написав эти страницы, я сидел в кабинете, как вдруг услышал, что меня зовет Оливье. Я подбежал к нему.
— Я сам бы пришел к тебе, если бы не чувствовал себя таким слабым, — сказал он. — Я хотел встать, но у меня закружилась голова, и я испугался, что упаду. Нет, нет, сейчас мне совсем неплохо, наоборот… Но мне хочется поговорить с тобой. Обещай, пожалуйста… никогда не стараться узнать, почему позавчера я хотел лишить себя жизни. Мне кажется, я сам уже не знаю почему. Я хотел бы сказать это — правда! — но не мог бы… Только не думай, пожалуйста, что причиной является какое-нибудь таинственное событие в моей жизни, что-нибудь такое, чего ты не знаешь. — Затем, понизив немного голос: — Не воображай также, что я сделал это из стыда…
Хотя в комнате было темно, он спрятал свое лицо у меня на плече.
— Или если я стыжусь, то стыжусь этого банкета, стыжусь своего опьянения, своей горячности, своих слез и этих летних месяцев… и того, что так плохо ждал тебя.
Потом он стал уверять меня, что теперь он отказывается узнавать себя во всем этом, что именно это он и решил убить, убил, вычеркнул из своей жизни.
В самом его возбуждении я чувствовал слабость и, не говоря ни слова, стал баюкать его, как ребенка. Он испытывал, вероятно, потребность в покое, замолчал, и я подумал, что он заснул; но спустя некоторое время я услышал его шепот:
— С тобой я слишком счастлив, чтобы заснуть.
Он не позволял мне покинуть его до утра.
XI
В это утро Бернар пришел очень рано. Оливье еще спал. Как и в предшествующие дни, Бернар расположился с книгой у изголовья друга, что позволило Эдуарду прервать свое бдение и отправиться к графу Пассавану, как он обещал. В такой ранний час графа, наверное, можно застать дома.
Солнце светило ярко; свежий ветер очищал деревья от последней листвы; все казалось ясным, лучезарным. Эдуард не выходил на улицу три дня. Безмерная радость наполняла его сердце; ему казалось даже, что все его существо, словно открытая и пустая раковина, плавает по необъятному морю, по божественному океану блаженства. Так любовь и хорошая погода настежь распахивают наши души.
Эдуард знал, что ему нужно будет авто, чтобы привезти вещи Оливье; но он не торопился его нанимать; ему доставляла удовольствие прогулка пешком. Состояние доброжелательности, которое он испытывал ко всей природе, не очень располагало его к нападкам на Пассавана. Он убеждал себя, что ему следует негодовать на него; мысленно перебирал все сделанное им зло, но больше не чувствовал от этого боли. Соперника, которого Эдуард проклинал еще вчера, он теперь вытеснил из сердца Оливье, вытеснил так основательно, что не мог больше питать к нему ненависти. По крайней мере, не мог сегодня утром. С другой стороны, Эдуард считал, что происшедшая перемена ничем не должна быть обнаружена, ибо это грозило бы погубить его счастье; поэтому ему не столько хотелось предстать перед соперником со сложенным оружием, сколько вовсе уклониться от свидания с ним. В самом деле, какого дьявола шел к Пассавану именно он, Эдуард? По какому праву он явится в особняк на улице Бабилон и потребует вещи Оливье? Очень неосмотрительно принятое поручение, говорил он себе по дороге: сразу видно будет, что Оливье избрал себе пристанище в его квартире — обстоятельство, которое он как раз хотел бы скрыть… Однако слишком поздно идти на попятный: он дал обещание Оливье. Важно хотя бы быть с Пассаваном холодным и твердым. Он окликнул проезжавшее мимо такси.
Эдуард плохо знал Пассавана. Ему не была известна одна из особенностей характера графа. Пассаван, которого никогда нельзя было застать врасплох, терпеть не мог, чтобы его водили за нос. Не желая признавать своих неудач, он всегда притворялся, будто сам избрал выпавшее на его долю; что бы с ним ни случилось, он делал вид, что сам хотел этого. Как только он понял, что Оливье ускользает от него, так тотчас приложил все старания скрыть свое бешенство. Он не стал гоняться за ним и подвергать себя риску попасть в смешное положение, он сделал над собой усилие и притворился, что ему все безразлично. Его чувства никогда не отличались такой силой, чтобы он не мог с ними справиться. Некоторые люди очень радуются такому умению владеть собой, не соглашаясь признать, что часто бывают обязаны этой способностью не столько силе характера, сколько известной вялости темперамента. Я остерегаюсь делать обобщения; допустим, что сказанное мною относится к одному Пассавану. Этому последнему, значит, не стоило большого труда убедить себя, что сейчас он пресыщен Оливье; что в течение этих двух месяцев он использовал до конца все привлекательные стороны приключения, которое грозило внести большие осложнения в его жизнь; что вдобавок он переоценил красоту этого мальчика, его грацию и умственные способности и что даже пришло время принять в соображение все неудобства поручать ведение журнала такому еще незрелому и неопытному юноше. Хорошенько взвесив все эти соображения, он решил, что Струвилу гораздо лучше справится с задачей, то есть окажется более подходящим редактором журнала. Он написал ему, приглашая зайти сегодня утром.
Добавим, что Пассаван неправильно истолковывал причину бегства Оливье. Он думал, что возбудил в нем ревность своим слишком настойчивым ухаживанием за Сарой, и находил утешение в этой мысли, столь лестной для его тщеславия; она успокаивала его досаду.
Итак, Пассаван ждал Струвилу; им было отдано распоряжение, чтобы гостя сейчас же провели к нему; Эдуард невольно воспользовался этим и без доклада вошел в кабинет Пассавана.
Пассаван не выказал ни малейшего удивления. К счастью для него, роль, которую ему предстояло играть, соответствовала его характеру и не нарушала привычного хода мыслей.
— Как я рад слышать то, что вы сказали мне! — воскликнул он после того, как Эдуард изложил ему цель своего визита. — Значит, вы в самом деле хотите заняться им? Это не очень обеспокоит вас?… Оливье прелестный мальчик, но его присутствие здесь начинало ужасно стеснять меня. Я не решался дать ему почувствовать это, он так мил… И я знал; что он не хочет возвращаться к родителям… Родители, если их покинули… Но ведь, насколько мне помнится, его мать — ваша единокровная сестра?… Или что-то в этом роде?… Оливье как будто говорил мне об этом. В таком случае, чрезвычайно естественно, что он поселился у вас. Никто не может найти тут повода для насмешек. — Он впрочем, не удержался от улыбки, произнося эти слова. — У меня, вы понимаете, его присутствие носило более двусмысленный характер. Это, между прочим, является одной из причин, заставивших меня желать, чтобы он покинул мой дом… Правда, обычно я очень мало забочусь об общественном мнении. Нет, это было, скорее, в его интересах, чем…
Начало беседы было недурно, но Пассаван не удержался от удовольствия подлить несколько капель яда в счастье Эдуарда. Он всегда хранил их про запас: мало ли что может случиться…
Эдуард чувствовал, что терпение его истощается. Но тут он вдруг вспомнил о Винценте, о котором Пассаван, наверное, должен был иметь сведения. Конечно, он твердо решил не говорить о Винценте Дувье, если тот станет спрашивать о нем; но, чтобы лучше уклониться от расспросов мужа Лауры, ему самому, думал он, следовало быть осведомленным; осведомленность только укрепит его позицию. Он воспользовался предлогом, чтобы переменить тему разговора.
— Винцент не писал мне, — отвечал Пассаван, но я получил письмо от леди Гриффитс — вы, наверное, знаете заместительницу госпожи Дувье, — в котором она очень много говорит о нем. Вот оно… В конце концов не вижу, почему бы вам не ознакомиться с его содержанием.
Он протянул письмо Эдуарду. Тот прочел:
25 августа
«My dear! (Мой дорогой! (англ.))
Яхта князя уйдет из Дакара без нас. Кто знает, где мы будем, когда вы получите это письмо, которое она увезет с собою? Может быть, на берегах Казамансы, где Винцент хочет собирать гербарии, я — охотиться. Не знаю хорошенько, я ли его увожу или он меня увозит; вернее, нас обоих влечет демон приключений. Нас познакомил с ним демон скуки, порядком одолевавший нас во время плавания на яхте… Ах, dear, надо пожить на яхте, чтобы узнать, что такое скука. Во время шквала жизнь еще выносима: качаешься вместе с судном. Но, начиная с Тенерифа, — ни ветерка, ни морщинки на море,
…огромном зеркале
Отчаянья души.
И знаете, чем я занялась после этого? Принялась ненавидеть Винцента. Да, дорогой мой, любовь показалась нам слишком пресной, нам захотелось возненавидеть друг друга. По правде говоря, началось это несколько раньше; да, с момента, как мы сели на яхту; сначала просто раздражение, глухая злоба, которая не мешала телам соединяться. С наступлением хорошей погоды злоба превратилась в жестокую ненависть. Ах, я теперь знаю, что значит воспылать к кому-нибудь страстью…»
Письмо было длинное.
— Не хочется читать дальше, — сказал Эдуард, отдавая письмо Пассавану. — Когда он возвращается?
— Леди Гриффитс ничего о возвращении не пишет.
Пассаван был глубоко оскорблен тем, что Эдуард не обнаружил большого интереса к этому письму. Это отсутствие любопытства должно было восприниматься им как обида. Сам он нередко отвергал предлагаемое ему, но не выносил пренебрежительного отношения к собственным предложениям. Это письмо наполнило его чувством удовлетворения. Пассаван питал некоторую привязанность; к Лилиан и Винценту; он даже доказывал себе, что может быть обязательным по отношению к ним, способным оказать услугу, но его привязанность тотчас ослабевала, как только обходились без нее. Теперь он радовался, что друзья его, расставшись с ним, не приплыли к счастью; думал: как это вышло удачно.
Что касается Эдуарда, то его утреннее радостное возбуждение было слишком искренно, чтобы он не почувствовал некоторой неловкости, прочитав об этих взвинченных чувствах. Возвращение письма нисколько не являлось надуманным жестом.
Пассавану важно было тотчас же отпарировать удар:
— Ах, я хотел сказать вам еще одно. Вы знаете, что я думал было поручить Оливье ведение журнала? Понятно, об этом теперь не может быть речи.
— Само собой разумеется, — поспешно отвечал Эдуард, которого Пассаван, сам того не подозревая, освобождал от тяжелого бремени. По тону Эдуарда тот понял, что сыграл ему на руку, и, не дав себе даже времени обидеться, сказал:
— Вещи, оставленные Оливье, находятся в комнате, которую он занимал. У вас есть такси, не правда ли? Вам их вынесут. Кстати, как он себя чувствует?
— Прекрасно.
Пассаван встал. Эдуард последовал его примеру. Они расстались, обменявшись довольно холодным поклоном.
Визит Эдуарда вывел Пассавана из себя.
— Уф! — воскликнул он, увидя входящего Струвилу.
Хотя Струвилу держался с ним независимо, Пассаван чувствовал себя в его обществе легко или, вернее, ничуть не стесняясь. Конечно, он имел дело с сильным противником, он знал это, но считал себя еще сильнее и не без тщеславия выставлял это напоказ.
— Мой дорогой Струвилу, пожалуйста, садитесь, — сказал он, пододвигая ему кресло. — Я искренно рад вас видеть.
— Господин граф просил меня прийти. Я весь к его услугам.
Струвилу любил брать по отношению к Пассавану тон подобострастного лакея; но Пассаван привык к его уловкам.
— Прямо к делу; настало, как говорится, время выйти из состояния ничтожества. Вы выступали уже на многих поприщах… Я хотел предложить вам сегодня пост настоящего диктатора. Поспешим прибавить, что речь идет только о литературе.
— Очень жаль. — Затем, так как Пассаван протянул ему свой портсигар: — Если вы позволите, я предпочитаю…
— Нет, нет, не позволяю. Своими ужасными контрабандными сигарами вы провоняете мне всю комнату. Для меня всегда было непонятно, какое можно находить удовольствие в курении этой дряни.
— О, я не могу сказать, чтобы я был в восторге от них. Но они беспокоят соседей.
— По-прежнему фрондируете?
— Меня не следует все же принимать за болвана.
И, не давая прямого ответа на предложение Пассавана, Струвилу счел уместным разъяснить и надлежащим образом обосновать свою точку зрения; читатель сейчас познакомится с ней. Он продолжал:
— Филантропия никогда не была моей слабостью. — Знаю, знаю, — сказал Пассаван.
— Так же, как и эгоизм. Этого вы, конечно, не знаете… Нас хотят уверить, что единственным избавлением от эгоизма является нечто еще более отвратительное, именно — альтруизм! Что до меня, то я утверждаю: если есть вещь более гнусная и презренная, чем человек, то таковой является множество людей. Никакое рассуждение не может убедить меня, что сложение негодных единиц дает в сумме доброкачественное целое. Всякий раз, садясь в трамвай или в поезд, я горячо желаю, чтобы произошло какое-нибудь громадное крушение, которое превратило бы в кашу весь этот живой навоз; о, черт возьми, и меня заодно! Входя в театральный зал, я желаю, чтобы обрушилась люстра или разорвалась бомба, хотя бы мне пришлось взлететь на воздух вместе со всеми; я охотно принес бы эту бомбу под полой, если бы не берег себя для более высокого назначения. Вы что-то сказали?…
— Нет, ничего, продолжайте, я вас слушаю. Вы не принадлежите к числу тех ораторов, которые нуждаются в кнуте противоречия, чтобы погонять их.
— Это оттого, что мне послышалось, будто вы мне предлагаете стаканчик вашего несравненного портвейна.
Пассаван улыбнулся.
— Пускай бутылка стоит подле вас, — сказал он, подавая ее Струвилу. — Выпейте ее всю, если вам угодно, только, пожалуйста, говорите.
Струвилу наполнил свой бокал, развалился в глубоком кресле и начал:
— Не знаю, действительно ли у меня, как говорится, черствое сердце, я чувствую в себе слишком много негодования и отвращения, чтобы поверить этому; впрочем, мне все равно. Я действительно уже давно подавил в этом органе все, что таит угрозу его размягчить. Но я не лишен способности восхищаться и быть слепо преданным: поскольку я человек, я презираю и ненавижу себя наравне с другими. Всюду и везде я слышу, как твердят, будто литература, искусство, науки в конечном итоге работают на благо человечества; одного этого было бы мне достаточно, чтобы проникнуться отвращением к ним. Но ничто мне не препятствует перевернуть это, и тогда я начинаю дышать свободно. Да, меня прельщает как раз противоположная картина: картина человечества, рабски работающего над осуществлением какой-нибудь жестокой цели: Бернар Палисси (Основатель керамического производства во Франции.(Прим. пер.)) (нам достаточно прожужжали им уши!), обжигающий жену, детей и самого себя, чтобы получить глазурь для красивого блюда. Я люблю переворачивать проблемы; что прикажете делать: мой ум так уж устроен, что они приобретают устойчивое равновесие, лишь будучи опрокинуты вниз головой. И если мне невыносима мысль о Христе, жертвующем собой для ненужного спасения всех этих ужасных людей, которых я толкаю, то я нахожу некоторое удовлетворение и даже своего рода успокоение, воображая, как вся эта толпа обливается потом, чтобы произвести такого Христа, который… хотя я предпочитал бы не Христа, а что-нибудь другое, потому что все учение Христа лишь усугубило бедственное положение человечества. Несчастье проистекает от эгоизма сильных и жестоких людей. Жертвенная жестокость — вот что способно было бы привести к грандиозным результатам. Покровительствуя несчастным, слабым, рахитичным, оскорбленным, мы идем по ложному пути; вот почему я ненавижу религию, которая учит нас этому. Великий мир, который даже филантропы черпают в созерцании природы — фауны и флоры, — объясняется тем, что в диком состоянии преуспевают одни только сильные особи; все прочие — отбросы, служат лишь навозом. Но мы не видим этого, не хотим это признавать.
— Как это верно, как верно! Я охотно соглашаюсь с вами. Продолжайте.
— И скажите, разве не стыдно, не достойно жалости… что человек, столько сделавший для получения сильных пород лошадей, домашнего скота, птицы, злаков, цветов, сам все еще ищет в медицине — облегчения, в благотворительности — смягчения, в религии — утешения, в опьянении — забвения своих страданий? Улучшение породы — вот над чем нужно работать. Но всякий подбор предполагает уничтожение неподходящего людского материала, на что наше христианское общество не может решиться. Оно ведь не решается даже на кастрирование дегенератов, которые между тем отличаются чрезвычайной плодовитостью. Нам нужны вовсе не больницы, а заведения вроде питомников.
— Черт возьми, ваши мысли мне очень по сердцу, Струвилу!
— Боюсь, до сих пор вы заблуждались на мой счет, господин граф. Вы принимали меня за скептика, а на самом деле я идеалист, мистик. Скептицизм никогда не давал ничего хорошего. Отлично известно, что он приводит… к терпимости. Я считаю скептиков людьми без идеала, без воображения, попросту дураками… И я вовсе не закрываю глаз на все то огрубение в области чувства, к которому приведет появление крепкой людской породы; ведь тогда некому будет жалеть об уничтожении всяких тонкостей, потому что вместе с ними будут уничтожены утонченные натуры. Будьте покойны, у меня есть то, что называется культурой, и я хорошо знаю, что некоторые греки провидели мой идеал; по крайней мере, мне доставляет удовольствие думать так и вспоминать, что Кора, дочь Цереры, низошла в преисподнюю, исполненная жалости к теням; но, ставши царицей, супругой Плутона, она называется Гомером не иначе как «неумолимой Прозерпиной». Смотри «Одиссея», песнь шестая. «Неумолимой»; как раз таким неумолимым и должен стать человек, претендующий быть добродетельным.
— Я рад, что вы возвращаетесь к литературе… если только вы вообще покидали ее область. Итак, я спрашиваю вас, добродетельный Струвилу, согласны вы стать неумолимым редактором журнала?
— По правде говоря, дорогой граф, должен признаться, что из всех тошнотворных человеческих выделений литература для меня — самое отвратительное. Я не вижу в ней ничего, кроме угодливости и лести. И я начинаю сомневаться, чтобы она могла стать чем-нибудь другим, по крайней мере до тех пор, пока ею не будет выметено прошлое. Мы живем в атмосфере выдуманных чувств; читатель верит всякому напечатанному слову и потому воображает, будто испытывает эти чувства; писатель спекулирует на них как на условностях, которые он считает основами своего искусства. Эти чувства звучат фальшиво, как медные бляшки, но они имеют хождение. А так как известно, что «худшая монета вытесняет лучшую», то писатель, который вздумал бы предлагать публике полноценную монету, показался бы ей пустословом. В обществе, где каждый плутует, честный человек производит впечатление шарлатана. Предупреждаю вас: если я возьму на себя руководство журналом, то лишь для того, чтобы бороться с условностями, вскрывать фальшь всех красивых чувств и обесценивать те долговые обязательства, которые называются словами.
— Черт возьми, очень хотел бы знать, как вы возьметесь за это.
— Предоставьте мне свободу, и вы тотчас увидите. Я много размышлял над этим.
— Вы останетесь непонятым, и никто не пойдет за вами.
— Глупости! Молодежь, которая посмышленее и побойчее, ныне весьма настроена против поэтической инфляции. Ей отлично известно, сколько пустоты скрывается за учеными ритмами и звучными лирическими банальностями. Стоит только кликнуть клич, и руки, готовые разрушать, всегда найдутся. Хотите, учредим школу, единственной целью которой будет изничтожение всего? Этот план вас пугает?
— Нет… если не будет вытоптан мой огород.
— Найдется много других дел… пока дойдет очередь до вашего огорода. Момент благоприятен. Я знаю многих, которые ждут только знака, чтобы собраться: все молодежь… Да, это нравится вам, я знаю, но предупреждаю вас, что они не дадут заговорить себе зубы… Я часто задавался вопросом, благодаря какому чуду живопись оказалась впереди и почему литература позволила так себя обогнать? В какую немилость попало сейчас в живописи то, что обыкновенно рассматривалось как «мотив»! Красивый сюжет — да ведь эти слова вызывают смех! Живописцы отваживаются теперь браться за портрет лишь при условии исключения всякого сходства. Если мы хорошо поведем наше дело — а в этом отношении вы можете на меня положиться, — то достаточно будет каких-нибудь двух лет, и завтрашний поэт сочтет себя опозоренным, если читатели поймут, что он хочет сказать. Да, господин граф, хотите держать пари? Всякий смысл, всякое значение будут рассматриваться как нечто антипоэтическое. Я предлагаю работать под флагом иррациональности. Какое прекрасное название для журнала — «Чистильщики»!
Пассаван выслушал не моргнув глазом.
— В числе ваших сподвижников, — спросил он после некоторого молчания, — находится также ваш юный племянник?
— Да, Леон — мальчик способный, он никогда нигде не пропадет. Настоящее удовольствие руководить его развитием. Весной ему пришла в голову блажь заткнуть за пояс своих прилежных одноклассников и получить все награды. После возобновления занятий он ничем не брезгует; не знаю, что такое он замышляет, но я оказываю ему доверие, и мне не особенно хочется приставать к нему с расспросами.
— Вы приведете его ко мне?
— Господин граф шутит, я полагаю… Как все-таки с журналом?
— Мы еще поговорим о нем. Я чувствую потребность дать отстояться в себе вашим планам. А пока вы должны позаботиться о подыскании мне секретаря, мой бывший оказался никуда не годным.
— Я пришлю вам завтра Коб-Лафлера, с которым должен сейчас увидеться и который, я полагаю, как раз то, что вам нужно.
— Из породы «чистильщиков»?
— До известной степени.
— Ex uno… (Ex uno disce omnes — по одному составить представление обо всех (лат.))
— Нет, не судите обо всех по нему. Он весьма умеренный. Вы останетесь очень довольны.
Струвилу встал.
— Кстати, — сказал Пассаван, — мне кажется, я не дарил вам моего романа. Мне очень жаль, что у меня не осталось больше экземпляра первого издания…
— Так как я не собираюсь продавать его, то это не имеет никакого значения.
— Просто печать лучше.
— О, я ведь не собираюсь и читать его… До свидания. До свидания… Если вам угодно, я к вашим услугам. Честь имею кланяться.
XII
ДНЕВНИК ЭДУАРДА
Привез вещи Оливье. Сейчас же после возвращения от Пассавана засел за работу. Спокойное и светлое возбуждение. Радость, до сих пор не испытанная. Написал тридцать страниц «Фальшивомонетчиков» без запинки, без помарок. Как ночной пейзаж при внезапной вспышке молнии, вся драма всплывает из мрака, совсем отличная от того, что я тщетно силился сочинить. Книги, написанные мной до сих пор, кажутся мне похожими на водоемы в общественных садах, четко очерченные, совершенные, может быть, но чья плененная вода лишена жизни. Теперь я хочу пустить ее по склону, то крутому, то покатому, и очертания русла, в котором она потечет, я не способен предвидеть.
X. утверждает, что хороший романист, прежде чем начать свою книгу, должен знать, как она окончится. Я же предоставляю действию развиваться самому и считаю, что жизнь никогда не дает нам ничего, что, подобно стыку, нельзя было бы рассматривать как новую отправную точку. «Могло бы быть продолжено…» — такими словами я хотел бы закончить моих «Фальшивомонетчиков».
Визит Дувье. Положительно он очень славный парень.
Так как я выразил слишком горячую симпатию к нему, мне пришлось выслушать в достаточной мере стеснявшие меня излияния. Разговаривая с ним, я все время повторял себе слова Ларошфуко: «Я мало подвержен жалости и хотел бы не быть вовсе подверженным ей… Я считаю, что нужно ограничиваться засвидетельствованием ее и тщательно остерегаться испытывать ее на самом деле». Однако моя симпатия была подлинная, бесспорная, и я взволновался до слез. По правде говоря, мне показалось, что мои слезы утешили его больше, нежели слова. Я думаю даже, что печаль его прошла, едва он увидел, как я плачу.
Я твердо решил не открывать ему имени соблазнителя, но, к моему удивлению, он не спросил о нем. Мне кажется, что ревность его угасает, как только он перестает чувствовать на себе взгляд Лауры. Во всяком случае, обращение ко мне несколько истощило энергию его ревности.
Какая непоследовательность в его поведении; он негодует, что другой бросил Лауру. Но ведь, не брось ее Винцент, Лаура не возвратилась бы к нему. Он обещает любить ребенка как своего собственного. Не будь соблазнителя, кто знает, мог ли бы он вообще познать радость отцовства? Я остерегся высказать ему это предположение, так как при воспоминании о своих недостатках он еще больше воспламеняется ревностью. Но тогда ревность становится уже делом самолюбия и перестает интересовать меня.
Понятно, почему Отелло ревнив: его неотступно преследует картина наслаждения, испытанного его женой с другим. Но какой-нибудь Дувье, чтобы стать ревнивым, должен внушить себе, что он должен ревновать.
И он, несомненно, подогревает в себе эту страсть из тайной склонности придать большее значение своей весьма жалкой персоне. Счастье было бы естественно для него, но он чувствует потребность восхищаться собой и ценит не то, что естественно, а то, что достается с трудом. Поэтому я приложил все усилия, чтобы изобразить ему нехитрое счастье заслуживающим большего одобрения, чем мучение, и труднее достижимым. Я дал ему уйти лишь после того, как увидел, что лицо его проясняется.
Непоследовательность характера. Персонажи, действующие с начала и до конца романа или драмы в точности так, как можно заранее предвидеть… Нам предлагают это постоянство для изящного удивления, но я вижу в нем, напротив, свидетельство их искусственности и надуманности.
Я не хочу утверждать, что непоследовательность является верным признаком естественности, так как нередко можно встретить, особенно у женщин, нарочитую непоследовательность; с другой стороны, я способен восхищаться в отдельных исключительных случаях тем, что называют «духом постоянства»; но чаще всего эта последовательность в поступках достигается лишь при помощи руководимого тщеславием упорства и ценой утраты естественности. Чем богаче одарен человек, чем больше он таит в себе возможностей, тем больше предрасположен он к изменениям, тем с меньшей охотой он позволяет своему прошлому определять будущее. «Justum et tenacem propositi virum» («Человек справедливый и твердый в своих намерениях» (лат.). (Начало оды Горация III, 3, 1.)), которого выставляют нам как нравственный образец, чаще всего представляет собою почву каменистую и не пригодную для возделывания.
Я знаю «твердые» характеры еще и другого рода: это люди, усердно выдумывающие себе сознательную оригинальность, люди, главную заботу которых составляет никогда не уклоняться от однажды выработанной привычки; они всегда остаются начеку и ни при каких обстоятельствах не позволяют себе забыться. (Мне вспоминается X., который постоянно отказывался от предлагаемого ему мною монраше 1904 года. «Я признаю только бордо», — говорил он. Как только я стал подносить ему монраше в качестве бордо, монраше показалось ему отменным вином.)
Когда я был помоложе, то принимал решения, которые казались мне похвальными. Я заботился не столько о том, чтобы быть тем, кем я был, сколько о том, чтобы стать тем, кем я призван был быть. Теперь же я почти готов видеть в нерешительности секрет сохранения молодости.
Оливье спросил меня, над чем я работаю. Я поддался соблазну поговорить с ним о моей книге и стал рассказывать о ней; он проявил такой интерес, что я даже прочел ему только что написанные страницы. Я страшился его суждения, зная нетерпимость юности и то, как трудно ей принять точку зрения, отличную от ее собственной. Но несколько замечаний, на которые он робко отважился, показались мне весьма справедливыми, так что я тотчас же воспользовался ими.
Им, сквозь него, я чувствую и дышу.
Он все время беспокоится по поводу журнала, который должен был редактировать, и особенно по поводу рассказа, написанного им по просьбе Пассавана: он не желает, чтобы рассказ этот был напечатан. Я сказал ему, что новые распоряжения, отданные Пассаваном, приведут, к изменению содержания подготовленных к выпуску номеров; он будет иметь возможность взять обратно свою рукопись.
Очень неожиданный визит господина судебного следователя Профитандье. Входя ко мне, он вытирал лоб и тяжело дышал, как показалось мне, не столько оттого, что запыхался, поднимаясь на шестой этаж, сколько от смущения. Он держал в руках шляпу и сел только после моего приглашения. Это человек приятной внешности, статный и бесспорно представительный.
— Насколько мне известно, вы шурин председателя палаты Молинье, — сказал мне он. — Я позволил себе побеспокоить вас по поводу его сына Жоржа. Пожалуйста, извините мне поступок, могущий с первого взгляда показаться вам нескромным, но надеюсь, что привязанность и уважение, которые я питаю к моему коллеге, в достаточной степени объяснят вам его.
Он помедлил. Я встал и опустил портьеру из боязни, как бы не подслушала моя горничная, женщина очень нескромная, которая, по моим предположениям, находилась в соседней комнате. Профитандье одобрительно улыбнулся.
— По должности судебного следователя, — продолжал он, — мне приходится заниматься одним делом, которое приводит меня в крайнее замешательство. Ваш юный племянник уже и раньше скомпрометировал себя участием в деле… — пусть это останется между нами, не правда ли? — деле достаточно скандальном; принимая во внимание его весьма юный возраст, я хочу верить, что он был вовлечен в него исключительно по своему простодушию и неопытности; но, чтобы… локализовать это дело без вреда для интересов правосудия, мне, признаюсь, понадобилось проявить определенную ловкость. Но сейчас, когда речь идет о рецидиве… совсем другого характера, тороплюсь добавить… я не могу поручиться, что Жорж отделается так дешево. Сомневаюсь даже, в интересах ли мальчика делать попытку его выгородить, несмотря на все мое дружеское желание избавить от скандала вашего зятя. Приложу, однако, старание, но, вы понимаете, у меня есть агенты, которые проявляют рвение, и я не всегда могу сдержать их. Или, если вам угодно, пока мне удается это, но завтра больше не удастся. Вот почему мне пришла в голову мысль, что вам следовало бы поговорить с вашим племянником, объяснить, чему он себя подвергает…
Визит Профитандье — почему не сознаться в этом? — сначала ужасно меня встревожил; но после того как я понял, что он пришел не с враждебными намерениями и не в качестве судебного чиновника, я, скорее, почувствовал облегчение, особенно тогда, когда он снова заговорил:
— С некоторого времени в обращении появились фальшивые деньги. Я осведомлен об этом. Мне еще не удалось обнаружить их источник. Но я знаю, что Жорж Молинье, — не подозревая об этом, я хочу так думать, — является одним из тех, кто пользуется ими и пускает в обращение. Компания, занимающаяся этим постыдным промыслом, — мальчики в возрасте вашего племянника. Я ни минуты не сомневаюсь, что тут просто злоупотребляют их неведением и эти дети, сами того не сознавая, играют роль дурачков в руках нескольких преступных взрослых. Мы могли бы уже схватить малолетних преступников и без труда заставить их сознаться, откуда у них эти деньги, но я отлично знаю, что в известной своей стадии дело, так сказать, ускользает от нас… то есть следствие не может повернуть вспять, и мы бываем вынуждены знать то, что мы предпочли бы иногда не замечать. В данном случае, я надеюсь, мне удастся открыть настоящих преступников, не прибегая к показаниям этих юнцов. Поэтому я сделал распоряжение, чтобы их не беспокоили. Но мое распоряжение условное. Мне хотелось бы, чтобы ваш племянник не заставил меня его отменить. Хорошо было бы, если бы он знал, что за ним следят. Не худо бы вам даже немного попугать его, он на скользком пути…
Я заявил, что приложу все старания, чтобы предостеречь Жоржа, но Профитандье, казалось, не слышал меня. Взгляд его устремился куда-то вдаль. Он повторил два раза: «Да, как говорится, на скользком пути», — и замолчал.
Не знаю, сколько времени длилось его молчание. Хотя он не высказал своих мыслей, мне казалось, что я вижу, как они шевелятся в нем; и еще прежде, чем он раскрыл рот, я уже услышал его слова:
— Я тоже отец, сударь…
И вот все сказанное им сначала — исчезло: между нами был только Бернар. Прочее служило лишь предлогом, поговорить со мной о Бернаре — такова была настоящая цель его визита.
Если излияния приводят меня в замешательство, если утрированные чувства для меня невыносимы, то ничто, напротив, не способно было в большей степени тронуть меня, чем это сдерживаемое волнение. Он всячески старался подавить его; но ему потребовалось для этого столь значительное усилие, что губы и руки его задрожали. Он не мог продолжать. Вдруг он закрыл лицо руками, и все его тело сотрясли рыдания.
— Вы видите, — всхлипывал он, — вы видите, сударь, что наши дети могут сделать нас совершенно несчастными.
К чему было лукавить? Крайне взволнованный, я тоже воскликнул:
— Если бы Бернар вас видел, сердце его смягчилось бы, ручаюсь вам.
Однако я по-прежнему был в большом замешательстве. Бернар почти никогда не говорил со мной о своем отце. Я не высказал ему порицания за то, что он покинул семью, так как очень склонен был считать подобное бегство вполне естественным, и не только не видел в нем ничего предосудительного, но, напротив, полагал, что оно принесет большую пользу для мальчика. Вдобавок Бернар был незаконнорожденным… Но вот его мнимый отец охвачен чувствами тем более сильными, что они вырывались у него, несомненно, помимо воли, и тем более искренними, что ничто его к этому не вынуждало. Видя такую любовь, такое горе, я не мог не задаться вопросом, да были: ли действительно у Бернара основания уходить из дому. Я не склонен был больше одобрять его.
— Располагайте мной, если считаете, что я могу быть вам полезен, — сказал я ему, — если считаете, что я должен поговорить с ним. У него доброе сердце.
— Знаю. Знаю… Да, вы можете сделать многое. Я знаю, что он провел с вами лето. Моя агентура достаточно хороша… Я знаю также, что сегодня он держит устные экзамены. Я нарочно выбрал момент для визита к вам, когда, по моим сведениям, он должен находиться в Сорбонне. Я боялся с ним встретиться.
Эти слова подействовали на меня успокоительно, так как я заметил, что слово «знать» повторялось почти в каждой его фразе. Очень скоро внимание мое стало сосредоточиваться не столько на том, что он говорил, сколько на этой его манере, выработанной, вероятно, профессией.
Он сказал мне, что «знает» также о блестящем успехе Бернара на письменном экзамене. Благодаря любезности экзаменатора, с которым у него дружеские отношения, он имел даже возможность познакомиться с французским сочинением своего сына, являвшимся, по-видимому, одним из самых замечательных. Он говорил о Бернаре со сдержанным восхищением, так что у меня возникло даже предположение, не считает ли он себя все же в конце концов его настоящим отцом.
— Только ради бога, — прибавил он, — не рассказывайте ему об этом! У него такой гордый, такой недоверчивый характер!.. Если у него возникнет подозрение, что со времени его ухода я не переставая думал о нем, следил за ним… Однако вы можете сказать ему, что видели меня.- (Он тяжело вздыхал после каждой фразы.) — Вы можете сказать ему только, что я на него не сержусь… — Затем, понизив голос: — Что я никогда не переставал любить его… как сына. Да, я хорошо знаю, что вы знаете… Вы можете сказать ему также… — И, не глядя на меня, с большим усилием, в состоянии крайнего замешательства: — Что мать его бросила меня… да, окончательно, этим летом, и что если он хочет вернуться, то я…
Он не мог закончить.
Крупный сильный мужчина, основательный, с хорошим общественным и служебным положением, вдруг, пренебрегая всякими приличиями, обнажающий свою душу перед человеком посторонним, каковым был для него я, представляет собою зрелище в достаточной мере необычайное. Тут я лишний раз мог констатировать, что признания незнакомого способны легче взволновать меня, чем излияния человека, мне близкого. Попытаюсь на досуге уяснить себе это явление.
Профитандье не утаил от меня предубеждения, которое первоначально имел против меня, плохо уяснив себе, — и до сих пор плохо уясняя, — причины, заставившие Бернара покинуть семейный очаг и бежать ко мне. Это обстоятельство удерживало его сначала от желания навестить меня. Я, понятно, не решился рассказать историю с чемоданом и сообщил только о дружбе его сына с Оливье, благодаря которой мы очень быстро сошлись.
— Эта молодежь, — снова заговорил Профитандье, — бросается в жизнь, не имея представления о том, чему она себя подвергает. Игнорирование опасностей составляет ее силу, это правда. Но мы, отцы, знающие жизнь, мы дрожим за детей. Наша заботливость их раздражает, и лучше им не слишком ее показывать. Я знаю, что она проявляется иногда чересчур назойливо и неуклюже. Вместо того чтобы беспрестанно повторять ребенку, что огонь жжется, позволим ему лучше немного обжечься. Опыт научает вернее, чем добрый совет. Я всегда предоставлял Бернару полную свободу. Вплоть до того, увы! что у него создалось убеждение, будто я вовсе не обращаю на него внимания. Боюсь, что это ложное убеждение как раз и послужило причиной его бегства. Даже и после этого я счел благоразумным оставить его в покое; я ограничился лишь наблюдением за ним издали, так что он и не подозревает о нем. Слава богу, в моем распоряжении есть для этого средства.- (Очевидно, Профитандье гордился этим обстоятельством и не пропускал случая подчеркнуть прекрасную организацию своей агентуры; уже третий раз он напоминал мне о ней.) — Я рассудил, что мне не следует умалять в глазах моего мальчика опасность его затеи. Нужно ли вам говорить, что, несмотря на боль, причиненную им мне, этот акт непокорности только еще сильнее привязал меня к нему? Я сумел разглядеть в нем доказательство мужества, доблести…
Теперь, когда к нему возвратилось самообладание, превосходный человек готов был говорить без умолку. Я постарался перевести разговор на первоначальную тему, которая больше интересовала меня; оборвав его, я спросил, видел ли он те фальшивые монеты, о которых говорил. Мне очень хотелось знать, похожи ли они на стеклянную монету, которую показывал нам Бернар. Едва только я упомянул о ней, как Профитандье переменился в лице: глаза его сощурились, и в них загорелся странный огонек; на висках набежали морщинки; губы поджались; внимание обострило все его черты. Он точно вдруг позабыл все сказанное им до сих пор. Судья затмил отца, и все перестало существовать для него, кроме профессиональных обязанностей. Он забросал меня вопросами, стал делать заметки и сказал, что необходимо послать агента в Саас-Фе, чтобы записать фамилии постояльцев по книгам гостиниц.
— Хотя, по всей вероятности, — прибавил он, — эта фальшивая монета была вручена вашему лавочнику каким-нибудь пройдохой, который не останавливался в упомянутом вами местечке.
На это я заметил, что Саас-Фе расположено в глубине тупика и вряд ли можно приехать туда и уехать в течение дня. Профитандье был особенно удовлетворен последним замечанием и распрощался с озабоченным и восхищенным видом, горячо поблагодарив и не сказав больше ни слова ни о Жорже, ни о Бернаре.
XIII
В это утро Бернару пришлось убедиться, что для таких щедрых натур, как он, нет большей радости, чем радовать другого. Эта радость была ему заказана. Он только что блестяще выдержал экзамен, но так как подле него не было никого, с кем он мог бы поделиться этим приятным известием, то оно тяготило его. Бернар хорошо знал, что самое большее удовлетворение оно доставило бы его отцу. У него мелькнула даже мысль, не пойти ли сейчас к Профитандье и не рассказать ли ему о своем успехе; однако гордость его удержала. Эдуард? Оливье? Но им показалось бы, что он придает слишком большое значение аттестату. Он стал бакалавром. Эка невидаль! Самое трудное теперь только начиналось.
Во дворе Сорбонны он увидел одного товарища, который, подобно ему, только что выдержал экзамен, но теперь стоял в стороне от других и плакал. Этот юноша был в трауре. Бернар знал, что недавно он потерял мать. Невольный порыв симпатии увлек его к сироте; он приблизился к нему, но потом, из-за ложного стыда, прошел мимо. Товарищ, увидев, что Бернар подходит и затем удаляется, устыдился своих слез; он уважал Бернара, и его огорчило то, что он принял за презрение.
Бернар отправился в Люксембургский сад. Он сел на скамейку в той самой части сада, где встретился с Оливье в день, когда просил у него ночлега. Было еще почти тепло, и лазурь улыбалась Бернару сквозь голые уже ветви деревьев. Было совсем не похоже, что дело идет к зиме; весело щебетали птицы, введенные в заблуждение погодой. Но Бернар не глядел на сад; он видел перед собой необъятный океан жизни. Поверхность океана бороздят морские пути, но глаз не в состоянии различить их, и Бернар не знал, по какому ему придется плыть.
Так сидел он, погруженный в раздумья, как вдруг увидел ангела, приближавшегося к нему поступью скользящей и столь легкой, что, чувствовалось, его способна выдержать поверхность вод. Бернар никогда не видел ангелов, но он не усомнился ни на минуту и, когда ангел сказал ему: «Пойдем», встал и послушно последовал за ним. Он чувствовал не большее изумление, чем если бы это происходило во сне. Впоследствии он старался припомнить, взял ли его ангел за руку; в действительности, однако, они не прикасались друг к другу и даже шли не сближаясь. Они возвратились вместе во двор Сорбонны, где Бернар оставил сироту; теперь он твердо решил заговорить с ним, но двор был пуст.
В сопровождении ангела Бернар направился в церковь Сорбонны, куда ангел вошел первым и где Бернар никогда не бывал. По церкви блуждали еще и другие ангелы, но Бернар не мог узреть их. Неведомый покой снизошел на Бернара. Ангел подошел к главному алтарю и преклонил колени; Бернар последовал примеру ангела и опустился на колени рядом с ним. Он не верил ни в какого Бога и поэтому не мог молиться, но сердце его было исполнено любовной потребности принести дар, жертву; он предлагал себя. Волнение его было так смутно, что никакие слова не могли бы выразить его; но вдруг раздалось пение органа.
«Ты точно так же предлагал себя Лауре, — сказал ангел, и Бернар почувствовал, что у него по щекам катятся слезы. — Пойдем, следуй за мной».
Когда ангел увлекал его, Бернар чуть не наткнулся на одного из своих прежних товарищей, который тоже выдержал устный экзамен. Бернар считал его тупицей и удивлялся, что его приняли. Тупица не заметил Бернара; Бернар же увидел, как тот сунул церковному сторожу в руку серебряную монетку на свечку. Бернар пожал плечами и вышел.
Когда он оказался на улице, то заметил, что ангел покинул его. Бернар зашел в табачную лавку — ту самую, где Жорж неделю назад сбыл свою фальшивую монету. С тех пор ему удалось сбыть их еще немало. Бернар купил пачку папирос и закурил. Почему ангел скрылся? Значит, ему не о чем было говорить с ним?…
Пробил полдень. Бернар чувствовал голод. Возвратиться в пансион? Пойти к Оливье и разделить с ним завтрак Эдуарда?… Он ощупал карман и, убедившись, что денег у него достаточно, зашел в ресторан. Когда он позавтракал, нежный голос прошептал: «Пришло время подвести итог».
Бернар обернулся. Ангел снова был подле него.
«Нужно будет решиться, — говорил он. — До сих пор ты жил на авось. Что же, и впредь предоставишь случаю располагать тобой? Ты хочешь отдать свои силы на служение какому-то делу. Нужно выяснить, какому именно».
«Научи меня, веди меня», попросил Бернар.
Ангел привел Бернара в зал, полный народу. В глубине зала стояла эстрада, а на эстраде — стол, покрытый красным сукном. Сидящий за столом еще молодой человек держал речь.
— Огромное безумие, — говорил он, — думать, будто мы способны что-то открыть. Мы обладаем только тем, что получили. Каждый из нас еще в юности должен понять, что мы зависим от прошлого и прошлое это нас обязывает. Им определено все наше будущее.
Когда он развил до конца эту мысль, его место заступил другой оратор, который сначала рассыпался в похвалах по адресу своего предшественника, а затем обрушился на тех самонадеянных людей, которые отваживаются жить без доктрины и руководиться собственным умом.
— Одна доктрина завещана нам, — говорил он. — Она просуществовала уже много веков. Это, несомненно, лучшая из всех доктрин и единственная; каждый из нас должен исполниться сознанием ее правоты. Это доктрина нашей страны, которой приходится дорого платить за свою ошибку всякий раз, как она отрекается от нее. Нельзя быть добрым французом, не зная ее, нельзя добиться настоящего успеха, не действуя в ее духе.
За вторым оратором последовал третий, который поблагодарил первых двух за то, что ими так хорошо была очерчена их программа; затем установил, что эта программа требовала не более и не менее как возрождения Франции усилиями каждого члена их партии. Он называл себя человеком действия, утверждал, что всякая теория находит завершение и доказательство своей правильности в практике и что всякий истинный француз должен быть борцом.
— Но увы! — прибавил он. — Сколько распыленных, погубленных сил! Какого величия достигла бы наша родина, каким блеском покрыла бы она себя, как возросла бы ценность каждого из ее сынов, если бы эти силы были упорядочены, если бы деятельность каждого подчинялась правилам, если бы каждый знал свое место в стройных рядах!
Во время его речи присутствующих стали обходить молодые люди, раздавая листки с заявлением о желании вступить в партию, которые нужно было только подписать.
«Ты хотел предложить себя, — сказал тогда ангел. — Что же ты медлишь?»
Бернар взял один из листков, текст которых начинался словами: «Торжественно обязуюсь…» Он прочел, затем взглянул на ангела и увидел, что тот улыбается; затем взглянул на собрание и узнал среди молодых людей новоиспеченного бакалавра, который несколько времени тому назад ставил в церкви свечку в благодарность за успешно выдержанный экзамен; и вдруг, немного подальше, заметил своего старшего брата, которого не видел с тех пор, как покинул отчий дом. Бернар не любил его, и в нем возбуждало некоторую ревность внимание, которое как будто оказывал ему отец. Он нервно скомкал листок.
«Ты находишь, что мне нужно подписаться?»
«Да, конечно, если ты сомневаешься в себе», — отвечал ангел.
«Теперь у меня исчезли всякие сомнения», — сказал Бернар и далеко отшвырнул бумажку.
Оратор между тем продолжал свою речь. Когда Бернар начал снова слушать его, он обучал собравшихся верному средству никогда не заблуждаться, заключавшемуся в полном отказе от собственных суждений и в постоянном подчинении суждениям старших.
«Кто такие эти старшие? — спросил Бернар и вдруг загорелся страшным негодованием. — Если ты поднимешься на эстраду, — сказал он ангелу, — и схватишься с ним в рукопашную, ты, наверное, одолеешь его…»
Но ангел с улыбкой сказал:
«Это с тобой я хочу побороться. Сегодня вечером, хочешь?»
«Да», — ответил Бернар.
Они покинули зал и вышли на большие бульвары. Толпа, которая толкалась там, состояла с виду исключительно из богатых людей, каждый казался уверенным в себе, равнодушным к другим, но озабоченным.
«Неужели это картина счастья?» — спросил Бернар, который почувствовал, что сердце его наполняется слезами.
Затем ангел повел Бернара в бедные кварталы, о степени нищеты которых Бернар раньше не подозревал. Спускался вечер. Они долго блуждали между высокими мрачными домами, которые населяли болезнь, проституция, стыд, преступление и голод. Тогда только Бернар взял ангела за руку, но ангел отвернулся от него и заплакал.
В этот день Бернар не обедал; придя в пансион, он не пошел к Саре, как все последние вечера, а отправился прямо в комнату, которую занимал с Борисом.
Борис уже лежал в кровати, но не спал. Он перечитывал при свете полученное им утром письмо Брони.
«Боюсь, — писала его подруга, — что больше никогда не увижусь с тобой. Вернувшись в Польшу, я простудилась. У меня кашель, и, хотя доктор скрывает, я чувствую, что дни мои сочтены».
Услышав шаги Бернара. Борис спрятал письмо под подушку и поспешно задул свечу.
Бернар ощупью разыскал свою кровать. Ангел вошел в комнату вместе с ним, но, хотя ночь не была очень темная, Борис видел только Бернара.
— Ты спишь? — тихо спросил Бернар. Так как Борис не ответил, Бернар решил, что он спит.
«Теперь давай вступим в единоборство», — сказал Бернар ангелу.
И всю ночь до рассвета они боролись.
Борис смутно видел, как Бернар ворочается. Он подумал, что это его манера молиться, и решил не прерывать его. Между тем ему очень хотелось поговорить, потому что он был сильно подавлен. Он встал и опустился на колени у кровати. Ему хотелось молиться, но он мог только прорыдать: О Броня, ты, которая зришь ангелов, ты, которая должна была открыть мне глаза, ты покидаешь меня! Броня, что будет со мной без тебя? Что со мной будет?
Бернар и ангел были слишком заняты, чтобы услышать его. Они боролись до зари. Ангел ушел, не будучи побежденным, но и не одержав победы.
Когда позже Бернар тоже вышел из комнаты, он встретился в коридоре с Рашелью.
— Мне нужно поговорить с вами, — сказала она ему. Голос ее был так печален, что Бернар сразу понял, что она собиралась сказать ему. Он ничего не ответил, опустил голову и вследствие вспыхнувшей в нем жалости к Рашели вдруг возненавидел Сару, и наслаждение, которое он испытывал с нею, стало ему отвратительным.
XIV
Часов в десять утра Бернар явился к Эдуарду с саквояжем в руке, который вмещал все его имущество: костюмы, белье и книги. Он попрощался с Азаисом и госпожой Ведель, но постарался избежать встречи с Сарой.
Бернар был серьезен. Борьба с ангелом сделала его более зрелым. Он не был больше похож на укравшего чемодан беспечного юношу, который считал, что в этом мире нужно только обладать смелостью. Он начинал понимать, что отвага оплачивается часто счастьем другого.
— Я пришел искать у вас приюта, — сказал он Эдуарду. — Я опять остался без крова.
— Почему вы покидаете Веделей?
— По причинам деликатного свойства… разрешите мне не говорить вам о них.
Эдуард достаточно внимательно наблюдал Бернара и Сару во время банкета, так что догадывался о причинах этого молчания.
— Ладно, — сказал он, улыбаясь. Диван моего кабинета в вашем распоряжении на сегодняшнюю ночь. Но должен сказать вам сначала, что вчера ко мне приходил ваш отец. — И он передал Бернару ту часть их разговора, которая, по его мнению, способна была тронуть его. — Не у меня вам следовало бы ночевать сегодня, а у него. Он вас ждет.
Бернар, однако, молчал.
— Я подумаю об этом, — сказал он наконец. Разрешите пока оставить здесь мои вещи. Могу я видеть Оливье?
— Погода так хороша, что я убедил его пойти погулять. Я хотел сопровождать его, потому что он еще очень слаб, но он пожелал выйти один. Впрочем, он отправился уже час тому назад и должен скоро возвратиться. Подождите его… Однако что ж это я?… Как ваш экзамен?
— Выдержал, но это неважно. Гораздо важнее решить вопрос, что же мне делать. Знаете, что меня главным образом удерживает от возвращения к отцу? То, что я не хочу жить на его средства. Вы находите, вероятно, глупым, что я пренебрегаю этим счастливым случаем, но я дал себе слово обойтись без его помощи. Мне важно доказать себе, что я человек, способный держать слово, человек, на которого можно положиться.
— Я усматриваю здесь главным образом гордость.
— Называйте это как вам будет угодно: гордостью, высокомерием, самодовольством… Вы не обесцените одушевляющего меня чувства. Но вот что я хотел бы знать сейчас: когда мы пускаемся в жизнь, должны ли мы непременно иметь перед глазами какую-либо цель?
— Объясните.
— Я размышлял об этом всю ночь. Чему посвятить силу, которую я чувствую в себе? Как лучше применить ее? Руководствуясь в своих действиях какой-нибудь целью? Но как избрать эту цель? Как узнать ее, пока она не достигнута?
— Жить без цели — значит отдать себя на волю случая. Боюсь, что вы не понимаете меня как следует. Когда Колумб открывал Америку, знал ли он, куда плывет? Его целью было идти вперед, прямо перед собой. Его целью был он сам, эту цель он всегда имел перед глазами…
— Я часто думал, — перебил Эдуард, — что в искусстве, и в частности в литературе, стоят чего-нибудь лишь те, кто бросается в неизвестное. Невозможно открыть новую землю, не решившись сразу же и надолго потерять из виду всякие берега. Но наши писатели боятся открытого моря, все они держатся у берегов.
— Вчера, покинув Сорбонну, — продолжал Бернар, не слушая его, — я зашел, увлекаемый каким-то демоном, в зал, где происходило публичное собрание. Там шла речь о национальной чести, о служении родине, о множестве вещей, которые заставляли биться мое сердце. Я совсем готов был подписать бумажку, в которой обязывался честью посвятить свои силы служению делу, признаваемому мной прекрасным и благородным.
— Я рад, что вы не подписали. Что же, однако, вас удержало?
— По всей вероятности, какой-то тайный инстинкт… — Бернар подумал несколько мгновений. Затем продолжал со смехом: — Я думаю, главным образом лица членов партии, начиная от лица моего старшего брата, которого я узнал в толпе. Мне показалось, что все эти молодые люди были одушевлены наилучшими чувствами и что они поступали прекрасно, отказываясь от своей инициативы, потому что она не привела бы их далеко, от своих суждений, потому что они убоги, и от своей духовной независимости, потому что никаких горизонтов она бы им не открыла. Я подумал также, что для страны хорошо, если она может рассчитывать на волю множества слепо преданных граждан, ее населяющих; но моя собственная воля никогда не станет таковой. Вот тогда-то я и задался вопросом, как выработать правило, ибо я не согласен жить без правила, и в то же время не согласен получить это правило от других.
— Ответ, по-моему, очень прост: найти это правило в самом себе, поставить целью собственное развитие.
— Да… это как раз то, что я сказал себе. Но это ни капельки не подвинуло меня вперед. Добро бы еще я был уверен, что предпочту в себе лучшее, тогда я не задумываясь принес бы в жертву все остальное. Но я не способен даже понять, что во мне лучшее… Я размышлял над этим всю ночь, говорю вам. Под утро я так устал, что подумал было, не поступить ли мне на военную службу, не дожидаясь года моего призыва?
— Уклониться от вопроса — не значит разрешить его.
— Это самое и я сказал себе: и хотя решение этого вопроса будет, таким образом, отсрочено, он с еще большей серьезностью встанет передо мной по отбытии воинской повинности. После этого я отправился к вам послушать вашего совета.
— Я не вправе давать вам совет. Вы можете найти этот совет только в себе самом, и равным образом вы можете научиться, как надо жить, лишь изведав жизнь на собственном опыте.
— А если я буду жить дурно в ожидании решения вопроса, как следует жить?
— Это как раз и послужит вам уроком. Можно покатиться по наклонной плоскости, лишь бы только иметь силу подняться.
— Вы шутите? Нет, мне кажется, я понимаю вас, и я принимаю эту формулу. Но, развиваясь так, как вы говорите, я должен все же зарабатывать. Какого мнения вы о кричащем объявлении в газетах: «Молодой человек с большим будущим, пригодный для всего»?
Эдуард расхохотался:
— Нет ничего труднее, как получить все. Лучше бы уточнить.
— Я думал об одном из многочисленных колесиков в механизме большой газеты. О, я согласился бы занять самую незначительную должность: корректора, наборщика… какую угодно. У меня совсем скромные требования!
Он говорил недостаточно искренно. В действительности ему хотелось получить место секретаря, но он боялся сказать об этом Эдуарду благодаря уже проделанному неудачному опыту. В конце концов полный провал этой попытки работать в качестве секретаря произошел не по вине Бернара.
— Мне, может быть, удастся устроить вас в «Гран Журналь», с редактором которого я знаком…
В то время как Бернар и Эдуард вели эту беседу, у Сары происходило очень тяжелое объяснение с Рашелью. Сара быстро сообразила, что причиною внезапного ухода Бернара были упреки Рашели; и вот она негодовала на сестру за то, что та, по ее словам, убивала вокруг себя всякую радость. Она не имела права навязывать другим добродетель, которую один ее пример способен был сделать ненавистной.
Рашель, всегда жертвовавшая собой для счастья других, была потрясена этими обвинениями; мертвенно побледнев, она говорила дрожащим голосом:
— Я не могу позволить тебе погубить себя.
Но Сара, громко рыдая, восклицала:
— Не верю я в твое небо! Не хочу быть спасенной!
Она решила немедленно уехать в Англию, где ей окажет гостеприимство подруга. Ведь «в конце концов, она была свободна и желала устроить свою жизнь, как ей нравится». Рашель совсем выбило из себя это невеселое объяснение.
XV
Эдуард позаботился прийти в пансион до возвращения учеников из школ. Он не виделся с Лаперузом со времени возобновления занятий и хочет поговорить прежде всего с ним. Старый преподаватель музыки справляется с новыми обязанностями надзирателя по мере своих сил, то есть очень плохо. Сначала он пытался снискать любовь воспитанников, но ему не хватает авторитета; дети пользуются этим; его снисходительность они принимают за слабость и позволяют себе вольности. Лаперуз прибегает к строгости, но уже поздно; его выговоры, угрозы, внушения только восстанавливают против него учеников. Когда он повышает голос, они хихикают; когда он стучит кулаком по гулкому пюпитру, они испускают крики притворного ужаса; его передразнивают; называют «папаша Лапер»; по скамьям ходят карикатуры, где этот кроткий человек изображен страшилищем, вооруженным огромным пистолетом (это пистолет Гериданизоль, Жорж и Фифи сумели найти во время бесцеремонного обыска его комнаты) и беспощадно избивающим учеников; или же стоящим на коленях перед ними со сложенными руками и умоляющим, как он делал это в первые дни: «Будьте чуточку потише, пожалуйста». Он производил впечатление жалкого старого оленя, затравленного озверелой сворой. Ничего этого Эдуард не знает.
ДНЕВНИК ЭДУАРДА
Лаперуз принял меня в маленьком зале нижнего этажа, этой, насколько мне известно, самой неуютной комнате пансиона. Вся обстановка состояла из четырех парт, черной доски на стене и стула с соломенным сиденьем, на который Лаперуз силою усадил меня. Сам же он бочком примостился на одной из парт после тщетных усилий засунуть под пюпитр свои слишком длинные ноги.
— Нет, нет. Мне так удобно, уверяю вас.
Но тон его голоса и выражение лица говорили: «Мне ужасно неудобно, и я надеюсь, что это бросается в глаза, но мне нравится быть в таком положении; и чем неудобнее мне будет, тем меньше вы услышите от меня жалоб».
Я сделал попытку отшутиться, но не мог вызвать у него улыбку. Он напускал на себя вид церемонный и исполненный достоинства, как бы желая сохранить дистанцию между нами и заставить меня понять: «Это вам я обязан своим пребыванием здесь».
Однако он утверждал, что чрезвычайно доволен всем; больше того, старался уклониться от ответа на мои вопросы и раздражался моей настойчивостью. Все же когда я спросил его, где его комната, он сказал вдруг:
— Немножко далековато от кухни. — И пояснил, увидя на моем лице удивление: — Иногда ночью у меня появляется большое желание поесть… когда не могу уснуть.
Я сидел близко от него; теперь еще больше придвинулся и мягко положил руку ему на плечо. Он продолжал более натуральным тоном:
— Нужно вам сказать, что сплю я очень плохо. Когда мне случается уснуть, я не утрачиваю сознания, что я сплю. Это ведь не значит спать по-настоящему, не правда ли? Тот, кто спит по-настоящему, не сознает, что спит; просто замечает по пробуждении, что проснулся.
Затем с какой-то упорной настойчивостью, наклонившись ко мне:
— Иногда я пытаюсь убедиться, что это простая иллюзия и что я все же сплю по-настоящему, когда мне кажется, будто я не сплю. Но доказательством, что я не сплю, в действительности служит то, что, когда я хочу открыть глаза, я их открываю. Обыкновенно я не хочу делать этого. Вы понимаете, не так ли, что у меня нет никакого интереса это делать. С какой стати я буду доказывать себе, что не сплю? Я всегда храню надежду заснуть, убеждая себя, что уже сплю…
Он еще больше наклонился и сказал совсем тихо:
— Кроме того, есть одна вещь, которая беспокоит меня. Молчите… Я не жалуюсь на это, потому что ничего с этим не поделаешь, да и какой толк жаловаться на то, что изменить нельзя, не правда ли?… Представьте себе, что рядом с моей кроватью, в стене, как раз на уровне головы, есть какая-то вещь, производящая шум.
Он оживился, говоря это. Я предложил ему свести меня в его комнату.
— Да! Да! — сказал он, поспешно вставая. — Вы, может быть, разъясните мне, что это такое… Сам я никак не могу понять. Пойдемте.
Мы поднялись на третий этаж, затем пошли по довольно длинному коридору. Я никогда не бывал в этой части дома.
Комната Лаперуза выходила окнами на улицу. Она была маленькая, но чистенькая. Я заметил на ночном столике, рядом с молитвенником, ящик с пистолетами, с которым он упорно не расставался. Он схватил меня под руку и сказал, немножко отодвигая кровать:
— Вот тут. Слушайте… Приложите ухо к стене… Ну, что, слышите?
Я приложил ухо и долго с напряжением вслушивался. Но, несмотря на все мое доброе намерение, не мог услышать ровно ничего. Лаперуз сердился. В этот момент проехал ломовик, сотрясая стены; в окнах задребезжали стекла.
— В этот час дня, — сказал я в надежде успокоить его, — шорох, который так раздражает вас, заглушается уличным шумом…
— Заглушается для вас, потому что вы не способны отличать его от других шумов! — запальчиво вскричал он. — Я же, представьте, слышу его. Несмотря ни на что, продолжаю слышать. Иногда он до такой степени изводит меня, что я даю себе слово поговорить о нем с Азаисом или домовладельцем… О, у меня вовсе нет намерения его прекратить… Но мне хотелось бы, по крайней мере, знать, что это такое.
Он помолчал некоторое время, затем продолжал:
— Словно кто-то скребется. Я делал различные попытки избавиться от него. Отодвигал кровать от стены. Затыкал уши ватой. Вешал свои часы (вы видите, я вбил там гвоздик) как раз в том месте, где, по моему мнению, проходит труба, чтобы тиканье часов заглушало тот шум… Но это еще больше утомляет меня, так как мне приходится делать усилие, чтобы его расслышать. Глупо, не правда ли? Теперь я предпочитаю ясно его слышать, потому что все равно знаю, что мне его не заглушить… Ах, мне не следовало рассказывать вам об этом! Видите, каким я стал стариком.
Он сел на кровать и застыл в каком-то оцепенении. Злосчастное действие возраста сказывается у Лаперуза не столько на умственных способностях, сколько на более глубоких душевных пластах. Червь подтачивает самую сердцевину плода, подумал я при виде того, как этот недавно еще такой крепкий и гордый человек предавался ребяческому отчаянию. Я сделал попытку вывести его из этого состояния, заговорив о Борисе.
— Да, его комната совсем рядом, — сказал он, поднимая голову. — Сейчас я покажу вам ее. Пойдемте.
Он вывел меня в коридор и открыл соседнюю дверь.
— Вот эта другая кровать, которую вы видите, принадлежит Бернару Профитандье.- (Я счел излишним сообщать ему, что с сегодняшнего вечера Бернар не будет больше спать на ней.) — Борис доволен своим товарищем и, мне кажется, хорошо уживается с ним. Но, знаете, он мало разговаривает со мной. Он очень замкнут… Боюсь, что у этого ребенка несколько черствое сердце.
Он говорил это с такой грустью, что я почел своим долгом запротестовать и поручиться в чувствах его внука.
— В таком случае, он мог бы не так скупиться на их выражение, — возразил Лаперуз. — Например, слушайте: утром, когда он уходит в лицей вместе с остальными учениками, я высовываюсь из окна, чтобы посмотреть на него. Он знает об этом… И вот, представьте, не оборачивается!
Я хотел растолковать ему, что Борис, по всей вероятности, боится привлечь внимание товарищей и вызвать их насмешки, но в этот момент во дворе раздались шумные возгласы. Лаперуз схватил меня под руку и сказал изменившимся голосом:
— Слушайте! Слушайте! Вот они возвращаются.
Я взглянул на него. Он затрясся всем телом.
— Эти сорванцы повергают вас в трепет? — спросил я.
— Нет, нет, — ответил он смущенно, — как у вас могло возникнуть такое предположение… — Затем очень торопливо: — Мне необходимо спуститься вниз. Перемена продолжается всего несколько минут, а вы ведь знаете, что я наблюдаю за занятиями. До свидания. До свидания.
Он помчался по коридору, даже не пожав мне руку. Минуту спустя я услышал, как он засеменил по лестнице. Я выждал несколько минут, не желая показываться перед учениками. Раздавались их крики, смех, пение. Затем удар колокола, и внезапно вновь наступила тишина.
Я отправился к Азаису и получил от него записку, разрешившую Жоржу покинуть классную комнату и выйти ко мне. Я имел свидание с ним в том самом маленьком зале, где сначала меня принял Лаперуз.
Едва оставшись со мной наедине, Жорж счел долгом принять развязный вид. Это была его манера маскировать свое смущение. Но не поручусь, что он был более смущен, чем я. Он занял оборонительную позицию, так как, несомненно, ожидал, что его начнут песочить. Мне показалось, что он хочет как можно скорее пустить в ход заготовленное им против меня оружие, потому что не успел я раскрыть рот, как он спросил меня о состоянии Оливье таким насмешливым тоном, что я охотно дал бы ему пощечину. Он получил преимущество надо мной. «Кроме того, вы знаете, я не боюсь вас», казалось, говорили его иронические взгляды, насмешливая складка губ и тон голоса. Я тотчас же потерял всякую уверенность и стал заботиться лишь о том, чтобы не выдать ему этого. Речь, которую я заготовил, показалась мне вдруг неуместной. Я не обладал солидностью, необходимой для исполнения роли блюстителя нравов. В сущности, Жорж сильно занимал меня.
— Я пришел не для того, чтобы тебя ругать, — сказал я наконец. — Мне хотелось только предупредить тебя. — Против моей воли лицо у меня расплылось в улыбке.
Скажите прежде всего: это мама вас посылает?
— И да и нет. Я говорил о тебе с твоей матерью, но с тех пор прошло уже несколько дней. Вчера же у меня был очень важный разговор о тебе с одним весьма важным лицом, которого ты не знаешь; лицо это приходило ко мне специально для этого разговора. Судебный следователь… По его-то поручению я и пришел к тебе… Тебе известно, что такое судебный следователь?
Жорж вдруг побледнел, и сердце его, должно быть, на мгновение перестало биться. Правда, он пожал плечами, но голос его немного дрожал:
— Ладно, выкладывайте, что сказал вам папаша Профитандье.
Наглость этого малыша положительно сбивала меня с толку. Несомненно, проще всего было бы перейти прямо к делу, но мой ум как раз питает отвращение к самому простому и неудержимо избирает окольный путь. Для объяснения поступка, который сейчас же по его совершении показался мне нелепым, но был совершен мной невольно, я могу сказать только, что мой последний разговор с Полиной произвел на меня необыкновенно сильное впечатление. Он навел меня на ряд размышлений, которые я тотчас же вставил в мой роман в форме диалога, в точности подошедшего к моим действующим лицам. Мне редко случается извлекать непосредственную пользу из материала, доставляемого жизнью, но на этот раз проделка Жоржа стала полезной; казалось, что моя книга ожидала ее, настолько она пришлась к месту; мне лишь понадобилось изменить самые несущественные подробности. Но эту проделку (я имею в виду кражу писем) я не описывал прямо. О ней, а равно об ее последствиях можно было лишь заключить на основании разговора. Я занес этот разговор в записную книжку, которая в тот момент была при мне. Напротив, история с фальшивой монетой в том виде, как она была рассказана Профитандье, не могла, по-моему, сослужить мне никакой службы. Вот почему, вместо того чтобы сразу же завести с Жоржем разговор о фальшивой монете, то есть обратиться к главной цели моего прихода, я пошел окольным путем.
— Мне хотелось бы, чтобы сначала ты прочел вот эти строки, сказал я. Сам поймешь почему. И я протянул Жоржу свою книжечку, развернув на той странице, которая могла его заинтересовать.
Повторяю: этот жест кажется мне сейчас нелепым. Но в моем романе как раз при помощи подобного чтения я считал необходимым предупредить об опасности самого юного из моих героев. Мне важно было знать, как будет реагировать Жорж; я очень надеялся, что его поведение будет для меня поучительно… даже в отношении качества написанного мной.
Привожу отрывок, о котором идет речь.
«В этом мальчике были темные глубины, к которым влеклось страстное любопытство Одибера. Ему недостаточно было знать, что юный Эдольф украл; он хотел бы, чтобы Эдольф рассказал ему, как он до этого дошел и что испытывал, воруя в первый раз. Впрочем, даже будучи откровенным, мальчик не мог бы, конечно, признаться ему в этом. И Одибер не решался просить его из боязни услышать ложные уверения, что никакого воровства не было.
Однажды вечером, обедая с Гильдебрандом, он рассказал ему о поступке Эдольфа, не назвав, впрочем, имени последнего и так расположив факты, что Гильдебранд не мог узнать виновника.
— Обратили ли вы внимание, — сказал тогда Гильдебранд, — что самые решающие поступки нашей жизни, то есть те, которые в наибольшей степени способны определить все наше будущее, являются чаще всего поступками опрометчивыми?
— Я очень склонен этому верить, — отвечал Одибер. — Они словно поезд, в который садишься, не подумав и не спросив, куда он идет. И даже чаще всего соображаешь, что поезд увозит тебя, слишком поздно, и сойти уже невозможно.
— Но, может быть, мальчик, о котором мы говорим, вовсе и не желал сходить?
— Конечно, он пока еще не хочет сходить. В данную минуту он упоен ездой. Его занимает пейзаж, и ему безразлично, куда он едет.
— Вы будете читать ему нравоучение?
— Разумеется, нет! Из этого не выйдет толку. Он сыт нравоучениями по горло.
— Что побудило его совершить кражу?
— Не знаю в точности. Конечно, не нужда в настоящем смысле слова. Он желал, вероятно, обеспечить себе кое-какие выгоды, не хотел отставать от более состоятельных товарищей… почем я знаю? Может быть, его толкнула прирожденная склонность к воровству: украл, потому что воровство доставляло ему удовольствие.
— Это самое худшее.
— Да, тогда он не остановится.
— Он даровитый мальчик?
— Долгое время мне казалось, что в умственном отношении он стоит ниже своих братьев. Но сейчас я думаю, что, пожалуй, допустил ошибку, и мое отрицательное впечатление объяснялось тем, что мальчик не уяснил еще, чего он может добиться от самого себя. Любопытство его было направлено до сих пор по ложному пути или, вернее, пребывало в эмбриональном состоянии, в стадии бессознательного.
— Вы будете говорить с ним на эту тему?
— Я предложу ему сопоставить ничтожность выгоды, получаемой им от украденного, с огромным ущербом, который причинит ему бесчестность: с утратой доверия к нему близких, утратой уважения к нему, моего в частности… словом, с утратой вещей, которые не поддаются измерению и чья цена познается лишь по тому усилию, какое приходится затрачивать впоследствии, чтобы вновь их завоевать. Есть люди, потратившие на это всю свою жизнь. Я расскажу ему то, в чем он по молодости своей еще не отдает себе отчета: что, стоит случиться сейчас чему-нибудь сомнительному, грязному, подозрения отныне всегда будут падать на него. Очень возможно, что ему неправильно будут поставлены в вину какие-нибудь серьезные проступки и он не будет в состоянии оправдаться. Сделанное им ляжет на него клеймом. Он станет, как говорится, „отпетым". Наконец, мне хотелось бы сказать ему… Но боюсь, он станет возражать.
— Что вам хотелось бы сказать ему?
— Что сделанное им создает прецедент и что если для первого воровства требуется некоторая решимость, то для следующих достаточно уступить влечению. Все дальнейшие проступки суть не что иное, как подчинение естественному ходу вещей… Мне хотелось бы сказать ему, что первый жест, совершаемый нами в достаточной степени необдуманно, часто кладет неизгладимую печать на весь наш облик и проводит черту, которую все наши последующие усилия никогда не будут в состоянии стереть. Мне хотелось бы… но у меня не хватит искусства поговорить с ним.
— Почему бы вам не записать нашего сегодняшнего разговора? Вы дадите ему прочесть.
— Это идея, — сказал Одибер. — Почему не сделать попытку?»
Я не сводил глаз с Жоржа все время, пока он читал; но мысли, возникавшие у него при этом, никак не отражались на его лице.
— Читать дальше? — спросил он, собираясь перевернуть страницу.
— Не стоит, разговор на этом кончается.
— Очень жаль.
Он возвратил мне записную книжку и спросил почти веселым тоном:
— Мне хотелось бы знать, что отвечает Эдольф после прочтения этого разговора.
— Это как раз то, что я сам ожидаю узнать.
— Эдольф — смешное имя. Вы не могли бы окрестить его иначе?
— Это несущественно.
— То, что он может ответить, тоже несущественно. Что с ним потом станет?
— Не знаю еще. Это зависит от тебя. Увидим.
— Значит, если я правильно понимаю вас, я должен помочь вам писать вашу книгу. Но сознайтесь, что…
Он замолчал, словно затруднялся найти подходящие слова.
— Что «что»? — спросил я, чтобы подбодрить его.
— Сознайтесь, что вы были бы очень разочарованы, — произнес он наконец, — если бы Эдольф…
Он снова замолчал. Мне показалось, я угадал то, что он хотел сказать, и я закончил за него:
— Если бы Эдольф стал честным мальчиком?…
— Нет, мой милый. — И вдруг на глазах у меня выступили слезы. Я положил руку ему на плечо. Но он отстранился, промолвив:
— Ведь в конце концов, если бы он не совершил кражу, вы бы не написали всего этого.
Только тогда я понял свою ошибку. Жорж, оказывается, был польщен, тем, что так долго занимал мои мысли. Он чувствовал себя интересным. Я позабыл о Профитандье; мне напомнил о нем Жорж.
— Что же рассказал вам ваш следователь?
— Он поручил мне предупредить тебя, что ему известно, как ты сбываешь фальшивые деньги…
Жорж снова переменился в лице. Он понял, что запирательство было бы бесполезно, но все же смущенно заявил:
— Не я один.
— …и что, если вы не бросите сейчас же этого промысла, — продолжал я, — он принужден будет посадить тебя и твоих дружков в тюрьму.
Сначала Жорж страшно побледнел. Затем щеки его вспыхнули. Он пристально смотрел перед собой, нахмурив брови, так что на лбу у него выступили две морщины.
— Прощай, — сказал я ему, подавая руку. — Советую тебе предупредить также и товарищей. Что же касается тебя, то пусть это послужит тебе предостережением.
Он молча пожал мне руку и вышел из комнаты, не оборачиваясь.
Перечитывая показанные мной Жоржу страницы «Фальшивомонетчиков», я нашел их довольно неудачными. Я привожу их здесь в том виде, как они были прочитаны Жоржем, но всю эту главу нужно будет переделать. Положительно лучше было бы, чтобы разговор происходил прямо с мальчиком. Я должен найти, чем тронуть его. Конечно, сейчас Эдольфа (я изменю это имя: Жорж прав!) трудно возвратить на путь честности. Но я ставлю своей целью сделать это; что бы там ни думал Жорж, это самая интересная задача, потому что самая трудная. (Вот и я начинаю думать, как Дувье!) Предоставим романистам-реалистам описывать людей, безвольно отдавшихся течению событий.
Сейчас же по возвращении в классную комнату Жорж передал своим друзьям сведения, полученные от Эдуарда. Все, что последний говорил ему по поводу кражи, скользнуло по нему, не взволновав его. Что же касается фальшивых монет, то тут дело грозило принять опасный оборот и важно было поэтому как можно скорее от них отделаться. У каждого из троих приятелей было при себе несколько таких монет, которые они рассчитывали сбыть при ближайшей отлучке из пансиона. Гериданизоль собрал их и побежал спустить в раковину клозета. В тот же вечер он доложил о событиях Струвилу, который немедленно принял меры.
XVI
В этот самый вечер, когда Эдуард разговаривал со своим племянником Жоржем, Оливье после ухода Бернара навестил Арман.
Арман Ведель был неузнаваем: свежевыбритый, улыбающийся, с высоко поднятой головой, в новенькой, тщательно отглаженной паре, немного смешной, быть может, чувствующий это и дающий понять, что он это чувствует.
— Я бы давно уже навестил тебя, но у меня было столько дел!.. Известно ли тебе, что я сейчас секретарь Пассавана? Или, если ты предпочитаешь, главный редактор издаваемого им журнала. Я не буду предлагать тебе сотрудничества, потому что, мне кажется, Пассаван в большом гневе на тебя. К тому же наш журнал делает решительный поворот влево. Вот почему для начала он выбросил за борт Беркая и его пастушеские идиллии…
— Тем хуже для него, — сказал Оливье.
— Вот почему он, напротив, принял в свое лоно мой «Ночной сосуд», который, замечу в скобках, будет посвящен тебе, если разрешишь.
— Тем хуже для меня.
— Пассаван хотел даже, чтобы мое гениальное стихотворение было напечатано на первой странице первого номера, но этому воспротивилась моя природная скромность, которую его похвалы подвергли жестокому испытанию. Если бы я был уверен, что не утомлю твоих выздоравливающих ушей, я дал бы тебе подробный отчет о моем первом свидании со знаменитым автором «Турника», которого я до тех пор знал с твоих слов.
— У меня сейчас нет лучшего занятия, чем слушать твой отчет.
— Дым не беспокоит тебя?
— Я сам закурю, чтобы ты не смущался.
— Нужно сказать, — начал Арман, закуривая папиросу, — что твоя измена поставила нашего дорогого графа в затруднительное положение. Сказать без лести, не так-то легко найти заместителя, в ком букет дарований, добродетелей, достоинств, которые делают тебя одним из…
— Короче, — перебил Оливье, которого раздражала тяжеловесная ирония Армана.
— Короче, Пассаван испытывал большую нужду в секретаре. В числе его знакомых есть Струвилу, с которым я знаком, так как он дядя и опекун одного типа из нашего пансиона, и знаком, в свою очередь, с Жаном Коб-Лафлером, которого знаешь и ты.
— С ним я не знаком, — сказал Оливье.
— Ну, значит, старина, должен познакомиться. Это необыкновенная, удивительная личность, что-то вроде увядшего, сморщенного, подрумяненного ребенка; он живет исключительно крепкими напитками, когда пьян, пишет прелестные стихи. Ты прочтешь их в первом номере нашего журнала. Итак, Струвилу осеняет идея послать, его к Пассавану в качестве твоего заместителя. Можешь себе представить его появление в особняке на улице Бабилон. Нужно сказать тебе, что Коб-Лафлер ходит в грязном белье и засаленном костюме, что по плечам его развевается грива всклокоченных волос и у него вид человека, неделю не умывавшегося. Пассаван, который всегда стремится показать себя властелином положения, утверждает, будто Коб-Лафлер очень ему понравился. Коб-Лафлер сумел прикинуться учтивым, улыбающимся, робким. Когда он хочет, он может сделать себя похожим на Гренгуара Банвиля. Словом, Пассаван был очарован и собирался уже договориться с ним. Нужно тебе сказать, что у Лафлера нет ни гроша… Вот он встает, чтобы попрощаться. «Прежде чем расстаться с вами, я считаю своим долгом предупредить вас, господин граф, что у меня есть кое-какие недостатки». — «У кого из нас их нет?» — «И кое-какие пороки. Я курю опиум». — «Какие пустяки! — сказал Пассаван, которого не способны смутить подобные мелочи. — Хотите, я угощу вас превосходным опиумом?» — «Да, но когда я курю, — продолжает Лафлер, — я утрачиваю всякое представление об орфографии». Пассаван принимает его слова за шутку, пытается засмеяться и подает ему руку. Лафлер продолжает: «Кроме того, я чувствую слабость к гашишу». — «Я сам иногда прибегаю к нему», — отвечает Пассаван. «Да, но под действием гашиша я не могу удержаться от воровства». Пассаван начинает соображать, что его собеседник издевается над ним; Лафлер же, войдя в раж, с каким-то упоением продолжает: «Кроме того, я нюхаю эфир; тогда я все крушу, все ломаю». Хватает хрустальную вазу и делает вид, будто хочет швырнуть ее в камин. Пассаван вырывает ее у него из рук: «Благодарю вас за то, что предупредили меня».
— И выставил его за дверь?
— Затем стал наблюдать в окно, как бы Лафлер, уходя, не бросил ему бомбу в подвал.
— Зачем же твой Лафлер выкинул эту штуку? — спросил Оливье, помолчав. — Ведь если тебе верить, он очень нуждался в этом месте?
— Приходится, друг мой, допустить, что есть люди, испытывающие потребность действовать вопреки своим собственным интересам. Кроме того, знаешь ли, что я скажу тебе: Лафлер… роскошь Пассавана вызвала в нем отвращение; элегантность графа, его любезные манеры, снисходительность, напущенный на себя вид превосходства, — да, от всего этого его затошнило. И я отлично понимаю его… Твой Пассаван в самом деле способен вызвать рвоту.
— Почему ты говоришь «твой Пассаван»? Ты прекрасно знаешь, что я больше с ним не вижусь. И потом, зачем ты соглашаешься идти на это место, раз ты находишь Пассавана таким противным?
— Потому что я люблю именно то, что мне противно… начиная с собственной грязной личности. Затем Коб-Лафлер, в сущности, трус: он не сказал бы ничего этого, если бы не почувствовал смущения.
— Ну уж извини…
— Конечно. Он был смущен, и ему стало противно чувствовать смущение перед человеком, которого он, в сущности, презирал. Чтобы скрыть свое смущение, он и стал фанфаронить.
— Я нахожу это глупым.
— Мой милый, не все так умны, как ты.
— Ты уже однажды говорил это.
— Какая память!
Оливье выказывал твердую решимость не поддаваться.
— Я пропускаю мимо ушей твои шуточки, — сказал он. — В прошлое наше свидание, помнишь, ты под конец заговорил со мною серьезно. Ты сказал мне вещи, которые я не могу забыть.
Взор Армана помрачнел; он принужденно засмеялся:
— Ах, старина, в прошлое наше свидание я уступил твоему желанию и разговаривал с тобой так, как ты хотел. Ты, словно мальчик, требовал лакомства, и вот, чтобы доставить тебе удовольствие, я спел мою жалобную песню, наполненную душевными терзаниями в духе Паскаля… Что поделаешь! Я бываю искренним, лишь когда издеваюсь.
— Никогда тебе не убедить меня, будто ты был неискренним во время нашего последнего разговора. Напротив, ты сейчас ломаешь комедию.
— О существо, исполненное наивности, о ангельская душа! Как будто бы каждый из нас не играет роли, с большей или меньшей искренностью и сознательностью. Жизнь, старина, не больше чем комедия. Но различие между тобой и мной состоит в том, что я знаю, что разыгрываю паяца, между тем как…
— Между тем как… — задиристо повторил Оливье.
— Между тем как мой отец, например, чтобы не говорить о тебе, совершенно забывается, когда играет роль пастора. Что бы я ни говорил и ни делал, всегда какая-то часть меня остается где-то в стороне и смотрит, как другая часть компрометирует себя, наблюдает, как она ведет себя, насмехается над ней, освистывает ее или аплодирует ей. Когда носишь в себе такую раздвоенность, можно ли, посуди сам, быть искренним? Я дошел до того, что даже не понимаю, что, собственно, хотят обозначить словом «искренность». С этим ничего не поделаешь: если я печален, то нахожу себя уродливо забавным, и это смешит меня; когда весел, то отпускаю такие нелепые шутки, что у меня появляется желание плакать.
— Мне тоже ты внушаешь желание плакать, бедняга Арман. Я не думал, что ты до такой степени болен.
Арман пожал плечами и сказал совсем другим тоном:
— Чтобы утешиться, хочешь знать содержание первого номера нашего журнала? В нем будет, значит, мой «Ночной сосуд», четыре песенки Коб-Лафлера, диалог Жарри, стихотворения в прозе маленького Гериданизоля, нашего пансионера, и наконец, «Утюг», обширная критическая статья, в которой точно определяется направление журнала. Этот шедевр был высижен соединенными усилиями всех нас.
Оливье, не знавший, что сказать, заметил невпопад:
— Ни один шедевр не является результатом сотрудничества.
Арман покатился со смеху:
— Но, дорогой мой, я сказал «шедевр» в шутку. Тут даже нет речи о произведении искусства в собственном смысле слова. Нам прежде всего хотелось знать, что мы подразумеваем под «шедевром». «Утюг» как раз и ставит своей задачей выяснение этого вопроса. Есть множество произведений, которыми мы восхищаемся, так сказать, по доверию, оттого что все восхищаются ими и никто до сих пор не догадался или не посмел сказать, что они бездарны. Так, например, на первой странице номера мы собираемся поместить репродукцию Джоконды, которой подмалюем усы. Вот увидишь, старина, эффект будет потрясающий.
— Неужели сие должно означать, что ты считаешь Джоконду бездарным произведением?
— Нисколько, дорогой мой (хотя и нахожу ее славу незаслуженной). Ты меня не понимаешь. Бездарны восторги, которые расточаются перед ней. По привычке принято говорить о так называемых «шедеврах» не иначе, как с благоговейно обнаженной головой. «Утюг» (это название журнала) ставит целью высмеять это почтение, дискредитировать его… Хорошим средством для этого является также предложить на радость читателю какое-нибудь бездарное произведение (например, мой «Ночной сосуд») автора, совершенно лишенного здравого смысла.
— Пассаван одобряет все это?
— Это очень забавляет его.
— Вижу, что я хорошо сделал, уйдя от него.
— Уйти… Рано или поздно, старина, хотим ли мы этого или нет, уходить всегда нужно. Это мудрое рассуждение, естественно, приводит меня к тому, чтобы распрощаться с тобой.
— Посиди еще минутку, шут гороховый… Что побудило тебя сказать, что твой отец играет в пастора? Ты не считаешь его, следовательно, человеком убеждений?
— Мой почтеннейший папаша устроил свою жизнь таким образом, что не имеет больше ни права, ни возможности не быть человеком убеждений. Да, он убежденный благодаря своей профессии. Профессор убеждения. Он вдалбливает веру; в этом смысл его существования; это роль, которую он взял на себя и должен исполнять до конца своих дней. Что же, однако, происходит в той инстанции, которую он называет «судом своей совести»? Понятно, было бы нескромностью спрашивать его об этом. И мне кажется, что он сам никогда себя об этом не спрашивает. Он распределяет свои занятия так, чтобы никогда не иметь возможности задать себе этот вопрос. Он загромоздил свою жизнь множеством обязанностей, которые потеряют всякий смысл, если его убежденность ослабеет; выходит, таким образом, что эта убежденность требуется и поддерживается ими. Он воображает, будто он верующий, потому что продолжает вести себя так, как если бы он действительно веровал. Он больше не свободен не веровать. Если его вера поколеблется, дружище, это будет катастрофой! Землетрясением! Подумай только, моя семья лишится средств существования. Это очень важно, старина: ведь папина вера — наш хлеб. Мы все живем папиной верой. Итак, спрашивать, действительно ли папа человек верующий, согласись, не слишком деликатно с твоей стороны.
— Я думал, вы живете главным образом на доход с пансиона.
— Это отчасти верно. Но уничтожить таким образом мой лирический эффект тоже не очень деликатно.
— Значит, ты ни во что больше не веришь? — печально спросил Оливье, потому что он любил Армана и страдал от его выходок.
— «Jubes renovare dolorem»… («(Невыразимую) скорбь велишь обновить ты…» (лат.) — слова Энея Дидона (Вергилий. «Энеида», II, 3)) Ты, по-видимому, забыл, дорогой мой, что мои родители собирались сделать меня пастором. Меня подогревали с этой целью, пичкали благочестивыми наставлениями, желая добиться своего рода расширения веры, если можно так выразиться… Пришлось, конечно, признать, что у меня нет призвания. Жаль. Я мог бы стать превосходным проповедником. Но мое призвание — писать «Ночной сосуд».
— Бедняга, если бы ты знал, как мне жаль тебя!
— Ты всегда был то, что мой отец называет «золотое сердце»… которым я не хочу больше злоупотреблять.
Он взял шляпу и уже подходил к двери, как вдруг обернулся:
— Почему же ты не спрашиваешь меня о Саре?
— Потому, что ты не сообщишь мне ничего, что не было бы мне уже известно от Бернара.
— Он сказал тебе, что покинул пансион?
— Он сказал, что твоя сестра Рашель предложила ему уехать.
Одна рука Армана лежала на ручке двери; в другой была палка, которой он поддерживал приподнятую портьеру.
— Объясняй это как тебе будет угодно, — сказал он, и лицо его приняло очень серьезное выражение. — Рашель, мне кажется, единственный человек на этом свете, кого я люблю и уважаю. Я уважаю ее за то, что она добродетельна. И я всегда веду себя так, что оскорбляю ее добродетель. Что же касается отношений Бернара и Сары, то у нее не было никаких подозрений. Это я рассказал ей все… зная, что окулист рекомендует ей не плакать! Вот какой я паяц.
— Что ж, можно считать, что сейчас ты искренен?
— Да, я думаю, что самое искреннее во мне — это отвращение, ненависть ко всему, что называется Добродетелью. Не старайся понять. Ты не знаешь, что может сделать из нас пуританское воспитание. Оно оставляет в нашем сердце такое озлобление, от которого никогда уже нельзя излечиться… если судить по мне, — закончил он с горькой усмешкой. — Кстати, скажи мне, пожалуйста, что у меня такое здесь?
Он положил шляпу на стул и подошел к окну.
— Взгляни-ка, на губе, внутри.
Он наклонился к Оливье и приподнял пальцем губу.
— Я ничего не вижу.
— Вот здесь, в углу.
Оливье действительно различил на внутренней стороне губы беловатое пятнышко. Оно внушило ему беспокойство.
— Это чирей, — сказал он, чтобы успокоить Армана. Тот пожал плечами:
— Не говори, пожалуйста, глупостей, серьезный мужчина. Чирей мягкий и быстро проходит. Мой же прыщ твердый и с каждой неделей увеличивается. Кроме того, от него у меня дурной привкус во рту.
— Давно это у тебя?
— Уже больше месяца, как я заметил. Но, как говорят в «шедеврах»: источник моей болезни глубже.
— Но, друг мой, если тебя тревожит прыщ, то нужно обратиться к доктору.
— Неужели ты думаешь, я ждал твоего совета?
— Что же сказал доктор?
— Я не дожидался твоего совета, чтобы сказать тебе, что я должен показаться доктору. Но я все же не пошел к нему, потому что если прыщ окажется тем, что я предполагаю, то я предпочитаю не знать.
— Это глупо.
— Не правда ли, ужасно глупо! И все-таки понятно с человеческой точки зрения, слишком понятно…
— Я хочу сказать, глупо не лечиться.
— И иметь возможность сказать себе, когда начинаешь лечиться: «Слишком поздно!» Это то, что так хорошо выражено Коб-Лафлером в одном стихотворении, которое ты скоро прочтешь:
Что сомневаться в несомненном:
Ведь сплошь да рядом в мире тленном
Танцуют раньше, чем сыграть.
— Всякую тему можно сделать предметом литературных экзерсисов.
— Ты правильно сказал — «всякую тему». Но, старина, это не так-то легко. Ну, до свидания… Да, вот что я хотел еще сказать тебе: я получил письмо от Александра… ты его знаешь, это мой старший брат, который удрал в Африку, где начал свою деятельность неудачной торговлей и растратой всех денег, посланных ему Рашелью. Теперь он перенес свои операции на берега Казамансы. Он пишет мне, что торговля его процветает и скоро он даже возвратит весь свой долг.
— Торговля чем?
— Почем я знаю? Каучуком, слоновой костью, неграми, может быть, словом, всякими пустяками… Он предлагает мне приехать к нему.
— Ты поехал бы?
— Хоть завтра, если бы скоро не наступал срок моего призыва. Александр — человек шальной, вроде меня. Мне кажется, что я прекрасно ужился бы с ним… Хочешь почитать? Письмо при мне.
Он вытащил из кармана конверт, а из него несколько листочков; выбрал один и протянул Оливье:
— Все читать не стоит. Начни отсюда.
Оливье прочел:
«Уже две недели я живу в обществе странного субъекта, которого приютил в своей хижине. Должно быть, ему ударило в голову солнце этих стран. Сначала я принял за бред то, что, вне всякого сомнения, является безумием. Этот странный молодой человек — тип лет тридцати, высокий и сильный, довольно красивый и, наверное, из „хорошей семьи", как обыкновенно говорят, если судить по его манерам, языку и рукам, слишком изящным для того, чтобы предположить, что они занимались когда-нибудь черной работой, — считает себя одержимым дьяволом; или, вернее, он считает себя самим дьяволом, если я правильно понимаю то, что он говорит. С ним, вероятно, приключилось что-то тяжелое, так как во сне и в состоянии полусна, в которое он часто впадает (и тогда он разговаривает сам с собой, не замечая моего присутствия), он не переставая говорит об отсеченных руках. Так как в этих случаях он сильно жестикулирует и страшно вращает глазами, то я предусмотрительно убрал подальше от него всякое оружие. В остальное время это славный парень, очень приятный собеседник, — что, понятно, я очень ценю после долгих месяцев одиночества, — деятельно помогающий мне в моих хлопотах. Он никогда не говорит о своей прошлой жизни, так что мне не удается открыть, кто он, собственно, такой. Особенно большой интерес он проявляет к насекомым и растениям, и некоторые его замечания свидетельствуют о его обширных познаниях в этой области. По-видимому, он чувствует себя у меня очень хорошо и не собирается уезжать; я решил позволить ему оставаться здесь сколько ему будет угодно. Как раз в последнее время мне нужен был помощник, так что, в общем, он явился очень кстати.
Уродливый негр, прибывший вместе с ним по Казамансе, говорит о какой-то женщине, которая сопровождала их и, если я правильно его понял, утонула, когда их лодка однажды опрокинулась. Я не удивился бы, если б узнал, что мой компаньон помог этому. В этой стране, когда мы хотим отделаться от кого-нибудь, в нашем распоряжении есть большой выбор средств, и никто никогда на этот счет не стесняется. Если когда-нибудь я узнаю больше подробностей, то напишу тебе или расскажу, когда ты приедешь ко мне. Да, я знаю… скоро тебе нужно будет отбывать воинскую повинность… Ну, что ж! Я подожду. Но помни, что, если ты хочешь увидеться со мной, тебе нужно будет решиться приехать сюда. Что до меня, то мое желание вернуться все больше слабеет. Я веду здесь жизнь, которая мне нравится и подходит мне, как костюм, сшитый на заказ. Торговля моя процветает, и крахмальный воротничок кажется ошейником, который я никогда больше не буду в силах носить.
При сем прилагаю новый чек, который ты используешь, как тебе заблагорассудится. Прежний предназначался для Рашели. Сохрани этот для себя…»
— Остальное неинтересно, — сказал Арман.
Оливье возвратил письмо, не говоря ни слова. Ему не пришло в голову, что убийца, о котором здесь шла речь, был его брат. Винцент давно уже не подавал о себе вестей; родители считали, что он уехал в Америку. По правде говоря, Оливье мало интересовался им.
XVII
Борис узнал о смерти Брони только от госпожи Софроницкой, которая навестила пансион спустя месяц после похорон. Со времени печального письма своей подруги Борис не получал никаких известий. Однажды, находясь, по своему обыкновению, в гостиной госпожи Ведель в перерыве между занятиями, он увидел, что открывается дверь и входит госпожа Софроницкая; так как она была в глубоком трауре, то он понял все еще прежде, чем она заговорила. Они были одни в комнате. Софроницкая заключила Бориса в свои объятия, и оба они разрыдались. Софроницкая лишь повторяла: «Мой бедный мальчик… Мой бедный мальчик…», словно один Борис нуждался в участии и словно позабыв свое материнское горе перед огромным горем этого мальчика.
Появилась госпожа Ведель, за которой послали, и Борис, еще весь сотрясаемый рыданиями, отошел в сторону, чтобы дать поговорить дамам. Ему хотелось, чтобы они не говорили о Броне. Госпожа Ведель, которая не была знакома с ней, говорила о ней так, словно та была обыкновенной девочкой. Самые вопросы, которые она задавала, казались Борису неделикатными благодаря их банальности. Ему хотелось, чтобы Софроницкая на них не отвечала, и он страдал, видя, как она выставляет напоказ свое горе. Свое собственное он запрятал глубоко в душе, как сокровище.
Конечно, это о нем думала Броня, когда спросила за несколько дней до смерти: «Мама, я хотела бы столько знать… Скажи, что значит идиллия?»
Борис хотел, чтобы ему одному стали известны эти слова, пронзавшие сердце.
Госпожа Ведель предложила чай. На столе стояла чашка для Бориса, которую он наспех выпил, потому что перемена кончилась; затем попрощался с Софроницкой, и та на другой день уехала в Польшу, куда ее звали дела.
Весь мир показался ему пустыней. Мать была очень далека, всегда в отлучках, дедушка слишком стар; подле него не было больше даже Бернара, в присутствии которого он чувствовал себя увереннее. Только нежная душа испытывает потребность в существе, которому она могла бы принести в дар свои благородство и чистоту. Борис не был настолько горд, чтобы любоваться этими своими душевными качествами. Он слишком сильно любил Броню, чтобы иметь надежду вновь найти когда-нибудь тот повод для любви, который он терял вместе с ней. Как теперь, без нее, верить в ангелов, которых он желал видеть? Теперь его небо опустело.
Борис возвратился в классную комнату с таким чувством, с каким он спустился бы в ад. Несомненно, он мог бы сделаться другом Гонтрана де Пассавана; это славный мальчик, и они ровесники, но ничто не способно отвлечь Гонтрана от занятий. Филипп Адаманти тоже не злой мальчик; он не желал бы ничего лучшего, как только привязаться к Борису; но он до такой степени подпал под влияние Гериданизоля, что не решается больше испытывать ни единого личного чувства; едва Гериданизоль ускоряет шаг, как он уже стремится идти с ним в ногу; между тем Гериданизоль терпеть не может Бориса. Его музыкальный голос, его грация, девичья наружность — все в нем раздражает, бесит Гериданизоля. Кажется, будто при виде Бориса он испытывает то инстинктивное отвращение, которое в стаде натравляет сильного на слабого. Может быть, он наслушался наставлений своего кузена, и его ненависть является немного надуманной, потому что в его глазах она приобретает характер осуждения. Он находит основания радоваться своей ненависти. Он отлично понял, насколько Борис чувствителен к презрению, с которым он к нему относится, это забавляет, и он притворяется, будто у него существует сговор с Жоржем и Фифи; его единственная цель — видеть, как Борис тоскливо вопрошающе на него смотрит.
— Как он, однако, любопытен, — говорит тогда Жорж. — Можно сказать ему?
— Не стоит. Он не поймет.
«Он не поймет». «Он не посмеет». «Он не сумеет». То и дело ему бросают в лицо такие упреки. Он ужасно страдает от того, что его не допускают в компанию. Он действительно не понимает толком данного ему оскорбительного определения: «Не способен»; или же приходит в негодование от его смысла. Чего только не дал бы он за возможность доказать, что он вовсе не такое ничтожество, как они думают!
— Терпеть не могу Бориса, — сказал Гериданизоль Струвилу. — Почему ты просил меня оставить его в покое? Он вовсе не хочет, чтобы его оставили в покое. Вечно посматривает в мою сторону… Недавно он очень развеселил всех нас, так как думал, что «баба с волосиками» означает «бородатая женщина». Жорж стал над ним потешаться. Когда Борис понял свою ошибку, мне показалось, что он расплачется.
Затем Гериданизоль забросал вопросами своего кузена; в заключение тот вручил ему «талисман» Бориса и рассказал, как им пользоваться.
Через несколько дней Борис, войдя в классную комнату, нашел на своей парте бумажку, о существовании которой стал уже забывать. Он выбросил ее из своей памяти вместе со всем тем, что касалось пресловутой «магии» лет, проведенных им в варшавской гимназии; теперь он стыдился всего этого. Сначала он не узнал бумажки, потому что Гериданизоль позаботился окружить магическую формулу «Газ. Телефон. Сто тысяч рублей» двухцветной — черной и красной — широкой рамкой, которую размалевал непристойными чертенятами, мастерски нарисованными. Все это придавало бумажке какой-то фантастический, таинственно-зловещий вид, который, по мнению Гериданизоля, способен был взволновать Бориса.
Может быть, все это было простой шуткой, но успех ее превзошел все ожидания. Борис сильно покраснел, не сказал ни слова, посмотрел по сторонам и не заметил Гериданизоля, который, спрятавшись за дверью, наблюдал за ним. Борис не мог сообразить, каким образом талисман очутился здесь; казалось, он упал с неба или, вернее, выскочил из преисподней. Борис, конечно, был теперь в возрасте, когда мальчики презрительно пожимают плечами перед такого рода ребяческой чертовщиной, но она разбудила в нем воспоминания о мрачном прошлом. Борис взял талисман и сунул его в карман куртки. Весь остаток дня его неотступно преследовало воспоминание о занятиях «магией». До вечера он боролся с темным искушением, но так как ничто больше не поддерживало его в этой борьбе, то, оставшись один в своей комнате, он не устоял.
Ему казалось, что он губит себя, совсем удаляется от Брони, но он находил удовольствие в этом, сама его гибель доставляла ему наслаждение.
И однако, несмотря на свое отчаяние, он хранил в глубине души такие запасы нежности, испытывал столь острое страдание от подчеркнуто пренебрежительного отношения к нему товарищей, что решился бы на самый рискованный и нелепый поступок, лишь бы приобрести их уважение.
Случай скоро представился.
После вынужденного отказа от сбыта фальшивых монет Гериданизоль, Жорж и Фифи недолго оставались праздными. Мелкие каверзные проделки, которыми они занялись в первые дни, были лишь интермедией. Воображение Гериданизоля снабдило их вскоре гораздо более пряным блюдом.
Единственной целью, что первоначально ставили себе члены «Братства сильных людей», было удовольствие держаться в стороне от Бориса. Но очень скоро Гериданизолю показалось, что будет, напротив, гораздо пикантнее допустить его в их число; это позволит им заставить его взять на себя такие обязательства, при помощи которых можно будет впоследствии довести его до какого-нибудь гнусного поступка. С того момента эта идея прочно засела в Гери; и, как часто случается в такого рода затеях, Гериданизоль куда меньше думал о самом существе дела, чем о способах обеспечить его успех; это кажется мелочью, но такая мелочь объясняет немало преступлений. Вдобавок Гериданизоль был жесток; но он ощущал потребность скрывать эту жестокость, по крайней мере от взоров Фифи. Фифи, напротив, был вовсе чужд жестокости; до последней минуты он пребывал в убеждении, что дело идет о простой шутке.
Всякое братство нуждается в девизе. Гериданизоль, у которого была своя мысль, предложил: «Сильный человек не дорожит жизнью». Девиз был принят и приписан Цицерону. В качестве отличительного знака Жорж предложил татуировку на правой руке; но Фифи, боявшийся боли, стал утверждать, что татуировкой занимаются только матросы. Гериданизоль поддержал его, возразив Жоржу, что татуировка оставляет неизгладимый след, который потом может причинить им неприятности. В конце концов отличительный знак не является такой настоятельной необходимостью; членам братства достаточно будет дать торжественную клятву.
Когда дело касалось сбыта фальшивых монет, возникла мысль о залогах, и в качестве такого залога Жорж представил письма своего отца. Вскоре, однако, об этом забыли. Дети, к счастью, не отличаются большим постоянством. В результате не было принято почти никаких решений ни по части «условий приема в братство», ни по части «требуемых качеств». На кой черт, раз считалось само собой разумеющимся, что трое были «настоящими членами», а Борис — «не в счет». Напротив, было постановлено, что «кто струсит, тот будет считаться предателем, навсегда выброшенным из братства». Гериданизоль, задавшийся целью привлечь в братство Бориса, особенно настаивал на этом пункте.
Нужно признать, что без Бориса игра была бы довольно скучной и доблести братства не находили применения. Для завлечения мальчика Жорж обладал более подходящими качествами, чем Гериданизоль; этот последний легко мог возбудить его недоверие; что касается Фифи, тот не отличался достаточной ловкостью и предпочитал не срамиться.
Самым чудовищным в этой отвратительной истории мне представляется, пожалуй, комедия дружбы, которую согласился разыграть Жорж. Он притворился, будто вдруг охвачен порывом нежной симпатии к Борису; до тех пор казалось, что он вовсе даже и не смотрел на него. И я склонен думать, уж не был ли он сам обманут своей игрой, не был ли он близок к тому, чтобы его притворные чувства обратились в искренние, и даже не стали ли они действительно таковыми с мгновения, когда Борис ответил на них. Он обращался к Борису с видом нежного участия; наученный Гериданизолем, подолгу говорил с ним… И после первых же его слов Борис, который так жаждал хотя бы капли уважения и любви, был покорён.
Тогда Гериданизоль выработал план действий и посвятил в него Фифи и Жоржа. План этот сводился к тому, чтобы придумать «испытание», которому должен будет подвергнуться тот из членов братства, кто вытянет брошенный жребий; чтобы успокоить Фифи, он дал понять, что все будет устроено таким образом, что жребий может выпасть только Борису. Испытание должно будет иметь целью удостовериться в его бесстрашии.
В чем именно будет заключаться это испытание, Гериданизоль пока не сообщал. Он подозревал некоторое противодействие со стороны Фифи.
— Ах, только не это! Я не согласен, — действительно заявил Фифи, когда немного позже Гериданизоль стал намекать, что здесь мог бы найти отличное применение пистолет папаши Лапера.
— Какой же ты, однако, дурак! Ведь мы хотим только посмеяться над ним, — возразил Жорж, уже пришедший в восторг от этой идеи.
— Кроме того, — прибавил Гери, — если тебе доставляет удовольствие валять дурака, заяви об этом откровенно. Никто в тебе не нуждается.
Гериданизоль знал, что этот аргумент всегда оказывает действие на Фифи; так как им был уже заготовлен листок с обязательствами, который должен был подписать каждый из членов братства, то он сказал:
— Нужно только заявить об этом сразу, потому что, когда подпишешься, будет слишком поздно.
— Ну, не сердись, — ответил Фифи. — Дай мне листок. — И подписался.
— Я, милый, очень хотел бы, — говорил Жорж, нежно обвив шею Бориса, — но Гериданизоль не хочет принимать тебя в братство.
— Почему?
— Потому, что не доверяет. Говорит, что ты сдрейфишь.
— Почему он знает?
— Говорит, что сбежишь после первого испытания.
— Посмотрим.
— Правда, что ты решишься тянуть жребий?
— Черт возьми!
— Но ты знаешь, к чему это обязывает?
Борис не знал, но хотел знать. Тогда Жорж объяснил ему: «Сильный человек не дорожит жизнью». Предстоит в этом убедиться.
Борис почувствовал, что голова у него пошла кругом. Но он поборол себя и спросил, скрывая волнение:
— Правда, что вы все подписались?
— На, смотри. — И Жорж протянул ему листок, на котором Борис мог прочесть все три фамилии.
— Ну а… — начал было он робко.
— Ну а… что? — перебил Жорж так грубо, что Борис не осмелился продолжать. Жорж отлично понимал, о чем он хотел спросить его: дали ли подобное обязательство также и другие и можно ли быть уверенным, что и они не сдрейфят?
— Нет, ничего, — сказал он; но с этой минуты в него закралось сомнение относительно других; он начал подозревать, что другие что-то замышляют и игра нечиста. «Ну и пусть, — тотчас же подумал он, — какое мне дело до того, что они плутуют; я докажу, что храбрее их всех». Затем, глядя Жоржу прямо в глаза: — Скажи Гери, что он может на меня положиться.
— Значит, подписываешься?
О, в этом не было больше необходимости; он ведь дал слово. Он сказал просто:
— Если тебе угодно. — И под подписью троих «сильных людей» вывел на злополучном листке размашистым четким почерком свою фамилию.
Жорж с торжеством принес листок приятелям. Все согласились, что Борис совершил очень смелый поступок, и стали обсуждать подробности выполнения плана.
Конечно, пистолет не будет заряжен! К тому же у них не было патронов. Страх Фифи объяснялся тем, что он слышал как-то, что смерть иногда может последовать от очень сильного волнения. Его отец, утверждал он, приводил случай одной инсценировки казни, которая… Но Жорж послал его к черту:
— Твой отец южанин.
Нет, Гериданизоль не станет заряжать пистолет. В этом не было надобности. Патрон, который однажды вложил в него Лаперуз, не был вынут. Факт этот был обнаружен Гериданизолем, но он не счел нужным сообщать о нем приятелям.
Четыре одинаковые бумажки с фамилиями были опущены в шапку. Гериданизоль, который должен был «тянуть», позаботился о том, чтобы написать фамилию Бориса и на пятой бумажке, зажатой у него у кулаке; и вот «случайно» была вытянута именно эта бумажка. Борис сильно подозревал, что тут было плутовство, но смолчал. К чему было протестовать? Он знал, что погиб. Он не сделал ни малейшего движения в свою защиту; и, если бы даже жребий выпал кому-нибудь другому, он готов был заменить его, настолько сильна была в нем решимость отчаяния.
— Бедняжка, тебе не везет, — счел своим долгом заметить Жорж. Но тон его голоса звучал так фальшиво, что Борис печально посмотрел на него.
— Я был уверен в этом, — сказал он.
После этого решено было приступить к репетиции. Но так как существовала опасность быть застигнутыми, то условились, что пистолетом сейчас пользоваться не будут. Его похитят из ящика в самый последний момент, когда начнется «настоящая игра». Не нужно навлекать на себя подозрений.
Итак, в тот день договорились лишь относительно времени и места, причем последнее отметили мелом на полу. Оно находилось в классной комнате, направо от кафедры, в нише, образованной заколоченной дверью, выходившей под свод подъезда. Что касается времени, то был избран час занятий. Это должно будет произойти на глазах у всех учеников: мы им утрем нос!
Репетиция была проделана в пустой комнате в присутствии троих заговорщиков. В общем, однако, она не имела большого смысла. Просто констатировали, что от места, занимаемого Борисом, до намеченного мелом пункта было ровно двенадцать шагов.
— Если ты не струсишь, то не сделаешь ни шагу больше, — сказал Жорж.
— Я не струшу, — заявил Борис, оскорбленный этим упорным сомнением. Его твердость начала производить впечатление на «сильных людей». Фифи считал, что на этом следует остановиться. Но Гериданизоль обнаруживал решимость довести затею до конца.
— Ладно, до завтра, — сказал он, странно улыбнувшись уголком рта.
— Давайте расцелуем его! — вскричал с энтузиазмом Фифи. Он вспомнил об обряде посвящения в рыцари и вдруг заключил Бориса в объятия. Борису с большим трудом удалось сдержать слезы, когда Фифи запечатлел на его щеках два звучных детских поцелуя. Ни Жорж, ни Гери не последовали его примеру; жест Фифи показался Жоржу не вполне достойным. Что же касается Гери, то он только презрительно пожал плечами…
XVIII
На другой день, вечером, звонок собрал пансионеров в классной комнате.
Борис, Гериданизоль, Жорж и Фифи сидели на одной скамейке. Гериданизоль вынул часы и положил их между собой и Борисом. Часы показывали тридцать пять минут шестого. Занятия начались в пять часов и должны были продолжаться до шести. Было условлено, что Борис должен все покончить без пяти шесть, как раз перед уходом учеников; так было лучше: можно было сейчас же улизнуть. Вынув часы, Гериданизоль сказал Борису вполголоса и не глядя на него, что, по его мнению, сообщало его словам большую фатальность:
— Ну, старина, тебе осталось всего четверть часа.
Борис вспомнил, как в одном недавно прочитанном им романе бандиты, перед тем как убить женщину, предложили ей помолиться, желая дать ей понять, что она должна приготовиться к смерти. Подобно иностранцу, приводящему в порядок свои бумаги на границе страны, которую он должен покинуть, Борис стал искать в своем сердце и в голове молитвы, но не нашел ничего; он, однако, так устал и в то же время был в таком напряженном состоянии, что не испытывал от этого большого огорчения. Он попытался собрать свои мысли, но не мог думать ни о чем. Пистолет оттягивал ему карман; не нужно было ощупывать рукой, чтобы почувствовать его.
— Только десять минут.
Жорж, сидевший слева от Гериданизоля, искоса наблюдал сцену, но делал вид, что не обращает на нее внимания. Он лихорадочно занимался. Никогда в классной комнате не царило такое спокойствие. Лаперуз не узнавал своих сорванцов и в первый раз вздохнул свободно. Фифи, однако, спокоен не был: Гериданизоль внушал ему страх; он не был вполне уверен, что затея кончится благополучно; сердце его замирало, так что он чувствовал боль в груди и по временам испускал глубокие вздохи. В заключение он не выдержал и вырвал листок из лежавшей перед ним тетрадки по истории — он должен был готовиться к экзамену, но строчки прыгали перед глазами, факты и даты путались в голове — и торопливо написал: «Ты хотя бы уверен, что пистолет не заряжен?» — затем протянул записку Жоржу, который передал ее Гери. Однако последний, прочтя ее, только пожал плечами, даже не взглянув на Фифи, потом скомкал и бросил щелчком как раз на место, обведенное мелом. После этого, довольный тем, что так ловко попал в цель, улыбнулся. Эта вымученная улыбка так и осталась у него до самого конца сцены; она, казалось, застыла на его лице.
— Еще пять минут.
Это было сказано почти вслух. Даже Филипп услышал. Сердце у него нестерпимо сжалось, и, хотя занятия должны были сейчас окончиться, он притворился, будто ощущает настоятельную потребность выйти, а может быть, и действительно почувствовал позывы; он поднял руку и щелкнул пальцами, как это обыкновенно делали ученики, испрашивая у учителя разрешения выйти; затем, не дожидаясь ответа Лаперуза, сорвался со скамейки. Чтобы достигнуть двери, он должен был пройти мимо кафедры; он почти бежал, шатаясь.
Почти сразу же после ухода Филиппа поднялся со скамейки Борис. Гонтран Пассаван, прилежно занимавшийся на следующей скамейке, поднял глаза. Он рассказывал потом Серафине, что Борис был «ужасно бледен»; но так всегда говорят в подобных случаях. К тому же он тотчас же перестал смотреть на Бориса и снова погрузился в занятия. Он сильно упрекал себя за это впоследствии. Если бы он мог предвидеть, что произойдет, он, наверное, помешал бы, со слезами говорил он потом. Но он ничего не подозревал.
Между тем Борис дошел до намеченного мелом места. Он двигался медленно, как автомат, неподвижно устремив взор в одну точку: был похож на сомнамбулу. Правой рукой он схватил пистолет, но держал его в кармане куртки; он вытащил его в самый последний момент. Фатальное мсто находилось, как я уже сказал, у самой заколоченной двери, которая образовывала направо от кафедры своего рода нишу, так что учитель мог увидеть происходящее там, лишь наклонившись с кафедры.
Лаперуз наклонился. Сначала он не понял, что делает его внук, хотя странная торжественность его жестов способна была внушить беспокойство. Он начал было как можно громче и стараясь придать тону своего голоса властность:
— Мсье Борис, прошу вас немедленно сесть на ваше…
И вдруг он увидел пистолет: Борис в эту секунду приставил его к виску. Лаперуз понял и мгновенно похолодел, словно кровь застыла у него в жилах. Он хотел встать, подбежать к Борису, удержать его, закричать… Что-то вроде глухого хрипа вырвалось у него; он остался стоять неподвижно, парализованный, сотрясаемый мелкой дрожью.
Грянул выстрел. Борис не сразу рухнул на пол. Одно мгновение тело его держалось, словно пригвожденное к нише; затем голова, упав на плечо, нарушила равновесие; труп тяжело опустился.
На полицейском дознании, имевшем место вскоре после происшествия, все были поражены тем, что подле Бориса — я хочу сказать, подле места, где он упал, так как почти тотчас же труп был перенесен на постель, — не нашли пистолета. В суматохе, последовавшей после выстрела Гериданизоль остался сидеть на месте, между тем как Жорж, перепрыгнув через скамейку, успел незаметно подобрать оружие: сначала он отшвырнул пистолет ногою и, когда все устремились к Борису, проворно схватил его, спрятал под курткой, затем украдкой передал Гериданизолю. Внимание присутствующих было настолько поглощено Борисом, что никто и не заметил, как Гериданизоль сбегал в комнату Лаперуза и положил пистолет на то место, откуда он его взял. Когда во время обыска полиция нашла пистолет в ящике, то могло бы даже возникнуть сомнение, что его брали оттуда и что Борис пользовался им, если бы Гериданизоль позаботился вынуть гильзу. Он, несомненно, совсем растерялся. Кратковременное помрачение, в котором он впоследствии упрекал себя, увы! гораздо больше, чем раскаивался в совершенном преступлении. Между тем как раз это самое помрачение его спасло. Ибо, когда он снова спустился вниз, чтобы присоединиться к другим, то вид трупа Бориса, который в это время выносили из классной комнаты, вызвал у него сильную судорогу, настоящий нервный припадок, в котором госпожа Ведель и Рашель, прибежавшие на шум, усмотрели свидетельство крайнего волнения. В существе столь еще юном мы готовы предположить все что угодно, только не бесчеловечность; поэтому когда Гериданизоль стал уверять, будто он невиновен, ему поверили. Переданная ему Жоржем записочка от Фифи, которую он отшвырнул щелчком и которую потом нашли под скамейкой, — эта маленькая скомканная бумажка послужила ему на пользу. Конечно, он был виновен наравне с Жоржем и Фифи в том, что принял участие в жестокой шутке; но он утверждал, что не согласился бы принять в ней участия, если бы знал, что пистолет заряжен. Один Жорж остался убежден, что вся ответственность за преступление падает на него.
Жорж не был настолько испорчен, чтобы его восхищение Гериданизолем не сменилось отвращением. Когда в тот вечер он вернулся к родителям, он бросился в объятия матери, и Полина была горячо признательна судьбе, которая с помощью этой страшной драмы возвратила ей сына.
ДНЕВНИК ЭДУАРДА
Не притязая давать фактам исчерпывающее объяснение, я все же не хотел бы приводить их без достаточной мотивировки. Вот почему я не воспользуюсь для моих «Фальшивомонетчиков» самоубийством Бориса; мне стоит большого труда понять его. Кроме того, я не люблю фактов из газетной рубрики «Происшествия». В них есть что-то непоправимое, непререкаемое, грубое, оскорбительно реальное… Я согласен, чтобы реальность подтверждала мою мысль, доказывала ее, но я решительно не допускаю, чтобы она ей предшествовала. Я не люблю быть захваченным врасплох. Самоубийство Бориса кажется мне прямо-таки неприличным, потому что оно явилось для меня неожиданностью.
В каждом самоубийстве всегда есть какой-то элемент малодушия вопреки убеждению Лаперуза, который, несомненно, считает, что его внук обладал большим мужеством, чем он. Если бы этот мальчик мог предвидеть беды, которые его роковой жест накликал на семейство Веделей, то ему нельзя было бы найти оправдания. Азаису пришлось распустить пансион — на короткое время, говорит он, но Рашель боится, что дело кончится крахом. Четыре семьи уже забрали своих детей. Мне не удалось отговорить Полину взять домой Жоржа, тем более что этот мальчик, глубоко потрясенный смертью товарища, как будто намерен исправиться. Сколько откликов вызывает это прискорбное событие! Даже Оливье очень взволнован. Несмотря на свой напускной цинизм, Арман тоже озабочен разорением, которое грозит его семье, и предлагает отдавать пансиону свободное время, которое, наверное, согласится предоставить ему Пассаван, ибо старик Лаперуз стал явно непригодным для исполнения возложенных на него обязанностей.
Я боялся навестить его. Он принял меня в своей маленькой комнате, на третьем этаже пансиона. Едва я вошел, он взял меня под руку и сказал с таинственным видом, почти улыбаясь, что очень изумило меня, так как я ожидал увидеть его в слезах.
— Шум, помните?… Шум, о котором я давеча говорил вам…
— Ну?
— Прекратился. С ним покончено. Я больше его не слышу. Напрасно я напрягаю все свое внимание…
Я ответил ему тоном, каким взрослые говорят с детьми, когда хотят подстроиться к затеянным ими играм:
— Держу пари, что теперь вы жалеете о том, что больше не слышите его.
— О нет, нет!.. Теперь наступило такое спокойствие! Я чувствую такую потребность в тишине… Знаете, о чем я думал? О том, что в течение этой жизни мы не можем постичь по-настоящему, что такое тишина. Даже наша кровь производит в нас непрерывный шум; мы не различаем его, потому что с детства к нему привыкли… Но, мне кажется, есть вещи, есть гармонии, которые нам не удается слышать в течение нашей жизни… оттого, что их заглушает этот шум. Да, мне кажется, что лишь после нашей смерти мы будем в состоянии слышать по-настоящему.
— Вы мне говорили, что не верите…
— В бессмертие души? Я говорил вам это?… Да, вы, вероятно, правы. Но я, понимаете ли, не верю также и в обратное.
И, видя, что я молчу, он, качая головой, продолжал наставительным тоном:
— Заметили ли вы, что в этом мире Бог всегда молчит? Говорит только дьявол. Или, по крайней мере… как мы ни напрягаем наше внимание, нам удается услышать только дьявола. У нас нет ушей, чтобы воспринять голос Бога. Слово Бога! Задавались вы когда-нибудь вопросом, чем оно может быть?… О, я не говорю вам о тех словах, которые переведены на человеческий язык… Помните, на первой странице одного из Евангелий сказано: «Вначале было слово». Я часто думал, что слово Бога и было самим творением. Но дьявол завладел им. Производимый им шум заглушает теперь голос Бога. Скажите мне, пожалуйста: как, по-вашему, останется все же за Богом последнее слово?… И если времени после смерти не существует, если мы сразу вступаем в вечность, то не кажется ли вам, что тогда мы будем в состоянии слышать Бога… прямо?
Охваченный каким-то исступлением, он затрясся всем телом, готовый, казалось, забиться в эпилептическом припадке; вдруг рыдания стали душить его:
— Нет! Нет! — глухо восклицал он. — Дьявол с Богом заодно, они действуют сообща. Мы стараемся убедить себя, будто все зло, существующее на земле, идет от дьявола, но это объясняется тем, что иначе мы не нашли бы в себе сил простить Богу. Он играет с нами, как кошка с мышью, которую она мучит… И после этого он еще требует от нас быть признательными ему. Признательными за что? за что?…
Затем, наклонившись ко мне:
— Знаете, что самое ужасное из всего сделанного им?… Принести в жертву собственного сына для нашего спасения. Собственного сына! Собственного сына!.. Жестокость — вот первое из свойств Бога.
Он бросился на кровать и повернулся лицом к стене. Еще несколько мгновений его корчила судорога, затем он как будто забылся, и я покинул его.
Он не сказал мне ни слова о Борисе; но мне показалось, что в этом бездонном отчаянии следует видеть косвенное выражение его горя, слишком огромного, чтобы у него хватило сил смотреть на него в упор.
Я узнал от Оливье, что Бернар возвратился к отцу; право, это лучшее, что он мог сделать. Узнав от Калу, с которым случайно тот встретился, что здоровье старого следователя неважно, Бернар послушался голоса собственного сердца. Мы должны увидеться завтра вечером, так как Профитандье пригласил меня на обед вместе с Молинье, Полиной и двумя мальчиками. Мне очень любопытно познакомиться с Калу.
8. VI.1925 г.

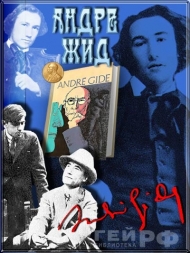


1 комментарий