Оскар Уайльд
Телени, или Обратная сторона медали
Камиль де Гриё посещает благотворительный концерт пианиста, красивого иностранца - Рене Телени. Восхищается исполнителем и влюбляется в него с первого взгляда.
Знаменитый скандальный роман Оскара Уайльда. "Эротический роман... настоящая литературная сенсация. История любви двух молодых людей описана во всех психологических, анатомических и эротических подробностях..." (издательство "Аграф"). Гей-роман, классика гей-литературы.
Прижавшись друг к другу, мы только и могли, что попытаться заглушить свои стоны, когда горячие капли последовали одна за другой.
Изнеможение, последовавшее за чрезмерным нервным напряжением, наступило как раз тогда, когда коляска остановилась у дверей дома Телени — тех самых дверей, в которые я так недавно исступленно колотил кулаком.
Мы с трудом вылезли из коляски, но едва дверь за нами затворилась, мы уже снова целовались и ласкали друг друга с удвоенной энергией.
Несколько минут спустя, почувствовав, что наше желание слишком сильно, чтобы выдерживать его далее, он сказал: «Идемте, зачём мешкать и терять драгоценное время здесь, в темноте и холоде?»
«А разве здесь темно и холодно?» — отозвался я.
Он нежно меня поцеловал.
«Вы мой свет во мраке; вы мой огонь средь стужи; рядом с вами ледяные пустыни полюса были бы для меня райским садом», — продолжал я.
Мы стали ощупью подниматься по темной лестнице, ибо я не позволил ему зажечь спичку. Я шел, постоянно наталкиваясь на него, — не то чтобы я ничего не видел, просто я был одурманен желанием, как пьяный — вином.
Скоро мы были в его квартире. Оказавшись в маленькой, тускло освещенной передней, Рене раскрыл для меня свои объятия.
«Добро пожаловать! — сказал он. — Пусть этот дом навеки станет твоим. — И тихим, звучащим как незнакомая музыка голосом добавил: — Тело мое истомилось по тебе, душа моей души, жизнь моей жизни!»
Он едва успел произнести эти слова, как мы принялись любовно ласкать друг друга. Так мы гладили друг друга несколько минут. Затем он спросил: «Вы знаете, что я ждал вас сегодня?»
«Ждали меня?»
«Да. Я знал, что рано или поздно вы станете моим. Более того, я чувствовал, что вы придете сегодня».
«Как это?»
«У меня было предчувствие».
«Разве я не пришел?»
«Мне следовало сделать то, что собирались сделать вы, когда я вас встретил, ибо жизнь без вас была бы невыносима».
«Что?! Утопиться?!»
«Нет, не совсем так: река слишком холодна и угрюма, а я слишком большой сибарит. Нет, мне просто следовало заснуть вечным сном и в грезах видеть вас в этой комнате, приготовленной для вашего прихода, куда не ступала нога ни одного мужчины».
Говоря это, он открыл дверь маленькой комнаты и провел меня внутрь. Меня сразу же приветствовал сильный, насыщенный запах гелиотропа.
Это была весьма необычная комната; стены ее покрывала какая-то теплая, мягкая стеганая материя белого цвета, вся усеянная матовыми серебряными пуговицами; на полу лежали белые кудрявые шкурки молодых барашков; посреди комнаты стояла широкая тахта, на которой раскинулась шкура огромного белого медведя. Этот единственный предмет мебели озаряла своим бледным мерцающим светом старинная серебряная лампа
очевидно, привезенная из какого-то византийского храма или восточной синагоги; все же этого света было достаточно, чтобы осветить ослепительную белизну этого святилища Приапа, жрецами которого мы являлись.
«Я знаю, — сказал он, втаскивая меня внутрь, — я знаю, что белый — ваш любимый цвет, что он очень идет к вашему смуглому лицу, так что комната убрана для вас и только для вас. Никакой другой смертный никогда не ступит сюда». Произнося эти слова, Рене ловко сорвал с меня одежды, — я в его руках был словно спящий ребенок или человек, находящийся под гипнозом.
В мгновение ока я оказался не только совершенно наг но и распластан на шкуре медведя, в то время как Рене, стоя напротив, смотрел на меня вожделеющими, голодными глазами.
Я всем телом ощущал его жадные взгляды; они проникали в мой мозг, и у меня начала кружиться голова; они пронизывали сердце и распаляли кровь, заставляя ее быстрее течь по артериям; они стрелами мчались по венам, и фаллос откинул свой капюшон и яростно поднял голову, так что запутанная сеть вен на его теле, казалось, была готова лопнуть.
Рене потрогал меня везде, после чего стал прижиматься губами ко всем частям тела, осыпая поцелуями грудь, руки, ноги, бедра; добравшись до промежности, он с восхищением прижался лицом к густым вьющимся волосам, что растут там в изобилии.
Рене задрожал от восторга, почувствовав кудрявые волосы на своем лице и шее; потом, взяв в руку мой фаллос, прижался к нему губами. Это, казалось, наэлектризовало его, и тогда кончик, а затем и вся головка скрылась у него во рту.
Я не мог оставаться спокойным. Я сжал руками кудрявую надушенную голову; по всему телу пробежала дрожь; нервы были напряжены до предела; ощущение было столь острым, что я едва не обезумел.
Весь ствол оказался у Рене во рту, а головка касалась нёба; язык его то ли расширился, то ли утолстился и щекотал меня повсюду. То любимый жадно сосал меня, то слегка покусывал, то кусал. Я кричал, я молил его остановиться. Я больше не мог выдерживать такое напряжение; это меня убивало. Если бы это продлилось еще хотя бы мгновение, я бы лишился чувств. Он был глух к моим мольбам и безжалостен. Перед глазами у меня мелькали молнии; по телу неслась огненная лавина.
«Хватит… остановитесь, хватит!» — стонал я. Нервы мои были натянуты, как струны; я затрепетал; подошвы ног, казалось, просверлили. Я извивался, я бился в конвульсиях.
Рука, ласкавшая мои яички, скользнула мне под зад, и палец проник в отверстие. Казалось, спереди я был мужчиной, а сзади — женщиной, поскольку удовольствие чувствовал в обоих местах.
Мое возбуждение достигло высшей точки. Голова закружилась; тело расслабилось; обжигающее молоко жизни снова начало подниматься, словно огненный сок; кипящая кровь ударила в голову, приводя меня в исступление. Я был измучен; я лишился чувств от удовольствия и упал на Рене безжизненной массой.
Несколько минут спустя я вновь стал самим собой — я жаждал занять его место и вернуть ему только что подаренные ласки.
Я сорвал с его тела одежды, так что очень скоро он был также наг, как и я. Какое это было наслаждение — чувствовать его кожу всем телом с головы до ног! Только что испытанное удовольствие лишь усилило мою страсть, и, сжав друг друга в объятиях, мы катались по полу, терлись друг о друга, ползая и извиваясь, как два возбужденных кота, доводя друг друга до исступления.
Но губы мои жаждали прикоснуться к фаллосу — органу, который мог бы послужить моделью для огромного идола, установленного в храме Приапа или над дверями помпейских борделей, вот только при виде этого бескрылого бога большинство мужчин — а многие так и поступали — оставили бы женщин ради любви своих собратьев. Он был большим, но не имел ослиных пропорций; он был толстым и круглым, хотя к концу слегка сужался; головка — плод из плоти и крови, похожий на маленький абрикос, — выглядела мясистой, округлой и аппетитной.
Я пожирал его голодными глазами; я держал его в руках, я целовал его; я чувствовал его нежную гладкую кожу губами; от этого он, движимый внутренними силами, начинал шевелиться. Мой язык проворно щекотал головку, стараясь вонзиться меж этих крошечных розовых губок, которые набухли от любви и, раскрывшись, выпустили крошечную капельку искрящейся росы. Я лизал крайнюю плоть и с жадностью сосал его весь. Телени поставил его вертикально, а я старался крепко сжимать ею губами; он поднимал его все выше и выше и касался моего нёба; фаллос почти доставал до моего горла, и я чувствовал, как он подрагивает, проживая свою собственную жизнь. Я двигался все быстрее, быстрее, быстрее. Телени яростно сжал мою голову; каждый нерв его трепетал.
«Ваш рот пылает; вы высасываете мой мозг! Перестаньте, перестаньте! Все тело горит! Я больше… не могу! Не могу — это слишком!»
Он крепко сдавил мою голову, чтобы заставить меня остановиться, но я лишь сильнее сжал фаллос губами, щеками, языком; движения мои все убыстрялись и убыстрялись; еще несколько ударов — и я почувствовал, как Телени задрожал всем телом, словно с ним случился приступ головокружения. Он вздыхал, он стонал, он кричал. Струя теплой, похожей на мыло, острой на вкус жидкости ударила мне в рот. Голова закружилась; удовольствие было столь пронзительным, что граничило с болью.
«Хватит, хватит!» — стонал он слабо, закрыв глаза и задыхаясь.
Но я обезумел от мысли, что теперь Рене действительно стал моим, что я пил обжигающий пенящийся сок его тела, настоящий эликсир жизни.
Его руки судорожно схватили мою голову. Затем на него нашло оцепенение; бурное распутство совершенно истощило его.
Я испытал почти такое же сильное наслаждение. Обезумев, я сосал его жадно, ненасытно и тем самым вызвал обильное семяизвержение; в то же время маленькие капли такой же жидкости, что я поглощал, медленно и болезненно вытекали из моего собственного тела. После этого нервы наши расслабились, и мы в изнеможении упали друг на друга.
Короткий отдых — не могу сказать, насколько короткий, ибо напряжение не измеряется степенной поступью Времени, — и я снова почувствовал, как его обессилевший пенис пробуждается ото сна и прижимается к моему лицу. Очевидно, он пытался найти мой рот, подобно тому, как наевшийся досыта, но жадный ребенок даже во сне крепко сжимает сосок матери просто ради удовольствия держать его во рту.
Я прижался к нему губами. Словно молодой петух, проснувшийся на рассвете, который вытягивает шею и громко кричит, фаллос вытянул свою головку и ударился о мои теплые, набухшие губы.
Как только я взял его в рот, Телени перевернулся и встал в такую же позицию, какую я занимал по отношению к нему, то есть его рот был на уровне моего паха, но только я лежал на спине, а он стоял надо мной.
Он принялся целовать мой жезл. Он перебирал густые волосы, растущие вокруг него, он гладил меня по ягодицам, но главное — он как-то по-особенному ласкал мои яички, что доставляло мне неописуемое наслаждение.
Его руки настолько усиливали удовольствие, даримое его губами и фаллосом, что скоро я был вне себя от возбуждения.
Наши тела слились в одну трепещущую сладострастную массу, но, хотя оба увеличивали скорость движений, мы настолько обезумели от страсти, что при таком нервном напряжении семенные железы отказывались выполнять свою работу.
Зря мы трудились. Рассудок внезапно покинул меня; запекшаяся кровь тщетно пыталась просочиться наружу; казалось, она водоворотом кружилась у меня в глазах и вызывала звон в ушах. Я бился в припадке эротического экстаза — в припадке безумия.
Мозг мой, казалось, был трепанирован, позвоночник — распилен надвое. Тем не менее я все быстрее и быстрее сосал фаллос; я втягивал его в себя как сосок; я пытался опустошить его и ощущал, как тот пульсирует, дрожит и трепещет. Внезапно врата семявыводящих каналов открылись, и из адского пламени мы, осыпаемые дождем обжигающих искр, поднялись на восхитительно спокойный, сладостный Олимп.
Отдохнув несколько минут, я приподнялся на локте и стал наслаждаться удивительной красотой моего любовника. Он был настоящим образцом чувственной красоты; грудь у него была широкая и сильная, руки — мускулистые; на самом деле я никогда не видел столь могучего и в то же время хрупкого сложения; на нем не только не было ни капли жира, но даже лишней плоти. Он состоял из нервов, мускулов и жил. Именно крепкие, гибкие суставы делали его движения свободными, легкими и грациозными, что так характерно для семейства кошачьих, от которых в нем была еще и гибкость; ибо, когда он прижимался к вам, казалось, он обвивается вокруг вас, как змея. Кожа у него была жемчужной белизны, тогда как волосы на всех частях тела, кроме головы, были черными.
Телени открыл глаза, потянулся ко мне, взял мою руку, поцеловал и затем укусил меня сзади за шею; после этого он осыпал мою спину поцелуями, которые следовали друг за другом с такой частотой, что казалось, на меня пролился дождь из лепестков розы, осыпавшихся с какого-то пышного цветка.
Потом он добрался до двух мясистых долей, раздвинул их руками и вонзил язык в то отверстие, куда так недавно засовывал палец. Это ощущение было для меня новым и волнующим. Проделав это, он встал и протянул руку, чтобы помочь мне подняться.
«А теперь, — сказал он, — давайте пройдем в соседнюю комнату и посмотрим, нет ли там чего-нибудь поесть; думаю, нам необходимо подкрепиться, хотя, возможно, было бы неплохо принять ванну, перед тем как сесть за стол и поужинать. Как вы думаете?»
«Это может причинить вам беспокойство».
В ответ он проводил меня в комнату наподобие кельи, всю уставленную папоротниками и перьевидными пальмами, в которую — как он показал — солнечные лучи проникали через световой люк, расположенный сверху.
«Это нечто вроде теплицы и ванной комнаты, которые должны быть в любом жилом помещении. Я слишком беден, чтобы иметь и то, и другое, однако эта каморка достаточно велика, чтобы я мог совершить омовение, и мои растения вроде бы прекрасно растут в этой теплой и влажной среде».
«Но это королевская ванная комната!»
«Нет, нет, — улыбнулся он, — это ванная комната артиста».
Мы немедленно погрузились в теплую воду, наполненную ароматом гелиотропа; и так приятно было лежать в объятиях друг друга после недавних излишеств.
«Я мог бы пробыть здесь всю ночь, — произнес он задумчиво. Такое наслаждение — гладить вас в этой теплой воде. Но вы, должно быть, голодны, так что лучше нам пойти и удовлетворить внутренние потребности».
Мы вышли из ванны и ненадолго укутались в peignoirs[79] из махровой материи.
«Пойдемте, я провожу вас в столовую», — сказал он.
Я медлил, поглядывая то на свою, то на его наготу. Он улыбнулся и поцеловал меня.
«Ведь вам не холодно?»
«Нет, но…»
«Ну, тогда не бойтесь — в доме никого нет. Все спят в своих квартирах; кроме того, все окна плотно закрыты и все шторы задернуты»
Он потащил меня в соседнюю комнату, устланную толстыми, мягкими, шелковистыми коврами неяркого красного цвета. В центре комнаты висела необычного вида лампа, имеющая форму звезды; такие светильники даже в наши дни — правоверные зажигают в пятницу вечером.
Мы сели на мягкие подушки тахты напротив одного из тех арабских столов черного дерева, что полностью инкрустированы крашеной слоновой костью и перламутром.
«Не могу предложить вам пира, хотя и ожидал вас, однако надеюсь, еды здесь достаточно, чтобы утолить ваш голод».
Там были сочные канкальские устрицы — немного, но зато огромных размеров, запыленная бутылка сотерна, pate de foie [80], сильно пахнущий перигорскими трюфелями, куропатка с паприкой, то есть венгерским карри, салат, приготовленный из огромного пьемонтского трюфеля, нарезанного тонко, как стружка, и бутылка изысканного сухого хереса.
Все эти деликатесы были поданы в старинной изящной посуде из синего дельфтского и савонского фаянса, поскольку Телени уже слышал о моем увлечении старинной майоликой.
Затем подошла очередь кушанья из померанца, бананов и ананасов, приправленных мараскином и посыпанных сахарной пудрой. Это была пряная, терпкая, сладкая смесь, соединившая в себе вкус и аромат всех этих изысканных фруктов.
Запив блюда искрящимся шампанским, мы стали потягивать ароматный обжигающий кофе мокко из крошечных чашечек. Затем он зажег наргиле — турецкий кальян, и мы время от времени пускали клубы благоухающего дыма латакии, вдыхая его изо рта друг друга во время жадных поцелуев.
Дым и винные пары поднимались к нашим головам, вновь пробуждая чувственность и скоро наши губы уже сжимали мундштуки более толстые, нежели янтарный мундштук турецкой трубки.
Наши головы снова скрылись меж бедер друг друга. И опять мы слились в одно тело, наслаждаясь друг другом. Жаждая новых ласк, новых ощущений — более острых, опьяняющих сладострастных, стремясь доставить удовольствие не только себе, но и другому. Так что очень скоро мы сделались жертвами губительной страсти, и лишь невнятные звуки свидетельствовали о том, что она достигла высшей точки; наконец, ни живы ни мертвы, мы упали друг на друга — единая масса трепещущей плоти.
После получасового отдыха и кубка арака, кюрасо и пунша с виски, приправленного множеством острых бодрящих специй, наши губы снова прижались друг к другу.
Прикосновения его влажных губ к моим губам были столь легкими, что я почти не чувствовал их; они пробудили во мне страстное желание прижаться к ним сильнее; кончик языка Рене продолжал дразнить мой язык, на миг врываясь в мой рот и поспешно выскальзывая. Тем временем его руки легко скользили по самым нежным частям моего тела, как мягкий летний ветерок скользит по гладкой поверхности воды, и я чувствовал, как моя кожа дрожит от наслаждения.
Я лежал на тахте на подушках и, таким образом, находился на одной высоте с Телени. Он быстро положил мои ноги себе на плечи и, склонив голову, принялся сначала целовать отверстие в моем заду, а потом вонзать в него свой острый язык, даря мне неописуемое удовольствие. Обильно увлажнив отверстие и таким образом подготовив его, он попытался вжать в него головку фаллоса, но, хотя давил изо всех сил, ему никак не удавалось проникнуть внутрь.
«Дайте я немного увлажню его, и тогда он войдет легче».
Я снова взял его фаллос в рот. Язык ловко пробежался по окружности. Я всосал его почти по самый корень, ощущал, что он готов на маленькую шалость, ибо был твердым, тугим и резвым. «А теперь давайте вместе испытаем то наслаждение, получать которое научили нас сами боги», — сказал я.
Кончиками пальцев я до предела раздвинул края своей потаенной ямки. Она широко раскрылась, дабы принять огромное орудие, расположившееся у входа.
Рене вновь стал вдавливать в него головку; крошечные губки просунулись в отверстие; кончик пробил себе дорогу внутрь, но мясистая плоть выпирала по краям и не давала жезлу продвигаться дальше.
«Вам не больно? — спросил он. — Может быть, лучше отложить это до следующего раза?»
«О, нет! Такое счастье чувствовать, как ваша плоть входит в мою».
Он давил мягко, но настойчиво; сильные мышцы ануса расслабились; головка полностью вошла; кожа натянулась до такой степени, что по трескающимся краям отверстия появились крошечные рубиновые капельки крови; но, несмотря на все эти терзания удовольствие, которое я испытывал, было значительно сильнее боли.
Телени оказался зажат настолько крепко, что не мог ни продвинуть свое орудие глубже, ни вынуть его; он попытался вдавить его, но почувствовал себя так, словно его подвергли обрезанию. На мгновение он остановился, спросил, не очень ли мне больно и, получив отрицательный ответ, вонзил фаллос со всей силой.
Рубикон был перейден; ствол начал потихоньку входить; Телени мог приступить к приятной работе. Скоро весь пенис оказался внутри; боль, терзавшая меня, утихла, наслаждение же все росло и росло. Я ощущал, как внутри меня двигается маленький бог; казалось, он щекотал самую мою сущность; Рене протолкнул его весь в меня, до самого корня; я чувствовал, как его волосы ударяются о мои, а его яички нежно об меня трутся.
Затем я увидел, что его прекрасные глаза пристально смотрят на меня. Какими же бездонными были эти глаза! Словно небо или луна, они, казалось, отражали бесконечность. Никогда больше я не увижу глаз, горящих такой пылкой любовью и таких томных. Его взгляд действовал на меня как гипноз; он лишал меня рассудка и даже больше — он превращал острую боль в наслаждение.
Я был в состоянии исступленного восторга; нервы мои напряглись и подергивались. Почувствовав себя крепко стиснутым, Телени задрожал и заскрежетал зубами; он не мог перенести столь сильного потрясения; он протянул руки и схватил меня за плечи, впившись в мою плоть ногтями; он пытался двигаться, но был так сильно зажат и сдавлен, что никак не мог протиснуться глубже. Силы покидали его, и он едва держался на ногах.
В тот момент, когда он попытался сделать еще один толчок, я изо всех сил сжал его жезл, и мощнейшая струя горячим гейзером вырвалась из него и потекла в меня, словно жгучий, разъедающий яд; она, казалось, запалила мою кровь и превратила ее в некий пьянящий, возбуждающий алкогольный напиток. Дыхание Рене было частым и судорожным, его душили всхлипы; он совершенно выбился из сил.
«Я умираю! — с трудом выдавил он из себя; грудь его вздымалась от волнения. — Это слишком». И он без чувств упал в мои объятия.
Полчаса спустя он проснулся и сразу же принялся восторженно целовать меня; глаза его светились нежностью и благодарностью.
«Вы дали мне почувствовать то, чего я не испытывал никогда прежде».
«Я тоже не испытывал ничего подобного», — улыбнулся я.
«Я действительно не знал, в раю нахожусь или в аду. Я совершенно потерял рассудок».
Он замолчал и взглянул на меня.
«Как я люблю вас, мой Камиль! Я безумно люблю вас с того самого момента, как увидел».
Я рассказал ему о том, как страдал, пытаясь побороть свою любовь к нему, как его образ преследовал меня днем и ночью и как, наконец, я счастлив.
«Теперь вы должны занять мое место. Вы должны дать мне почувствовать то, что испытали сами. Вы будете активны, я — пассивен; но нам нужно попробовать другую позу, потому что после такого переутомления стоять очень тяжело».
«И что я должен делать? Видите ли, я новичок».
«Сядьте там, — ответил он, указывая на табурет, сделанный специально для этой цели, — я сяду на вас в позе наездника, а вы насадите меня так, как если бы я был женщиной. Этот способ столь по душе женщинам, что они прибегают к нему при малейшей возможности. Моя мать каталась верхом на джентльмене прямо у меня на глазах. Я был в гостиной, когда к ней заглянул друг и, если бы меня отослали, могли бы возникнуть подозрения, так что меня убедили, что я — несносный мальчишка, и поставили в угол лицом к стене. Мать сказала, что, если я стану плакать или повернусь, она отправит меня в постель, но если я буду хорошим мальчиком, она даст мне пирога. Минуту или две я вел себя послушно, но, услыхав необычное шуршание и громкое пыхтение, я обернулся и увидел то, чего в то время понять не мог, но что стало ясно много лет спустя».
Он вздохнул, пожал плечами, улыбнулся и добавил: «Ну ладно, садитесь сюда».
Я сделал, как меня просили. Сначала Рене встал на колени, чтобы прочесть молитву Приапу, целовать который было более приятно, нежели изуродованные подагрой пальцы ног старого Папы Римского; омыв и пощекотав маленького бога языком, Рене сел на меня верхом. Он потерял девственность давно, поэтому мой жезл вошел в него намного легче, чем его — в меня, да и такой боли, какую испытал сам, я ему не причинил, хотя мое орудие весьма велико.
Он раскрыл отверстие, головка вошла, он слегка продвинулся, фаллос наполовину оказался внутри; Телени приподнялся и снова опустился; после нескольких толчков в его тело погрузился весь разбухший ствол. Насладившись полностью, Телени обвил руками мою шею, обнял меня и поцеловал.
«Вы жалеете о том, что отдались мне?» — спросил он, судорожно сжимая меня, словно боясь потерять.
Мой пенис, как будто желал дать собственный ответ, встрепенулся в его теле. Я пристально посмотрел ему в глаза. «Думаете, лежать на илистом дне реки было бы приятнее?»
Он вздрогнул, поцеловал меня и со страстью проговорил: «Как вы можете думать сейчас о таких ужасных вещах? Это богохульство перед мизийским богом».
И он искусно и ловко начал приапические скачки; с иноходи он перешел на рысь, затем на галоп, все быстрее и быстрее приподнимаясь на кончиках пальцев ног и опускаясь. При каждом движении он извивался и изгибался, и я чувствовал себя так, словно меня втягивают, сжимают, выкачивают и высасывают одновременно.
Нервное напряжение было сильным. Сердце стучало так, что я с трудом дышал. Все артерии готовы были лопнуть. Кожу иссушил жар; вместо крови по венам тек медленный огонь.
Но Рене продолжал двигаться все быстрее. Я корчился в сладостных муках. Я таял, но он не останавливался ни на минуту, пока не выкачал из меня всю животворную влагу до последней капли. Перед глазами все плыло. Я чувствовал, как полузакрылись мои отяжелевшие веки; невыносимая сладостная смесь боли и наслаждения пронзала тело и разрывала душу; и тут все во мне утихло. Телени сжал меня в объятиях, и я лишился чувств, а он целовал мои холодные, безжизненные губы.
— Наутро события прошедшей ночи казались прекрасным сном.
— Однако вы, вероятно, чувствовали недомогание после многочисленных…
— Недомогание? Вовсе нет. Более того, я испытывал «несказанный, бурный восторг» влюбленного жаворонка, «непознавшего печали пресыщения». До сих пор наслаждение, даримое женщинами, действовало мне на нервы. В действительности оно было «чем-то, что скрывает истинное желание». Теперь страсть переполняла сердце и разум — приятная гармония всех чувств.
Мир, который до сих пор казался мне таким мрачным, таким холодным, таким пустынным, превратился в истинный рай; воздух — несмотря на то, что барометр значительно упал, — был свеж, прозрачен и сладок; солнце — круглый, начищенный медный диск, больше похожий на зад краснокожего индейца, нежели на лучезарное лицо Аполлона, — было для меня чудом; даже густой, тяжелый туман, нагнавший сумерки в три часа пополудни, казался мне всего лишь дымкой, которая скрыла все недостатки и сделала природу прекрасной, а дом — таким милым и уютным. Такова сила воображения.
Вы смеетесь?! Увы! Дон-Кихот был не единственным, кто принимал ветряные мельницы за великанов, а трактирщиц — за принцесс. Если ваш неповоротливый, твердолобый лавочник никогда не теряет голову настолько, чтобы перепутать яблоки с картофелем, если ваш бакалейщик никогда не превращает ад в рай, а рай в ад, — что ж, они нормальные люди, взвешивающие все на прекрасно сбалансированных весах разума. Попробуйте упрятать их в ореховую скорлупу и посмотрите, будут ли они считать себя правителями мира. В отличие от Гамлета[81] они всегда видят то, что есть на самом деле. Я никогда таким не был. Впрочем, ведь мой отец умер, будучи безумным.
Как бы то ни было, эта непреодолимая тоска, это отвращение к жизни теперь совершенно исчезли. Я был весел, радостен, счастлив. Телени был моим любовником, я был его любовником.
Я совершенно не стыдился своего преступления; мне хотелось объявить об этом на весь мир. Впервые в жизни я понял, что влюбленные могут быть настолько глупы, чтобы сплетать свои инициалы. Мне хотелось вырезать его имя на стволах деревьев, чтобы птицы, увидев его, щебетали его с рассвета до заката, чтобы ветерок шептал его шелестящей листве леса. Мне хотелось писать его на покрытом галькой берегу, чтобы сам океан узнал о моей любви к Телени и вечно повторял его имя.
— Однако же я думал, что наутро, когда опьянение прошло, вы содрогнулись при мысли о том, что вашим любовником был мужчина.
— Но почему? Разве я совершил преступление против природы, когда моя собственная природа таким образом обрела покой и счастье? Если я был таким, каким был, то виной тому моя кровь, а не я. Кто вырастил крапиву в моем саду? Не я. Она росла там сама по себе со времен моего детства. Я начал чувствовать её кровожадные укусы задолго до того, как понял, к чему это приведет. Разве я виноват в том, что, когда пытался обуздать свою страсть, чаша весов с разумом оказалась слишком легкой, чтобы уравновесить чувственность? Моя ли вина, что я не смог успокоить свои бушующие чувства? Судьба, словно Яго[82], ясно дала понять, что если я хочу обречь себя на муки ада, то могу сделать это более изящно, нежели утопиться. Я подчинился судьбе и перехитрил свое счастье.
Тем не менее я никогда не говорил, как Яго: «Добродетель — пустяк!». Нет, добродетель — сладкий вкус персика; порок — крошечная капелька синильной кислоты — его восхитительный привкус. Без любого из них жизнь была бы пресной.
— Однако же я бы подумал, что, не будучи приученным к содомии со школьных лет, вы почувствовали отвращение из-за того, что позволили какому-то мужчине насладиться вашим телом.
— Отвращение? Спросите девственницу, сожалеет ли она о том, что отдала невинность тому, кого она безумно любит и кто отвечает ей тем же. Она потеряла сокровище, которое нельзя вернуть за все богатства Голконды[83]; она больше не является тем, что принято называть чистой, непорочной лилией; и, если она не обладает змеиным коварством, общество заклеймит ее позором; развратники будут бросать на неё плотоядные взоры, а целомудренные с презрением отвернутся от нее. Но разве она раскаивается в том, что отдалась во имя любви — единственного, ради чего стоит жить? Нет, И я сожалел не более. Пусть «холодные головы и равнодушные сердца» покарают меня своим гневом, если им угодно.
На следующий день, когда мы встретились снова, все следы усталости исчезли. Мы бросились друг к другу в объятия и стали осыпать друг друга поцелуями, ибо ничто не стимулирует любовь так, как короткая разлука. Что делает брачные узы невыносимыми? Слишком близкие отношения, низменные заботы и обыденность. Юная невеста, должно быть, действительно любит, если не испытывает разочарования, глядя на только что проснувшегося и переставшего громко храпеть супруга, помятого, небритого, в подтяжках и комнатных туфлях, слыша, как он прочищает горло и отхаркивается, — ибо все мужчины отхаркиваются, даже те, кто не позволяют себе других неприятных звуков.
Так же и мужчина должен любить по-настоящему, дабы не почувствовать, что внутри у него все опускается, когда через несколько дней после свадьбы обнаруживает, что промежность его невесты плотно перевязана отвратительными кровавыми лохмотьями. Почему природа не создала нас такими же, как птицы, или лучше, как мошки, чтобы жить всего один летний день — долгий день любви?
В тот вечер Телени превзошел самого себя в игре на рояле; и, когда дамы перестали махать крошечными платками и забрасывать его цветами, он незаметно ускользнул от толпы поздравляющих его почитателей и пришел ко мне; я ждал его в коляске у дверей театра; мы отправились к нему домой. Ту ночь я провел с ним; это не была ночь спокойного сна, это была ночь пьянящего блаженства.
Мы как верные жрецы греческого бога совершили семь обильных возлияний Приапу, ибо семь — мистическое, каббалистическое, счастливое число; и утром с трудом оторвались друг от друга, клянясь в вечной любви и верности. Но, увы, разве есть что-то постоянное в этом вечно меняющемся мире, кроме разве что вечного сна в вечную ночь.
— А что же ваша мать?
— Она почувствовала, что во мне произошли большие перемены. Теперь я вовсе не был раздражительным и желчным, словно старая дева, которая нигде не может обрести покоя; я стал уравновешенным и добродушным. Она приписывала эти перемены принимаемым мною тонизирующим средствам, совершенно не догадываясь о действительной природе этих средств. Позднее она решила, что у меня, вероятно, появилась liaison[84], но не вмешивалась в мою личную жизнь; она знала, пришла пора моих юношеских увлечений, и дала мне полную свободу действий.
— Что ж, вы счастливчик.
— Да, но абсолютное счастье не может длиться долго. Широко распахнутые двери ада ожидают нас прямо за порогом рая; один шаг — и мы из неземного света попадаем в ужасную тьму. В моей пестрой жизни так бывало всегда. Через две недели после памятной ночи невыносимых мук и несказанных наслаждений я совершенно неожиданно из счастливейшего человека превратился в несчастнейшего.
Однажды утром, выйдя к завтраку, я обнаружил на столе записку, доставленную почтальоном накануне вечером. Я никогда не получал писем дома, поскольку ни с кем в переписке не состоял, а деловая корреспонденция всегда приходила в контору. Почерк был мне незнаком. «Должно быть, это какой-нибудь досужий торговец, желающий меня умаслить», — подумал я. Наконец я вскрыл конверт. В нем оказалась карточка с двумя строками без адреса и подписи.
— И что?
— Вы когда-нибудь по ошибке клали руку на гальваническую батарею с высоким напряжением, когда по пальцам бьет так, на мгновение вы лишаетесь рассудка? Если да, то вы хотя бы смутно можете представить, какой эффект произвела эта записка на мои нервы. Я был потрясен. Прочитан эти несколько слов, я больше ничего не видел — комната поплыла у меня перед глазами.
— Но что же в ней было такого, что настолько вас напугало?
— Всего лишь несколько резких неприятных слов, которые навсегда врезались мне в память: «Коль вы не бросите своего любовника Т., вас заклеймят как encule[85]».
Эти ужасные, низкие, нагло грубые анонимные угрозы обрушились на меня столь неожиданно, что, как говорят итальянцы, они были как гром в яркий солнечный день.
Совершенно не подозревая о содержимом, я беспечно вскрыл конверт в присутствии матери; но, едва прочитал записку, я был настолько убит, что у меня не было сил удержать этот крошечный листок бумаги.
Руки у меня дрожали как осиновый лист, меня всего трясло; я был охвачен ужасом и сгорал от стыда.
Кровь отлила от щек, губы стали холодными и безжизненными, на лбу выступил ледяной пот; я чувствовал, как белею, и знал, что мои щеки приобретают мертвенно-бледный, серовато-синий оттенок.
Тем не менее я старался справиться с волнением. Я поднес ко рту ложечку с кофе, но, как только она коснулась моих губ, меня затошнило и едва не вырвало. Качка и тряска в шторм не могла бы вызвать столь ужасного приступа тошноты, как тот, от которого тогда корчилось мое тело. И даже Макбет, увидев призрак убитого Банко, не мог бы испугаться сильнее, чем я.
Что мне было делать? Позволить, чтобы меня на весь свет объявили содомитом, или покинуть человека, который был мне дороже самой жизни? Нет, лучше смерть, чем то или другое.
— Но вы только что сказали, что хотели бы, чтобы весь мир знал о вашей любви к пианисту.
— Да, признаю, хотел и не отрицаю этого, но вам когда-нибудь удавалось разобраться в противоречивой человеческой душе?
— Кроме того, вы же не считали содомию преступлением?
— Нет; разве этим я причинил зло обществу?
— Тогда почему вы так испугались?
— Одна дама во время приема гостей спросила своего маленького трехлетнего сынишку, который и говорить-то толком еще не умел, где его папа.
«В своей комнате», — сказал он.
«А что он делает?» — поинтересовалась неосмотрительная мать.
«Он делает пук-пук», — невинно ответил сорванец дискантом, достаточно громким, чтобы его услышали все присутствующие.
Вы представляете себе чувства матери и жены, когда через несколько минут ее муж вошел в комнату? Бедняга рассказывал мне, что счел себя чуть ли не опозоренным, когда жена, краснея, поведала ему об опрометчивости их ребенка. А разве он совершил преступление?
Найдется ли человек, который хотя бы раз в жизни не испытал бы полного удовлетворения от того, что испортил воздух, или, как звукоподражательно выразился ребенок, сделал «пук-пук»? Тогда чего же здесь стыдиться? Никакого преступления перед природой в этом нет.
Дело в том, что мы стали такими сладкоречивыми, такими утонченными, что сочли бы мадам Эглантайн, несмотря на ее царственные манеры, судомойкой. Мы стали столь сдержанными и чопорными, что скоро каждому члену парламента, для того чтобы ему позволили занять свое место, придется предоставлять свидетельство о нравственности от священника или учителя воскресной школы. Приличия должны быть соблюдены любой ценой; велеречивые редакторы — завистливые боги, и гнев их неукротим, ибо он приносит хороший доход, поскольку добропорядочные люди желают знать, чем занимаются их грешные собратья.
— Кто же написал вам эту записку?
— Кто? Я ломал над этим голову, и у меня возникло несколько смутных догадок, каждая из которых была также неосязаема и ужасна, как смерть Мильтона; каждая грозила вонзить в меня смертоносное жало. Например, я даже воображал, что это Телени решил проверить силу моей любви к нему.
— Это была графиня, не так ли?
— Я тоже так думал. Телени нельзя было любить наполовину, а влюбленная до безумия женщина способна на все. Однако маловероятно, чтобы дама воспользовалась таким оружием; к тому же она была в отъезде. Нет, это не была и не могла быть графиня. Но тогда кто же? Все, и никто.
Несколько дней терзания не покидали меня ни на миг, и временами мне казалось, что я схожу с ума. Нервозность моя возросла до такой степени, что я боялся выходить из дома, думал, что могу встретиться с автором этой гнусной записки.
Казалось, я, как Каин, нес печать своего преступления на лбу. Я видел презрительную усмешку на лице каждого, кто глядел на меня. Указующий перст был направлен на меня; голос, достаточно громкий, чтобы его слышали все, шептал: «Содомит!»
Направляясь в контору, я услышал, что за мною кто-то идет Я пошел быстрее; преследователь прибавил шаг. Я почти перешел на бег. Внезапно мне на плечо легла рука. От страха я едва не лишился чувств. В тот момент я ожидал услышать ужасные слова: «Именем закона, вы арестованы, содомит!»
Я вздрагивал от скрипа двери; вид письма приводил меня в ужас. Испытывал ли я угрызения совести? Нет, это был страх, малодушный страх, а не раскаяние. И разве содомита не могут приговорить к пожизненному заключению?
Вы, вероятно, считаете меня трусом, но ведь даже самый храбрый человек может без страха смотреть только в лицо явному врагу. Мысль о том, что таинственная рука неизвестного врага занесена над тобою и всегда готова нанести смертельный удар, невыносима. Сегодня вы человек с незапятнанной репутацией, а завтра — одно слово, произнесенное против вас на улице нанятым негодяем, один высокопарный абзац в газете, написанный кем-нибудь из современных bravi[86] прессы — и ваше честное имя навсегда опорочено.
— А что же ваша мать?
— Когда я открывал письмо, она была занята чем-то другим. Она заметила мою бледность лишь через несколько минут. Я сказал, что мне нездоровится, и, увидев, что меня тошнит, мать мне поверила; на самом деле, она испугалась, что я подхватил какую-то болезнь.
— А Телени? Что сказал он?
— В тот день я не пошел к нему; я отправил ему записку, что встречусь с ним завтра.
Какой ужасной была эта ночь! Я старался как можно дольше не ложиться спать, ибо боялся сна. Наконец, усталый и измученный, я разделся и лег в постель; но постель, казалось, была наэлектризована, поскольку мои нервы начали дергаться и по телу побежали мурашки.
Я был в смятении. Некоторое время я ворочался; затем, опасаясь, что сойду с ума, я встал, прокрался в столовую, достал бутылку коньяка и вернулся в спальню. Выпив почти полстакана, я снова лег спать.
Непривычный к столь крепким напиткам, я заснул; но разве это был сон? Я проснулся среди ночи; мне приснилось, что Кэтрин, наша служанка, обвинила меня в том, что я ее убил, и меня собирались судить.
Я встал, налил себе еще стакан спиртного и снова погрузился в забытье.
На следующий день я вновь отправил Телени записку, в которой говорилось, что я не смогу с ним встретиться, хотя мне очень хотелось его увидеть. Но через день, поняв, что я опять не приду к нему, он сам нанес мне визит.
Физические и душевные изменения, произошедшие со мною, очень его удивили, и он подумал, что его оклеветал какой-нибудь общий приятель; чтобы разубедить его, я — после настойчивых расспросов — вынул гнусное письмо, до которого боялся дотрагиваться, как до гадюки, и отдал ему.
Хотя подобные вещи были для него более привычными, чем для меня, лицо его стало хмурым и задумчивым; он даже побледнел. Однако, поразмыслив немного, он принялся изучать бумагу, на которой были написаны эти ужасные слова; затем он поднес к носу карточку и конверт и понюхал их. Лицо его сразу же повеселело.
«Я знаю, я знаю, вам нечего бояться! Они пахнут розовым маслом! — кричал он. — Я знаю, кто это».
«Кто?»
«Ну неужели же вы не догадываетесь?»
«Графиня?»
Телени нахмурился: «Откуда вы о ней знаете?»
Я все ему рассказал. Когда я закончил, он заключил меня в объятия и принялся целовать.
«Я всеми способами пытался забыть вас, Камиль; и вы видите, как мало мне это удалось. Графиня сейчас далеко, и больше мы не увидимся».
Когда он произнес эти слова, мой взгляд упал на изящное кольцо с желтым бриллиантом — лунным камнем, — которое он носил на мизинце.
«Это женское кольцо, — сказал я. — Она вам его подарила?›.
Он не ответил.
«Возьмете вместо него вот это?» Кольцо, которое я ему протянул, было со старинной камеей тончайшей работы, обрамленной бриллиантами. Но главным его достоинством было то, что камея изображала голову Антиноя.
«Но это же бесценная вещь, — сказал он и стал рассматривать кольцо. Потом он сжал мою голову руками и принялся покрывать лицо поцелуями. — Действительно для меня бесценная, потому что похожа на вас».
Я рассмеялся.
«Почему вы смеетесь?» — спросил он изумленно.
«Потому что это ваши черты лица», — ответил я.
«Возможно, у нас схожи не только пристрастия, но и внешность. Кто знает, может быть, вы — мое doppelgander[87]? Тогда, горе одному из нас!»
«Почему?»
«В нашей стране говорят, что человек не должен встречаться со своим alter ego; это приносит несчастье или одному из них, или обоим. — При этих словах он вздрогнул и затем добавил с улыбкой: — Вы же знаете, я суеверен».
«Как бы то ни было, — отозвался я, — если вдруг несчастье разлучит нас, пусть это кольцо, как кольцо королевы-девственницы, будет вашим посланником[88]. Отправьте его мне, и, клянусь, ничто не сможет удержать меня вдали от вас».
Кольцо было у него на пальце, а сам он был в моих объятиях. Мы скрепили наш обет поцелуем.
Он стал шептать слова любви тихим, сладким, убаюкивающим голосом, похожим на далекое эхо звуков, услышанных в полузабытом экстатическом сне. Они поднялись в мой мозг; как пузырьки шипучего пьянящего любовного напитка. Даже сейчас они звенят у меня в ушах. Более того, когда я вспоминаю их, я чувствую, как все мое тело начинает трепетать от сладострастия и в крови разгорается огонь неутолимого желания, которое Рене всегда вызывал во мне.
Он сидел рядом со мной, так же близко, как сейчас сидите вы, и его плечо прижималось к моему, точно как ваше.
Сначала он положил руку на мою руку, но сделал это так нежно, что я почти не почувствовал; затем его пальцы стали медленно сжимать в замок мои пальцы — вот так; ему, казалось, доставляло удовольствие овладевать мною дюйм за дюймом.
Потом он одной рукой обвил меня за талию, а другой — обнял за шею и стал кончиками пальцев щекотать и гладить ее, вызывая во мне трепет наслаждения. При этом наши щеки слегка соприкасались, и это соприкосновение — возможно, оттого, то оно было столь легким, вызвало резонанс во всем моем теле, причиняя нервам, находящимся у лона чувств и страстей, резкую, но весьма приятную боль. Наши рты теперь прижимались друг к другу, но Рене не целовал меня; его губы просто дразнили, словно для того, чтобы заставить меня еще острее осознать наше духовное родство.
Нервное напряжение, которое я переживал все последние дни, поспособствовало моему еще более легкому и быстрому возбуждению. Я жаждал испытать то удовольствие, что охлаждает кровь и успокаивает ум, но Телени, похоже, хотелось продлить мое напряжение и довести меня до такой степени чувственного опьянения, которое граничит с безумием.
Наконец, когда мы оба не могли больше выносить такого возбуждения, мы сорвали с себя одежду и нагие катались по полу, извиваясь, как две змеи, и стараясь ощутить тело друг друга как можно полнее. У меня было такое чувство, что поры моей кожи стали крошечными губками, вытянувшимися, чтобы целовать его.
«Сожмите меня, обнимите меня… крепче… еще крепче, чтобы я мог насладиться вашим телом!»
Мой жезл, твердый, как кусок железа, проскользнул меж его ног и, почувствовав собственный трепет, начал увлажняться, выпустив несколько крошечных вязких капель.
Увидев мои муки, Рене наконец пожалел меня. Он склонился к моему фаллосу и принялся целовать его.
Однако же я хотел не получить лишь частичное удовольствие и испытать волнующее наслаждение в одиночку. Мы поменяли позу, и в мгновение ока у меня во рту оказался такой же предмет, какой так восхитительно ласкал Рене.
Вскоре хлынул поток молока, едкого, как сок смоковницы, истекающего словно прямо из головного и костного мозга, и вместе с ним по венам и артериям потек обжигающий огонь; нервы мои дрожали так, словно по ним пропустили электрический ток.
Наконец, когда последняя капля семенной жидкости была поглощена, пароксизм удовольствия — это сладострастное исступление — начал ослабевать, и я почувствовал себя полностью разбитым и уничтоженным. Затем последовало приятное состояние оцепенения, и мои глаза закрылись на несколько минут счастливого забытья.
Придя в чувство, я снова увидел отвратительную анонимную записку. Я устроился в объятиях Телени, словно ища у него за щиты, столь гнусна была правда даже в такой момент.
«Но вы так и не сказали мне, кто написал эти ужасные слова»
«Кто? Да генеральский сын, конечно».
«Что?! Брайанкорт?»
«Кто же еще. Никто другой не имел ни малейшего представления о нашей любви. Я уверен, что Брайанкорт следил за нами. Кроме того, взгляните, — Рене взял бумажный лист, — не желая писать на гербовой бумаге и, вероятно, не имея под рукой ничего другого, он написал на карточке, аккуратно вырезанной из листа рисовальной бумаги. Кто, кроме художника, мог такое сделать? Приняв слишком тщательные меры предосторожности, мы иногда выдаем себя. К тому же понюхайте ее. Брайанкорт настолько пропитан розовым маслом, что все, к чему он прикасается, начинает им пахнуть».
«Да, вы правы», — задумчиво произнес я.
«Кроме всего прочего, это на него похоже; не то чтобы он был злобным…»
«Вы любите его!» — сказал я, ощутив укол ревности, и схватил Рене за руку.
«Нет, не люблю; я просто к нему справедлив. Вы же знаете его с детства и должны признать, что он не такой уж дурной человек, не так ли?»
«Нет, он просто сумасшедший».
«Сумасшедший? Что ж, может быть, немного более сумасшедший, чем все остальные», — улыбнулся мой друг.
«Что?! Вы считаете, что все люди — сумасшедшие?»
«Я знаю только одного нормального человека — моего сапожника. Он сходит с ума только раз в неделю — в понедельник, когда здорово напивается».
«Давайте больше не будем говорить о безумии. Мой отец умер, сойдя с ума, и, полагаю, что рано или поздно…»
«Вам следует знать, — перебил меня Телени, — что Брайанкорт давно влюблен в вас».
«В меня?»
«Да, но ему кажется, что он вам не нравится».
«Никогда не испытывал к нему большой любви».
«Я обдумал все это, и мне кажется, что он хотел бы заполучить нас обоих, чтобы мы стали чем-то вроде троицы любви и блаженства».
«И вы думаете, он хотел добиться своего таким способом?»
«В любви и в войне все хитрости хороши; а он, возможно, подобно иезуитам, считает, что «цель оправдывает средства». В общем, выбросите это письмо из головы, пусть оно будет просто кошмаром в темную зимнюю ночь».
И, взяв гнусный листок бумаги, он положил его на пылающие уголья; бумага затрещала и стала коробиться, и тут неожиданно вырвался язык пламени и охватил ее полностью. Через мгновение от нее осталось лишь нечто маленькое черное и сморщенное, и по этому «чему-то» гонялись друг за другом крошечные огненные змейки и, догнав, проглатывали свою жертву.
Потом над потрескивающими дровами взвился дымок и исчез в каминной трубе, как маленький чертенок.
Мы нежно обнялись, сидя обнаженными на низкой тахте напротив камина.
«Кажется, она нас пугала? Надеюсь, Брайанкорт никогда не встанет между нами».
«Мы не будем обращать на него внимания, — улыбнулся мой друг и, взяв мой и свой фаллосы, сжал их. — В Италии это самое действенное магическое средство против дурного глаза. К тому же уверен, что к этому времени он сам давно уже забыл о нас обоих и даже о том, что написал эту записку».
«Почему?»
«Потому что он нашел нового любовника».
«Кого, офицера спаги[89]?»
«Нет, молодого араба. Мы в любом случае узнаем это по изображению на картине, которую он собирается писать. Только недавно он мечтал о паре к трем Грациям, которые, как он считает, представляют собой мистическую лесбийскую троицу».
Спустя несколько дней мы встретили Брайанкорта в артистическом фойе в опере. Увидев нас, он отвернулся и попытался сделать вид, что не заметил нас. Я поступил бы так же.
«Нет — сказал Телени, идемте поговорим с ним и все выясним. Никогда не выказывайте ни малейшего страха в таких ситуациях. Когда вы смело глядите врагу в глаза, вы уже наполовину побеждаете его». И он направился к Брайанкорту, таща меня за собой.
«Так-так, — произнес Телени, протягивал руку, — что с вами случилось? Мы не виделись вот уже несколько дней».
«Конечно, — отозвался тот, — новые друзья заставляют нас забывать о старых?».
«Как и новые картины заставляют забывать о старых. Кстати, что вы пишете на этот раз?»
«О, это нечто великолепное! Картина, которая будет иметь невиданный успех».
«Так что же это за картина?»
«Иисус Христос».
«Иисус Христос?»
«Да, когда я увидел Ахмета, я начал постигать Спасителя. Вы тоже полюбили бы Его, — продолжал он, — если бы увидели эти темные гипнотические глаза с длинными, черными, как смоль, ресницами».
«Полюбил бы кого, — осведомился Телени, — Ахмета или Христа?»
«Христа, конечно! — промолвил Брайанкорт, пожав плеча ми. — Вы смогли бы понять, какое влияние Он, должно быть, оказывал на толпу. Моему сирийцу нет нужды разговаривать с вами, он поднимает глаза, смотрит на вас, и вы уже знаете, о чем он думает. Христос точно так же никогда не бросал слов на ветер, лицемерно разглагольствуя перед массами. Он писал на песке и мог «обратить мир к закону». Как я говорил, я напишу Ахмета в образе Спасителя, а вас, — обратился он к Телени, — в образе Иоанна, Его любимого апостола; ведь в Библии ясно говорится и постоянно повторяется, что Он любил этого апостола».
«И как же вы его изобразите?»
«Христос стоит, прижимая к себе Иоанна, который обнял Его и склонил голову на грудь своему другу. Разумеется, во взгляде, в позе апостола должно быть что-то мягкое, нежное, женственное; у него должны быть ваши мистические лиловые глаза и ваш чувственный рот. К их ногам припала одна из множества Марий-прелюбодеек, но Христос и "другой” — как скромно величает себя Иоанн, словно он — возлюбленная своего Учителя, — смотрят на нее задумчиво, с презрением и жалостью».
«А поймут ли зрители, что вы имеете в виду?»
«Любой, у кого есть хоть какие-то чувства, поймет. Кроме того чтобы передать мою мысль яснее, я напишу к картине пару — "Сократ — греческий Христос — с Алсибиадом, своим любимым учеником”. Женщина будет Ксантиппой[90] — И, повернувшись ко мне, он продолжил: — Но вы должны обещать, что будете позировать мне; я хочу написать с вас Алсибиада».
«Хорошо, — отозвался Телени, — но с одним условием».
«Назовите его».
«Зачем вы написали Камилю ту записку?»
«Какую записку?»
«Да перестаньте, не морочьте нам голову!»
«Откуда вы узнали, что это я ее написал?»
«Как и Задиг[91], я заметил следы загнутых уголков страницы».
«Ну что ж, раз уж вы знаете, что это я, скажу откровенно, что сделал это из ревности».
«Кого же вы ревновали?»
«Обоих. Да-да, вам может быть смешно, но это правда. — Он повернулся ко мне: — Я знаю вас с тех самых пор, когда мы оба только научились ходить, и мне так и не удалось добиться от вас этого, — и он щелкнул ногтем большого пальца о верхние зубы. — А он, — художник указал на Телени, — приходит, видит и побеждает. Во всяком случае, на какое-то время. А пока я не держу на вас зла, и вы, уверен, на меня не сердитесь за эту глупую угрозу».
«Вы не представляете, на какие скверные дни и бессонные ночи вы меня обрекли».
«Неужели? Мне очень жаль; простите меня. Вы же знаете, я сумасшедший — все так говорят! — воскликнул он, схватив за руки нас обоих. — Теперь мы друзья, и вы должны прийти ко мне на симпосион».
«Когда он будет?» — спросил Телени.
«На будущей неделе во вторник. — Художник повернулся ко мне: — Я представлю вас множеству приятных людей, которые с большим удовольствием познакомились бы с вами, и многие из них давно удивляются, почему вы до сих пор не с нами».
Неделя пролетела быстро. Радость скоро заставила меня забыть ужасное волнение, которое я испытал из-за записки Брайанкорта. За несколько дней до намеченного празднества Телени спросил меня:
«Как нам одеться на симпосион?»
«Как одеться? А что — это будет маскарад?»
«У нас у всех есть маленькие слабости. Некоторые любят солдат, некоторые — матросов; одним нравятся канатоходцы, другим денди. Есть мужчины, которые хотя и влюблены в представителей своего пола, но те привлекают их только в женских платьях. Пословица "L’habit ne fait pas le moine”[92] не всегда верна; даже самцы птиц демонстрируют яркое оперение, чтобы очаровать своих подруг».
«А что бы вы хотели, чтобы надел я, ибо вы единственный, кому я хочу угодить?» — спросил я.
«Ничего».
«О! Но…»
«Вам будет неудобно, если вас увидят обнаженным?»
«Конечно».
«Ну, тогда облегающий костюм для езды на велосипеде; он лучше всего подчеркивает фигуру».
«Прекрасно. А в чем будете вы?»
«Я всегда буду одеваться так же, как вы».
Вечером назначенного дня мы поехали в студию художника. Снаружи она освещалась очень тускло, так что было почти совсем темно. Телени трижды постучал, и после паузы Брайанкорт сам отворил нам.
Несмотря на все недостатки генеральского сына, он обладал манерами французского аристократа, поэтому его поведение был безупречным; его величественная походка могла бы украсить двор grand Monarque[93]; его учтивость не знала себе равных — в общем, он обладал всеми теми «маленькими милыми умениями» которые, как говорит Стерн[94], «вызывают желание полюбить с первого взгляда». Он уже собирался провести нас внутрь, но Телени остановил его.
«Подождите, — сказал он, — нельзя ли Камилю сначала взглянуть на ваш гарем? Видите ли, он всего лишь неофит в вере Приапа. Я — его первый любовник».
«Да, я знаю, — перебил Брайанкорт, вэдохнув, — и не могу искренне пожелать, чтобы вы были первым и последним».
«И поскольку он не привык к подобным зрелищам, то ему захочется сбежать, как Иосиф сбежал от госпожи Потифар»
«Прекрасно, вас не затруднит пройти сюда?»
И с этими словами он повел нас по тускло освещенному проходу, приведшему к винтовой лестнице, поднявшись по которой мы оказались на своего рода балконе, сделанном из старинной арабской moucharaby[95], привезенной его отцом из Туниса или Алжира.
«Отсюда можно все увидеть, не будучи замеченными; так что прощайте пока, но ненадолго — скоро подадут ужин».
Я вошел в эту своеобразную лоджию и посмотрел вниз. На мгновение я был если не ослеплен, то, по крайней мере, ошарашен. Словно из повседневной жизни меня перенесли в волшебное, сказочное королевство. Тысяча светильников различной формы наполняла комнату ярким, но в то же время матовым светом. Тонкие восковые свечи поддерживали японские журавли; свечи горели и в массивных бронзовых и серебряных подсвечниках, добытых при разграблении испанских алтарей; там были восьмиугольные светильники и светильники в форме звезды из мавританских мечетей или восточных синагог, витиеватые железные светильники с причудливыми узорами; люстры из переливающегося стекла отражались в голландской позолоте канделябров и в подсвечниках из кастельдюранской майолики.
Хотя комната была очень большой, стены полностью покрывали картины самого похотливого характера; генеральский сын был очень богат и рисовал для собственного удовольствия. Многие картины представляли собой лишь наполовину готовые наброски, ибо его пылкое, но легкомысленное воображение не могло задерживаться долго на одном предмете, как не мог и его изобретательный талант удовлетворяться одной и той же манерой письма.
Там было несколько копий, сделанных им со сладострастной помпейской энкаустики[96], в которых он старался разгадать секреты утраченного искусства. Одни картины были тщательно выписаны едкими красками, что было столь характерно для Леонардо да Винчи[97], другие больше походили на пастели Греза[98] или отличались изысканной нежностью красочных нюансов Ватто. На некоторых картинах тела имели золотистый оттенок, типичный для венецианской школы, а иные…
— Прошу вас, заканчивайте это отступление о картинах Брайанкорта и расскажите мне о сценах более реальных.
— Хорошо. На старых выцветших дамастных диванах, на огромных подушках, сделанных из епитрахилей, благоговейной рукой расшитых золотом и серебром, на мягких персидских и сирийских тахтах, на львиных и леопардовых шкурах, на тюфяках, покрытых шкурами различных представителей семейства кошачьих, по двое или по трое лежали молодые красивые мужчины; почти все они были обнажены и имели самые похотливые позы, которые воображение нарисовать не может и которые можно увидеть лишь в мужских борделях распутной Испании или развратного Востока.
— Должно быть, из той клетки, в которую вас заперли, вам действительно открылось редкое зрелище; полагаю, ваши петушки запели с таким вожделением, что голым парням внизу, вероятно, грозила большая опасность промокнуть под ливнем вашей святой воды; вы ведь, наверное, с восторгом теребили разбрызгиватели друг друга.
— Рама стоила картины, ведь, как я уже сказал, студия представляла собой музей непристойного искусства, достойного Содома или Вавилона. Картины, статуи, изделия из бронзы, гипсовые слепки, являвшиеся либо шедеврами пафосского искусства, либо имевшие форму фаллоса, виднелись среди бархатистых, нежных шелков густых тонов, среди сверкающего хрусталя и похожей на драгоценные камни финифти, среди золотистого фарфора и опаловой майолики, перемежавшихся с ятаганами и турецкими саблями с филигранными золотыми и серебряными рукоятками и ножнами, усыпанными кораллами и бирюзой, а также другими, более блестящими драгоценными камнями.
В огромных китайских вазах росли роскошные папоротники, изящные индийские пальмы, вьющиеся и ползучие растения; рядом с ними в вазах из севрского фарфора стояли коварного вида цветы из лесов Америки и пышные травы Нила, а сверху то и дело проливался ливень красных и розовых махровых роз, чей пьянящий аромат смешивался с запахом розового — масла, белыми облачками поднимающегося от курильниц и жаровен.
От благоухающего раскаленного воздуха, от звуков сдавленных вздохов и стонов наслаждения, от звонких, страстных поцелуев, выражающих неутолимое юношеское желание, у меня закружилась голова, и кровь закипела при виде постоянно меняющихся похотливых поз, демонстрирующих исступленное распутство, пытающееся ублажить себя и добиться еще более волнующего сладострастия, при взгляде на мужчин, потерявших сознание от избытка чувств, и на их обнаженные бедра, покрытые молочно-белой спермой и рубиновыми каплями крови.
— Должно быть, это было восхитительное зрелище.
— Да, но тогда мне казалось, что я нахожусь в каких-то буйно разросшихся джунглях, где все прекрасное приводит к немедленной смерти; где кишащие, ярко окрашенные ядовитые змеи похожи на пестрые букеты цветов, где ароматные цветы деревьев роняют капли огненного яда.
Здесь все радовало глаз и горячило кровь; серебристые полоски на темно-зеленом атласе и серебряный узор на гладких зеленоватых листьях водяных лилий казались лишь слизистыми следами животворной силы человека, в одном случае, и отвратительной рептилии — во втором.
«Взгляните, там есть и женщины», — обратился я к Телени.
«Нет, — ответил он, — женщин на наши празднества не допускают».
«Но посмотрите на ту пару. Видите того обнаженного мужчину, что просунул руку под юбку девушки?»
«Они оба мужчины».
«Что?! И эта рыжеволосая с ослепительным цветом лица — тоже? Как, разве это не любовница виконта де Понгримо?»
«Да, это Венера… как все ее называют; а виконт вон там, в углу; но Венера… — мужчина!»
Я в изумлении уставился на него. Тот, кого я принял за женщину, действительно был похож на прекрасную бронзовую статую — гладкую и блестящую, как японский слепок a cire perdue[99] — с глазуированной головкой парижской кокотки.
Каков бы ни был пол этого странного существа, на нем или на ней было облегающее переливающееся атласное платье — золотистое на свету и темно-зеленое в тени, шелковые перчатки и чулки того же цвета, которые настолько плотно облегали полные руки и удивительно красивые ноги, что они казались такими же ровными и твердыми, как руки и ноги бронзовой статуи.
«А вон та, другая, с черными локонами accroche coeurs[100], в темно-синем бархатном платье, с открытыми руками и плечами? Эта прелестная женщина тоже — мужчина?»
«Да, он итальянец, маркиз, как вы можете догадаться по гербу на его веере. Более того, он принадлежит к одному из древнейших римских родов. Однако взгляните туда — Брайанкорт подает нам знаки спуститься. Идемте».
«Нет, нет! — воскликнул я, прижимаясь к Телени. — Лучше давайте уйдем».
Однако зрелище так разгорячило мне кровь, что я стоял и, словно жена Лота [101], с вожделением смотрел на то, что происходило внизу.
«Я сделаю так, как вы пожелаете, но думаю, что, если мы сейчас уйдем, вы после будете об этом сожалеть. Чего вы боитесь? Разве я не с вами? Никто не может разлучить нас. Мы весь вечер будем вместе, ибо это не обычный бал, куда мужья привозят жен, чтобы тех обнимал первый же, кому захочется пригласить их на вальс. Кроме того, вид всех этих излишеств лишь придаст пикантность нашему наслаждению»
«Ладно идемте, — сказал я, вставая. — Подождите. Тот мужчина в жемчужно-сером восточном одеянии, вероятно, сириец; у него прекрасные миндалевидные глаза».
«Да, это Ахмет-эфенди»
«С кем он разговаривает? Это не отец Брайанкорта?»
«Он самый. Генерал иногда бывает на приемах сына в качестве пассивного гостя. Ну что, идем?»
«Еще одну минуту. Скажите мне, кто этот человек с горящими глазами? Он кажется настоящим воплощением похоти; вероятно, он непревзойденный мастер распутства. Его лицо мне знакомо, но я никак не могу вспомнить, где я его видел».
«Этот молодой человек, растратив состояние в самом необузданном разврате и при этом не нанеся никакого вреда своему здоровью, поступил на службу в спаги, дабы посмотреть, какие новые удовольствия может доставить ему Алжир. Этот человек настоящий вулкан. А вот и Брайанкорт».
«Ну что, — сказал Брайанкорт, — вы собираетесь просидеть здесь, в темноте, весь вечер?»
«Камиль смущен», — улыбнулся Телени.
«Тогда наденьте маски», — отозвался художник. Он потащил нас вниз и, прежде чем ввести в зал, вручил по черной бархатной полумаске.
Известие о том, что в соседней комнате ждет ужин, заставило празднество замереть.
Когда мы вошли в студию, вид наших темных костюмов и масок, казалось, привел всех в уныние. Однако вскоре нас окружили несколько молодых людей, которые подошли, чтобы поприветствовать и погладить нас; некоторые из них были старыми знакомыми.
Телени задали несколько вопросов и, узнав его, сразу же сорвали с него маску; но понять, кто я, долгое время никто не мог. Тем временем я с вожделением смотрел на промежности стоявших вкруг обнаженных мужчин; у некоторых из них густые кудрявые волосы покрывали живот и бедра. Это необычайное зрелище настолько взволновало меня, что я едва сдерживался, чтобы не дотронуться до этих соблазнительных органов, и, если бы не любовь к Телени, я решился бы на нечто большее, чем просто коснуться их.
Один фаллос — фаллос виконта — вызвал у меня особое восхищение. Он был такого размера, что, если бы римская дама завладела им, она никогда бы не потребовала осла[102]. Этого фаллоса боялись все шлюхи; говорили, что однажды, будучи за границей, хозяин распорол им женщину, вонзив свое гигантское орудие ей по самую матку и разорвав перегородку между передним и задним отверстиями, так что в результате полученной раны бедняжка умерла.
Его любовник, однако, имел весьма цветущий вид — он был не только искусственно, но от природы весьма румян. Увидев, что я сомневаюсь в его принадлежности к мужскому полу, этот молодой человек поднял свои юбки и продемонстрировал изящный бело-розовый пенис, окруженный массой темно-золотистых волос.
Как раз тогда, когда все умоляли меня сиять маску и я уже был готов уступить, доктор Шарль, обычно называемый Шарлеманем — Карлом Великим, который терся об меня как разгоряченный кот, внезапно схватил меня в объятия и страстно поцеловал.
«Ну, Брайанкорт, — заявил он, — поздравляю вас с новым приобретением. Ничье присутствие не принесло бы мне большего удовольствия, чем присутствие де Грие».
Едва прозвучали эти слова, как проворная рука сорвала с меня маску.
Не менее десяти ртов были готовы меня поцеловать, множество рук ласкало меня; но между мной и ними встал Брайанкорт.
«Сегодня вечером Камиль что-то вроде леденца на торге: разрешается смотреть, но нельзя трогать. У них с Рене все еще медовый месяц, и этот fete[103] устроен в их честь и в честь моего нового любовника Ахмета-эфенди. — И, повернувшись, он представил нас молодому человеку, которого собирался изобразить в образе Иисуса Христа. — А теперь давайте ужинать», — добавил художник.
Комната или зал, в который нас проводили, была обставлена как триклиний; вместо стульев там стояли ложа и тахты.
«Друзья мои, — сказал генеральский сын, — ужин весьма скуден, блюд немного, и обилием они не отличаются; еда предназначена скорее для подкрепления сил, нежели для насыщения. Надеюсь все же, что крепкие вина и стимулирующие напитки помогут нам вернуться к нашим усладам с удвоенным пылом».
— Полагаю, однако, что это был ужин, достойный Лукулла?[104]
— Этого я не заметил. Помню только, что тогда впервые попробовал bouillabaisse[105] и какой-то сладкий рис со специями, приготовленный по индийскому рецепту} и что и то, и другое показалось мне вкусным.
Телени сидел на тахте рядом со мной, а доктор Шарль был моим ближайшим соседом. Он был крупным, высоким, хорошо сложенным, широкоплечим мужчиной с плавно струящейся бородой, за которую, так же как за имя и габариты, его и прозвали Карлом Великим. Я был удивлен, увидев, что на шее он носит тонкую золотую венецианскую цепочку, на которой, как мне показалось сначала, висел медальон, при ближайшем рассмотрении оказавшийся золотым лавровым венком, усыпанным бриллиантами. Я спросил его, что это — талисман или реликвия?
Он поднялся. «Друзья мои, де Грие, любовником которого я охотно бы стал, спрашивает меня, что это за драгоценность; так как большинство из вас уже задавало мне этот вопрос, я удовлетворю всеобщее любопытство и замолчу об этом навсегда.
Этот лавровый венок, — продолжал он, зажав вещицу в пальцах, — награда за заслуги, или вернее, за добродетельность; это мой couronne de rosiure[106]. Получив медицинское образование и пройдя практику в больнице, я обнаружил, что стал врачом; но чего я никак не мог обнаружить, так это хотя бы одного пациента, который дал бы мне не то что двадцать, а хотя бы одну монету за все проведенное мною лечение. Но однажды доктор N-n, увидев мои мускулистые руки, — руки у него действительно были как у Геркулеса, — рекомендовал меня как массажиста одной пожилой даме, чье имя я упоминать не буду. Я отправился к этой пожилой даме, которую звали не госпожа Потифар и которая, как только я разделся и закатал рукава, жадно взглянула на мои мышцы и погрузилась в раздумья; позже я решил, что она размышляла над законами пропорции.
Доктор N-n сказал мне, что мышечная слабость нижних конечностей у нее была от колена и ниже. Она же, казалось, полагала, что слабость имела место выше колен, Я был откровенно озадачен и, дабы не ошибиться, принялся растирать ей ноги от ступней до самого верха. Вскоре я заметил, что чем выше я поднимался, тем нежнее она мурлыкала.
Через десять минут я сказал: "Боюсь, я утомил вас; может быть, для первого раза достаточно?”»
«О, — ответила дама, глядя на меня томными глазами старой рыбы, — я могла бы пролежать так целый день. Я уже чувствую такую пользу. В ваших руках сила мужчины и мягкость женщины. Но вы, должно быть, устали, бедняжка! Что вы будете пить — мадеру или сухой херес?”
"Ничего, спасибо”.
"Бокал шампанского с печеньем?”
"Спасибо”.
"Вы должны что-нибудь выпить, О, я знаю — крошечный бокальчик алкермеса из флорентийской Чертозы. Да, думаю, что выпью с вами бокальчик. Растирание уже так мне помогло. — И она нежно пожала мне руку. — Будьте добры, позвоните в колокольчик”.
Я позвонил. Мы выпили по стаканчику алкермеса, принесенного слугой, и я откланялся. Однако она отпустила меня только тогда, когда я заверил ее, что завтра непременно приду.
На следующий день я явился в назначенный час. Сначала дама усадила меня рядом с кроватью, чтобы я немного отдохнул. Она сжимала и нежно гладила мою руку — ту руку, которая, по ее словам, принесла ей столь большую пользу и которая сейчас проведет чудесное лечение. "Только, доктор, добавила она жеманно, боль переместилась выше”.
Я с трудом сдержал улыбку и задался вопросом, какого характера была эта боль.
Я приступил к растиранию. От широкой лодыжки моя рука поднялась к колену и затем стала продвигаться все выше и выше, к явному удовольствию дамы. Когда рука добралась до самого верха ее ног, она нежно промурлыкала: "Да-да, здесь, доктор! Вы попали в цель; как вы умны и как легко можете найти нужное место. Разотрите там все потихоньку. Да, вот так; не выше и не ниже, только, может быть, немного шире движения, немножко ближе к центру, доктор! О, какую пользу приносит мне такое растирание! Я чувствую себя совсем другим человеком — намного моложе и бодрее. Растирайте, доктор, растирайте!” И она принялась с восторгом ворочаться в кровати на манер старой кошки.
Неожиданно она сказала: "Но вы же гипнотизируете меня, доктор! О, какие у вас прекрасные голубые глаза! Я вижу себя как в зеркале в ваших блестящих зрачках”. Она обняла меня за шею и стала тянуть к себе и жадно целовать, вернее, сосать своими толстыми губами, которые показались мне двумя огромными конскими пиявками.
Увидев, что продолжать массаж невозможно, и начиная наконец понимать, какое растирание ей требуется, я раздвинул пучки жестких кудрявых волос, ввел кончик пальца между разбухших губ и принялся щекотать, похлопывать и растирать большой резвый клитор, так что скоро он обильно помочился. Однако это вовсе не успокоило и не удовлетворило даму, наоборот, она возбудилась еще больше; теперь вырваться из ее лап было невозможно. Кроме того, она держала меня за нужную рукоятку и я не мог, как Иосиф, позволить себе убежать и оставить эту вещь у нее в руке.
Чтобы ее успокоить, мне не оставалось ничего другого, как взобраться на нее и применить массаж другого рода, что я и сделал со всем пылом, на какой был способен, хотя, как вы все понимаете, меня никогда не привлекали женщины, тем более не первой свежести. Однако для женщины, для старухи эта дама была не так уж плоха. Губы у нее были полными, мясистыми и пухлыми; сфинктер с годами не расслабился, пещеристая ткань не утратила мышечной силы, ее пожатия были сильными, и удовольствием, ею доставляемым, нельзя было пренебречь. Так что я совершил два возлияния, прежде чем слез с нее; сначала она мурлыкала, потом стала мяукать, а затем перешла на крик, похожий на совиный, так велико было получаемое ею наслаждение.
Не знаю, правда это или нет, но дама сказала, что никогда в жизни не испытывала такого блаженства. В любом случае, я провел превосходное лечение, ибо вскоре она вновь обрела способность ходить. Даже N-n мной гордился. Именно ей и моим рукам я обязан своим местом массажиста».
«Так откуда же взялось украшение?» — спросил я.
«Ах да, об этом я и позабыл. Наступило лето, и даме пришлось оставить город и отправиться на воды, куда я не имел ни малейшего желания ее сопровождать. Она взяла с меня клятву, что во время ее отъезда у меня не будет ни одной женщины. Я, естественно, поклялся с чистой совестью и легким сердцем.
Возвратившись, она вновь заставила меня поклясться, после чего расстегнула мне брюки, вытащила сэра Фаллоса и по всем правилам короновала его как rosiure.
Должен сказать, однако, что тот вовсе не возгордился и не зазнался; наоборот, он казался таким ослабшим — возможно, потому, что счел себя недостойным такой чести, — что смиренно повесил голову. Я носил это украшение на часовой цепочке, но меня постоянно спрашивали, что это такое. Я рассказал даме об этом, и она подарила мне эту цепочку и заставила меня носить ее на шее».
Вечеря любви подошла к концу. Пряные возбуждающие блюда, крепкие напитки, веселая беседа снова расшевелили нашу дремлющую страсть. Мало-помалу позы на ложах становились все более вызывающи, шутки — непристойными, песни — похотливыми; веселье стало более шумным, кровь кипела, плоть трепетала от пробудившегося желания. Почти все мужчины были обнажены, все фаллосы — тверды и непреклонны это было настоящее логово разврата.
Один из гостей показал нам, как сделать фонтан Приапа, то есть правильно пить ликеры. Он велел юному Ганимеду тонкой струйкой лить шартрез из серебряного, с длинным носиком кувшина на грудь Брайанкорта. Жидкость сбегала по животу, просачивалась сквозь крошечные завитки угольно-черных, пахнущих розами волос, стекала по фаллосу и попадала в рот мужчины, стоявшего перед ним на коленях. Эти трое были так красивы, композиция — настолько классической, что была сделана фотография со вспышкой.
«Очень мило, — сказал спаги, — но думаю, что могу показать вам кое-что поинтереснее».
«И что же это?» — спросил Брайанкорт.
«То, как в Алжире едят заготовленные впрок финики с фисташками внутри; поскольку на вашем столе есть немного фиников, мы можем попробовать».
Старый генерал крякнул от удовольствия; очевидно, такое развлечение было ему по душе.
Спаги поставил своего любовника на четвереньки так, что голова оказалась ниже зада потом он засунул финики в отверстие ануса и стал их грызть, тогда как его друг выдавливал их из себя; после этого он аккуратно слизал весь сироп, просочившийся наружу и текший тоненькой струйкой по ягодицам.
Все зааплодировали, а двое мужчин явно возбудились — их тараны бодро подняли головы и многозначительно кивали.
«Подождите, не вставайте, — сказал спаги, — я еще не закончил; позвольте мне ввести сюда плод с древа познания».
Он взобрался на своего любовника и, взяв свое орудие в руку, вдавил его в отверстие, где только что были финики; поскольку отверстие было скользким, он одним или двумя толчками полностью погрузил в него фаллос. Офицер не вынимал его ни на дюйм, он лишь терся о ягодицы партнера, член которого вел себя столь неугомонно, что принялся колотиться о живот своего хозяина.
«Теперь приступим к пассивным удовольствиям, предназначенным для старости и опытности», — сказал генерал и начал щекотать головку языком, сосать ее и искуснейшим образом гладить ствол пальцами.
Наслаждение пассивного мужчины, казалось, было неописуемым. Он задыхался, он дрожал, веки его были опущены, губы полуоткрыты, лицо подергивалось; казалось, он каждую минуту был готов потерять сознание от переизбытка чувств. Однако же он явно изо всех сил сопротивлялся оргазму, зная, что за границей спаги научился искусству сохранять активность в течение любого количества времени. Время от времени голова пассивного мужчины падала, как будто силы покидали его, но потом он вновь поднимал ее. «Кто-нибудь — мне в рот», — произнес он.
Итальянский маркиз, который сбросил халат и остался лишь в бриллиантовом колье и черных шелковых чулках, уселся верхом на два табурета над старым генералом и принялся удовлетворять просьбу.
При виде этой tableau vivant[107] адской похотливости кипящая кровь ударила нам в головы. Каждый хотел бы испытать то наслаждение, которое получали четверо мужчин. Каждый фаллос скинул капюшон и не только налился кровью, но стал твердым, как железный поршень, и ныл от возбуждения. Все корчились, словно мучимые внутренними судорогами. Сам я, не привыкший к подобным зрелищам, стонал от удовольствия, доведенный до безумия волнующими поцелуями Телени и доктором, который прижимался губами к подошвам моих ног.
Наконец по страстным толчкам спаги, по тому, как энергично сосал генерал, а маркиза самого сосали, мы поняли, что наступил последний момент. Словно через нас всех пропустили электрический ток! «Им хорошо, им хорошо!»- сорвалось у всех с губ.
Все пары слились; партнеры целовались, терлись друг о друга нагими телами, проверяя, какие новые излишества может изобрести их распутство.
Когда наконец спаги вынул вялый орган из зада своего друга, тот упал без чувств на тахту, весь покрытый потом, финиковым сиропом, спермой и слюной.
«Ах, — произнес спаги, спокойно закуривая сигарету — разве что-нибудь можно сравнить с удовольствиями Содома и Гоморры? Арабы правы. В этом искусстве они наши учителя; там, хотя мужчина не пассивен в зрелые годы, он всегда пассивен в ранней юности и в старости, когда быть активным больше не может. Арабы, в отличие от нас, благодаря долгой практике знают, как продлить это удовольствие до бесконечности. Их орудия не огромны, но увеличиваются до значительных размеров. Они мастера усиливать собственное наслаждение, доставляя удовольствие другим. Они не обливают вас водянистой спермой, а выпускают несколько густых капель, которые обжигают вас, как огонь. А какая у них нежная, гладкая кожа! Что за лава кипит в их жилах! Это не люди, это львы; а как они рычат!»
«Вероятно, вы попробовали их немало?»
«Множество; для этого я и поступил на военную службу и, должен сказать, получил удовольствие. Пожалуй, виконт, ваше орудие лишь приятно пощекотало бы меня, если бы только вам удалось сохранить ею твердость надолго».
И, указан на широкую бутыль, стоявшую на столе, он добавил:
«Да вон ту бутылку можно было бы легко всадить в меня, и это только доставило бы мне уцовольствие».
«Может быть, попробуете?» — раздалось множество голосов.
«Почему бы нет?»
«Нет, лучше не надо», промолвил доктор Шарль, ползавший рядом со мной.
«Почему, что в этом страшного?»
«Это преступление против природы», — улыбнулся врач.
«Вообще-то это будет хуже ебли в зад, это будет бутыль в зад», — проговорил Брайанкорт.
В ответ спаги бросился на край тахты лицом вверх и приподнял зад так, чтобы мы его видели. Двое мужчин подошли и сели по бокам, дабы он мог положить ноги им на плечи; после этого он схватился за свои мясистые, как у старой толстой проститутки, ягодицы и раздвинул их обеими руками. При этом мы отчетливо увидели не только темную разделительную линию, коричневую ареолу и волосы, но и тысячу складок, гребней, вернее, гребнеобразных отростков, и припухлостей вокруг отверстия; судя по ним и по чрезмерно расширенному анусу, то, что он говорил, не было хвастовством.
«Кто сделает милость и слегка увлажнит и смажет края?»
Многим хотелось доставить себе это удовольствие, но выбрали того, кто скромно представился как maitre de langues[108]; «хотя с моим мастерством — добавил он — я вполне мог бы назвать себя профессором фехтования». Этот человек действительно был обременен великим именем, не только потому, что принадлежал к древнему роду, ни разу не замаранному плебейской кровью, но и потому, что прославился на войне, на государственном посту, в литературе и науке. Он опустился на колени перед этой массой плоти, обычно называемой задом, нацелил язык, словно пику, и вонзил его в отверстие насколько мог глубоко; затем, сделав его лопаткой, он принялся искусно размазывать слюну вокруг дырочки.
«Ну вот, — произнес он с гордостью художника, только что закончившего работу, — моя задача выполнена».
Другой мужчина взял бутылку, намазал ее жиром pate de foie gras и начал вдавливать ее в отверстие. Поначалу она, казалось, не входила, но когда спаги раздвинул края шире, а мужчина с бутылкой стал вращать и манипулировать ею, вдавливать ее медленно, но настойчиво, она начала наконец продвигаться.
«Ай-ай! — простонал спаги, кусая губы. — Туго идет, но наконец-то она внутри».
«Вам больно?»
«Было немного больно, но теперь все прошло», — и он застонал от удовольствия.
Все складки и припухлости исчезли, и плоть по краям плотно сжимала бутылку.
Лицо спаги выражало смесь резкой боли и похотливости; все его тело напряглось и дрожало, словно по нему пропустили ток высокого напряжения; глаза его полузакрылись, и зрачков почти не было видно; он скрежетал зубами всякий раз, когда бутылка входила немного глубже. Фаллос, который был вялым и безжизненным в минуты, когда спаги испытывал только боль, снова начал приобретать свои полные размеры; затем набухли вены, и нервы напряглись до предела.
«Хотите, чтобы вас поцеловали?» — спросил кто-то, видя, как дрожит его жезл.
«Спасибо, ответил он, — мне и этого достаточно».
«Что вы чувствуете?»
«Острое, но приятное раздражение от задницы до мозга».
На самом деле все его тело билось в конвульсиях, когда бутылка медленно входила внутрь и выходила наружу, разрывая и едва ли не четвертуя его. Вдруг пенис сильно содрогнулся, потом он разбух и стал твердым, крошечные губки раскрылись, и появилась сверкающая капля прозрачной жидкости.
«Быстрее… глубже… глубже… дайте мне почувствовать это!»
Он начал кричать, истерично смеяться, а потом и ржать, как ржет жеребец при виде кобылы. Фаллос выдавал несколько капель густой, вязкой белой спермы.
«Всадите всю… всадите ее всю!» — простонал он слабо.
Рука мужчины, вводящего бутылку, задрожала. Он с силой втолкнул бутылку.
Мы, затаив дыхание, наблюдали за тем, какое наслаждение испытывает спаги, как вдруг в полной тишине, которая воцарялась после каждого солдатского стона, раздался тихий звон разбивающегося стекла, за которым последовал крик боли распростертого мужчины и крик ужаса его партнера.
Бутылка лопнула; горлышко и часть бутылки выскочили наружу, порезав плотно сжимавшие ее края, остальная часть осталась в анусе.
— Прошло время…
— Естественно, время никогда не останавливается, так что незачем говорить, что оно прошло. Лучше скажите мне, что сталось с бедным спаги.
— Он умер, бедняга! Сначала, имело место общее sauve qui peut[109] из дома Брайанкорта. Доктор Шарль послал за своими инструментами и извлек кусочки стекла; мне говорили, что несчастный молодой человек стоически переносил мучительнейшую боль — у него не вырвалось ни стона, ни крика; хотя, конечно, лучше бы ему довелось проявить свое мужество в случае более достойном. Операция завершилась, доктор Шарль сказал пострадавшему, что его нужно доставить в больницу, поскольку есть опасение, что может начаться воспаление поврежденных мест кишечника.
«Что?! — сказал спаги. — Отправиться в больницу и выставить себя на посмешище перед всеми санитарками и докторами?! Ни за что!»
«Но, — отозвался его друг, — если вдруг начнется заражение…»
«Со мной все будет кончено?»
«Боюсь, что так».
«А велика ли вероятность того, что будет заражение?»
«Увы, более чем велика».
«И если оно начнется, то что?…»
Доктор Шарль ничего не ответил.
«Исход может быть смертельным?»
«Да».
«Ладно, я подумаю. В любом случае мне нужно домой, то есть на квартиру, чтобы привести в порядок некоторые дела».
Его отвезли домой, а он умолял оставить его на полчаса. Оставшись один, он заперся в комнате, достал револьвер и застрелился. Причина самоубийства осталась тайной для всех, кроме нас.
Этот и еще один случай, произошедший вскоре, привел нас всех в угнетенное состояние и на некоторое время положил конец симпосионам у Брайанкорта.
— А что за еще один случай?
— Вы, скорее всего, читали о нем; тогда об этом писали все газеты. Пожилой джентльмен, имя которого я совершенно запамятовал, по глупости попался прямо во время акта с солдатом — молодым похотливым новобранцем, недавно приехавшим из провинции. Случай наделал много шума, поскольку джентльмен занимал высокое положение в обществе и, более того, не только имел незапятнанную репутацию, но и был очень религиозен.
— Что?! Вы полагаете, что по-настоящему религиозный человек может предаваться такому пороку?
— Конечно, может. Порок делаёт нас суеверными; а что есть суеверие, как не устаревшая, давно забытая форма поклонения? Именно грешнику, а не святому, нужен Спаситель, заступник и священник; если вам нечего искупать, на что вам религия? Религия нисколько не сдерживает страсть, которая, хотя и считается преступлением против природы, сидит в нашей природе так глубоко, что разум не в состоянии ни охладить, ни скрыть ее. Так что иезуиты единственные настоящие священники. Они не станут проклинать вас, как делают напыщенные многоречивые диссентеры[110], но у них найдется, по крайней мере, тысяча средств, облегчающих течение болезней, которые они не могут лечить, — бальзам для каждой терзающейся души.
Но вернемся к нашему рассказу. Когда судья спросил солдата, как мог он так низко пасть и запятнать честь мундира, тот простодушно ответил: «Господин судья, этот джентльмен был очень добр ко мне. К тому же он очень влиятельный человек и обещал мне avancement dans le corps![111]».
Время шло, и я был счастлив с Телени — и как можно было не быть счастливым с ним, таким красивым, хорошим и умным? Теперь его игра стала столь гениальной и одухотворенной, она была настолько полна жизнерадостности и излучала чувственность, что день ото дня его любили все больше и больше, а дамы влюблялись в него сильнее, чем когда-либо; но какое мне был до этого дело, разве он не был всецело моим?
— Как! Вы не ревновали?
— Как я мог ревновать, когда он никогда не давал мне ни малейшего повода? У меня был ключ от его дома, и я мог приходить туда в любое время дня и ночи. Если он уезжал из города, неизменно сопровождал его. Нет, я был уверен в его любви, значит, в его верности, как и он был абсолютно уверен во мне.
Впрочем, у него был один серьезный недостаток — как и многим артистам, ему была присуща расточительность. Хотя он и получал достаточно для того, чтобы жить с комфортом, концерты не приносили ему таких доходов, которые позволяли бы вести тот королевский образ жизни, какой он вел. Я часто читал ему по этому поводу нотации, и каждый раз он обещал не бросать денег на ветер, но, увы, в ткань, составлявшую его натуру, были вплетены те же нити, из которых была соткана Манон Леско, любовница моего тезки.
Зная, что он в долгах и что его часто беспокоят назойливые кредиторы, я несколько раз умолял его отдать мне счета, мог оплатить их и дать ему возможность начать новую жизнь. Но он и слышать об этом не хотел.
«Я знаю себя лучше, чем вы, — говорил он, — если я приму вашу помощь хоть раз, то буду принимать ее снова и снова чем все это кончится? Дойдет до того, что вы будете меня содержать».
«Ну и что за беда? — отвечал я. — Думаете, из-за этого я бы любил вас меньше?»
«О, нет! Возможно, вы любили бы меня ещё сильнее за те деньги, которые потратили на меня, ведь сила нашей любви к друзьям часто измеряется тем, сколько мы для них сделали; я, быть может, стал бы любить вас меньше; благодарность — тяжелейшая ноша для человека. Я ваш любовник, это правда, не дайте мне пасть ниже, Камиль, — говорил он с отчаяньем. — Послушайте, с тех пор как я узнал вас, разве я не пытался свести концы с концами? Однажды я, возможно, смогу расплатиться с старыми долгами; не уговаривайте меня больше». И, сжав меня в объятиях, он осыпал меня поцелуями.
Как красив он был в эти минуты! Мне кажется, я вижу, как он лежит на темно-синей атласной подушке, подперев голову рукой, точно так сейчас лежите вы, ведь у вас так много его грациозных кошачьих повадок.
Мы стали неразлучны, наша любовь, казалось, крепла с каждым днем; в нашем случае нельзя было и «огонь остановить огнём»[112], наоборот, он им питался и становился все сильнее; так что я больше времени проводил с Телени, чем дома.
Контора отнимала у меня немного времени, и я находился там ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы привести в порядок дела и дать Телени возможность немного помузицировать. Остальное время мы были вместе.
В театре мы сидели в одной ложе, вдвоем или вместе с моей матерью. Ни один из нас, насколько я знаю, не принимал приглашения на прием, если в числе гостей не было другого. Пешие и верховые прогулки или прогулки в кебе мы совершали вместе. Вообще, если бы наш союз был благословлен Церковью, не нашлось бы супругов вернее. И пусть моралист объяснит мне, что дурного мы сделали, пусть растолкует мне законодатель, который применил бы к нам меру наказания, налагаемую на самых злостных преступников, какой вред мы причиняли обществу.
Хотя мы одевались по-разному, но были почти одинакового телосложения, почти одного возраста и имели невероятно схожие пристрастия, так что в конце концов для людей, всегда видевших нас под руку друг с другом, мы стали неразделимы.
Наша дружба чуть ли не стала притчей во языцех, и фраза «Где Рене, там и Камиль» сделалась чем-то вроде поговорки.
— Но вы, который так переживал из-за анонимной записки, неужели вы не боялись, что люди начнут догадываться о реальной природе вашей привязанности?
— Тот страх совершенно исчез. Разве позор бракоразводного процесса мешает неверной жене встречаться с любовником? Разве страх перед неумолимым законом останавливает вора? Счастье убаюкало мое сознание, и оно спокойно спало; кроме того, узнав на сборищах у Брайанкорта, что я-не единственный представитель нашего разлагающегося общества, который живет по-сократовски, и что люди незаурядного ума, обладающие добрым сердцем и тонко чувствующие красоту, были, как и я, содомитами, я успокоился. Не того мы боимся, что в аду нас ждет ужасная боль, а того, что там мы можем оказаться в низшем обществе.
Дамы, я думаю, начали догадываться, что наши чрезмерно близкие отношения носят любовный характер; и, насколько я слышал, нас прозвали содомскими ангелами, намекая, что эти небесные посланцы не избежали своей судьбы. Но какое мне было дело до того, что какие-то лесбиянки подозревали нас в своих собственных слабостях?
— А что ваша мать?
— Ходили слухи, что она — любовница Рене. Меня они очень забавляли — такая мысль была совершенным абсурдом.
— Но разве она не догадывалась о вашей любви к другу?
— Как вы знаете, муж всегда узнает последним о неверности жены. Произошедшие во мне перемены очень ее удивили. Она даже спросила меня, как случилось, что мне понравился человек, к которому я относился с таким пренебрежением и на которого всегда смотрел свысока.
«Вот видишь, нельзя относиться к людям предвзято и говорить о них, совсем их не зная», — сказала она.
Однако одно обстоятельство заставило мать забыть о Телени.
Юная танцовщица, чье внимание я, видимо, привлек на бале-маскараде, — либо я ей понравился, либо она сочла меня лёгкой добычей, — написала мне очень нежное послание и пригласила навестить ее.
Не зная, как отказаться от чести, которую она мне оказала, и в то же время не желая ее обидеть, — а я вообще не терпел пренебрежительного отношения к женщине, — я послал ей огромную корзину цветов и книгу, объясняющую их значение.
Она поняла, что моя любовь отдана кому-то другому, однако в ответ на свой подарок я получил ее большую красивую фотографию. Тогда я навестил ее, чтобы поблагодарить, и вскоре мы стали очень хорошими друзьями, но только друзьями, и ничего больше.
Поскольку письмо и портрет я оставил в своей комнате, мать, которая, естественно, заметила одно, увидела, должно быть, и другое. Поэтому она никогда не придавала значения моей liaison с музыкантом.
В ее речах время от времени проскальзывали либо тонкие, либо недвусмысленные намеки на глупость мужчин, которые губят себя из-за corps de ballet[113], или на дурной вкус тех, кто женится на своих и чужих любовницах, но и только.
Она знала, что я сам себе хозяин, поэтому не вмешивалась в мою личную жизнь и предоставляла мне делать то, что я хотел. Если где-то у меня и был faux mйnage[114], - тем лучше или тем хуже для меня. Она была рада, что мне доставало такта соблюдать les convenances[115] и не привлекать внимание света. Только сорокапятилетний мужчина, твердо решивший никогда не жениться, может бросить вызов общественному мнению и иметь любовницу напоказ.
К тому же мне пришло на ум, что мать не хочет чтобы я слишком внимательно изучал цель ее частых маленьких путешествий и поэтому предоставляет мне полную свободу действий.
— В то время она была еще молода, не так ли?
— Это зависит от того, какую женщину вы называете молодой. Ей было около тридцати семи или тридцати восьми, и для своих лет она выглядела чрезвычайно молодо. О ней всегда говорили как о прелестной и соблазнительной женщине.
Она была очень красива. Высокая, с великолепными руками и плечами, с гордой посадкой головы, она не могла не привлекать внимания везде, где появлялась. Ее большие глаза неизменно светились невозмутимым спокойствием, нарушить которое не могло ничто; ровные густые брови почти сходились на переносице; черные волосы ниспадали пышными естественными локонами; лоб был низким и широким, нос маленьким и прямым. Все вместе придавало ей величавый вид и делало ее похожей на классическую статую.
Однако прекраснее всего был ее рот: он не только имел идеальные контуры, но его пухлые губы были так похожи на сочные сладкие вишни, что вы жаждали их попробовать. Такой рот, должно быть, сводил с ума мужчин с сильными страстями, и более того, должно быть, действовал на них как любовный напиток, разжигал неукротимый огонь желания даже в самых вялых сердцах. Вообще, редкие брюки не топорщились в присутствии моей матери, несмотря на все усилия их владельцев скрыть отбиваемую в штанах барабанную дробь; а это, я думаю, лучший комплимент женской красоте, ибо он естествен, а не сентиментален.
В ее манерах была та непринужденность, а в походке — та степенность, которые характерны не только для древнеримских аристократок, но присущи итальянским крестьянкам и французским grande dame[116] и никогда не встречаются у немецкой аристократии. Казалось, она была рождена, чтобы быть королевой гостиных, и поэтому принимала как должное и безо всякой радости не только льстивые заметки в светских газетах, но и благоговейное почтение множества поклонников, ни один из которых не осмеливался с ней флиртовать. Для всех она была Юноной, безупречной женщиной, которая могла оказаться и вулканом, и айсбергом.
— Могу я спросить: и кем же она все-таки была?
— Дамой, принимающей бесчисленных гостей и наносящей бесчисленные визиты, дамой, которая, казалось, главенствовала везде: и во время обедов, которые давала сама, и во время обедов, на которых присутствовала, — то есть образцом дамы-патронессы. Владелец магазина как-то заметил: «Когда мадам де Грие останавливается у нашей витрины, у нас праздник, поскольку она привлекает не только внимание джентльменов, но и внимание дам, которые часто покупают то, что отметил ее опытный глаз».
Кроме того, она обладала тем, что так прекрасно в женщинах -
думаю, я смог бы привыкнуть к некрасивой жене, но к женщине с визгливым, резким и пронзительным голосом — никогда.
— Говорят, вы на нее похожи.
— Да? Надеюсь, вы не хотите, чтобы я расхваливал свою мать, как Ламартин[117], а потом скромно добавил; «Я — ее копия».
— Но почему же, так рано овдовев, она больше не вышла замуж? Такая красивая и богатая женщина должна была иметь так же много поклонников, как сама Пенелопа[118].
— Когда-нибудь я расскажу вам о ее жизни, и тогда поймете, почему она предпочла свободу брачным узам.
— Она любила вас, не так ли?
— Да, очень любила; и я ее тоже. Более того, не будь у меня тех наклонностей, в которых я не смел ей признаться и которые способны понять только лесбиянки, веди я разгульную жизнь развлекаясь со шлюхами, любовницами и веселыми gresettes, как большинство молодых людей моего возраста, я бы сделал ее наперсницей своих любовных подвигов, ведь в момент блаженства мы часто теряем остроту чувств из-за их обилия, тогда как, намеренно выдавая воспоминания по крупицам, мы получаем двойное удовольствие — для чувств и для ума.
Однако в последнее время Телени стал чем-то вроде преграды между нами, и я думаю, мать начала меня ревновать, ибо его имя сделалось ей так же неприятно, как когда-то было неприятно мне.
— Она начала догадываться о вашей liaison?
— Я не знал, догадывалась она об этом или ревновала из-за моей к нему привязанности. Однако близился критический момент, и события начинали развиваться по тому пути, который привел к страшному концу.
В некой местности намечался большой концерт, и, поскольку Л., который должен был в нем выступать, заболел, заменить его попросили Телени. От такой чести он не мог отказаться.
«Я совсем не хочу покидать вас, — сказал он, — даже на пару дней, но я знаю, что вы сейчас настолько заняты, что никак не можете уехать, особенно учитывая то, что ваш управляющий болен».
«Да, — ответил я, — это довольно затруднительно, но всё же я мог бы…»
«Нет-нет, это было бы глупо; я вам не позволю».
«Но вы ведь так давно не играли на концерте без меня».
«Вы будете в моей душе, если не во плоти. Я буду видеть, что вы сидите на своем обычном месте, и играть для вас и только для вас. Кроме того, мы ни разу не расставались ни на день с тех пор, как вы получили письмо Брайанкорта. Давайте проверим, можем ли мы два дня прожить врозь. Кто знает, может быть, когда-нибудь…»
«Что вы хотите этим сказать?»
«Ничего, только вам может надоесть такая жизнь. Вы можете жениться ради того, чтобы иметь семью, как делают другие мужчины».
«Семью?! — Я расхохотался. — Что, эта обуза так необходима для счастья?»
«Вы можете пресытиться моей любовью».
«Рене, не говорите так! Я не могу без вас жить!»
Он скептически улыбнулся.
«Как?! Вы сомневаетесь в моей любви?»
«Разве можно сомневаться в том, что звезды — это огонь? А вы, — продолжал он медленно, глядя мне в глаза, — вы сомневаетесь в моей любви?»
Мне показалось, что он побледнел.
«Нет. Разве вы давали мне хоть малейший повод сомневаться?»
«А если бы я был неверен?»
«Телени, — произнес я, замирая, — у вас есть другой любовник». Я представил, как он, находясь в чужих объятиях, испытывает блаженство, которое принадлежало мне, и только мне.
«Нет, — сказал он, — у меня никого нет; но если бы был?»
«Вы полюбили бы его или ее, и моя жизнь была бы разрушена навсегда».
«Нет, не навсегда, может быть, только на время. Но Вы бы смогли простить меня?»
«Да, если бы вы меня еще любили».
При мысли о том, что я могу потерять его, у меня сильно закололо в сердце; это подействовало на меня, как основательная порка; глаза наполнились слезами, кровь закипела. Я схватил его и обнял, вкладывая в это объятие всю свою силу; губы жадно искали его губ, мой язык был у него во рту. Чем больше я его целовал, тем печальнее становился и тем сильнее было мое желание. На минуту я отстранился и взглянул на него. Как красив он был в тот день! Его красота была почти неземной!
Я и теперь вижу его — в ореоле мягких шелковистых волос, похожих на золотистый солнечный луч, играющий в бокале вина цвета топаза, с влажным, полуоткрытым, напоенным восточной чувственностью ртом, с алыми губами, не иссушенными болезнями, как губы размалеванных, крепко надушенных куртизанок, продающих за золото несколько мгновений гнусного блаженства и не выцветшими, как губы бледных, малокровных девственниц с осиной талией, в чьих венах ежемесячные менструации вместо рубиново-красной крови оставили лишь бесцветную жидкость.
И эти сияющие глаза, медленный огонь которых, казалось, смягчал страстность чувственных губ, а почти по-детски невинные, похожие на персик, округлые щеки контрастировали с массивной, мощной шеей и фигурой, к которой прикоснулся каждый бог, чтоб миру веру в человека дать.
И пусть равнодушный, пропахший фиалковым корнем эстет, влюбленный в призрак, бичует меня за пламенную, сводящую с ума страсть, которую вызывала в моей груди эта мужская красота. Да, я столь же пылок, как горячие мужчины, рожденные на склоне вулкана в Неаполе или под палящим солнцем Востока; во всяком случае, я скорее предпочел бы быть таким, как «латинский брюнет» — человек, любивший мужчин-соплеменников, — чем таким, как Данте, пославший их всех в Ад, тогда как сам отправился в благодатное место, называемое Раем, с томным привидением, им самим же сотворенным.
Телени возвращал мои поцелуи с исступленной, отчаянной страстью.
Его губы пылали, его любовь, казалось, превратилась в неистовый огонь. Не знаю, что на меня нашло, но я почувствовал, что наслаждение могло меня убить, а не успокоить. Голова моя шла кругом!
Существует два вида сладострастия. Оба одинаково сильны и неодолимы. Первый вид — горячая, жгучая, чувственная страсть, разгорающаяся в половых органах и поднимающаяся к мозгу, заставляя людей
Второй — холодная желчная страсть воображения, острая воспалённость мозга, которая иссушает кровь,
Первый — неистовое вожделение похотливой юности, естественное для плоти, — удовлетворяется, как только люди
и из наполненного до краев мешка выбрасывается отягощавшее его семя; тогда люди чувствуют себя так, как чувствовали себя наши прародители, когда освежающий сон
Восхитительно легкое тело словно покоится на «прохладных коленях земли», и ленивый сонный ум предается размышлениям о дремлющем наконечнике своего снаряда.
Второй — вспыхнувший в голове,
есть распутство угасающего, болезненная страсть, похожая на голод пресытившейся утробы. Чувства, как чувства Мессалины, lassata sed non satiate[119] находятся в постоянном возбуждении и напряжены сверх возможного. Семяизвержение нисколько не успокаивает тело, напротив, лишь еще больше раздражает его, ибо сладострастные фантазии продолжают волновать и после того, как в мешке совершенно не осталось семян. Даже если вместо целебной густой жидкости появляется едкая кровь, она не приносит ничего, кроме мучительного раздражения. В этом случае — противоположном сатириазису — эрекция отсутствует и фаллос остается вялым и безжизненным, но бессильное тело не перестает корчиться от вожделения и похоти — миража, созданного воспаленным, доведенным до истощения мозгом.
Два эти чувства, соединенные вместе, близки к тому, что я испытал, когда, прижимая Телени к трепещущей, вздымающейся груди, я ощутил в себе яд его страстного желания и всепоглощающей печали.
Я снял со своего друга воротничок и галстук, чтобы полюбоваться и прикоснуться к его прекрасной обнаженной шее; затем я стал постепенно раздевать его, пока наконец он не оказался нагим в моих объятиях.
Он был настоящим образцом чувственной красоты: сильные мускулистые плечи, широкая выпуклая грудь, белоснежная кожа, нежная и гладкая, как лепестки водяной лилии, руки и ноги округлые, как у Леотара[120], в которого были влюблены все женщины; его бедра, голени и ступни были идеальным образцом изящества.
Чем дольше я смотрел на него, тем больше им восхищался. Но созерцания было недостаточно. Чтобы усилить визуальное наслаждение, мне нужно было касаться его, я хотел чувствовать твердые, но упругие мышцы его рук в своих ладонях, гладить массивную мускулистую грудь, ласкать спину. Оттуда мои руки спустились к округлым долям у крестца, и я схватил его за ягодицы и прижал к себе. Срывая с себя одежду, я прижимался к нему всем телом, терся о него, извиваясь, как червь. Я лежал на нем, и мой язык погружался в его рот в поисках его языка, который то отступал, то вырывался наружу, преследуя моего беглеца; это было похоже на похотливую игру в прятки — игру, которая заставляла все тело трепетать от восторга.
Наши пальцы поигрывали кудрявыми волосами, растущими на лобке, или ласкали яички столь нежно, что прикосновения почти не ощущались, однако яички были охвачены такой сильной дрожью, что жидкость, в них скопившаяся, рвалась наружу раньше времени.
Ни одна самая умелая проститутка не смогла бы подарить столь волнующего чувства, какое я испытывал со своим возлюбленным, поскольку она знакома лишь с теми удовольствиям которые познала сама, а более острых ощущений, неведомых её полу, она и представить себе не в состоянии.
Точно так же ни один мужчина не в силах свести женщину с ума и довести ее до полного исступления так, как может это сделать лесбиянка, ибо только она знает, как нужно ласкать, когда и в каком месте. Поэтому квинтэссенция блаженства доступна лишь существам одинакового пола.
Теперь наши тела были так же плотно прижаты друг к другу как перчатка прижата к руке, которую она обтягивает; ступни сладострастно ласкали ступни, колени вдавились друг в друга, а кожа на бедрах, казалось, расступилась, и образовалась единая плоть.
Хотя мне очень не хотелось вставать, но, почувствовав, как пульсирует его твердый раздувшийся фаллос, я уже собирался оторваться от Телени, взять это возбужденное орудие в рот и опустошить его, как вдруг он, заметив, что мой фаллос не только набух, но увлажнился и наполнился до краев, схватил меня и притянул к себе.
Он раздвинул бедра и обхватил ими мои ноги так, что его пятки сжимали мне голени. Я оказался в тисках и не мог пошевелиться.
Затем, ослабив объятия, Рене приподнялся и подложил подушку под широко раздвинутые ягодицы — его ноги все время были расставлены.
Проделав это, он взял мой жезл и принялся вдавливать его свой зияющий анус. Кончик резвого фаллоса скоро нашел гостеприимное отверстие, радостно готовое его принять. Я слегка надавил; головка полностью погрузилась. Сфинктер сжал ее настолько, что для того, чтобы ее вынуть, нужно было бы приложить некоторые усилия. Я медленно вводил фаллос, дабы как можно дольше продлить неописуемое ощущение, охватившее все мои члены, чтобы унять нервную дрожь и успокоить жар в крови. Еще один толчок, и в его тело погрузилась половина фаллоса. Я вытащил его на полдюйма, хотя мне эти полдюйма показались ярдом — столь продолжительное удовольствие я испытал. Я снова надавил, и член целиком, по самый корень, погрузился внутрь Тщетно я пытался продвинуть его дальше — это было невозможно; я был стиснут и чувствовал, как он шевелится в своих ножнах, словно ребенок в утробе матери, и дарит мне невыразимое наслаждение.
Снизошедшее на меня блаженство было столь великим, что я спрашивал себя, не пролилась ли мне на голову и не струится ли из моей трепещущей плоти некая неземная животворящая влага?
Несомненно, такое же ощущение во время ливня испытывают оживающие цветы, иссушенные палящими лучами летнего солнца.
Телени опять обвил меня рукой и прижал к себе. Я видел себя в его глазах, он видел себя в моих. Охваченные этим искрящимся сладострастием, мы нежно ласкали тела друг друга; губы наши слились, и мой язык вновь оказался у него во рту. Мы замерли в этой чувственной позе, ибо я ощущал, что любое движение может спровоцировать обильное семяизвержение; а наслаждение было слишком велико, чтобы позволить ему так быстро прекратиться. И все же мы не могли не извиваться и едва не теряли сознание от удовольствия. От корней волос до кончиков пальцев мы трепетали от сладострастия; вся наша плоть дрожала, как в полночь дрожат безмятежные воды озера от сладкого поцелуя шаловливого ветерка, только что лишившего невинности юную розу.
Однако столь сильное наслаждение не могло длиться долго; несколько непроизвольных сокращений сфинктера, и первая атака завершилась; изо всей силы я вонзил фаллос вглубь; я наслаждался Телени; дыхание мое участилось, я задыхался, я вздыхал, я стонал. Густая кипящая жидкость медленно изливалась струями, вырывающимися через длительные интервалы.
Я продолжил тереться об него, вскоре он испытал те же ощущения; не успела из меня вытечь последняя капля, как я был омыт его обжигающей спермой. Мы больше не целовались; наши истомленные, безжизненные полураскрытые губы лишь впитывали дыхание друг друга. Наши незрячие глаза больше ничего не видели — нас охватило то благодатное изнеможение, что следует за исступленным восторгом.
Однако мы не впали в забытье, а оставались в оцепенении, онемевшие, позабывшие обо всем на свете, кроме нашей любви, не чувствовавшие ничего кроме наслаждения от соприкосновения наших тел, которые, казалось, перестали существовать раздельно и слились воедино. У нас была всего лишь одна голова и одно сердце, ибо сердца стучали в унисон, а в головах мелькали одни и те же смутные мысли.
Почему Иегова не поразил нас в ту минуту? Разве мы недостаточно разгневали Его? Неужели Бог-ревнитель не позавидовал нашему блаженству? Почему Он не метнул в нас одну из своих карающих молний и не уничтожил нас?
— Что?! И швырнул бы вас обоих прямо в ад?!
— Что ж с того? Конечно, в аду нет места великим устремлениям; там нет ни ложных стремлений к недостижимому идеалу, ни напрасных надежд, ни горьких разочарований. Там нам не придется притворяться теми, кем мы не являемся, и мы обретем настоящее успокоение ума, а наши тела получат возможность развивать те способности, которыми одарила их природа. Мы избавимся от необходимости лицемерить и обманывать, и страх перед тем, что все узнают, кто мы на самом деле, никогда не будет терзать нас.
Если уж мы так порочны, то, по крайней мере, будем в этом откровенны. Там мы будем честны друг с другом настолько, насколько здесь, в мире людей, могут быть честны друг с другом только воры; и более того, у нас будет приятное дружеское общение с теми собратьями, которые нам по душе.
Так стоит ли бояться ада? Даже допуская существование загробной жизни в бездонной яме — чего я не признаю, — ад окажется раем для тех, кого природа создала для него. Разве животные ропщут, что не сотворены быть людьми? Думаю, нет. Тогда почему мы должны чувствовать себя несчастными из-за того, что не рождены ангелами?
В тот момент мы словно плыли между небом и землей, не думая о том, что все, что имеет начало, имеет и конец.
Чувства притупились, и мягкая тахта, на которой мы лежали, казалась ложем из облаков. Вокруг нас царила мертвая тишина. Даже шум и гул большого города, казалось, утих — или, по крайней мере, мы его не слышали. Неужели земля перестала вращаться, и десница Времени прекратила свой зловещий ход?
Помню, что мне хотелось, чтобы жизнь прошла в этом спокойном, безмятежном, сонном состоянии, похожем на гипнотический транс, когда тело ввергнуто в летаргическое оцепенение, а разум,
способен ощущать лишь легкость и умиротворенность. Внезапно нашу приятную дремоту прервал звук электрического звонка.
Телени вскочил, торопливо завернулся в халат и вышел. Через несколько минут он вернулся с телеграммой в руке.
«Что это?» — поинтересовался я.
«Послание от N.», — ответил он, глядя на меня с тоской; голос его слегка дрожал.
«И вам нужно ехать?»
«Полагаю, что так», — произнес он, глядя на меня полными скорби глазами.
«Вам это настолько неприятно?»
«Неприятно-не то слово; это Невыносимо. Это первая разлука, и…»
«Да, но ведь только на пару дней».
«Пара дней, — отозвался он мрачно, — это промежуток времени, отделяющий жизнь от смерти,
«Телени, вот уже несколько дней у вас на душе какая-то тяжесть, что-то, чего я не могу понять. Вы не скажете своему другу, в чем дело?»
Он широко раскрыл глаза, словно вглядывался в глубины бесконечности; на его губах застыло выражение боли. Затем он медленно произнес:
«Дело в моей судьбе. Неужели вы забыли о пророческом видении, которое предстало перед вами в тот вечер на благотворительном концерте?»
«Адриан, оплакивающий смерть Антиноя?!»
«Да».
«Фантазия моего воспаленного мозга, порожденная противоречивыми особенностями вашей венгерской музыки — столь волнующей, чувственной и в то же время настолько печальной».
Он горестно покачал головой: «Нет, это было нечто большее, чем праздная фантазия».
«В вас происходят какие-то перемены, Телени. Возможно, сейчас религиозный или духовный элемент вашей натуры преобладает над чувственным, но вы уже не тот, что были раньше».
«Я слишком счастлив, но наше счастье построено на песке — Такие узы, как наши…»
«Не благословляются Церковью и отвратительны большинству добропорядочных людей».
«Да, в такой любви всегда есть
Зачем мы встретились, или, вернее, почему один из нас не рожден женщиной? Если бы только вы были какой-нибудь бедной девушкой…»
«Не надо, оставьте свои болезненные фантазии и скажите откровенно, любили бы вы меня тогда сильнее, чем сейчас?»
Он печально взглянул на меня, но не смог заставить себя солгать. Помолчав немного, он со вздохом добавил:
Скажите, Камиль, наша любовь такова?»
«Почему нет? Разве вы не питаете ко мне столь же постоянную любовь, какую я питаю к вам? И разве меня привлекают только чувственные удовольствия, которые вы мне дарите? Вы знаете, что мое сердце тоскует по вам и тогда, когда страсть удовлетворена, а желание притупляется».
«И все-таки, если бы не я, вы, возможно, полюбили бы какую-нибудь женщину, на которой захотели бы жениться…»
«И обнаружил бы, что рожден с иными пристрастиями, но было бы слишком поздно. Нет, рано или поздно, я должен был бы пойти по пути, предначертанному судьбой».
«И теперь все может измениться; пресытившись моей любовью, вы, возможно, могли бы жениться и забыть меня».
«Никогда. Но постойте, вы что, исповедуетесь? Уж не собираетесь ли вы стать кальвинистом? Или, подобно Dame aux Camelias[121] или Антиною, считаете необходимым принести себя в жертву на алтарь любви ради меня?»
«Пожалуйста, не шутите».
«Я скажу вам, что мы сделаем. Давайте оставим Францию. Давайте поедем в Испанию, на юг Италии или даже давайте покинем Европу и отправимся на Восток; уверен, что жил там в одной из своих прежних жизней, и испытываю столь страстное желание там побывать, как будто земля,
некогда была домом моей юности; там мы будем жить, никому не известные, забытые миром».
«Да, но могу ли я уехать из этого города?» — проговорил он задумчиво, обращаясь скорее к себе, чем ко мне.
Я знал, что в последнее время Телени осаждали кредиторы и что ростовщики часто доставляют ему неприятности. Поэтому, нимало не заботясь о том, что обо мне подумают, — а разве кто-то думает плохо о человеке, который платит? — я созвал всех кредиторов и втайне от Рене расплатился по всем счетам, Я было собирался рассказать ему об этом и тем самым избавить от груза, удручавшего его, но Судьба — слепая, неумолимая, сокрушительная Судьба — наложила печать на мои уста.
В дверь снова позвонили. Если бы этот звонок раздался на несколько секунд позже, его и моя жизни сложились бы совсем по-иному! Но, как говорят турки, это был «кисмет»[122].
За ним прибыла коляска, чтобы отвезти на вокзал. Пока он собирался, я помог упаковать фрак и некоторые мелочи, которые могли ему понадобиться. Я случайно наткнулся на маленькую спичечную коробочку, где хранились кондомы, и, улыбнувшись, сказал:
«Вот, положу их в ваш дорожный сундук; они могут пригодиться».
Он вздрогнул и смертельно побледнел.
«Кто знает, — сказал я, — может быть, какая-нибудь прекрасная патронесса…»
«Пожалуйста, не шутите», — резко ответил он.
«О! Теперь я могу себе это позволить, но когда-то… вы знаете, что я ревновал вас даже к моей матери?»
Телени уронил зеркало, которое держал в руках; оно разбилось вдребезги.
Мы оба застыли в ужасе. Разве это не было дурным предзнаменованием? В этот момент начали бить часы на каминной полке. Телени пожал плечами.
«Идемте, — сказал он, — у нас мало времени». Он схватил свой чемодан, и мы поспешили вниз.
Я проводил его до вокзала, и, когда он вышел из вагона, я, перед тем как уйти, обнял его, и наши губы слились в последнем долгом поцелуе. Они нежно прижались друг к другу, охваченные не жаром страсти, а любовью, преисполненной нежности и печали, сжимающей сердце.
Его поцелуй был как последний привет увядающего цветка или как сладкий аромат, подаренный в сумерках одним из изящных белых цветов кактуса, что раскрывает свои лепестки на рассвете, следует за солнцем в его дневном пути и затем никнет и увядает с последним лучом светила.
Расставшись с ним, я почувствовал себя так, будто лишился собственной души. Моя любовь была словно хитон Несса[123], снять с себя который было так же болезненно, как если бы мою плоть срывали с меня по частям. Ощущение было таким, словно у меня отняли радость жизни.
Я смотрел, как он быстро удалялся пружинистой походкой, полной кошачьей грации. Дойдя до входа в вагон, он обернулся. Выражение отчаяния и мертвенная бледность на лице делали его похожим на человека, собирающегося покончить с собой. Он в последний раз помахал рукой и быстро скрылся в вагоне.
Солнце для меня закатилось. Над миром нависла ночь. Я чувствовал себя
и, трепеща, задавался вопросом, какое утро породит эта мгла? Агония, отобразившаяся на его лице, посеяла в глубине моей души ужас; я подумал, как глупо с нашей стороны подвергать друг друга ненужным страданиям, и, выскочив из коляски, ринулся за ним.
Вдруг на меня налетел и стиснул в объятиях какой-то огромный деревенский увалень.
«О…! — я не разобрал имени, которое он назвал. — Какой приятный сюрприз! Ты давно здесь?»
«Отпустите меня! Отпустите! Вы обознались!» — вопил я, но он держал меня в тисках.
Пока мы боролись, я услышал сигнал к отправлению. Я с силой оттолкнул его и бросился на вокзал. Я опоздал всего лишь на несколько секунд — поезд уже тронулся, Телени исчез.
Мне ничего не оставалось, как отправить моему другу письмо, умоляя его простить меня за совершение того, что Рене вседа мне запрещал, — а именно, что я дал поручение своему адвокату собрать все его неуплаченные счета и расплатиться по долгам, которые так давно его тяготили. Однако этого письма он так и не получил.
Я вскочил в кеб, и он повез меня в контору по оживленным улицам города.
Какая раздражающая суета царила вокруг! Каким убогим и пустым казался этот мир!
Безвкусно одетая, ухмыляющаяся девица бросала похотливые взгляды на какого-то парня, призывая его пойти с ней. Одноглазый сатир пожирал глазами молоденькую девушку — совсем еще дитя. Мне показалось, что я его знаю, да, это был мой школьный товарищ Бью, всегда вызывавший во мне отвращение, и он еще больше, чем некогда его отец, походил на зазывалу в публичном доме. Толстый, с лоснящимися волосами человек нес дыню-канталупу, и у него, казалось, текли слюни от предвкушения удовольствия, которое он получит, когда вместе с женой и детьми станет есть ее после супа. Я спрашивал себя, неужели мужчина или женщина могли без отвращения целовать этот слюнявый рот?
В последние три дня я совершенно забросил контору, а мой управляющий был болен. Так что я счел своим долгом приступить к работе и сделать все, что требовалось. Несмотря на гложущую душу тоску я принялся отвечать на письма и телеграммы либо отдавать указания, как следует на них отвечать. Я работал лихорадочно, скорее как машина, а не как человек. На несколько часов я полностью погрузился в сложные коммерческие операции, и, хотя голова у меня была ясной, лицо моего друга с печальными глазами, с чувственным ртом, искаженным горькой улыбкой, все время стояло у меня перед глазами, а на губах ощущался привкус поцелуя.
Контору пора было закрывать, а я еще не сделал и половины того, что было необходимо. Словно сквозь сон я видел унылые лица моих клерков, которым пришлось отложить обед и прочие удовольствия. Им всем было куда пойти, я же был совсем один, даже мать уехала из города. Так что я отпустил их, сказав, что останусь с главным бухгалтером. Дважды повторять не пришлось, и в мгновение ока контора опустела.
Что же касается бухгалтера, то он был коммерческим ископаемым, чем-то вроде живой счетной машины; он был настолько стар, что при каждом движении все его суставы скрипели, как заржавленные дверные петли, так что он почти не двигался. Никто никогда не видел, чтобы он находился где-нибудь, кроме как на своем высоком табурете; когда приходил кто-нибудь из младших клерков, бухгалтер уже сидел на своем месте, а когда они уходили, он все еще был там. У него в жизни была лишь одна цель — обеспечение бесконечного прироста капитала.
Я плохо себя чувствовал, поэтому отправил мальчика-посыльного за бутылкой сухого хереса и коробкой ванильных вафель. Когда мальчик вернулся, я отпустил его.
Я налил бухгалтеру бокал вина и протянул ему коробку с вафлями. Старик взял бокал в руку цвета пергаментной бумаги, поднес его к свету и стал всматриваться, то ли рассчитывал химические свойства вина, то ли определял его удельный вес. Затем он медленно и с явным удовольствием начал его пить. На вафли он посмотрел внимательно, как на чек, который собирался зарегистрировать.
Потом мы снова приступили к работе, и к десяти часам, когда были готовы ответы на все письма и депеши, я с большим облегчением вздохнул.
«Если мой управляющий завтра придет, как и обещал, он будет мною доволен», — промелькнуло у меня в голове. Я улыбнулся этой мысли.
Зачем я работал? Ради прибыли? для того, чтобы угодить своему клерку? Или ради работы как таковой? Уверен, что и сам не знал. Думаю, что трудился ради того лихорадочного возбуждения, которое приносила мне работа, так же как люди играют в шахматы для того, чтобы занять свои мозги и не думать о том, что их гнетет; а может быть, я обладал врожденным трудолюбием, как, например, муравьи или пчелы.
Не желая больше заставлять бедного бухгалтера сидеть на его табурете, я признал тот факт, что пора закрывать контору.
Старик медленно с хрустом поднялся, снял очки, как автомат, не спеша протер их, положил в чехол, спокойно вынул другие — у него были очки на все случаи жизни, — нацепил их на нос и посмотрел на меня.
«Вы проделали огромную работу. Если бы вас видели ваши дед и отец, они были бы совершенно вами довольны».
Я снова налил два бокала вина и протянул один из них старику. Он залпом осушил его, довольный не столько вином, сколько тем, что я был столь добр, что предложил ему выпить. Мы пожали друг другу руки и разошлись.
Куда мне было идти — домой?
Я сожалел о том, что моя мать еще не вернулась. В тот самый день я получил от нее письмо, в котором она сообщала, что, вместо того чтобы вернуться через пару дней, как ранее намеревалась, она, возможно, ненадолго отправится в Италию. У нее обострился бронхит, и она боялась сырости и туманов, часто окутывавших наш город.
Бедная моя мать! Теперь я думал, что, с тех пор как у нас с Телени установились близкие отношения, между мной и ею возникло некоторое отчуждение; не оттого, что я стал меньше любить ее, а потому что Телени полностью завладел моими душой и телом. Однако сейчас, когда он уехал, я затосковал по ней и решил написать ей длинное, полное любви письмо, как только приду домой.
А пока я шел куда глаза глядят. Проблуждав таким образом около часа, я вдруг обнаружил, что стою у дома Телени — пришел сюда, сам того не осознавая, Я с тоской взглянул на окна Телени. Как я любил этот дом! Я был готов целовать камни, которых касались его ноги.
Ночь была темной, но ясной, улица — очень тихая — освещалась не слишком хорошо, да к тому же ближайший к дому фонарь почему-то не горел.
Я продолжал смотреть на окна, и вдруг мне показалось, что сквозь щель между задернутыми шторами пробивается слабый свет. «Это все лишь мои фантазии», — подумал я.
Я напряг зрение. «Да нет же, я не ошибаюсь, — произнес я вслух, разговаривал сам с собой, — там точно горит свет».
Неужели Телени вернулся?
Возможно, им завладело то же уныние, какое испытывал я с тех пор, как мы расстались. Мука, отобразившаяся на моем мертвенно-бледном лице, должно быть, парализовала его, в таком состоянии он играть не мог и решил вернуться. Или отложили концерт.
А может быть, это воры?!
Но что, если Телени?…
Нет, сама эта мысль была абсурдна. Как мог я подозревать в неверности человека, которого любил? От такого предположения я вздрогнул как от чего-то ужасного — как от нравственной скверны. Нет, все что угодно, только не это. Ключ от входной двери был у меня в руке, я уже вошел в дом.
Я стал крадучись пробираться по темной лестнице, вспоминал ту ночь, когда впервые пришел сюда со своим другом, и как мы останавливались на каждой ступеньке, чтобы обнять и поцеловать друг друга.
Теперь же, когда я был один, темнота давила на меня тяжелым грузом. Наконец я добрался до entresol[124], где жил мой друг. Во всем доме царила полная тишина.
Перед тем, как вставить ключ, я заглянул в замочную скважину. Может быть, Телени или его слуга оставили в передней и в одной из комнат зажженную лампу?
Мне вспомнилось разбитое зеркало, и в голове замелькали ужасающие мысли. И снова помимо моей воли мною завладела страшная мысль о том, что мое место в сердце Телени завял кто-то другой.
Нет, это было слишком нелепо. Кто мог быть моим соперником?
Словно вор, я вставил ключ в замок; петли были хорошо смазаны маслом, и дверь бесшумно отворилась. Я аккуратно закрыл ее, стараясь не произвести ни единого звука, и стал крадучись, на цыпочках пробираться в квартиру.
Всюду на полу лежали ковры, смягчавшие мои шаги. Я направился в комнату, где несколько часов назад испытал неземное блаженство. Там горел свет. Изнутри доносились приглушенные звуки.
Я слишком хорошо знал, что означают эти звуки. Впервые я испытал уничтожающие уколы ревности. Казалось, мне в сердце вонзили отравленный кинжал; гигантская гидра схватила меня своими челюстями и огромными клыками впилась мне в грудь.
Зачем я здесь? Что мне теперь делать? Куда идти? Мне казалось, что я умираю.
Рука уже лежала на двери, но, перед тем как открыть ее, я сделал то, что, полагаю, сделали бы большинство людей. Трясясь с головы до ног, с замиранием сердца я наклонился и заглянул в замочную скважину.
Может быть, я сплю, и все это кошмарный сон? Я впился ногтями в свою плоть, чтобы убедиться, что нахожусь в сознании. И все же я не был уверен в том, что жив и что все это происходит наяву.
Иногда мы утрачиваем чувство реальности; жизнь предстает перед нами как причудливый оптический обман — фантасмагорическая химера, которая исчезнет от легчайшего дуновения.
Затаив дыхание, я заглянул внутрь.
Нет, это не было иллюзией, не было картиной, созданной моим воспаленным воображением. Там, на стуле, еще не остывшем от наших объятий, сидели двое.
Но кто они?
Возможно, Телени пустил переночевать кого-то из своих друзей. Возможно, он забыл сказать мне об этом или не посчитал это нужным.
Конечно же, так оно и есть. Телени не мог изменить мне.
Я снова заглянул внутрь. Комната была освещена намного ярче, чем коридор, и мне все было прекрасно видно.
Я увидел силуэт мужчины, разместившегося на стуле, который изобретательный ум Телени сконструировал для усиления чувственного удовольствия. Верхом на мужчине спиной к двери сидела женщина с темными разметавшимися волосами. На ней было белое атласное платье.
Я напряг глаза, дабы рассмотреть каждую мелочь, и увидел, что на самом деле она не сидит, а стоит на цыпочках, и, несмотря на свою полноту, легко подпрыгивает у мужчины на коленях.
Хотя я этого не видел, но мне стало ясно, что всякий раз, опускаясь, она принимала в свое отверстие значительных размеров стержень, на который так плотно была насажена. Я понял также, что получаемое удовольствие было столь захватывающим, что заставляло ее отскакивать как резиновый мяч, но лишь для того, чтобы снова упасть и упругими, сочными, хорошо увлажненными губами полностью, по самый корень, поглотить пульсирующий жезл наслаждения. Кем бы она ни была — великосветской дамой или шлюхой, — ее никак нельзя было назвать новичком, ибо только женщина с огромным опытом могла продемонстрировать такую виртуозность в скачках Цитеры[125].
Я продолжать наблюдать и видел, как растет ее наслаждение: оно приближалось к своему пику. От иноходи женщина постепенно перешла к рыси, а затем пустилась легким галопом; продолжая скачки, она со все возрастающей страстью сжимала голову мужчины, на коленях которого сидела верхом. Было ясно, что прикосновение губ любовника и движения его раздувшегося орудия внутри нее приводили ее в любовный экстаз; она понеслась галопом, чтобы,
достичь чудесной цели своей поездки.
Тем временем мужчина — кем бы он ни был, — пройдясь руками по массивным долям ее зада, принялся поглаживать, сжимать и массировать ее груди, усиливал ее удовольствие тысячей милых ласк, которые едва не сводили ее с ума.
Мне сейчас вспомнилась любопытная деталь, показывающая, как работает наш мозг и как его отвлекают посторонние мелочи даже тогда, когда он полностью погружен в самые горькие думы. Я помню, что испытывал некоторое эстетическое наслаждение от игры света и тени на роскошном атласном платье дамы, блестевшем под лучами висевшей над ее головой лампы. Я вспоминаю, как восхищался нежными жемчужными и металлическими оттенками, которые то искрились, то сияли, а то превращались в слабый, тусклый отблеск.
Но тут шлейф платья запутался в ножках стула, и, поскольку это обстоятельство мешало ритмичным постоянно убыстрявшимся движениям, дама, обхватив любовника за шею, ловко сбросила платье и осталась в объятиях мужчины совершенно обнаженной.
Каким великолепным было ее тело! Юнона во всем своем величии не могла бы быть более совершенной. Однако у меня почти не было времени восхищаться ее необыкновенной красотой, ее грацией, силой, чудесной симметрией ее силуэта, ее подвижностью и мастерством, поскольку скачки подходили к концу.
Оба любовника трепетали; ими овладело восхитительное чувство, предшествующее переполнению семявыводящих каналов. Очевидно, уста вагины сосали головку мужского орудия, поскольку последовали нервные сокращения; влагалище, в котором был зажат ствол, сжалось, и тела забились в конвульсиях.
Разумеется, за такими сильными спазмами должны следовать выпадение и воспаление матки, но ведь какое наслаждение они, должно быть, дарят мужчине.
Потом я услышал вздохи, пыхтение, тихое воркование, гортанные звуки, приглушаемые сдавленными поцелуями, которые дарили все еще приникшие друг к другу рты. В то время, как любовники содрогались от наслаждения, я содрогался в агонии, ибо был почти уверен, что этот мужчина — мой возлюбленный.
«Кто же эта ненавистная женщина?» — задавался я вопросом. Но вид двух обнаженных тел, переплетенных в столь волнующих объятиях, эти две массивные доли, белые, как только что выпавший снег, приглушенные звуки, выражающие исступленное блаженство, на мгновение пересилили мучительную ревность, и мною овладело неукротимое возбуждение, так что я едва удержался от того, чтобы ворваться в комнату. Моя взволнованная, бьющая крыльями пташка, мой соловей — как называют ее итальянцы, — подобно скворцу Стерна, пытался вырваться из клетки[126]; но не только — он к тому же так высоко поднял голову, словно хотел дотянуться до замочной скважины.
Мои пальцы уже лежали на дверной ручке. Почему бы мне не ворваться и не принять участие в этом пире, хотя бы и более скромным образом, — как нищий, войти через черный ход? В самом деле — почему нет?!
В этот момент, дама, которая все еще крепко обнимала мужчину на шею, произнесла: «Bon Dieu!»[127] Как хорошо! давно я не испытывала такого сильного наслаждения».
Я оторопел. Пальцы мои разжались, рука опустилась, даже моя пташка безжизненно поникла.
Что за голос!
«Я знаю этот голос, — сказал я себе. — Он кажется мне таким знакомым. Только кровь, ударившая в голову и стучавшая в ушах, мешает мне понять, чей это голос».
В полном изумлении я поднял голову и увидел, что женщина встала и повернулась лицом к двери. Теперь она стояла ближе, и ее лица я видеть не мог, но зато я видел ее обнаженное тело от плеч и ниже. У нее была изумительная фигура, самая прекрасная из всех, что я когда-либо видел. Само совершенство женского торса.
Кожа у женщины была ослепительно белая и по гладкости могла соперничать со сброшенным атласным платьем. Ее груди — возможно, немного великоватые для того, чтобы быть эстетически красивыми, — казалось, принадлежали одной из пышных венецианских куртизанок с картин Тициана; твердые, словно разбухшие от молока, полушария выдавались вперед; торчащие соски, похожие на два нежных розовых бутона, были окружены коричневатым ореолом, напоминающим шелковистое окаймление цветка страсти.
Мощная линия бедер подчеркивала красоту ног. Живот — идеально круглый и гладкий — был наполовину покрыт чудесным мехом, таким же черным и блестящим, как мех бобра; однако же было очевидно, что у этой женщины есть дети, поскольку живот походил на муар. Между зияющих влажных губ медленно просачивались жемчужного цвета капли.
Женщина не была юной, но это не делало ее менее желанной. Она обладала великолепной красотой распустившейся розы, и наслаждение, которое она, вероятно, могла подарить, было сродни удовольствию, получаемому от благоухающего цветка; блаженство, которое заставляет пчелу, собирающую мед, замирать от восторга в цветочном лоне. Это соблазнительное тело, насколько я видел, было создано для того, чтобы дарить — и дарило — наслаждение не одному мужчине, так как природа явно предопределила ей быть одной из жриц Венеры.
Продемонстрировав моему изумленному взору чудесную красоту она отступила в сторону, и я увидел ее партнера по развлечениям. Хотя он закрыл лицо руками, я сразу узнал в нем Телени. Ошибки быть не могло.
Во-первых, его божественная фигура, во-вторых, его фаллос, который я так хорошо знал, а кроме того — я едва не лишился чувств, когда мой взгляд упал на ею руку, — кроме того, на пальце сверкало подаренное мною кольцо.
Женщина снова заговорила. Мужчина отнял руки от лица. Это был он! Это был Телени — мой друг, моя любовь, моя жизнь!
Как описать то, что я почувствовал? Мне казалось, что я дышу огнем, что на меня пролился дождь из горячей золы.
Дверь оказалась заперта. Я взялся за ручку и рванул ее так, как сильнейший ураган срывает паруса большого фрегата и рвет их в клочья. Я выломал дверь.
Я стоял, шатаясь, на пороге. Пол, казалось, качался у меня под ногами; перед глазами все плыло; я находился в самом центре страшного водоворота. Чтобы не упасть, я ухватился за дверные косяки, ибо, к величайшему своему ужасу, я оказался лицом к лицу… со своей матерью!
Раздался тройной крик стыда, ужаса, отчаяния — пронзительный, истошный вопль, который зазвенел в воздухе тихой ночи, пробуждая всех мирно дремавших жильцов этого спокойного дома.
— А вы, что же вы сделали?
— Что я сделал? Я не знаю. Должно быть, я что-то сказал, должно быть, что-то сделал, но я совершенно не помню — что. Потом я, спотыкаясь, поплелся вниз по темной лестнице. Мне казалось, что я спускаюсь все ниже и ниже в глубокий колодец. Помню только, как бежал по мрачным улицам, бежал, словно безумный, сам не зная куда.
Я ощущал на себе проклятье Каина, проклятье вечного странника и бежал, куда глаза глядели. Я убежал от них, но мог ли я убежать от себя?
Внезапно на углу улицы я налетел на кого-то. Мы отшатнулись друг от друга. Я был ошеломлен, поражен ужасом, он — только удивлен.
— Кого же вы встретили?
— Самого себя. Человека, как две капли воды похожего на меня, — моего doppelganger. Он пристально посмотрел на меня и пошел дальше. Я же бросился прочь изо всех оставшихся сил.
Голова шла кругом, силы были на исходе, я постоянно спотыкался, но продолжал бежать.
Был ли я безумен?
Внезапно я — измученный, запыхавшийся, истерзанный телом и душой — очутился на мосту, на том самом месте, где стоял несколько месяцев назад.
У меня вырвался резкий, неприятный смех, которого я испугался. Все-таки этим все и кончилось.
Я быстро осмотрелся по сторонам. Вдалеке мелькнула темная тень. Было ли это мое второе «я»?
Меня била дрожь, я обезумел. Не колеблясь ни секунды, я взобрался на парапет и бросился вниз головой в бурлящий поток.
Я снова оказался в самом центре водоворота; я слышал шум стремительных вод; со всех сторон меня сжимала темнота, в голове с поразительной скоростью проносилась масса мыслей, а затем на некоторое время воцарилась пустота.
Смутно помню, как открыл глаза и увидел — словно в зеркале, — что на меня пристально смотрит мое собственное мертвенно-бледное лицо.
Тут я снова потерял сознание. Когда я наконец пришел в себя, то обнаружил, что нахожусь в морге — в этом страшном склепе, в морге! Меня сочли мертвым и привезли туда.
Я огляделся, но увидел лишь незнакомые лица. Моего второго «я» нигде не было видно.
— А было ли оно?
— Было.
— И кто же это был?
— Мужчина моего возраста, похожий на меня настолько, что нас вполне можно было бы принять за братьев-близнецов.
— Это он спас вам жизнь?
— Да; вероятно, встретившись со мной, он был поражен не только сильным сходством между нами, но и моим безумным видом, и это побудило его пойти за мной. Увидев, что я бросился в воду, он нырнул за мной и смог меня вытащить.
— Вы видели его когда-нибудь еще?
— Видел, мой бедный друг! Но это уже другая история из моей слишком насыщенной событиями жизни. Возможно, когда-нибудь я расскажу ее вам.
— Вы оказались в морге; что же было дальше?
— Я попросил отвезти меня в ближайшую больницу, где у меня была бы отдельная палата, чтобы я никого не видел и никто не видел меня; мне было плохо, очень плохо.
Я уже собирался сесть в экипаж и уехать, когда привезли завернутый в материю труп. Сказали, что это был молодой человек, который только что покончил с собой.
Я вздрогнул от ужаса, мною овладело страшное подозрение. Я упросил сопровождавшего меня доктора, чтобы тот приказал кучеру остановиться. Я должен посмотреть на этот труп. Должно быть, это Телени. Врач мне не внял, и кеб продолжил свой путь.
Прибыв в больницу, мой сопровождающий, видя мое душевное состояние, послал узнать, кем был этот покойный. Названное имя было мне незнакомо.
Прошло три дня. Когда я говорю «три дня», то имею в виду томительное, бесконечно тянущееся время. Успокаивающее, которое дал мне доктор, усыпило меня и даже уняло ужасную нервную дрожь. Но какое успокоительное может излечить разбитое сердце?
На третий день меня разыскал мой управляющий и пришел навестить. Увидев меня, он пришел в ужас.
Бедняга! Он был в полной растерянности и не знал, что сказать. Он избегал всего, что могло бы меня разволновать, и поэтому говорил о делах. Я немного послушал, хотя его слова не имели для меня никакого смысла, а затем вытянул из него информацию о том, что моя мать уехала из города и уже написала ему из Женевы; сейчас она находилась там. Имени Телени он не упомянул, а я не посмел его произнести.
Он предложил мне комнату в своем доме, но я отказался и вместе с ним отправился к себе. После отъезда матери я был обязан поехать домой и пробыть там хотя бы несколько дней.
Во время моего отсутствия никто не приходил, никто не оставил мне ни письма, ни записки, так что я тоже мог бы сказать:
«Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришлые в дому моем и служанки мои чужим считают меня; посторонним стал я в глазах их»[128].
Как и Иов, я чувствовал, что «гнушаются мною все наперсники мои; и те, которых я любил, обратились против меня. Даже малые дети презирают меня».
И все же я очень хотел узнать что-нибудь о Телени, ибо страх окружал меня со всех сторон. Неужели он уехал с моей матерью и не оставил для меня даже маленькой записки? Но что он мог написать?
Если же он остался в городе, то разве я не говорил ему, что, какова бы ни была его вина, я всегда прощу его, если он отошлет мне кольцо?
— И отошли он кольцо, вы бы его простили?
— Я любил его.
Больше я не мог выносить неизвестности. Правда, пусть даже самая горькая, была лучше ужасных сомнений.
Я зашел к Брайанкорту. Его студия была закрыта. Я отправился к нему домой. Там он не появлялся уже два дня. Где он находился, слуги не знали. Они предположили, что он, возможно, уехал к отцу, в Италию.
Я в отчаянии бродил по улицам и вскоре вновь очутился перед домом Телени. Входная дверь по-прежнему была открыта. Я прокрался мимо швейцарской, боясь, что меня остановят и скажут, что моего друга нет дома. Однако никто меня не заметил. Дрожа и замирая от страха, я пробрался вверх по лестнице. Я вставил ключ в замочную скважину, дверь, как и несколько дней назад, бесшумно отворилась. Я вошел внутрь.
Тут я спросил себя, что же делать дальше, и уже готов был развернуться и бежать прочь.
Пока я стоял в нерешительности, мне показалось, что я услышал слабый стон. Я прислушался. Все было тихо.
Нет, все-таки это был стон — тихий предсмертный вой. Он, казалось, доносился из белой комнаты. Я содрогнулся от ужаса.
Я бросился туда.
При воспоминаниях о том, что я там увидел, у меня кровь стынет в жилах. «Лишь только я вспомню, содрогнусь, и трепет объемлет тело мое».
Я увидел лужу загустевшей крови на ослепительно белом меховом ковре, и Телени, наполовину распростершегося на полу, наполовину — на покрытой медвежьей шкурой тахте. В груди его торчал маленький кинжал, и из раны все еще сочилась кровь.
Я рухнул на него; он еще был жив; он стонал. Он открыл глаза.
Раздавленный горем, охваченный ужасом, я совершенно лишился рассудка. Я отпустил его голову и зажал ладонями свои пульсирующие виски, стараясь собраться с мыслями и как-то помочь моему другу.
Нужно ли вынуть нож из раны? Нет, это может убить его.
О, если бы я был хоть немного сведущ в хирургии! Но поскольку я ничего в этом не смыслил, мне оставалось лишь позвать на помощь.
Я выбежал на лестничную площадку и крикнул что было сил: «На помощь, на помощь! Пожар, пожар! Помогите!»
Мой крик прокатился по дому как раскаты грома. Тут же выбежал швейцар.
Я слышал, как открывались окна и двери. Я снова крикнул: «На помощь!» и, схватив бутылку коньяка, стоявшую в буфете в столовой, поспешил к моему другу. Я намочил ему губы и постепенно, капля за каплей, влил в рот несколько ложек бренди.
Телени вновь открыл глаза. Их застилала пелена, они были почти мертвы; только обычная печаль его взгляда стала такой невыносимой, что зрачки были похожи на мрачную зияющую могилу; они причиняли мне невыразимые муки. Я не мог выдерживать этот скорбный застывший взгляд; я оцепенел; дыхание мое остановилось; я разразился судорожными рыданиями.
«О, Телени, зачем вы убили себя? — стонал я. — Как вы могли усомниться в моем прощении, в моей любви?»
Очевидно, он слышал меня; он попытался что-то сказать, но я не уловил ни единого звука.
«Нет, вы не должны умирать, я не могу с вами расстаться, вы — моя жизнь».
Я почувствовал, как он слабо, еле уловимо пожал мою руку.
Появился швейцар и в ужасе замер в дверном проеме.
«Врача, ради бога — врача! Возьмите кеб скорее!» — умоляюще проговорил я.
Стали приходить и другие люди. Я жестом велел им уйти. «Закройте дверь. Никого не впускайте, но ради всего святого приведите врача, пока еще не слишком поздно!»
Люди стояли поодаль и со страхом наблюдали это ужасающее зрелище. Телени снова зашевелил губами.
«Тихо! Тишина! — прошептал я яростно. — Он что-то говорит!»
Меня мучило то, что я не мог разобрать ни единого слова из того, что он хотел мне сказать. После нескольких тщетных попыток, мне удалось расслышать: «Прости!»
«Прощаю ли я вас, мой ангел? Да я не только прощаю вас, я отдал бы за вас жизнь!»
Его скорбный взгляд стал еще мрачнее, однако в нем появилась тень радости. Мало-помалу глубокая печаль наполнилась невыразимой сладостью. Я больше не мог вынести его взгляда; он терзал меня. Горящий в нем огонь проник в мою душу.
Он снова произнес целую фразу, из которой я скорее угадал, чем расслышал два слова: «Брайанкорт… письмо».
После этого силы совершенно покинули его.
Я смотрел на него и видел, что его взор затуманился, окутался легкой дымкой, он меня уже не видел. Глаза потускнели и стали стеклянными.
Он не пытался говорить, губы его были плотно сжаты. Несколько секунд спустя он судорожно открыл рот; он задыхался. У него вырвался тихий прерывающийся хрип.
Это был последний вздох. Страшный предсмертный хрип. В комнате воцарилась тишина.
Я видел, как люди крестились. Некоторые из женщин опустились на колени и стали молиться.
В голове сверкнула страшная мысль. Так, значит, он умер?
Голова его безжизненно упала мне на грудь. У меня вырвался пронзительный крик. Я звал на помощь.
Наконец пришел врач. «Ему уже ничем не поможешь, — сказал он, — он мертв».
Что?! Мой Телени мертв?!
Я оглядел людей вокруг. Они в ужасе шарахались от меня. Комната поплыла у меня перед глазами. Больше я ничего не помню. Я потерял сознание.
Я пришел в себя только через несколько недель. Мною овладело некоторое отупение, а Земля для странника пустыней стала.
Однако мысль о самоубийстве больше никогда не приходила мне в голову. Смерти я был не нужен.
Тем временем моя история в завуалированном виде обошла все газеты. Для сплетников она была слишком лакомым кусочком, чтобы не распространиться с быстротой огня.
Даже письмо, которое Телени написал мне перед тем, как покончить с собой, и в котором говорилось, что причиной его измены явилось то, что моя мать оплатила его долги, стало достоянием общественности.
И тогда небеса увидели мою порочность, а земля восстала против меня, ибо если общество и не требует от вас быть истинно добродетельным, то оно требует соблюдать внешние приличия, но самое главное — избегать скандалов. Поэтому известный священник — святой человек — прочел назидательную проповедь, которая начиналась так:
«Память о нем исчезнет с лица земли, и имени его не будет на площади…»
А закончил он словами:
«Изгонят из света во тьму, и сотрут его с лица земли».
И все друзья Телени, все эти Зофары, Элифазы и Билдады громко сказали «Аминь!».
— А как же Брайанкорт и ваша мать?
— Ах да, я обещал вам рассказать о ее приключениях! Может быть, в другой раз. Они того стоят.
Примечания
1
«место в партере» (фр.). Здесь и далее примеч. ред.
2
«гавот» (фр.)
3
«янтарная лаванда» (фр.)
4
Люлли Жан-Батист (1632–1687) — знаменитый французский композитор, придворный музыкант Людовика ХIV, автор многих опер и музыки к пьесам Мольера. Далее упоминается одно из самых известных сочинений Люлли — «Гавот желтых дам». Ватто Антуан (1684–1721) — известный французский живописец, автор ряда жанровых картин галантного, пасторального или аллегорического содержания.
5
«Не думая об этом» (ит.)
6
По видимому, имеется в виду Франц Лист
7
Альгамбра- знаменитый дворцовый комплекс в Южной Испании.
8
Адриан (76-138) — римский император; его возлюбленный — раб Антиной принял на себя святотатство, совершенное императором, и был казнен.
9
Имеется в виду библейский сюжет (Быт. 10: 19–25): Господь послал двух ангелов в виде прекрасных юношей в грешный город Содом, где их встретил и приютил в своем доме праведник Лот. Когда же грешники содомляне пожелали «познать» пришельцев, Лот защитил их, после чего был с семьей выведен ангелами из Содома, а город за грехи жителей был поражен огненным дождем.
10
Детский сад
11
Оборотная сторона медали.
12
До свидания
13
«Говорят, он — фаворит» (фр.)
14
Белый гелиотроп
15
Страстное желание, тоска (нем.)
16
Заработок, (фр.)
17
«Милый друг»
18
Ищите женщину (фр.)
19
Персонаж романа М. де Сервантеса «Дон-Кихот», воплощение образа Прекрасной Дамы, существовавшей только в воображении героя.
20
Лицея (фр.)
21
Длинный плащ свободного кроя с поясом, шился из фриза, изготовлявшегося в провинции Ольстер (Великобритания). Эта местность отличается дождливым климатом.
22
«только», (фр.)
23
Или я кричать! Кондуктор, заставьте выйти этого господина (ломаный фр. вперемешку с англ.).
24
Сосуд из тумбочки (ит.), т. е. ночной горшок.
25
«Пассажиры, направляющиеся в…, по вагонам!»
26
«Гарсон, попросите господина не говорить непристойностей за столом».
27
пансионе
28
«О, мадемуазель! Простите!» (фр.)
29
«Глупец… кретин… дурак…зверь… животное!» (фр.)
30
Геркулес (Геракл) — один из центральных персонажей греческой мифологии, полубог, наделённый невероятной физической силой.
31
«пресыщенным» (фр.)
32
Герой романа Лонга «Дафнис и Хлоя» (прибл. lll в. н. э.), приобщённый к чувственной любви арфисткой Ликенион.
33
Район Парижа, в XlX в. населённый, в основном, студентами.
34
«гризеткой» (фр.)
35
«кокоткой» (фр.)
36
«горизонталка», проститутка (фр.)
37
Аретино Пьетро (1492–1556) — итальянский поэт-сатирик, автор эротических поэм.
38
«помахать греблом» (ит.)
39
подхватив вирус сифилиса
40
кафешантан, кафе с музыкальной программой
41
Иезавель — нечестивая библейская царица, символ распутства и разврата (см.: 3 Цар. 16:31).
42
Лаокоон — троянский прорицатель, согласно мифу будто бы возражавший против того, чтобы оставленный греками деревянный конь был внесен в град. Присланные покровительницей греков богиней Афиной змеи задушили его. Лаокоон, обвитый змеями, — популярный сюжет античной скульптуры.
43
Один из съедобных видов улиток, водящихся во Франции.
44
Суламифь — возлюбленная библейского царя Давида. Далее пародируются поэтические образы Песни Песней (4:4; 6:6; 7:3).
45
«Давай, дорогой, сделай минет своей кошечке» (фр.)
46
«Лепесток розы» (фр.)
47
«Ай, вот так, так, хватит, ай, всё!» (фр.)
48
«ковырялка» (фр. вульг.)
49
Возможно, проституток недоставало, а может быть, так делалось ради развлечения.
50
«Глянь-ка на эту пизду» (фр.)
51
«А! Грязный гомосек!» (фр.)
52
Миссис Гранди — персонаж романа Т. Мортона, законодательница общественного мнения в вопросах приличия.
53
Минос — в древнегреческой мифологии — царь Крита. Герой Тесей освободил Миноса от тирании получеловека-полубыка Минотавра, которому в виде дани раз в девять лет отдавали на съедение семерых юношей и девушек.
54
Ориген (lll в. н. э.) — раннехристианский богослов, один из первых святых. В юности подвергся самооскоплению.
55
миньоны, фавориты (фр.)
56
Тамплиеры (Рыцари Храма) — раннесредневековый рыцарский орден. Ликвидирован в ХIII в. как допускавший в своих обрядах ересь, в том числе, предположительно, — ритуальное мужеложство.
57
Эвфемистическое название презерватива.
58
Иосиф — библейский герой, проданный братьями в рабство и отвергший любовные домогательства жены своего хозяина (Быт. 39: 7-13)
59
Овидий Публий (Овидий Назон, 43 г. дон. э. — 17 г. н. э.) — великий древнеримский поэт, автор знаменитых любовных элегий.
60
«завязать шнурки» (фр.)
61
«Перейти черту — значит чего-то лишиться (фр.)
62
«задом» (фр.)
63
Ганимед — в греческой мифологии прекрасный мальчик, виночерпий олимпийских богов, любимец Зевса
64
«епископ» (фр.)
65
Пелена в Иерусалимском храме, скрывающая «святая святых» — Ковчег Завета. Разорвалась надвое в момент смерти Христа (Мф. 27: 51; Мк. 15: 38).
66
«волей-неволей» (лат.)
67
«педераст» (фр.)
68
Она стояла к нему спиной.
69
Имеется в виду эпизод Троянской войны. Вещая царевна Кассандра, в чьи пророчества о гибели Трои никто не верил, при падении города пыталась укрыться в храме, но стала добычей победителей и рабыней.
70
выскочка (фр.)
71
проститутка, зазывающая клиентов (фр.)
72
Имя двух неразлучных близнецов из «Комедии ошибок» Шекспира.
73
писсуар (фр.)
74
Пилат Понтий — в l в. н. э. правитель Иудеи. По преданию, вымыл руки, чтобы показать свою непричастность к казни Христа (Мф. 27: 24).
75
«Тот, кто сосёт дротик» (фр.)
76
«Театральный эффект» (фр.)
77
Стикс — согласно греческой мифологии, река, служащая границей царства мертвых.
78
Один из сюжетов «Божественной комедии» Данте повествует о платонической любви Франчески да Римини к Паоло, младшему брату ее супруга Джованни Малатеста. Оба были убиты ревнивцем.
79
«пеньюары» (фр.)
80
паштет из гусиной печени (фр.)
81
Гамлет — герой одноименной трагедии Шекспира, которому явилась тень его убитого отца.
82
Яго — персонаж трагедии Шекспира «Отелло», коварный и вероломный интриган.
83
Государство в Индии в XVl — XVll вв. — олицетворение неисчерпаемого источника богатства; славилось ремеслами и месторождениями алмазов.
84
«любовная связь» (фр.)
85
«жопник» (фр.)
86
«отъявленные мошенники, головорезы» (ит.)
87
«второе «я»; «двойник» (нем.)
88
Согласно исторической легенде, королева Елизавета l (1533–1603) подарила своему фавориту графу Роберту Эссексу (1567–1601) некий перстень как залог любви и верности. В 1601 г. Эссекс поднял мятеж против королевы и был арестован. Королева якобы ждала, что мятежный возлюбленный пришлет ей кольцо в знак раскаяния и в напоминание о любви, но не дождалась, и Эссекс был казнен.
89
Части легкой кавалерии во французских колониальных войсках в 1831–1862 гг.; формировались а Северной Африке.
90
Сократ (469–399 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, практиковавший со своими учениками унизительную для них разновидность мужеложства, за что и был казнен. Ксантиппа — жена Сократа, оставшаяся в истории как сварливая и истеричная женщина.
91
Задиг — герой одноименной философской повести Вольтера, мудрый вельможа.
92
«Ряса ещё не делает монаха» (фр.)
93
«Великого монарха» (фр.)
94
Стерн Лоуренс (1713–1768) — знаменитый английский писатель основатель школы сентиментализма.
95
Частая деревянная решетка в окне, характерный фрагмент восточной архитектуры (фр.)
96
Технология росписи стен горячими красками на восковой основе.
97
да Винчи Леонардо (1452–1519) — великий итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый.
98
Грез Жан-Батист (1627–1805) — французский художник, в чьем творчестве часты слащаво-сентиментальные сюжеты.
99
из воска (фр.)
100
завиток на виске, букв.: «Привлекающий сердца» (фр.)
101
Супруга праведника Лота, которому Бог позволил с семьей покинуть обреченный Содом, была превращена а соляной столп за то, что, вопреки запрету, оглянулась на уничтоженный город.
102
Аллюзия на сцену из «Золотого осла» Апулея.
103
«праздник» (фр.)
104
Лукулл Луций Лициний (110-57 до н. э.) — римский консул и военачальник, прославившийся своим чревоугодием.
105
Рыбный суп на воде или вине со множеством специй, типичное блюдо средиземноморской кулинарии (фр.)
106
«венец скромницы» (фр.)
107
«живая картина» (фр.)
108
«мэтр языков» (фр.)
109
«Спасайся, кто может» (фр.)
110
Одна из ветвей английского и шотландского протестантизма, альтернативная англиканской церкви.
111
По-французски это словосочетание означает как «продвижение по службе», так и «продвижение в теле».
112
Скрытая цитата из «Ромео и Джульетты» В. Шекспира.
113
«кордебалет» (фр.)
114
«незаконный союз» (фр.)
115
«приличия» (фр.)
116
«великосветским дамам» (фр.)
117
Ламартин Альфонс де (1790–1889) — французский политический деятель и писатель, принадлежащий к старшему поколению французских романтиков.
118
Пенелопа — в греческой мифологии супруга царя Итаки Одиссея, которую за время его двадцатилетнего отсутствия осаждали женихи — претенденты на власть над Итакой.
119
«Слабели, но не насыщались» (лат.). Мессалина — римская императрица, прославившаяся развратностью.
120
Леотар — известный французский цирковой гимнаст ХIХ в.
121
Даме с камелиями (фр.) — героиня известной одноимённой пьесы А. Дюма-сына.
122
«судьба» (тур.)
123
Несс — в греческой мифологии кентавр, влюбившийся в супругу Геракла Деяниру и покусившийся на ее честь. Был убит отравленной стрелой. Перед смертью посоветовал Деянире собрать его кровь, которая якобы является приворотным средством. Приревновав к пленнице Иоле, Деянира пропитала хитон Геракла кровью Несса и тем обрекла супруга на мучительную смерть.
124
«антресоли», «верхний полуэтаж дома» (фр.)
125
Цитера — в греческой мифологии нимфа, владевшая Островом Любви.
126
Намек на известный эпизод романа Л. Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии».
127
«Боже мой!» (фр.)
128
Здесь и далее цитируется Книга Иова. Иов — библейский праведник, чью веру Господь испытывал, насылая на него и его семью разнообразные бедствия.

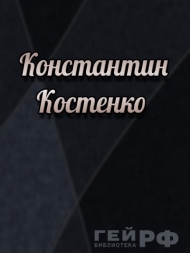



4 комментария