Menthol_blond
Армагеддон
Аннотация
Любовь в сигаретном дыму и алкогольном опьянении, в антураже размышлений о религии, неблагополучном браке, между папой-тираном, забитой мамой и метаниями простого русского интеллигента...
"... твое ожидание ждет того, что никогда не сможет произойти..."
Вячеслав Бутусов. "Утро Полины".
Март 2006 года
1.
-- У меня губы болят.
-- Ну, давай еще разочек. Язык расслабь… Один раз и все. Ну?
-- Э.. ээ.. ээ.. Кхм… Тьфу.
-- Ну вот, молодец, получается.
-- Эээ… Эоу… Тьфу. Дина Марковна, ну я, правда, больше не могу.
-- Это тебе только кажется, что не можешь. Ты же сильный, способный… -- Динкин голос давно пропитался школьной хлоркой и пылью, оброс уверенными, неизменными, казенными интонациями.
-- Глубоко вдохни, впусти в себя воздух... Да, подыши на зеркальце, вот, правильно. А теперь давай вместе. Следи за моими губами. Следишь?
-- Да.
-- Savez-vous planter les choux
à la mode, à la mode,
Savez-vous planter les choux
à la mode de chez nous ?
Я веду рукой, пытаясь нащупать угол одеяла, подтянуть его к себе, отгородиться этим ненадежным ватным щитом от тягучего и беспощадного школьного французского. Сегодняшнему динкиному ученику наступил на ухо очень крупный медведь. Хотя нет… Их там прошагала целая рота.
-- On les plante avec le nez
à la mode, à la mode,
On les plante avec le nez
à la mode de chez nous.
Дивизия, батальон… Армия мохнатых, косолапых медведей, мутно-коричневых, в потеках мела, как порыжелая школьная доска. Кажется, что эти гипотетические медведи топчутся по моему мозгу. По вискам, лбу, переносице. Я стараюсь представить их почетче, в подробностях. Буду считать медведей и, может, обратно усну.
-- à la mode, à la mode…
Да что же это за… Лучше бы Динка снова ставила неведомому недоумку произношение. Или диктовала что-нибудь, выделяя голосом сложные места, взмахивая правой рукой, отсчитывая ритм неизвестного учебного текста.
-- On les plante…
Динка с учеником долдонят дальше. Я пытаюсь понять, что это за ребенок. Двенадцатичасовой или тот, что приходит в три? Кажется, дневной мальчик чуть постарше, и песенок Динка с ним уже не поет. Так я и различаю этих детей – по приглушенным голосам, по висящим в прихожей курткам и обтекающим на специальном половичке маленьким ботинкам.
Все так же, не раскрывая глаз, руки за голову, пальцами – в теплую мякоть подушки… Потянуться, беззвучно зевнуть, рывком сесть. За шторкой трепыхается скользкий мартовский полдень. Динкины ученики – наказание, сумасшествие, малолетние оккупанты, чертова причина для того, чтобы искать штаны и футболку, а уже потом пробираться в дебри прихожей к туалету.
Освобождаю себя из капкана мятых простыней. Шевелюсь, разгоняю остатки бесценного субботнего сна. Пальцы подрагивают, мочевой пузырь призывно ноет.
Мельком, сквозь комнату, с деловыми видом человека, который сидит за стенкой и работает с раннего утра, а теперь вот вышел… Допустим, в коридор, допустим, за справочником…
Косой взгляд в сторону, к столу, украшенному таким же косым лучом маленькой лампы. Ученик вздрагивает, но продолжает давиться текстом упражнения.
Золотистый хохолок на макушке и неловко завернутый, словно подломившийся воротник чересчур теплого для нашей квартиры свитера. А сбоку, у торца письменного стола – юбка в пол, губы в нитку, обруч в волосы, пальцы в замок, упрек в глазах – в меня -- бодрая, строгая, учительская Динка.
Заткнулись, наконец-то…
Отгораживаюсь от мира неправильных глаголов хлипкой дверцей с черно-белой картинкой. Негатив из детства, черный абрис на желтоватой пластмассе. Писающий мальчик, а ныне -- писающий дядька средних лет, который так мечтал выспаться в выходные.
Ученическое полотенце стыдливо откинуло уголок. Кажется, нынешний динкин протеже им не воспользовался…
Во всем этом – в отдраенной до казенной безликости прихожей, свежей прозрачности зеркала, стыдливо скинутыми на кухонный стол или наспех сунутыми в шкаф вещами – влажными, с веревки, потом досушим, вечером – есть что-то бесприютное и неправильное. Как будто дети – и нынешний, с хохолком, и другой, темненький, и толстая девочка, которая приходит по понедельникам и четвергам, а бабушка ждет ее на лавочке у подъезда – именно они, с неправильным произношением, неправильным прикусом, шуршанием в туалете, брызгами на зеркале – они здесь хозяева. А я – квартирант, задерживающий оплату и заходящий на хозяйскую половину во внеурочное время.
Я оглядываю кухню так настороженно, будто и впрямь собираюсь стянуть отсюда какую-нибудь еду. И сжевать ее наспех, не погрев, давясь в кулак, так и не присев на табуретку. Иногда я так и делаю. Но сегодня -- не тот день.
На плите дожидается Динку холодная, напоминающая раскисший гравий гречка. С холодильника на кастрюльку одобрительно смотрит один из динкиных Богов в золоченой рамочке.
Ближе к вечеру Динка уйдет в церковь, опять будет просить у Бога ребенка. Вернется поздно, торжественная и слегка заплаканная, окутанная тайной исповеди. Заглянет ко мне и с учительской интонацией произнесет что-то вроде: "Дима, у нас в приходе опять теплые вещи собирают... Я завтра твой серый свитер в храм отнесу"? Я махну рукой, вглядываясь в монитор компьютера и не понимая, что именно она мне говорит. А через пару дней или недель стану искать свитер, и мы опять поругаемся...
Вскипевший чайник деликатно щелкает кнопкой. Я открываю холодильник и мысленно отделяю строгую динкину еду от своей -- скоромной, греховной, но при этом съедобной и отчасти вкусной. Я не соблюдаю пост, но есть запрещенные вещи под взглядом всезнающего динкиного Бога первое время было малость непривычно. Теперь мне почти без разницы, но греть мясо под носом у добровольно истощающей себя жены -- все равно неправильно.
Великий пост тянется семь недель. Нормальные выходные с нормальной яичницей у нас наступят в конце апреля. До того момента семейный холодильник будет напоминать коммунальный, а супружеский диван будет приравнен к топчану, на котором спят вповалку.
Я довольно долго медитирую над первой кружкой кофе. Потом в кухонную тишину начинает ввинчиваться острое сверло телефонного звонка. Снимаю трубку, в надежде, что там -- мама второго субботнего ученика. "Дорогая Дина Марковна, вы понимаете, Костик-- Павлик -- Винтик-- Шпунтик немножко приболел, так что сегодня мы к вам не придем". Динка отменит урок, мысленно отметив себе "помолиться за исцеление отрока такого-то", а я смогу включить компьютерные динамики и наконец-то залезть в ванную.
Вместо этого по ту сторону телефонной трубки курлыкает бесцветный и бесплотный, чем-то похожий на ладан голос:
-- День добрый, а Надежду можно к телефону?
В первую секунду я очень хочу сказать, что бесплотная женщина ошиблась номером. Что никакой Надежды -- рабы Божией Надежды, именины тридцатого сентября, вместе с Верой, Любовью и Софией -- нет здесь и не было никогда. А вместо нее со мной живет Динка. Моя Динка, малость суматошная, без царя в голове, с трехцветной стрижкой, чешуей колец на смуглых пальцах... Она поет Наутилус и Арефьеву, а не церковные тропари, повязывает бандану на колено, а не платок на голову, и в жизни не откажется от скоротечного или, наоборот, бесконечного секса на первой попавшейся поверхности. Но это неправда. Таких здесь нет. Этой Динки давно со мной нет и, наверное, никогда уже не будет. Это я ошибся номером.
-- У Дины Марковны ученик. Перезвоните через двадцать минут.
-- Спаси Господь, -- откликается восковая тетка.
2.
-- Илья мне про вас говорил... Вы с ним вместе учились, да? -- у новой илюхиной девушки широкие глаза цвета вяленой воблы. Она недоверчиво поглаживает выпуклое брюшко бокала.
Я разглядываю безнадежно-темный экран мобильника. Илюхина сигарета чадит в огромной керамической пепельнице, формой и цветом напоминающей лопух. Камуфляжные пятна, неловко соскобленный ценник -- подарок на двадцать третье, не иначе.
Суббота. Ленивое, блаженное слово. Подрагивает на губах, лопается пузырем ярко-розовой жвачки. Сон до обеда, секс до рассвета... Просто секс. Четыре буквы, ровно столько же, как и в слове "грех". В динкином мозгу одно постепенно превратилось в другое. Как в детской игре, когда заменяешь одну букву другой, получая противоположные понятия. "Море -- горе -- гора"...
-- Дима, вы маслины любите? -- длинноногая вобла вплетается в мое молчание.
-- Да как-то не особенно.
Как правило, мы закусывали шпротами. Или, если с финансами был голяк, шпротным паштетом. Динка запекала его в духовке, на гренках. Обжигала пальцы спичками и ворчала: "Димыч, может вам еще селедочки пожарить?" Илюха виноватился и требовал выпить за хозяйку этого дома. Хотя кухня была его собственная. Эта же самая.
Из окна просматривается детская площадка с притороченными к бетонной загородке мусорными баками. По ребру загородки мелкими шагами семенит мокрая птица. Не то галка, не то ворона... Черная и неловкая, как молодой священник в облачении.
-- А хорошие суши по телефону очень сложно заказать, мы один раз на такое барахло напоролись...
Я сочувствую.
-- Димыч, я ее все-таки нашел! Ты ж не поверишь! -- Илюхин бас раздается из дальней комнаты.
Из коридора в освещенное пятно кухни, как на подиум, выплывает отнюдь не пыльная нераспечатанная бутылка водки.
-- Знаешь, где стояла?
-- В валенке?
-- В китайском термосе. Стекло в труху, а ей все по хрен....
Я недоверчиво оглядываю бутылку. Принимаю ее на ладони -- как необезвреженный снаряд.
Это было чуть позже, когда мы уже съехали от Илюхи на первую съемную квартиру, но часто зависали у него. В тот вечер мы что-то сильно обмывали -- не то мою штатную работу, не то сданную динкину сессию. Решили остаться на ночь, а утром допить то, что уже не вмещалось. Динка пошла прятать последнюю бутылку и застряла в комнате. Я отправился за ней -- и стены коридора казались слишком длинными и сужающимися книзу. Деликатный Илюха потом успел уснуть на кухне. Бутылку наутро так и не нашли, Динка в упор не помнила своих намерений и поглаживала синюшный засос на щеке.
-- А водку разве выдерживают? Я думала, это коньяк должен быть старым...
-- Ритуля, шпроты достань...
Ри-ту-ля... Я на всякий случай повторяю имя... Слоги скользят, как шелуха арахиса.
Илюха пристраивается на кухонный диванчик. Фанерная конструкция недовольно крякает. Пепел застревает в густых волосках на руке.
Стекло звенит, язык немного щиплет.
-- Эх, водку ключница делала...
-- Кто? --- вобла Ритуля послушно лакает мартини.
Вкус как вкус... Обычный, водочный. Я мысленно извлекаю илюхину гостью из сложившегося полусемейного портрета. Заменяю ее другой фигурой.
-- Димыч, а ты помнишь, как мы ботинки Герцену покрасили? -- Илюха хирургически перемещает мои воспоминания в другую эпоху. В ту, что была до Динки.
-- Кому? -- Ритуля делает совсем рыбьи глаза. Я опять полирую взглядом телефон.
-- Понимаешь, моя радость, когда мы вот с этим молчаливым господином поступили в наш доблестный гадюшник... я имею в виду -- в институт...
На самом деле, ботинки на памятнике Герцену покрасил наш однокурсник Олег. Мы всего лишь трепетно стояли рядом, косясь на стенд с результатами вступительных экзаменов. Зато потом, в самом начале первого курса, мы с Илюхой извратились над каким-то приказом с доски объявлений. Приписали перед строгим словом "ректор" порочную букву "Э".
Рюмки мелеют, а потом наполняются вновь. Запас анекдотов заканчивается быстрее, чем водка.
-- Илья, подожди, дальше не рассказывай... -- Ритуля, все еще хихикая, пытается самостоятельно вылезти из-за стола. Оступается, упираясь ладонью мне в плечо.
У нее очень легкие пальцы и тяжелые, не по возрасту выбранные духи. Грудь -- тоже тяжелая -- выпирает из выреза перекошенного свитерка. Через открытое плечо пролегла узенькая лямка лифчика, вторая веревочка перечеркнула бедро. Ритуля похожа на еще не распакованную покупку, которая должна придать этой захламленной квартире обжитой вид.
Я стараюсь угадать, как давно Илюха ее подцепил.
Все его женщины -- от наших общих однокурсниц до случайных соседок по купе -- начинали свой крестный путь в сожительницы одинаково. Они стремительно метили квартиру своими вещами. Ритуля пока еще перемещается по дому в разношенных гостевых тапочках. Значит - недавно...
Я сейчас почти завидую Илюхе. Познакомились, встретились, проснулись вместе, еще пару раз проснулись вместе, разбежались... Никакого грузилова, никаких обязательств. Самое главное -- вовремя запомнить имя, чтобы утром не было неловко.
-- Как у вас дела? -- Илья ждет, пока дверь на кухню наконец-то захлопнется.
-- Да все так же... -- как можно спокойнее отвечаю я. Динка умудрилась оскорбить Илюху в новогоднюю ночь. Скорее всего -- от голода. Из постной еды у него дома нашлись только маслины.
-- Ну и как она тебе? -- Илюха тыкает пальцем в сторону коридора и понижает голос. Приглушенные слова плывут над столом вместе с дымом.
Я неопределенно пожимаю плечами.
-- Хочешь, я сейчас свалю?
По пьяни в белобрысом Илюхе, напоминающем пухлого младенца с щетиной и сигаретой вместо соски, просыпается восточное гостеприимство, которое порой граничит с идиотизмом. В студенческие годы он одаривал меня любимыми кассетами, а Динку -- мельхиоровыми серьгами покойной матери. Сегодня мне пытаются вручить главную сомнительную ценность этого застолья.
-- Дим, да ты не парься. Она, когда сосет, тогда точно молчит.
От неожиданности я икаю. Мудрый, опытный Илюха, некогда объяснивший мне, что слово "тройник" имеет отношение не только к электрикам, говорит абсолютно серьезно. А еще он не умеет принимать возражения.
-- В общем, я тебе через час позвоню. Если трубку не возьмешь -- задержусь до вечера... В гостях, в общем. Если что -- гондоны в ванной.
Дверь распахивается. Илюха прощально скрипит диваном:
-- Давай, Дим, удачи...
-- Илья, ты куда? -- Ритуля стремительно перекрывает путь в прихожую.
-- Рыбка моя, вы тут без меня не скучайте... Димыч, привет жене! Она уже предала меня анафеме?
Дверь лязгает. Я торопливо, будто украдкой, допиваю Илюхину рюмку. Златоглазая вобла плывет к захламленному столу.
-- Дима, а вы женаты, да?
-- Не сегодня.
Я не ведаю, что творю. Точнее -- пытаюсь вспомнить утраченный за годы верности опыт. Сперва, вроде бы, брудершафт.
Рюмка никак не может столкнуться в воздухе с бокалом. Губы промазывают, не попадают, прижимаются к непривычной щеке со вкусом пудры и мартини.
Я продолжаю икать.
-- Постучать вас... Дим, тебя по спине постучать?
Ритуля перемещается одновременно со мной. Я перекрываю руками ее спину, задеваю бечевку белья. Она изгибается, но не стряхивает ладонь. Наоборот -- вжимается в нее всем свитером.
Кухонный диванчик -- угловой, жесткий, фатально неудобный. Я его слишком хорошо помню. Равно как и любую другую поверхность в илюхиной квартире.
Дальше-то что? Черт, дьявол... Это как на экзамене. Проверка на верность.
-- Дима-а..
Хихиканье впитывается в потертую ткань.
Непривычно. Наверное, с похожим ощущением человек впервые обходит новую квартиру. Тут у нас мягкий изгиб, а тут -- острый угол. А тут... Морщусь.
Кухонная лампа высвечивает разруху на столе. Вилки жирно блестят. Как инструменты в операционной. Одежда разъезжается, сдвигается, освобождает пространство.
Мы слиплись в странном, неудобном объятии. Кожа в мурашках. Холод. Я опять икаю. Это не со мной. Это просто... Ну, бывает, алкоголь, да...
Из-под кружевных лоскутков выглядывает чуть влажная кожа. Теплая пластмасса. Просто, как с куклой...
-- Дим, а давай свет выключим?
Притормаживаю разговор очередным поцелуем.
На потертые гостевые шлепанцы опускается неопрятный лепесток нижнего белья.
Из-под стола тянется длинный поводок крошечной сумочки. Молния позевывает. По полу со стуком разлетаются какие-то ручки, флакончики, монетки. Мягкая фольга. Серебристый квадратик -- как печать. Законное подтверждение измены. Вот, правильно. Хватит ныть.
Шелковисто-скользкая резинка. Тянется по коже. Обволакивает. Как хирургическая перчатка, как...
Ладонь -- непривычная, влажная, с хищно-длинными ногтями -- скользит поверх презера. Поглаживает, подхватывает.
Рука -- чужая. А жест -- тот же самый. Только вот...
Не она.
Жесткий мох на лобке -- слишком темный для блондинки.
Грудь, лишенная тряпичной поддержки, обвисает, подрагивает.
На зажмуренном, странно перекошенном личике -- смазанные пятна. Косметика мешается с потом.
Неправильно.
Приподнимаюсь, ерзаю. Отступаю.
-- Ага, свет выключи... Дим?
Как можно незаметнее подхватываю джинсы с пола. Она так и не открыла глаза.
Откатываюсь в ванную. Стучу щеколдой. Торопливо одеваюсь, привалившись к стиральной машине. Совсем недавно была похожая торопливая суета. Ага, в четверг, когда я проспал на работу.
-- Дима? Что-то случилось? -- она пытается до меня докричаться и при этом говорить загадочно. Странные нотки. Ненастоящие.
Опять икаю. До желчи.
Рубашка неохотно липнет к коже.
Обвисшая, вялая резинка летит в корзину с грязным бельем.
Хочется вымыть себя. Изнутри.
-- Дима, тебе плохо? -- чмоканье босых ног по давно немытому полу. -- Эй?
Оглядываю себя. Не очень четко, медленно.
Мобильник на столе, куртка в коридоре.
-- Дима? -- маленькие, какие-то декоративные кулачки, молотят по обивке.
Скриплю дверью. Девушка так и не оделась. На диване эта нагота была нормальной. На фоне стеллажей голое тело кажется ненастоящим, как манекен.
-- Извини... -- слово пропиталось скопившейся желчью. Слишком много водки. Слишком свободный вечер.
Она что-то говорит, прикрывая левой ладонью шелковистый живот. Потом сдергивает с крючка огромное полотенце. И уходит на кухню.
Шнурки, пуговицы, ссохшийся комок перчаток в кармане.
-- Привет Илюхе!
-- Пусть он в следующий раз сам с тобой е**тся, -- благословляет меня Ритуля.
Щелкаю замками.
Молчание. В ушах шумит кровь. По мусоропроводу с шумом несется пустая бутылка.
Мобильник безмолвствует. Естественно... Суббота, вечер. Сейчас Динка отпустит второго ученика, пошелестит страницами "Молитвослова", повяжет платок и уйдет к своему Богу.
3.
Второй подъезд, пятый этаж, потом налево. У нас дверь без номера, но она зеленая, ее не спутаешь. Иду по лестнице, пробираюсь сквозь наслоения кухонных запахов, тяжелый табачный дурман и мокрые собачьи метки. А навстречу мне пробираются два голоса -- Динка и ее ученик, но уже без тяжеловесного французского, с простой беседой...
-- Ну давай еще раз твоей маме позвоним, с моего мобильного. Ты только не волнуйся...
Мне давно было интересно: а в школе Динка разговаривает точно таким же милосердным голосом или все ж таки срывается и кричит на учеников?
-- А я и не волнуюсь. Подумаешь...
Сквозь ступеньки на нижний пролет срывается подгнившая с двух сторон картофелина. То ли ее пнули, то ли случайно задели ногой.
-- Я все-таки провожу тебя до дома.
Ученик -- замызганные ботинки, джинсы с пузырями на коленях, куртка в светящихся нашивках, раздражение на сонном лице -- спускается первым. За ним семенит моя жена: мобила прижата к уху, платок уже сполз, на губах увещевательная улыбка.
Отступаю к стене, уступаю им путь. На всякий случай дышу куда-то вбок. Динка вскидывает брови и молчит. Зато нахмуренный мальчишка оживает:
-- Добрый вечер.
Я приветственно мычу.
Динкина юбка задевает мою ногу. Вздрагиваю и иду дальше.
Пятый этаж, потом налево... Ну да, в хрущебе вообще трудно без лифта.
Шаги становятся глуше, размазываются по немытой лестнице.
-- Дина Марковна, а вы почему с соседом не поздоровались? Вы же говорили, что всегда надо...
-- А я с ним сегодня уже здоровалась, Костик.
Я готов поклясться, что в тот момент, когда Костик войдет в свой подъезд, Динка украдкой перекрестит захлопнувшуюся за ним дверь.
-- Форточку закрыть или так оставить?
-- Да как хочешь...
Мне оно без разницы, честно говоря.
Динка шелестит халатом. Движется по диагонали -- от двери до дивана. Я откатываюсь к стенке, перемещаю локоть, пролистываю требуху незамысловатого детектива. Сюжет развивается на глазах, обложка рассыхается в пальцах. Спецагент по кличке Косуля уходит от погони в нью-йоркском метрополитене.
На выпуклых обоях -- между идущей вверх трубой отопления и серой, застывшей шторой, похожей на кусок шифера, -- еще одно изображение динкиного Бога.
Динка шевелит губами. Глаза бегают по строчкам из маленькой книжки. Вечернее правило. Взмах руки. Потом второй, а потом третий. Она крестится так размашисто и резко, будто отбивает ритм очередного диктанта. И стоит - надо мной, лицом к своей иконе, словно в почетном карауле.
Потом это заканчивается. Гаснет люстра, вспыхивает бра. Агент Косуля стреляет во врага из канализационного люка.
-- Дима...
-- Ммм...
-- Дим, а если у нас с тобой опять не получится, то может... Давай тогда его из детдома возьмем.
-- Ммм...
Я пытаюсь найти что-то нейтральное, отговорку, повод...
-- Ты же вроде хотела... Как оно называется -- ЭМО, ЭТО?
-- ЭКО. Нельзя, Дим.
-- Почему?
-- Потому что это грех. Не все эмбрионы приживаются. Это как убийство будет.
Агент Косуля замочил подполковника ЦРУ. А заодно его секретаршу и двух охранников.
Я очень старательно представляю себе пистолет в руках вымышленного агента. Чтобы не сорваться и не заорать.
-- Дин...
-- Я у отца Сергия специально сегодня спрашивала. Он сказал, что...
Динкина мама твердо уверена, что ее дочь попала в какую-то секту. Или, что ее, в крайнем случае, сглазили. Я уже ни в чем не уверен. Интересно, кем была динкина соседка по больничной палате? Женой священника или такой же вот упертой наивной курицей?
-- Дин, давай мы... ну, так попробуем...
"Как нормальные люди". Мне давно кажется, что пресловутое зачатие сродни сложной медицинской операции. Типа пересадки печени. А сам я -- всего-навсего донор. Почетное звание.
-- Еще пять недель, а потом Пасха. Тогда и...
От нее пахнет чем-то сладким и немного пряным. Как приправа. Вроде бы это называется елей.
Масло. Обычное масло, душистое масло. Нагретая сковорода, раскаленная кожа, пальцы скользят, белье -- узкое, тонкое, застиранное, -- скатывается в неопрятный комочек, падает с постели... Пять недель.
Агент Косуля идет к чертовой матери. В полутьме вылезаю наружу. Случайное касание -- горячая кожа обжигает, будто клеймит меня своей недоступностью...
Босиком, наощупь, по знакомому маршруту -- в кухню. Не хочу включать свет, не хочу встречать взгляд. На холодильнике, в коридоре, в проходной комнате -- иконы. Дом проштампован динкиным Богом.
Губы ссыхаются, выпускают наружу солоноватый перегар.
Вода в чашку -- почти бесшумно. Ворую у Динки, которая не может есть и пить до причастия, холодную влагу.
Вода попадает не в то горло.
Раздражение, копившееся весь этот чертов день, выплескивается наружу. На тертый пластик кухонной тумбы, на линолеум, подштопанный в трех местах изолентой. Капли воды, брызги слюны, брызги ненависти...
Завтра будет легче. Завтра уже воскресенье, а потом -- новая неделя и новые авралы на работе... И новое обещание самому себе -- разобраться с этим бардаком. Я опять отложу его на потом.
4.
-- Начальство не опаздывает, оно задерживается по уважительной причине, -- ядовитый стрекот клавиатуры, змеиное шипение чайника. Полина косится в мою сторону, а потом поворачивается обратно к монитору. Щекочет воздух ершистыми перекрашенными волосами.
-- И тебе доброго утра... -- я пробираюсь по залу к своему закутку, отделенному от мира белым пластиком, надежным и стерильным, как стеклопакет. Мое рабочее место безлико и удобно -- примерно как одноразовое сиденье для унитаза. И пользы от него столько же.
Отслаиваю пиджак от рубашки. Незаметно потягиваюсь. Незаметно проверяю синхронность пуговиц и петель.
На столе с пятницы осталась кружка страшно-черного, пыльного на вид чая. Глотаю залпом. Холодный. Хорошо. Из горла куда-то вниз уходит скользкий комок. То ли желчь, то ли чего похуже.
Сижу с умным видом, листаю полупустой и такой же пыльный на вид ежедневник. В голове мельтешат картинки -- как будто ленту в видеомагнитофоне пустили задом наперед.
Грязные следы на скользком офисном ламинате. Насмешливый взгляд охранника, издалека узревшего мой затасканный пропуск. Скрип плотной ткани -- это я вылетаю из машины, цепляясь карманом за ручку двери.
До этого -- пробка на Дмитровском, шофер закуривает, я скребу по карманам, ищу мелкие купюры. До этого -- серая, как придорожный снег, льдина лестничной площадки. Спускаюсь вниз, потом бегу обратно -- забыл закрыть дверь.
До этого -- шестиминутное мельтешение по квартире с неудачными попытками одновременно попить водички и одеться. До этого -- страшное пробуждение: в поту, с головной болью и тикающими на отекшем запястье часами, на которых четыре минуты одиннадцатого. Холодок в пальцах, как перед экзаменом. Бульканье в животе. Мошки перед глазами. Клочья невнятного сна.
До этого -- бутылка на кухонной клеенке, крошки гречки в водочной лужице. Динка спит на гостевом диване в проходной комнате.
До этого -- очередная... Черт, даже не ссора, а фарс. Лубочная мелодрама, как в прайм-тайм по Первому каналу. Только вот не бразильская-американская-черт-знает-какая-еще, а вполне отечественная. Кондовая. С истерическим привкусом, как в романах Достоевского. Восемь лет назад я писал по нему курсовую. "Раскольников взял топор и застрелил старушку-процентщицу..."
Буквы потихоньку фокусируются. Сквозь них, как на любительских фотографиях, ненадежно проступают слова. План номера, вычитка корректуры, полинино заявление на отпуск -- обещал ведь завизировать, паспорт сданной полосы, распечатка с юмористического сайта -- "Чем кошка лучше женщины..." Если не найдем ничего поприличнее, пустим этот трындец на тридцать первую, в раздел "Улыбнись!". За**ись... Такое ощущение, что мне в ноздри мокрой ваты натолкали. Сумрачно шуршу ежедневником -- в нелепой надежде, что сегодня у кого-нибудь день рождения и мне удастся выпить до окончания рабочего дня. Безнадега.
В общем зале муторное шевеление. Офисные крыски, крестные феи провинциального гламура, готовят к выпуску очередной номер нашей печатной муры. Откатываю кресло влево, до пятен в глазах всматриваюсь в заросли тусклой, словно вырезанной из глянцевого картона казенной пальмы. На динкином месте давно сидит другая переводчица. У нее четкий уральский говор и пронзительный сингл мобильника. Ни то, ни другое мне не нравится. Но отвыкнуть я не могу.
План на номер, гороскоп на середину апреля, товарный чек на флэш-карту... Чугунная гиря на лбу или на затылке. Пальцы не дрожат. Они всего лишь предательски хрустят, как скомканный пластиковый стаканчик.
Подпись получается рваная. Почерк задыхается, как будто он вместе со мной участвовал в безнадежной гонке за восьмичасовым рабочим днем.
-- Дмитрий Анатольич, вы мой отпуск подписали? -- Полина вплывает в кабинет, задевает джинсовым бедром столешницу.
-- Проставляться будешь? -- я разглядываю собственную заглавную "П", больше похожую на римскую "двойку". Фамилию "Пьяных" сократить до чего-то приличного невозможно в принципе. Когда-то Динка наотрез отказалась ее брать. "Да не, Дим, смешная фамилия, классно, просто мне паспорт лень менять..."
-- Не сегодня, -- Полина оскорблено пожимает плечами. Она все делает оскорблено и с апломбом, как и полагается матери-одиночке. Ну и черт с тобой...
Полина молча забирает заявление и только потом открывает рот. Сейчас она заговорит про повышение зарплаты. Поднимаюсь из-за стола и первым выхожу в общий зал. Над мониторами, перегородками, вешалками и теплым гулом принтера вспыхивают и еле теплятся огоньки разговоров. Хрен поймешь -- то ли чью-то личную жизнь обсуждают, то ли -- последние события сериала про загадочную русскую любовь.
Добираюсь до коридора. Голова все еще кружится. Полина вроде бы отлипла.
Оказывается, я прихватил со стола какие-то бумаги. Не вчитываясь, ставлю еще пару подписей. Множу чертово "П". "Прокатит", "Полный пи**ец", "По фигу, пускай корректура перечтет"...
Надо бы сплавить это барахло корреспондентшам. Но с ними придется говорить. Плюю на кастово-служебные различия и сам топаю на верстку к Петровне.
Когда погаснут все лампы, умолкнут все звуки, а рыбы, львы, орлы и куропатки из раздела гороскопов встанут на нужную полосу в надлежащем виде, в опустевшей редакции останусь я и верстальщица Юлия Петровна.
Она похожа на персонажа из карамельно-солнечных фильмов моего детства. Готовый типаж -- училка из "Ералаша". Только не злобная, а слегка наоборот. Я ее все равно боюсь. Петровна помнит меня внештатником. Еще она довольно хорошо помнит Динку. И никогда не спрашивает меня о ее здоровье.
Многозначительно мычу и подпихиваю бумаги Петровне под локоть. Она брезгливо перекладывает их на другое место. Я опять мычу, но уже потише, чтобы другие версталы не услышали.
-- Дим, через час подойдешь, у меня запарка сейчас.
Моя корреспондентша говорит со мной так, будто я -- ее муж-алиментщик. Моя верстальщица относится ко мне так, словно я -- второклассник-второгодник.
-- У вас аптечка далеко?
-- От головы, от сердца? -- из ящика вылезает круглая жестянка. На крышке -- сусальные елки и сентиментальные огоньки в домах. Анальгин и но-шпа упорно пахнут давно съеденным датским печеньем.
-- От бурных выходных, -- неизвестно зачем ляпаю я.
Жестянка раздраженно гремит и уползает обратно в ящик. Петровна по локоть зарывается в собственную сумку. "Алка-зельтцер".
Зажимаю его между запястьем и манжетой.
-- Через час зайдешь, я при тебе все выведу... -- Судя по всему, у Петровны тоже тяжелый понедельник. Либо ее муж, "паразит Серега", капитан в отставке, а теперь -- охранник на какой-то турбазе, "вошел в штопор" и точно так же полночи пил на кухне, либо сын, "балбес Сашка", студент и раздолбай, опять не ночевал дома, а теперь прогуливает институт.
Я все еще топчусь у стола. Тяну шею. Словно второклассник, наблюдающий за тем, как в его непорочный дневник записывают первое замечание.
-- Ну что тебе еще?
А я и сам не знаю. Голова все еще кружится. Как будто я куда-то падаю, падаю и никак не могу затормозить.
-- Дима... Ну что ж ты делаешь-то, а? -- рыжий учительский пучок щерится косой заколкой.
Кажется, я сейчас буркну что-то типа "Я больше не буду". Не буду Что? Не возьму в рот ничего, крепче кефира? Перестану скулить? Прекращу мысленно разговаривать с Динкой? Наконец-то признаюсь сам себе, что давно уже потерял контроль? Потерял себя? Нет, на хрен...
-- Дим, ты своей Полинке передай, что если она еще раз правку между строк засунет, я вообще ничего на восьмую ставить не буду! Пусть придет сюда и сама все верстает!
5.
-- Да, Костик, конечно, можно... Заходите, -- это первая фраза, которую я слышу от Динки за сегодняшний день. Трубка домофона попискивает, возвращаясь в родное пластиковое гнездо. Я передвигаю табуретку поближе к батарее. Мой угол кухни не простреливается взглядами динкиных учеников, когда они раздеваются в коридоре.
За стенкой, в соседней комнате, Динка беззвучно живет своей отдельной жизнью. Кажется, если я прямо сейчас соберу вещи и уйду, она этого не заметит. А заметив, попросит уточнить время следующего визита. "После двадцать третьего апреля, в любой день, кроме среды и пятницы, и ни в коем случае не в ночь с субботы на воскресенье... Подожди, я посмотрю в ежедневнике."
Идиотство. Я не собираю вещи по очень простой причине: жить в одной квартире с чужой Динкой гораздо спокойнее, чем с родной мамой. Еще можно на пару месяцев зависнуть у Илюхи. Он без проблем предоставит мне кров, стол, запасную бритву и любую из своих незакомплексованных приятельниц, вроде субботней Ритули. Не-хо-чу...
Блин, а чего я тогда хочу? "Дорогая редакция, спасибо вам за такой интересный журнал, но мне хотелось бы получить консультацию у вашего психолога, мы женаты семь лет и сейчас наш брак под угрозой распада..." Когда Полина сваливает в отпуск, на такие письма отвечаю обычно я. Когда писем нет, я отправляюсь на женский форум и ворую проблемы оттуда. Вместе с советами... Потом Петровна заливает этот бред в профильную рубрику.
Оглядываю кухню, вычленяя свои вещи... Мобила и портмоне -- на холодильнике, прямо под изображением динкиного Бога, который верно и неуклонно сторожит постную еду и подсматривает за нашей перекошенной семейной жизнью. Сейчас я на него злюсь. Не за себя, за Динку. Если бы она ушла к другому мужику, это было бы подло, но нормально. Но она собрала все свои привычки, завязала узлом принципы, затолкала поглубже чувство юмора и безрассудность, и свалила к Богу. Год назад я думал, что это -- ее очередная придурь. Сейчас это стало напоминать неизлечимую болезнь. Интересно, если бы Динка впала в кому, я бы тоже хранил ей верность? Наверное, нет. Точно нет.
Впервые за много месяцев я внимательно кошусь на икону. Не смотрю мимо, а именно разглядываю. Как собеседника.
Отче наш, да... Как бы это так сформулировать, чтобы ты понял. Ну, если я сам не знаю, чего я хочу. По крайней мере, я не утверждаю, что тебя нет. Потому как тебя слишком много в моей собственной семье. В общем, чего мне дальше-то делать? Если ты ее у меня забрал, то замени кем-нибудь, что ли? Или просто... Ну объясни ты мне, как другие вообще живут? Так, чтобы без женщин? Так, чтобы...
Дверной звонок. Торопливые, странно оживленные голоса... Костик -- или какой-то другой ребенок -- тараторит так быстро, будто сейчас у него заканчивается перемена и он не успеет рассказать самое главное. Динка что-то умудренно советует.
Во мне в очередной раз вспыхивает раздражение. Как будто я прямо сейчас пытался вытянуть занозу. И она уже начала поддаваться, а потом взяла и ушла обратно под кожу.
-- Дима! Дима, подойди, пожалуйста!
Сорри, отче, нас прервали. Дисконнект, да... Как-нибудь потом соединимся...
В прихожей, которая размерами едва уступает кабине отсутствующего лифта, три крупных цветных пятна. Задорная зелень, заляпанная кляксами ненастоящего камуфляжа -- Костик вытряхивается из куртки. Гранит черной юбки, грифель серой водолазки -- явно чем-то встревоженная Динка. И на пороге, на фоне нашей затасканной двери, неизвестный парень в рыже-белом свитере. Лицо смутно-знакомое, кто-то из соседей, что ли? Или еще один Динкин ученик -- какой-нибудь новый, из одиннадцатого класса?
-- Да, конечно... Вы проходите-проходите. Я сама в эту лужу однажды упала, когда ж ее засыплют, наконец? Дима, нам ацетон, наверное, нужен. И перекись водорода, в холодильнике, на дверце... Костя, il est ton frère, n'est pas?
-- Ага... Уи, Дина Марковна. Иль э ма фрэр... -- бодро рапортует Костик, путаясь в шнурках.
Братец, значит...
-- Дима, помоги, пожалуйста... Вас Роман зовут?
-- Роман... -- хрипло подтверждает брат Костика.
-- Значит, помоги Роману... Вас почистить надо, да? Ну вот и отлично, а у нас урок...
Костик шуршит пакетом с тетрадкой и учебником, но в комнату не спешит. Тянет шею в сторону все еще подпирающего дверь братца:
-- Ты не уедешь?
-- Нет, я тебя в машине буду ждать. Иди давай, не топчись, -- хрипит Роман.
-- Дима, так ты ацетон найдешь? Все, мой дорогой, пошли... Роман, до свиданья...
Я молчу.
Четверо в нашей прихожей... Да это не встреча, а какая-то групповуха.
Костик отправляется в комнату с таким видом, будто Динка не препод, а зубной врач. Хотя может, она просто плохой препод.
Черная юбка сдвигается, уходит в сторону, как бархатный занавес. Выставляет Романа на мое обозрение.
М-да, одним ацетоном тут не обойтись. Хотя черт его знает, чем вообще можно свести бензин с одежды. Или это мазут? Перламутрово-серая слизь впиталась в рукава свитера и некогда синие, пузырящиеся на коленях джинсы. У Костика, кстати, тоже пузырятся. Точно, братья.
-- Извините, -- неизвестно почему говорит Роман.
Такое ощущение, что голос существует отдельно от своего хозяина. Потому как сам парень – мосластый, смуглый, в слишком ярком свитере, со слишком задранным вверх подбородком – к таким извиняющимся словам никакого отношения не имеет:
-- Наверное, мне лучше пройти в ванную?
Киваю. Отступаю спиной вперед -- иначе здесь совсем не развернуться.
-- Да... Там полотенце, для учеников.
-- Ботинки снимать?
-- Да как хотите. -- Оказывается, растерянность передается по воздуху, как простуда. Он пытается пройти, я снова отступаю. Чертова планировка -- превращает нормальную жизнь в сплошной пластический этюд.
Вода дробится о раковину, Роман хватается за мыло. В зеркале несколько раз мелькает его отражение -- смазанное, смуглое, смутно знакомое. Дело не в родстве с динкиным учеником. Странно-приятный момент узнавания так и не прошел. Догадка где-то рядом, но она все время ускользает. Совсем как крошечный камушек, который невозможно вытряхнуть из ботинка.
Роман опирается ногой о бортик, скребет ладонями по джинсам. Серые брызги оседают на бортах стиральной машины. Потом замурзанная ткань начинает ползти вверх -- как-то лениво, медленно. Совсем как куцая ритулина юбка в субботу вечером.
На голени -- тоже смуглой и удивительно-безволосой -- чернеет основательный кровоподтек.
-- Это я о бордюр приложился... -- глухо говорит Роман, обращаясь к собственной голой ноге.
Неохотно отворачиваюсь, иду за аптечкой. Перед глазами, неведомо почему, всплывает изображение пронзительно-черной, мазутной жидкости. Чернила. Никогда не виданные мной мифические чернила, влажные, густые... округлый почерк, вьющийся так же сильно, как волосы у обоих братьев -- того, кто давится сейчас французскими словами, и второго, пачкающего ухоженную динкину ванную...
Ледяной пузырек с перекисью, комок непорочно-белой ваты.
Роман, так и не разогнувшись, оглаживает собственную ногу. На секунду у меня возникает странное желание: отвинтить крышку пузырька, а потом наклонить его и выплеснуть содержимое на кровоточащую ранку... Посмотреть, как аккуратное, немного детское лицо кривится и морщится, подергивается рябью боли. Что за черт.
Опускаю лекарство в протянутую наощупь руку. По идее, надо бы отступить, захлопнуть дверь...
Яркое пятно свитера движется вверх, мы чуть не сталкиваемся лбами. Сквозь темные волосы просвечивает что-то непривычно блестящее. Колечко в ухе...
В зеркале снова отражается лицо -- анфас, три четверти, а потом горбоносый профиль. Снова приступ узнавания. Как будто кто-то щелкнул пальцами и -- вот, пожалуйста -- позабытая ассоциация.
-- Пастернак...
Теперь понятно, при чем тут чернила. Первая строчка знаменитого стихотворения, билет, доставшийся мне на вступительном экзамене...
-- Да, я похож... -- Роман ни капельки не удивляется. Наоборот, кажется, он гордится этим случайным совпадением:
-- Мне многие говорят. А потом обязательно спрашивают, не родственник ли я Бориса эээ...
-- Леонидовича... -- мрачнеет затаившийся во мне филолог.
-- Спасибо, а то я все время забываю. -- белый клочок на смуглой коже. Движение вниз. Потом -- вверх. Перемазанный гость с откровенным любопытством оглядывает полочку с двумя сиротливыми щетками и моей бритвой. Я не знаю, куда Динка дела свою косметическую дребедень -- выкинула на помойку или отдала каким-то нуждающимся. Но мне почему-то неудобно.
-- Ну и как? Родственник или нет? -- самому интересно, зачем я это спрашиваю.
-- Увы, не повезло... -- он пожимает плечами, а потом поворачивается ко мне затылком, выискивает в своем отражении какие-то недочеты. Совсем как любая из моих корреспондентш, когда ей надо поправить макияж в казенном зеркале лифта. Колечко в ухе снова поблескивает. А вот свои серьги Динка отдала матери. Вместе с остальными цацками. Оставила себе цепочку с крестиком и обручальное кольцо.
-- Можно пройти? -- меня снова подталкивают. Твою мать, это не квартира, это переполненный троллейбус.
Кофейно-сигаретный аромат щекочет ноздри. В этом есть что-то тягучее, ленивое, восточное. Не запах, а какие-то флюиды. Совсем как...
Похожее уже со мной было. Ощущение, что это все уже когда-то происходило. Deja vu. Или нет? Как же это называется, когда при взгляде на незнакомого человека ты неожиданно представляешь его совсем в других обстоятельствах, которые и впрямь потом сбываются. Вспышка. Предвидение? Кадр из будущего? Фортуна? Как будто ошибка киномеханика. Или странный сдвиг в мозгу, измочаленном недосыпом и алкоголем. Белая горячка? Кадр, странный-странный, из тех, что невозможно запомнить,
-- Не надо на меня так смотреть, мне это неприятно, -- Роман уже в прихожей. В опустевшем зеркале проявляется моя небритая физиономия.
-- Эээ... -- Надо спросить у Динки, а младший братец в этой семье такой же долбанутый?
Хотя нет, это не придурь, это... На страницах нашего немудреного журнальчика иногда бытует нейтральное определение -- "представители нетрадиционной ориентации". В новом динкином словаре такие люди называются мудреным словом "содомиты". Типа нелюди, выродки и все такое прочее. Примерно такая же нечисть, как и атеисты, если не хуже. Хотя, может, мне это показалось...
-- Рома... -- От странного волнения финальная "н" неизвестно куда проваливается... -- Извините, а вы что, гей?
-- Вас это очень смущает? -- он смотрит на меня в упор чернильно-черными глазами. Неприятно. Как на рентгене.
-- Нет, просто...
Фразу "Я первый раз в жизни вижу живого гомосексуалиста" я произнести не могу. Язык не поворачивается. Рот открывается и закрывается, хлопает на холостом ходу. В горле комок. Как на экзамене, когда попадается совершенно незнакомый билет. И я сейчас точно так же начинаю выплывать, надеясь не то на чудо, не то на вдохновение.
Я запускаю пальцы в карман собственного пальто. Мертвое, ненужное удостоверение -- документ журналиста, который давно уже не ходит на интервью и пресс-конференции. Впрочем, этой информации там нет. Есть имя с фамилией и двусмысленная должность заместителя главного редактора в журнале "Лучшая подруга".
Я неуклюже демонстрирую красную книжечку, а Роман мнется у двери, совсем как неопытный участковый милиционер.
-- Наше издание начало готовить серию материалов о людях с необычной судьбой или нестандартным социальным положением... -- Боже, что я несу? Всю информацию для любых материалов социально-нестандартная Полина тупо качает в Яндексе. -- И я как раз сейчас ищу героев для очередного выпуска. Про подобные отношения. С девушкой... Ну, в смысле... С ней будет работать моя коллега. А вот второго интервьюера я как раз ищу, а тут вот вы...
Бред. Бред сивой кобылы. Зачем я все это говорю? Из нежелания обидеть совершенно левого человека? Из-за очень непонятной картинки-галлюцинации? Из-за того, что темноволосый Роман, брат динкиного ученика и оживший дублер раннего Пастернака, мне чисто по человечески симпатичен? Или это из-за странного кофейного запаха, заставляющего цепенеть мозги? Что мы там писали про ферамоны? Или про афродозиаки?
-- Интервью? -- на узком лице проступает совершенно детское любопытство. Интересно, если бы мне нравились мужчины, это Роман мне бы понравился или нет?
-- Все, разумеется, будет анонимно. Никаких имен, никаких фотографий... -- я продолжаю врать дальше. Вхожу в образ.
-- Это займет много времени? -- ленивая интонация не сочетается с какой-то обескураживающей улыбкой.
-- Нет, ну что вы... -- а может и правда написать что-то такое? Не к нам, естественно, а к Илюхе в газету. Вспомнить молодость, размять мозги?
-- Я подумаю. Оставьте мне свои координаты... -- Роман облизывается. В прямом смысле этого слова -- ведет языком по губам, словно целуется сам с собой.
Я выдыхаю. Роман берется за ручку двери.
-- Вы уходите? Вам же все равно брата ждать... Может, мы пока слегка поговорим? И вообще, вы -- мокрый.
Ферамоны, точно. Или журналистский зуд.
-- У меня в машине очень хороший кондиционер. И вообще, я же сказал, что подумаю. И.. Куда вам перезвонить?
Снова лезу в карман пальто. Визитка кажется пыльной на ощупь. Мне некому их раздавать, разве что -- бывшим однокурсникам.
Роман чуть усмехается. Точнее -- фыркает, как кот.
-- У вас необычная фамилия...
-- Мне многие говорят... -- откликаюсь я его же фразой.
-- Ну всего хорошего... Дмитрий.. эээ...
-- Анатольевич, -- как можно нейтральнее подсказываю я. Никакой фамильярности, никакого сближения.
Роман снова отступает. На этот раз уже на лестничную площадку. Кофейный запах остается.
Я возвращаюсь обратно на кухню. Прижимаюсь спиной к нагретому кафелю. Разве что не мурчу. Кот-переросток.
Портмоне и мобила валяются на том же месте. Под изображением Бога. Из-за стенки раздаются неуверенные фонетические стенания. Со времен моей неудавшейся молитвы прошло минут пять, не больше. Скоростное обслуживание, как в МакДональдсе. "Спасибо за заказ, ждем вас снова. Свободная касса!"
6.
-- Дмитрий Анатольевич?
-- Да, я слушаю.
-- Это Скворцов.
-- Кто? – я застываю посреди коридора, жалея, что под рукой нет спасительного органайзера.
-- Вы мне свою визитку оставили. В субботу. Вечером. – В трубке звучит откровенная насмешка.
-- Ааа... Роман?
-- Он самый. Ваше предложение все еще в силе?
-- Эээ... Да, разумеется... – я уворачиваюсь от проплывающей мимо бухгалтерши и наивно надеюсь, что у меня не особо растерянный голос.
Роман на секунду замолкает, а потом сухо произносит:
-- Мне бы хотелось уточнить место встречи.
Я был почти уверен, что этого звонка не будет. Так что о подходящем месте не задумывался. Нелепые, заранее непригодные варианты – «Коммуналка», квартира Илюхи, стерильно-безалкогольный МакДональдс. Если честно, то светиться в обществе нестандартного Романа мне не очень-то хочется.
-- Вам неудобно говорить? – трубка усмехается.
-- Да, немного. Может… На Пушкинской, в семь, у памятника? – я произношу эту фразу наизусть, как давно выученную формулу…
-- Вы бы еще «Китай-город» предложили… -- Роман снова смеется. А я упорно разглядываю безмятежные заросли пыльной икебаны.
-- В смысле? – отхожу к подоконнику, дабы избежать столкновения с еще одной девушкой, вроде бы из отдела распространения.
-- Ну... хм... Я на машине, с парковкой будут сложности.
Елки. Автомобильный трезвенник. Пить при нем неудобно, а разговаривать всухую – невозможно.
-- Тогда предлагайте сами, -- раздражаюсь я.
-- А где находится ваша редакция? Давайте я подъеду... ну, часа через два... А там по обстоятельствам.
Через два часа остатки нашего нездорового коллектива еще будут торчать на своих рабочих местах -- аккурат до восемнадцати ноль-ноль.
-- Дима, к бильду зайди, пожалуйста! – теперь мимо меня проходит странно ухмыляющаяся Петровна.
-- Дмитровское шоссе, середина… Давайте в четверть седьмого, что ли...
К этому моменту даже самые стойкие любители халявного интернета растворятся за пределами нашего здания. Можно будет задать Роману пару невинных вопросов, а потом, вероятно, он меня и до дома добросит. Ежедневный метро-бросок «Выхино-Дмитровская, туда и обратно, мущщина, чо вы толкаетесь» давно уже вызывает у меня нервную оторопь, но денег на частника сейчас нет.
Роман уточняет номер дома и отключается, не дав мне сказать, что у нас тут тоже не особенно хорошо с парковкой.
-- Дима, ну ты постер смотреть будешь или нет? – голосит из соседней двери бильд-редакторша.
Меня снова задевают плечом. И снова девушка. Оборачиваюсь, чтобы что-нибудь вякнуть и замираю. Зашибись. Оказывается, я вел переговоры около самого входа в женский туалет.
Один чистый блокнот в редакции все-таки нашелся. Сувенирный. Из отдела рекламы.
Теперь я проталкиваю сквозь витую пружину ствол погрызенной авторучки.
-- У вас тут можно курить? -- Роман недоуменно оглядывает стол с небрежными завалами из старых полос и вычитанных текстов -- кое-что я позаимствовал у той же Полины, пока бродил по уже опустевшей комнате.
Морщусь, но киваю. Жертвую крышку от кофейной банки.
Роман щурится, щетинит слишком густые ресницы. Моргает так сильно, будто хочет разогнать слишком крепкий, слегка кондитерский дым от бежевой сигареты. Мне заранее становится щекотно.
-- Дмитрий Анатольевич, не напрягайтесь так. И добрый вечер, кстати.– Усмешка у него тоже… Какая-то щекотная, до мурашек по коже. Кофейный дым щекочет... Не ноздри, нет... нервы.
-- Если у вас времени мало, вы сразу спрашивайте… -- Роман присасывается к сигарете. Щеки на секунду слегка втягиваются. Гордый пастернаковский профиль застывает в ожидании.
Ээээ… Я заглядываю на последнюю страницу блокнота, уже обезображенную цепочкой наспех выдуманных вопросов.
-- А присесть куда-нибудь можно? -- Он опережает мое молчание. Мой кабинет -- чуть превышающий по размерам кабинку сортира -- явно не рассчитан для приема посетителей. Впрочем, их у нас и не бывает. Все персонажи наших так называемых репортажей существуют либо на страницах веб-сайтов, либо в воображении корреспондентш. Я киваю на виднеющийся в застеколье стул Полины. Роман пожимает плечами и не двигается с места. Тем лучше. Значит, скоро закончим.
-- Роман, сколько вам лет?
-- Двадцать три.
-- Выглядите моложе.
-- Я в курсе. Можете написать, что это профессиональное… -- Роман тянет на себя старую полосу. Проглядывает ее на свет. Хмыкает.
-- Сколько вам было, когда вы.. эээ…
-- Шестнадцать, Дмитрий Анатольевич…
-- Это было… -- Отстраняюсь от блокнота, сплетаю пальцы, еле сдерживаюсь, чтобы не отвернуться.
-- Это было вполне добровольно, знаете ли.. А вообще-то «Эээ» в первый раз у всех происходит по разному. -- Он сел на столешницу. Боком. Лицом к собеседнику, то бишь -- ко мне. Обтянутый рыже-белым свитером локоть чуть не задевает мой подбородок.
-- У вас есть постоянный партнер?
-- Не уверен. Мир вообще непостоянен.
-- Вы... Понимаете, Роман, я довольно слабо разбираюсь в этой теме… -- А еще мне чертовски неудобно писать в блокноте, ваша тень мне свет загораживает.
-- В теме?
-- Ну, в том смысле, что… В отношениях, вы активны или наоборот?
-- Сверху, снизу, сбоку. На подоконнике тоже ничего так…
-- А как вы вообще поняли... У вас были... ммм... стандартные связи?
-- Видите ли, Дмитрий Анатольевич, любой человек по природе своей бисексуален. Просто некоторые не боятся своего второго «я».
-- Хм…
-- Ну и кроме того, бывают определенные обстоятельства. Когда пол партнера не играет особой роли…
-- Как на зоне?
-- Боже мой... Дмитрий Анатольевич, ну нельзя же все так сильно упрощать. Вы там сидели? Вы через такое проходили?
-- Н-нет...
-- Я тоже нет, можете не краснеть и не запинаться. И можете согнать меня со стола, если вам так неудобно.
-- Да ладно... -- неожиданно произношу я. В кои-то веки из моего аквариума не видно пальму, заслоняющую бывшее динкино место. Роман кивает и остается на месте. Даже наоборот, ерзает, устраиваясь поудобнее.
-- На чем я остановился? Так вот, про обстоятельства… Дмитрий Анатольевич, насколько я знаю, вы женаты, так? И вы, наверное, любите свою жену. Представьте себе, что произошло … Ну, я не знаю, ядерная катастрофа, Армагеддон, ну что-то, в результате чего люди мутировали… Все стали только мужчинами или только женщинами. Скажите, в этой ситуации, вы бы остались со своей женой? Ну, в том случае если бы речь шла не только о сексе?
-- Это абстракция…
-- А вы подумайте… Когда рядом с вами находится человек, от которого у вас сносит башню так, что яйца звенят. И при этом переспать вы с ним не можете, потому как оно -- неправильно. И с другими не можете, потому как никто другой не нужен... Вот чего вы будете делать? -- он снова двигается. Так, что если бы я захотел, то сумел бы положить ладонь ему на колено.
-- Роман, по моему, вы забываетесь… Кто вам… позволил… Прекратите валять дурака.
-- А по моему, это вы валяете дурака, Дмитрий Анатольевич… Вам на хер не сдалось никакое интервью. Вам просто любопытно, правда? Обычное здоровое любопытство… Бывают карлики, бывают сиамские близнецы… А еще вот пидарасы бывают. Забавные какие зверушки, да?
-- Эээ… Роман, вы не так меня поняли.
-- Да бросьте… У вас все на лице написано. Большими буквами. И знаете, Дмитрий Анатольевич… Если вы меня сейчас спросите, как часто я сплю со своими «ээээ»-партнерами, я спрошу, когда вам последний раз давала ваша «ээээ»-жена.
Три недели и четыре дня назад… Оказывается, внутри меня существует что-то вроде счетчика. Или секундомера. Или бомбы с часовым механизмом. Когда-то их именовали "адскими машинками". Опять эти чертовы церковные слова. Меня накрывает взрывная волна собственного гнева.
Пальцы до сих пор сплетены в замок. Точнее -- в какой-то костлявый капкан.
-- Да, кстати... То есть не кстати... Роман, если вас так напрягают подобные вопросы, зачем вы вообще согласились на интервью?
-- Здоровое человеческое любопытство, Дмитрий Анатольевич. Мне очень хотелось посмотреть на живого журналиста.
Он в очередной раз вытягивает губы. Впрочем, нет, не так... Лицо нестандартное, ассиметричное... Рот все время в движении -- хмыканье, свист, ухмылка, короткий смешок... Глубокая затяжка.
Глаза -- страшные, черные, чернильные, такие, что зрачок не разобрать... Щурится. Ждет.
-- Ну и как? Посмотрели? -- я не очень удачно копирую тон Романа. Хамелеон мимикрирует под окружающую среду, а я, когда нервничаю, принимаю интонации или настроение собеседника. И сейчас вместо сонной, смиренной и такой привычной тягомотины, ощущаю совсем другое. Не ярость, нет. Азарт. Перехитрить, поймать и уничтожить. Загнать в угол. Победить.
-- Да, вполне...
-- В таком случае я вас не задерживаю, -- я начинаю выбираться из-за стола. Типа разговор окончен, позвольте проводить вас до лифта.
-- А может я сам хочу... задержаться... -- Роман не двигается с места. Ну и что мне с ним делать? Охрану вызвать? Открываю дверь в полутемный общий зал, прислоняюсь к пластиковому косяку. Сейчас мой закуток похож на полупрозрачную цветочную коробку. А сидящий на столе Роман в своем пестром свитере -- на что-то вроде высушенной, но все еще яркой бабочки, которую почему-то прикололи к сухой икебане.
-- Тогда продолжаем дальше. Сколько обычно длятся ваши связи? Варианты: День? Неделю? Месяц? Год?
-- Можно, я выберу звонок другу? -- интересуется Роман загробным тоном.
-- Как насчет помощи зала?
Оказывается, меня все-таки можно вывести из себя. Вот этими вот дикими, тягучими интонациями. Почти хамством. Почти...
-- Роман?
-- У меня минута на обсуждение...
-- Роман!
-- Вас еще что-то интересует?
-- Да, разумеется. Что в черном ящике? Есть ли жизнь на Марсе? Кто убил Лору Палмер?
-- Что делать, кто виноват и где второй носок? -- он потягивается. Натурально, как кот.
Это называется -- попасть в струю. В цель. В яблочко. Когда ответная реплика идет стремительно и точно -- как хорошая подача при игре в теннис. Впрочем, я в него никогда не играл. Зато когда-то ошивался возле корта, смотрел, как играет Динка. А потом мы возвращались вместе домой, перебрасываясь по дороге очень похожими репликами.
-- Роман... Слушайте, а ваши родители знают про вашу ориентацию?
-- Да, знают... -- кофейный запах сигареты усиливается.
-- Ну и как?
-- О, это будет главным украшением вашего материала. Они меня прокляли, -- Роман произносит эту фразу необыкновенно патетическим тоном. Соскальзывает со столешницы и перемещается в общий зал. Ближе ко мне. Сигарета чадит в руке, как модель средневекового факела.
-- Итак, Дмитрий Алексеевич...
-- Анатольевич...
-- Один черт, не мешайте... Итак, была страшная ночь, ревела буря, гремел гром, вспыхивали молнии... Когда мой отец узнал тайну, порочащую наше семейное древо... -- Роман совсем рядом. Можно заглянуть в глаза. Зрачков все еще не видно. Может, обкурился? Хотя... Мне оно не важно. Меня подхватывает волной чужого драйва и выносит куда-то. Подальше от знакомого берега. А я все еще делаю вид, что сопротивляюсь...
-- На глазах рыдающего семейства он приказал мне собрать мои скромные пожитки... Хотя нет, не так.. На глазах рыдающего семейства он распахнул входную дверь нашего фамильного замка.. И бросил в бездонный ров... С балкона пятого этажа... Мою гербовую печать, паспорт и ключи от машины... -- Последние слова Роман выдыхает страшным, хриплым-хриплым шепотом.
-- От фамильного экипажа... -- ляпаю я.
-- Запряженного дюжиной вороных коней.
-- А потом часы фамильного замка пробили полночь и экипаж превратился в тыкву.
-- В брюкву, Дмитрий Анато...
-- Можно без отчества.
-- Как скажете... -- Роман снова усмехается. Переходить на "ты", по видимому, бессмысленно. Тем более, нам даже нечего выпить на брудершафт, разве что -- растворимого кофе из стоящего в коридоре автомата.
-- Дим... Ты еще не ушел, что ли?
Оттуда, из не к ночи будь помянутого коридора, раздается громкий голос Петровны. Ну она-то какого рожна здесь забыла?
Я замираю. И стою, как идиот, в полном одиночестве. Потому что Роман, так и не выпустив из пальцев сигарету, мягко оседает на пол, за угол ближайшего стола.
Дверь скрипит. Замотанная в ворсистую дубленку Петровна недоуменно смотрит на полутемный затихший зал и молочно-неоновый свет, заливающий грани моей стеклянной комнатушки.
-- Ты по мобильнику говоришь? А, ну извини тогда... До завтра, Дим...
Я стою все там же. Только переминаюсь с ноги на ногу. Уши горят: как будто меня только что поймали за каким-то абсолютно неприличным делом... Например, за сеансом эксгибиционизма.
-- Вылезать уже можно? -- шипит из-под стола Роман.
Я киваю.
Сперва в моем поле зрения появляется рука с остатком сигареты. Непроглядная темень спутанных волос, пятнистый свитер, пузырящиеся штанины.
-- Извините... Я увлекся. -- немножко гордо говорит он. И идет тушить окурок.
А я тихо вздрагиваю. Потому как вот это -- резкий поворот головы, блеск колечка в сиротском освещении слабой лампы, расстояние между моей рукой и его плечом -- короткая дистанция, как во время очень приличного танца в очень давнее время -- оно уже было. То ли виделось мне, то ли... В пророчества и предчувствия я не верю. Равно как в интуицию и предзнаменования.
7.
-- Вас подбросить?
Слева – снег, рыхлый, как подкисшая дынная мякоть. Справа – ржавчина и блеск, стекло и металл, тупорылые бамперы и подернутые шкуркой льда капоты. Под ногами утоптанная полоска жидкой грязи – собачья тропа, крестный путь владельцев пуделей и овчарок из ближайшего дома.
За нашими спинами -- вконец опустевшее здание издательского дома.
Я безнадежно проверяю мобильник. Сила привычки. Потом тяну на себя пассажирскую дверь. Новая или почти новая "Ауди". Крайне неплохо для человека, который младше меня на пять лет и который неизвестно чем занимается. Впрочем, если бы Динка вдруг захотела, я бы, наверное, взял кредит на такую же машину. Я приковываю себя к Роману ремнем безопасности…
В салоне так тепло, что я сразу начинаю цепенеть, засыпать… А расстегнуть куртку при Романе почему-то боязно.
-- Как-то оно неудачно все получилось... -- равнодушно произношу я.
-- Ну почему? По мне -- так весьма забавно... -- выдыхает очередной дым мой сегодняшний водитель.
Мы выплываем на Дмитровское шоссе. На знакомом светофоре нет "пробки". Непривычно. Темнота утыкана фонарями. Оранжевое на черном. Как сигарета в руках Романа.
-- Да... Уже не в порядке интервью, а так просто... Роман, а чем вы занимаетесь?
Я почти уверен, что услышу сейчас что-нибудь про театральное училище. Или про модельное агентство. Про балетную труппу, фотомастерскую, третьеразрядный театрик-студию. Или про загадочный PR, в который теперь уходят без оглядки, почти эмигрируют, выпускники моего собственного вуза.
-- Переделкой нежилых зданий в офисы.
-- Архитектор? -- я пытаюсь вычленить самую творческую профессию в этой сфере.
-- Риэлтор. Ничего интересного.
-- Понятно. А я вот Лит в свое время заканчивал...
-- Ленинградский чего-то там? -- он пытается расшифровать незнакомое слово.
Петербург перестал быть Ленинградом, когда я еще учился в школе. Впрочем, Динка часто мне говорила, что я выгляжу старше собственного возраста.
-- Литературный имени Горького.
-- На писателя что ли? -- мы выпиливаем на эстакаду.
Я киваю. Сейчас он меня спросит, есть ли у меня книги. И мне придется что-то мекать.
-- Вам музыку включить? -- Роман, не глядя, тыкает окурком в забитую пепельницу. Дым опять щекочет воздух.
-- Нет, не надо.
Схема интервью. Вопросы. Блокнот так и остался на столе. После ухода Петровны я стремительно начал собираться. Повторное ощущение того, что мы одни в редакции. Как будто был фальстарт и теперь придется выстраивать всю беседу заново.
-- Роман... А... эээ... Вы всю жизнь в Москве живете?
-- Я похож на приезжего?
-- Нет...
-- Спасибо, -- он скоблит бровь подушечкой пальца.
Чертов окурок все еще дымит. Я брезгливо утаптываю огонек в донце пепельницы.
-- Дмитрий Анатольевич, вас сейчас что-то очень сильно накрыло. Вы меня спрашиваете, а потом ответы не слышите... Как будто вопросы примеряете на себя. -- Роман опять усмехается. Зубы крупные и чересчур блестящие. Щетины нет. А в глаза ему мне смотреть страшно.
-- Накрыло? -- я не хочу его передразнивать, но так, кажется, выходит... -- Просто помните, когда вы говорили... Про Армагеддон... Вы совершенно случайно попали в точку.
Я сливаю Динку. Сдаю за бесценок. Втискиваю семилетний брак в пятиминутный диалог. Я понятия не имел, что я так ненавижу свою жену. За то, что мне ее некем заменить.
Теперь Роман меня допрашивает. Или расспрашивает, как врач во время платной консультации.
-- То есть у вас все было нормально, а потом ее... Вашу жену... переклинило и она начала ходить в церковь?
-- Не совсем. Дело в том, что она всегда хотела ребенка... -- Два года назад мне казалось, что у нас дома живут ручные зверушки -- Овуляция и Лапароскопия. А Динка по вечерам мне рассказывает истории из их жизни.
-- А у вас не получилось... -- утверждает Роман.
-- Практически. Сперва она долго не могла забеременеть, а потом...
А потом ее увезли на "Скорой". Из нашей же редакции. На глазах у сочувственно истерящего бабского коллектива. Через месяц Динка собиралась свалить из этой же редакции в декрет...
-- И она начала вас в этом обвинять? -- Роман снова поворачивается ко мне. Вспышка чужого дальнего света на странно-напряженном лице.
-- Нет... Она вообще со мной почти не разговаривала.
Динка тогда разговаривала с огромной игрушечной собакой, купленной в "Детском мире" во время ритуальной субботней прогулки. Эту обаятельную плюшевую нечисть она потом отволокла в какой-то семейный детдом. Но первое время после выписки псина была динкиным собутыльником.
-- Просто в больнице она познакомилась с одной женщиной.
Роман гулко кашляет и тянется к новой сигарете.
-- Не то медсестра, не то соседка по палате, я не знаю... В общем, сильно верующая.
-- А это, как известно, заразно...
-- Еще как. Только я об этом не знал. Сперва даже обрадовался, что они так много общаются. Потому что Дина ожила. Как будто ничего не случилось. Просто раньше она ходила на теннис, а теперь в церковь. Правда потом она сменила работу. Ну, из издательства ушла, мы с ней работали вместе. Я не настаивал, это понятно. У нас в основном работают женщины, и они ей все время сочувствовали. Хронически. Меня это раздражало, а Дину -- тем более. Сперва она занималась с малышами в церковной школе, по воскресеньям. Она вообще любит детей. И педагог по образованию. А потом устроилась в обычную школу... Ну, там где ваш брат.. Ну, это вы знаете. Просто, черт с ней, с работой... Я нормально зарабатываю, Дина вообще могла дома сидеть. Но она не хотела.
-- А потом она начала на вас давить?
Я снова киваю.
-- Ну да... Чтобы я ходил вместе с ней в церковь.
-- А вы не захотели, -- утверждает Роман.
-- Наверное. Просто... это было как-то нечестно. Получалось, что я хожу на эти службы не из-за Бога, а из-за Дины. Потому что ей так спокойнее. И с постами было то же самое. Выдержал четыре дня, а потом плюнул на все и пообедал копченой курицей.
-- Четыре дня -- это много... -- совершенно серьезно говорит Роман. Илюха, кстати, сказал то же самое. А потом поинтересовался, не нужны ли мне ключи от его квартиры.
-- Не уверен. Дина выдерживает дольше. Ее как будто затянуло...
-- Ее затянуло в пылесос, а вы бегаете снаружи и то кричите, то пытаетесь этот пылесос разобрать... -- Если Роман общается с клиентами в том же доверительном темпе, то неудивительно, что он сумел заработать на нормальную машину.
-- Так и есть.
-- А вы не бегайте. Стойте спокойно. Захочет -- сама вылезет. А еще лучше -- отойдите ненадолго.
-- То есть... -- Илюха обходился без аллегорий. Просто спросил -- "Тебе малолетки нравятся или как?"
-- Прекратите себя грызть, -- устало говорит Роман. -- Вы не плохой, она не хорошая. И наоборот тоже. Это вообще нельзя сравнивать, понимаете... Кто лучше: кошки или собаки? Зеленый цвет или красный?
-- Английский или французский... -- я ловлю логическую цепочку.
-- Ага. И вы тоже. Вы сами по себе... интересный. Без приложения к жене.
-- Да? Спасибо... -- гипотеза лежала на поверхности. Просто, мне было нужно, чтобы ее озвучил кто-то другой.
-- Всегда пожалуйста.
В тишину вклинивается очередной щелчок зажигалки. По бокам тянутся и тянутся серо-стеклянные многоэтажки. Оранжевые жирные пятна фонарей мешаются с мартовской грязью.
Свобода. Пустота. Странная пустота: будто я сейчас отдал Роману что-то некогда ценное, а теперь ставшее для меня обузой. Это надо отметить. Жалко, что Роман за рулем.
-- Дмитрий Анатольевич, вы не против, если я вас высажу у ближайшего метро?
Преступники избавляются от трупов, а потрошители душ -- от собеседников.
Я пожимаю плечами.
-- Мне завтра вставать рано, а вам на другой конец Москвы...
Ничего не понимаю. Костик-то, как и все динкины ученики, живет где-то поблизости от нас. Значит, и Роман должен...
-- Вы что, не живете с родителями?
-- Ну конечно. Я же вам рассказывал: семейное проклятье и гнев отца. Все чистая правда. Ну, за исключением пары деталек.
Роман выворачивается из-под носа заполошно-желтого такси и сворачивает в муторный проезд между типовым зданием милиции и облезлой двенадцатиэтажкой. Впереди уже сияет бодрый пластиковый обелиск с буквой "М" на макушке.
Ремень безопасности. Заедает, путается. Впивается в бок. Я не хочу его отстегивать.
Роман убирает руку от руля и небрежно жмет на округлую кнопку. Щелчок. Нас разъединили.
-- Забавно. Вы ведь совсем не церковный человек, Дмитрий Анатольевич?
-- Ну да.
-- А получилось, что у вас сегодня была духовная исповедь.
Синдром попутчика. Роман думает о том же самом:
-- Вытошнили мне все, как соседу по купе, да?
-- Вы еще и мысли читаете?
-- Нет. Просто это очень банальное сравнение. И есть небольшое отличие. У соседа-попутчика вы можете взять номер телефона, по которому никогда в жизни не позвоните. А меня вам, к сожалению, придется еще пару раз встретить. Или наоборот.
Он возит пальцами по обшивке руля. Теперь обочина проплывает за окном гораздо медленнее.
-- Роман... можно, я вам позвоню?
-- Зачем? Дмитрий Анатольевич, поверьте... Я не служба психологической помощи. И не священник. И даже пиво с водкой не пью, потому как за рулем.
-- Тогда что?
-- Просто, на всякий случай: по средам и субботам я хожу встречать брата.
Нижний замок заедает пятый год подряд. На тумбочке непривычно ярким пятном сияют упоительно розовые детские перчатки -- сегодняшняя Динкина ученица все время их забывает.
-- И сущим во гробех живот даровах...
В ванной журчит вода. Динка мурлычет пасхальный тропарь. Желудок сводит от голода. Запах жареной картошки начинается еще на лестничной площадке.
-- Дима?
Я опять припадаю к дверному косяку.
Кафельная клетка, собственное лицо в овале зеркала.
Динка наклоняется над ванной, вытягивает оттуда мокрую тряпку. Черное, тягучее, траурное... Длинная юбка. Капли с нее срываются тоже тягуче и как-то траурно.
-- Ужинать будешь?
-- Угу.
Динка пристраивает юбку и вновь наклоняется. Отбивает поклон. В ванной у нас еще нет иконы.
-- Дима, послушай... У нас в приходе в воскресенье опять деньги будут собирать. Там ребенок из многодетной семьи, нужна операция.
-- Угу.
-- Дим, просто зарплата в понедельник, а там быстро надо собрать... -- Динка тараторит. Совсем как чтец на церковной службе, когда зачитывает кусок Евангелия.
-- У тебя же в субботу ученики? Или Костик отменился? -- Динка давно перестала брать мои деньги. Ограничилась теплыми вещами.
-- Вроде бы нет... Но там мало будет, Дим... Даже вместе с репетиторскими.
-- Угу. Понял.
-- Дима, можно я завтра свое кольцо обручальное в ломбард отнесу? Там у метро хороший есть, можно побольше выручить. Все равно мы невенчанные, Дим...
Мокрая рубашка поднимается в воздух. Серая. Динка опять постирала все вместе.
Тяну себя за палец. Снаружи кольцо тусклое, в крошечных царапинках. Изнутри гладкое, отполированное кожей. Как новенькое. Белесая полоска кожи. След от кандалов из книжки про беглых революционеров-каторжников. Кожа мерзнет, оказавшись на свободе.
-- Мое тоже возьми...
Я опускаю кольцо в тазик. Мокрое белье лежит тяжелым комом. Как протухшая шкура давно убитого дракона.
-- Ой, Дима... Дим, если ты захочешь обвенчаться, то мы потом другие можем купить... Ну, потом...
Картошка у Динки пригорела. Опустошенная половинка сковороды чернеет поджарками. Холодильник слегка трясется. Золоченая рамка вибрирует.
Я привычно декорирую икону мобильником и портмоне. Если я решу уйти от Динки -- то начну свои сборы именно с них. Впрочем, Бог про это давно в курсе.
История вторая: Жертв и разрушений нет
Я умираю от скуки, когда меня кто-то лечит...
СПЛИН
Я умираю от скуки, когда меня кто-то лечит...
СПЛИН
Часть первая
1.
-- Рома, тормози! -- Котька, паскуда мелкая, орет в самое ухо. На полном автопилоте давлю педаль. Хотя первая реакция у меня совершенно другая: развернуться и со всей дури звездануть братцу куда-нибудь промеж глаз. Чтобы не лез под локоть.
Тормоза скрипят, Котька ойкает, а в сторону зассаного мартовского сугроба чешет облезлый кот.
Твою мать. Про знак "Лось на дороге" я в курсе. А вот "Кот во дворе" -- это что-то новое. Тем более, что он не черный был, а относительно белый. Примерно как тот сугроб.
Паркуюсь и заодно излагаю юному гринписовцу все, что я думаю о нем самом, коте, мартовском гололеде и нетрадиционных половых отношениях между мной и нашей общей мамой. А так же о том, что, когда я веду машину, лезть ко мне с советами не рекомендуется.
После словосочетания "нед**бок малолетний" Котька призывно зеленеет, звонким голосом вякает что-то типа "Ты же его чуть не задавил, придурок" и вылетает из машины в обнимку с тетрадкой и учебником. А я, вместо того, чтобы мигнуть ему фарами, сую в рот долгожданную сигарету. И торчу с ней в полном столбняке, как суслик в колхозном поле.
У меня такое ощущение, что двор, где живет котькина долбанутая француженка, представляет собой нечто типа заповедной зоны. Вход в которую насмерть заказан атеистам, клятвопреступникам, мужеложцам и прочим нехристям. В тот раз возле француженкиного подъезда разлилась какая-то патологическая мазутная лужа, теперь вот под колесами нарисовался бесхозный кот. Но хреновей всего, что я тут должен торчать, как белорусский партизан в засаде. С Котьки станется выйти обратно и самому пошлепать домой, ибо он на меня теперь в обиде.
Впрочем, засада -- это через час двадцать, когда кончатся котькины лингвистические мытарства. А сейчас у меня тайм-аут, санитарно-гигиенический час, обеденный перерыв и все такое прочее. Вариантов два: либо выехать на Рязанку в поисках какой-нибудь горячей жратвы, либо поставить себе будильник и тупо срубиться прямо в тачке, подражая бессмертному Штирлицу.
Последний раз я нормально ел вчера днем. Но желудок сейчас бурчит как-то странно, словно он тоже зевает. Вот только уснуть за рулем мне и не хватало. Ищу в мобиле кнопку Alarm: прочухаюсь, перехвачу Котьку, а потом помирюсь с ним по дороге к Мак-авто. В общем, и волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память...
Задраиваю окна, откидываю кресло, гашу бычок.
В затемненное стекло стучит кулак. Глаза слезятся от дыма и зевоты, так что я не сразу различаю фигуру. Первая мысль: француженка отменила урок и Кот вернулся. Тихий час накрылся медным тазом.
Кулак продолжает коцать по стеклу. Да блин, что он, не знает, как дверь открыть?
Знает, оказывается. Только вот... Привет француженке. Картина Репина "Приплыли".
-- Ну, добрый вечер, Дмитрий Анатольевич... -- я так и не перевел кресло в вертикаль.
-- Роман, вы позволите...
-- Угу.
Садитесь-садитесь, Дмитрий Анатольевич. Жаль, что я вас со стороны не вижу: с откляченной задницей вы, наверное, смотритесь весьма неплохо.
-- Эээ... Роман, вам нехорошо?
Чертовски, если честно. У меня хронический недосып, язва желудка и два сотрясения. А тут еще вы со своими проблемами.
-- Нет. Просто я сплю.
От такой откровенности милейший Дима зеленеет не хуже Котьки.
-- Извините... я не знал, что буду не вовремя... просто, вы сами тогда сказали, что по средам и субботам.
О, боже... Говорила мне мама: "Рома, никогда не откровенничай с неизвестными". Угу, а еще она говорила, что три пацана в семье -- это перебор.
-- У вас ко мне что... очередное предложение?
Может, обойдется. Как же не хочется поднимать кресло обратно. Дима ерзает и склоняется чуть ближе. И оттого мне кажется, что я сейчас сижу в кресле у зубного. Мерзость какая.
-- Отчасти. Понимаете, Роман... Мне несколько неудобно.
Понятно. У Димы -- душевное похмелье. Отходняк после запойного приступа откровенности. Знакомо. Сейчас ликвидируем.
-- Можете не... ааахх.. волноваться. Все что вы мне рассказ... ааааххх... зали, останется строго между нами...ааахх... -- зеваю я душераздирающе. Надеюсь, его проймет.
-- Это не важно. То есть, нет, наоборот, важно, но не сейчас. Понимаете, тут такая ситуация.
Не понимаю и не хочу понимать. Я спать хочу. И вообще. Нынешний Дмитрий Анатольевич, в отличие от себя самого двухдневной давности, никакого особого интереса у меня не вызывает. С женатыми мужиками я принципиально... Ну, почти. Ибо с шестнадцати лет я этого счастья нахватался совковой лопатой.
-- В общем, сколько вы возьмете за посредничество?
А? Что? В полудреме меня переглючивает: Дмитрий Анатольич решил оплатить мои психотерапевтические трепыхания. Или типа того.
-- Можно еще раз? -- выравниваю-таки кресло. Теперь наши лица на одном уровне.
-- Ну... вы же говорили, что вы риелтор. Значит, у вас должны быть связи. Однокомнатная квартира, в районе Дмитровского шоссе, чтобы рядом с работой. Можно не срочно, я какое-то время поживу у родителей. Или у однокурсника. А мои координаты вы знаете.
-- Дима... -- я резко перехожу на личности... -- ты что, от жены ушел?
-- Ну да. Вот. Только что.
Спать мне уже не хочется. Хочется побиться башкой о что-нить прочное. Говорила мне мама... Хотя нет, это я сам себе говорил: Рома, не лезь к незнакомым людям, ни во что не ввязывайся и никогда не бери на себя чужой геморрой.
2.
Мужа котькиной француженки, которую любящие ученики зовут "Дина еб**утая", я представлял себе несколько по-другому. Честно говоря -- никак не представлял. Хотя бы потому, что пресловутая Дина относится к самому бездарному типу женщин: из тех, что сдают кровь на ЗППП, после того, как единственный раз в жизни засунули себе между ног обмотанную марлечкой ручку от расчески.
Француженку я до этого видел, когда пасся возле котькиной школы. Братца тогда начал прессовать какой-то гниденыш из седьмого что ли класса, и Кот запросил помощи. По хорошему, заниматься этим должен был Юрка. Все ж таки в одной школе парятся, хотя Котька в третьем, а Юрец в одиннадцатом. Но нашу папину подстилку вообще в этой жизни ничего не е**т, кроме чертовой музыки. Пришлось мне делать морду кирпичом и косить под Сашу Белого. Фигня вышла редкостная, но тот кадавр от Котьки отцепился.
В общем, это я к тому, что Котька, пока изображал шпиона в моей машине, засветил мне всю резидентуру: своих и юркиных одноклассничков, и кой-кого из учителей -- с тех пор, как я сам школку закончил, педсостав в ней сильно поменялся. В том числе, Кот сдал мне и чертову Марковну.
Я тогда, если честно, решил, что ей под пятьдесят. Такая бабуленция в платочке и юбке типа "мешок". А пальтецо, пару лет как вышедшее из моды, она наверняка донашивает после обеспеченной племяшки. Или что-то вроде того.
Неделю назад, в тухлом коридорном освещении я подумал, что Марковне сороковник. Может, чуть поменьше. Слишком уж охренел от фразы "я сейчас у мужа спрошу, кажется, у нас был ацетон". Муж мне представился в виде пожилого мастодонта с профессорским званием и вставной челюстью на цепочке. И непременной глаукомой. Потому как вменяемый мужик на эту асексуальную швабру запасть не может.
Вместо представителя эпохи неолита в прихожую бочком выполз вполне презентабельный кент в джинсах на босу ногу. Марковна, правда, глянула на него так, будто перед ней было окаменевшее дерьмо мамонта. Чел как-то сразу завиноватился, а мне начало медленно, но верно выносить мозги.
Не то, чтобы он был шизофренически красивый или там от него спермой несло за километр. Просто в голове никак не укладывалось: чем эта школьная крыска, пардон -- церковная мышка -- смогла захомутать своего супружника. Явно не сексом. Ибо по неловкому Диминому виду было понятно, что его в этом плане держат на голодном пайке. Совсем как бывшего сторожевого пса.
Вот знаете, почти в каждом дворе есть такой персонаж: бабулька с волкодавом. Сморщенная поганка пенсионного возраста, которая в любую погоду таскает за собой на веревке огроменную псину. Овчара там или сенбернара бывшего. Бывшего -- поскольку некогда породистый пес, делящий с бабкой ее скорбную овсянку на воде, зарос, засалился и стал откликаться на уебищную кличку типа Тузик. А из команд псина помнит лишь "заткнись, падла" и "ищи давай". Последнее относится к пустым бутылкам из-под пива, которые алкоголящая бабка собирает по дворам и помойкам.
Вот такого вот отставного сенбернара Дмитрий Анатольич тогда и напоминал. Я еще успел подумать, что может, его ненаглядная училка дома керосинит по-черному, а он с ней развестись боится из жалости?
Отпричитав положенное, Марковна поволокла Котьку на его франкоязычную Голгофу. Сенбернар неуклюже мялся у входа в кафельную конуру, по недоразумению названную совместным санузлом. В принципе, чтобы гостеприимный сторож оставил меня в покое, было достаточно приподнять в его присутствии крышку отдраенного унитаза. Но мне как-то забавно было, пока Дима меня разглядывал.
Пока я чистил джинсы, Дмитрий Анатольич пытался вести светский разговор. В силу способностей, конечно.
Эстеты на второй минуте знакомства со мной начинают поминать "Доктора Живаго". Не обремененные интеллектом собеседники тупо сообщают "Какой у вас интересный профиль". Еще б ему не быть интересным, если наш долбанутый папенька, вместо катехезисного воспитания ремнем, предпочитал давать в торец с ноги. Уверяю вас, после двух переломов любое свиное рыло обретет ассиметричную загадочность...
Ритуальное сравнение с Пастернаком я выдержал стоически. Хотя на него я реагирую по разному. Могу либо идиотически гыгыкнуть: " А это кто? Его по какому каналу показывают?", либо проникновенно заявить "Это который про горящую свечку написал? Хорошие стихи, сексуальные".
Но маньячить Анатольича мне не хотелось. Хотелось его взломать. Понять, как им управляют.
После прямолинейного вопроса про ориентацию меня осенило: возможно, сенбернар живет со своей церковной мышью чисто для маскировки, как Боб. Тем более, что стандартному мужику тусить в женском журнале, даже на руководящей должности, как-то совсем без мазы. В общем, непонятки...
Сказку про интервью Дмитрий Анатольевич явно изобрел на ходу, а потом еще собой гордился. Хрен поймешь -- то ли он первый раз в жизни кого-то подснять пытался, то ли тоже решил меня взломать. А оно любопытно. В общем, в редакцию я приволокся, рассчитывая непонятно на что. Не оттянусь, так хоть позабавлюсь.
Ничего забавного там, кстати, не было. Атмосферка в этой, прости Господи, редакции, была тухлее, чем в бухгалтерии паспортного стола. Дмитрий Анатольич вяло мекал, но на подсказки не велся. Я ему прямым текстом говорю: что вот, нравишься ты мне, туда-сюда, если хочешь -- то вперед, я сегодня -- мальчик без комплексов. А Дима трясется, как осинка осенью, и тупо зыркает в блокнот.
Растормошить мне его удалось, но толку. Продукт был натуральнее, чем кабачки с бабушкиного огорода. Правда вот подыграл хорошо...
Кстати, на счет расшевелить. На откровенный разговор сенбернар развелся моментально. Блин, кто из нас журналист в результате, я или он?
Я к тому моменту уже понял, что ни черта путного тут не выйдет, и мечтал скинуть Дмитрия Анатольевича у ближайшей станции метро. Но тут он завел про жену и меня просто затрясло...
Оказалось, что короткий поводок у сенбернара самый банальный -- чувство вины. Типа жена -- святая, а он весь из себя -- неправославная паскуда. А вот это хреново. Потому как ни один человек не может быть перед другим виноват, что он пытается жить так, как ему самому нравится, а не так, как заставляют. Никто никому ничего не должен. Не в смысле бабла или, допустим, инвалидам место уступить, а в смысле внутренней свободы. Мне моей родной семейки в этом плане хватило по уши, но про нее -- отдельный разговор.
Разумеется, за пять минут я Дмитрию Анатольевичу ничего путного не сказал. Я даже его дражайшую половину двуличной бл**ью ни разу не назвал, хотя хотелось дико.
В общем, не мое это, конечно, дело, но мне его тогда реально жалко было. И себя, кстати, тоже. Ибо любопытный вечер пошел сенбернару под хвост.
Кто ж знал, что его в результате так перемкнет.
-- Рома, тормози! -- Котька, паскуда мелкая, орет в самое ухо. На полном автопилоте давлю педаль. Хотя первая реакция у меня совершенно другая: развернуться и со всей дури звездануть братцу куда-нибудь промеж глаз. Чтобы не лез под локоть.
Тормоза скрипят, Котька ойкает, а в сторону зассаного мартовского сугроба чешет облезлый кот.
Твою мать. Про знак "Лось на дороге" я в курсе. А вот "Кот во дворе" -- это что-то новое. Тем более, что он не черный был, а относительно белый. Примерно как тот сугроб.
Паркуюсь и заодно излагаю юному гринписовцу все, что я думаю о нем самом, коте, мартовском гололеде и нетрадиционных половых отношениях между мной и нашей общей мамой. А так же о том, что, когда я веду машину, лезть ко мне с советами не рекомендуется.
После словосочетания "нед**бок малолетний" Котька призывно зеленеет, звонким голосом вякает что-то типа "Ты же его чуть не задавил, придурок" и вылетает из машины в обнимку с тетрадкой и учебником. А я, вместо того, чтобы мигнуть ему фарами, сую в рот долгожданную сигарету. И торчу с ней в полном столбняке, как суслик в колхозном поле.
У меня такое ощущение, что двор, где живет котькина долбанутая француженка, представляет собой нечто типа заповедной зоны. Вход в которую насмерть заказан атеистам, клятвопреступникам, мужеложцам и прочим нехристям. В тот раз возле француженкиного подъезда разлилась какая-то патологическая мазутная лужа, теперь вот под колесами нарисовался бесхозный кот. Но хреновей всего, что я тут должен торчать, как белорусский партизан в засаде. С Котьки станется выйти обратно и самому пошлепать домой, ибо он на меня теперь в обиде.
Впрочем, засада -- это через час двадцать, когда кончатся котькины лингвистические мытарства. А сейчас у меня тайм-аут, санитарно-гигиенический час, обеденный перерыв и все такое прочее. Вариантов два: либо выехать на Рязанку в поисках какой-нибудь горячей жратвы, либо поставить себе будильник и тупо срубиться прямо в тачке, подражая бессмертному Штирлицу.
Последний раз я нормально ел вчера днем. Но желудок сейчас бурчит как-то странно, словно он тоже зевает. Вот только уснуть за рулем мне и не хватало. Ищу в мобиле кнопку Alarm: прочухаюсь, перехвачу Котьку, а потом помирюсь с ним по дороге к Мак-авто. В общем, и волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память...
Задраиваю окна, откидываю кресло, гашу бычок.
В затемненное стекло стучит кулак. Глаза слезятся от дыма и зевоты, так что я не сразу различаю фигуру. Первая мысль: француженка отменила урок и Кот вернулся. Тихий час накрылся медным тазом.
Кулак продолжает коцать по стеклу. Да блин, что он, не знает, как дверь открыть?
Знает, оказывается. Только вот... Привет француженке. Картина Репина "Приплыли".
-- Ну, добрый вечер, Дмитрий Анатольевич... -- я так и не перевел кресло в вертикаль.
-- Роман, вы позволите...
-- Угу.
Садитесь-садитесь, Дмитрий Анатольевич. Жаль, что я вас со стороны не вижу: с откляченной задницей вы, наверное, смотритесь весьма неплохо.
-- Эээ... Роман, вам нехорошо?
Чертовски, если честно. У меня хронический недосып, язва желудка и два сотрясения. А тут еще вы со своими проблемами.
-- Нет. Просто я сплю.
От такой откровенности милейший Дима зеленеет не хуже Котьки.
-- Извините... я не знал, что буду не вовремя... просто, вы сами тогда сказали, что по средам и субботам.
О, боже... Говорила мне мама: "Рома, никогда не откровенничай с неизвестными". Угу, а еще она говорила, что три пацана в семье -- это перебор.
-- У вас ко мне что... очередное предложение?
Может, обойдется. Как же не хочется поднимать кресло обратно. Дима ерзает и склоняется чуть ближе. И оттого мне кажется, что я сейчас сижу в кресле у зубного. Мерзость какая.
-- Отчасти. Понимаете, Роман... Мне несколько неудобно.
Понятно. У Димы -- душевное похмелье. Отходняк после запойного приступа откровенности. Знакомо. Сейчас ликвидируем.
-- Можете не... ааахх.. волноваться. Все что вы мне рассказ... ааааххх... зали, останется строго между нами...ааахх... -- зеваю я душераздирающе. Надеюсь, его проймет.
-- Это не важно. То есть, нет, наоборот, важно, но не сейчас. Понимаете, тут такая ситуация.
Не понимаю и не хочу понимать. Я спать хочу. И вообще. Нынешний Дмитрий Анатольевич, в отличие от себя самого двухдневной давности, никакого особого интереса у меня не вызывает. С женатыми мужиками я принципиально... Ну, почти. Ибо с шестнадцати лет я этого счастья нахватался совковой лопатой.
-- В общем, сколько вы возьмете за посредничество?
А? Что? В полудреме меня переглючивает: Дмитрий Анатольич решил оплатить мои психотерапевтические трепыхания. Или типа того.
-- Можно еще раз? -- выравниваю-таки кресло. Теперь наши лица на одном уровне.
-- Ну... вы же говорили, что вы риелтор. Значит, у вас должны быть связи. Однокомнатная квартира, в районе Дмитровского шоссе, чтобы рядом с работой. Можно не срочно, я какое-то время поживу у родителей. Или у однокурсника. А мои координаты вы знаете.
-- Дима... -- я резко перехожу на личности... -- ты что, от жены ушел?
-- Ну да. Вот. Только что.
Спать мне уже не хочется. Хочется побиться башкой о что-нить прочное. Говорила мне мама... Хотя нет, это я сам себе говорил: Рома, не лезь к незнакомым людям, ни во что не ввязывайся и никогда не бери на себя чужой геморрой.
2.
Мужа котькиной француженки, которую любящие ученики зовут "Дина еб**утая", я представлял себе несколько по-другому. Честно говоря -- никак не представлял. Хотя бы потому, что пресловутая Дина относится к самому бездарному типу женщин: из тех, что сдают кровь на ЗППП, после того, как единственный раз в жизни засунули себе между ног обмотанную марлечкой ручку от расчески.
Француженку я до этого видел, когда пасся возле котькиной школы. Братца тогда начал прессовать какой-то гниденыш из седьмого что ли класса, и Кот запросил помощи. По хорошему, заниматься этим должен был Юрка. Все ж таки в одной школе парятся, хотя Котька в третьем, а Юрец в одиннадцатом. Но нашу папину подстилку вообще в этой жизни ничего не е**т, кроме чертовой музыки. Пришлось мне делать морду кирпичом и косить под Сашу Белого. Фигня вышла редкостная, но тот кадавр от Котьки отцепился.
В общем, это я к тому, что Котька, пока изображал шпиона в моей машине, засветил мне всю резидентуру: своих и юркиных одноклассничков, и кой-кого из учителей -- с тех пор, как я сам школку закончил, педсостав в ней сильно поменялся. В том числе, Кот сдал мне и чертову Марковну.
Я тогда, если честно, решил, что ей под пятьдесят. Такая бабуленция в платочке и юбке типа "мешок". А пальтецо, пару лет как вышедшее из моды, она наверняка донашивает после обеспеченной племяшки. Или что-то вроде того.
Неделю назад, в тухлом коридорном освещении я подумал, что Марковне сороковник. Может, чуть поменьше. Слишком уж охренел от фразы "я сейчас у мужа спрошу, кажется, у нас был ацетон". Муж мне представился в виде пожилого мастодонта с профессорским званием и вставной челюстью на цепочке. И непременной глаукомой. Потому как вменяемый мужик на эту асексуальную швабру запасть не может.
Вместо представителя эпохи неолита в прихожую бочком выполз вполне презентабельный кент в джинсах на босу ногу. Марковна, правда, глянула на него так, будто перед ней было окаменевшее дерьмо мамонта. Чел как-то сразу завиноватился, а мне начало медленно, но верно выносить мозги.
Не то, чтобы он был шизофренически красивый или там от него спермой несло за километр. Просто в голове никак не укладывалось: чем эта школьная крыска, пардон -- церковная мышка -- смогла захомутать своего супружника. Явно не сексом. Ибо по неловкому Диминому виду было понятно, что его в этом плане держат на голодном пайке. Совсем как бывшего сторожевого пса.
Вот знаете, почти в каждом дворе есть такой персонаж: бабулька с волкодавом. Сморщенная поганка пенсионного возраста, которая в любую погоду таскает за собой на веревке огроменную псину. Овчара там или сенбернара бывшего. Бывшего -- поскольку некогда породистый пес, делящий с бабкой ее скорбную овсянку на воде, зарос, засалился и стал откликаться на уебищную кличку типа Тузик. А из команд псина помнит лишь "заткнись, падла" и "ищи давай". Последнее относится к пустым бутылкам из-под пива, которые алкоголящая бабка собирает по дворам и помойкам.
Вот такого вот отставного сенбернара Дмитрий Анатольич тогда и напоминал. Я еще успел подумать, что может, его ненаглядная училка дома керосинит по-черному, а он с ней развестись боится из жалости?
Отпричитав положенное, Марковна поволокла Котьку на его франкоязычную Голгофу. Сенбернар неуклюже мялся у входа в кафельную конуру, по недоразумению названную совместным санузлом. В принципе, чтобы гостеприимный сторож оставил меня в покое, было достаточно приподнять в его присутствии крышку отдраенного унитаза. Но мне как-то забавно было, пока Дима меня разглядывал.
Пока я чистил джинсы, Дмитрий Анатольич пытался вести светский разговор. В силу способностей, конечно.
Эстеты на второй минуте знакомства со мной начинают поминать "Доктора Живаго". Не обремененные интеллектом собеседники тупо сообщают "Какой у вас интересный профиль". Еще б ему не быть интересным, если наш долбанутый папенька, вместо катехезисного воспитания ремнем, предпочитал давать в торец с ноги. Уверяю вас, после двух переломов любое свиное рыло обретет ассиметричную загадочность...
Ритуальное сравнение с Пастернаком я выдержал стоически. Хотя на него я реагирую по разному. Могу либо идиотически гыгыкнуть: " А это кто? Его по какому каналу показывают?", либо проникновенно заявить "Это который про горящую свечку написал? Хорошие стихи, сексуальные".
Но маньячить Анатольича мне не хотелось. Хотелось его взломать. Понять, как им управляют.
После прямолинейного вопроса про ориентацию меня осенило: возможно, сенбернар живет со своей церковной мышью чисто для маскировки, как Боб. Тем более, что стандартному мужику тусить в женском журнале, даже на руководящей должности, как-то совсем без мазы. В общем, непонятки...
Сказку про интервью Дмитрий Анатольевич явно изобрел на ходу, а потом еще собой гордился. Хрен поймешь -- то ли он первый раз в жизни кого-то подснять пытался, то ли тоже решил меня взломать. А оно любопытно. В общем, в редакцию я приволокся, рассчитывая непонятно на что. Не оттянусь, так хоть позабавлюсь.
Ничего забавного там, кстати, не было. Атмосферка в этой, прости Господи, редакции, была тухлее, чем в бухгалтерии паспортного стола. Дмитрий Анатольич вяло мекал, но на подсказки не велся. Я ему прямым текстом говорю: что вот, нравишься ты мне, туда-сюда, если хочешь -- то вперед, я сегодня -- мальчик без комплексов. А Дима трясется, как осинка осенью, и тупо зыркает в блокнот.
Растормошить мне его удалось, но толку. Продукт был натуральнее, чем кабачки с бабушкиного огорода. Правда вот подыграл хорошо...
Кстати, на счет расшевелить. На откровенный разговор сенбернар развелся моментально. Блин, кто из нас журналист в результате, я или он?
Я к тому моменту уже понял, что ни черта путного тут не выйдет, и мечтал скинуть Дмитрия Анатольевича у ближайшей станции метро. Но тут он завел про жену и меня просто затрясло...
Оказалось, что короткий поводок у сенбернара самый банальный -- чувство вины. Типа жена -- святая, а он весь из себя -- неправославная паскуда. А вот это хреново. Потому как ни один человек не может быть перед другим виноват, что он пытается жить так, как ему самому нравится, а не так, как заставляют. Никто никому ничего не должен. Не в смысле бабла или, допустим, инвалидам место уступить, а в смысле внутренней свободы. Мне моей родной семейки в этом плане хватило по уши, но про нее -- отдельный разговор.
Разумеется, за пять минут я Дмитрию Анатольевичу ничего путного не сказал. Я даже его дражайшую половину двуличной бл**ью ни разу не назвал, хотя хотелось дико.
В общем, не мое это, конечно, дело, но мне его тогда реально жалко было. И себя, кстати, тоже. Ибо любопытный вечер пошел сенбернару под хвост.
Кто ж знал, что его в результате так перемкнет.
3.
-- Ну да. Вот. Только что. -- Дмитрий Анатольич заявляет это так серьезно, будто дает клятву в районном ЗАГСе.
А я закуриваю, чтобы не заржать:
-- А вещи? Или вы трусы с носками пожертвовали местной богадельне?
-- Эээ...
Анекдот. Сейчас выяснится, что про барахло пафосный Дима начисто забыл.
-- Да нет.. почему... я завтра заберу... когда она... Дина... будет в церкви.
-- А, понятно.
-- Так вы мне поможете? -- интересуется Дмитрий Анатольевич, пока я тихо охреневаю от своего нового статуса. Блин, с такими способностями убеждать, лет пятнадцать назад можно было спокойно двигать в политику или в экстрасенсы. Сейчас уникальный дар сгодится лишь для того, чтобы втюхивать клиентам всякую хрень: "Дорогой Иван Иваныч, ваша консалтинговая фирма с комфортом разместится вот в этой трансформаторной будке. Я вас уверяю. "
-- Разумеется, небесплатно. Я вам и так... должен, -- тянет он, пока я тискаю собственную барсетку. Скармливаю Анатольичу визитку Катерины -- она, его, конечно, пощиплет, но съемная хата на "Дмитровской" у него будет хоть завтра днем. А мне при таком раскладе завтра вечером пойдет процент.
-- Скажете, что от Скворцова... -- я снова тяну кресло назад. -- И.. если у вас сегодня День Независимости, то поздравляю... с профессиональным праздником.
Анатольич благодарит, но из машины не выходит.
Зевнуть на него, что ли?
По идее, радоваться надо: вправил человеку мозги, надыбал Катерине клиента, и сейчас можно спокойно поспать, пока Кот долбит свои неправильные глаголы... Хотя...
-- А как ваша... Вас что, вообще без скандала отпустили? -- при новом раскладе Котька давно должен торчать у меня в машине, а француженка -- осыпать бывшего супруга церковными ругательствами и швырять с балкона бритву с клавиатурой от компа.
-- Не знаю. Вообще-то, Дина еще не в курсе.
Не выдерживаю. Ржу.
-- Вы ей что, записку написали?
-- Я ей завтра днем эсэмэс отправлю, -- на полном серьезе отвечает мой беглый сенбернар.
-- Мобильник потом смените... -- умудренно сообщаю я голосом специалиста. А я и правда профи по разводам. Точнее -- по одному, но хроническому, родительскому.
-- Спасибо. Роман, кстати, мне вас надо как-то отблагодарить...
Свали отсюда к черту и дай мне выспаться.
-- Я уже говорил, что не пью.
-- Я в курсе. Но вообще, бутылка -- это слишком мелко.
Блин, ты тогда медаль мне выдай. Знакомьтесь дети, вот он, новый герой нашего времени: Рома Скворцов, эксперт-мозгоеб и профессиональный переводчик старушек через дорогу.
-- Тогда что, Роман?
Толку от Димы, как от козла -- молока. Рабочие интересы у нас не совпадают, а ужин в ресторане отпадает по чисто биологическим причинам: я ж его за вечер доведу либо до инфаркта, либо до импотенции. Но на счет ужина -- это идея.
-- Дмитрий Анатольевич, -- проникновенно говорю я, мысленно туша окурок об его колено, -- вы свой район хорошо знаете?
-- Ну... достаточно... Мы здесь с женой шестой год живем.
-- Тогда, пожалуйста, будьте так любезны... Если, конечно, вас это не затруднит... принесите мне чего-нибудь поесть, а то мне из машины вылезать лень.
-- Ээээ... -- Дима отзывается своим коронным меканьем.
-- Еда, понимаете... Продукты. Жратва. Фаст-фуд. Ту чизбургерз энд кока-кола. Андестенд?
-- Йес... -- а охреневший сенбернар, оказывается, еще и полиглот. Главное, чтобы он не поперся за едой на свою бывшую родную кухню.
Когда Дима второй раз долбится в окно, я как раз проплываю над рекламно-синим морем. На такой штуковине типа парашюта, которую цепляют к маленькому катеру. Я на ней когда-то и правда катался. В Турции, лет семь назад. Тогда папашу переклинило и он устроил нашему семейству образцово-показательные каникулы. С аквапарком, караоке-баром и упоительным скандалом у бассейна.
Прерываю полет, распахиваю дверь. Дмитрий Анатольевич торжественно тусит у машины с неубедительным пакетом и пластиковым стаканчиком. Все-таки есть в нем что-то от начинающего алкаша. Но это неважно. Потому что Дима, как и полагается альпийскому спасателю, приволок мне кофе. Горячее, растворимое и пахнущее на весь микрорайон. Употребить его внутрь нельзя. Назвать в мужском роде -- тоже. Потому как это не кофе, это дерьмо.
Выбираюсь из машины. Становлюсь рядышком. И аккуратно выливаю содержимое пластиковой поилки в ближайший сугроб. Мартовская грязь обогатилась еще одним оттенком.
Дмитрий Анатольевич даже не рыпается. Смотрит виновато. Я когда-то тоже так смотрел, пытаясь понять: ударят меня сейчас или нет?
-- Дима, извини... Просто, понимаешь, я у себя один. И пить всякую гадость мне не хочется. Надеюсь, мы друг друга поняли?
Не то, чтобы у меня сейчас было особое право так вы**ываться... Просто я чем-то, пятой точкой, наверное, чувствую: он мне это простит. И еще пару таких же фокусов -- тоже. Повязанный чувством долга сенбернар считает, что я спас его личную жизнь. Повезет теперь кому-то: сенбернар, он же верный...
-- "Я у себя один" -- это очень хорошая фраза, --- диагностирует Дима.
Меня снова осеняет:
-- Знаешь, давай так. От тебе сейчас все равно пользы никакой... Ну, такой, как мне нужно... Но если что, я тебя поимею в виду. Полы там попрошу помыть или мусор вынести.
-- Или шкаф передвинуть... Всегда готов, -- из Димы опять прет торжество.
-- Рядовой, вольно. Налево кругом! Отставить! Команда: пе-ре-кур! Дим, ты совсем не куришь?
-- Нет, почему... Могу за компанию. Так сказать, чисто ритуально...
Сигареты у меня крепкие. На неподготовленного Диму они подействовали, как трубка мира на позорных бледнолицых.
Остаток чего-то, косящего под беляш, я потом по доброте душевной скормил пресловутому белому кошаку.
Котька нарисовался через сорок минут. С его молчаливого неодобрения я почти привычно добросил Диму до метро. Беглый сенбернар всю дорогу пытался рассказывать анекдоты. Кот, зараза, перебивал. Исправлял концовки на неприличные.
4.
Свободный график -- это не только возможность приходить на работу черти когда. Это еще и верная гарантия того, что твой рабочий день закончится фиг знает во сколько. В общем, не удивительно, что утро понедельника у меня плавно завершилось во вторник после обеда. Дальше я уже не выдержал. Насвистел что-то невнятное про переоформление запросов, и свалил.
Каким образом я не срубился по дороге и не засветился в сводках ДТП -- науке неизвестно. Но парковался точно на автопилоте, подтверждая версию соседей о том, что в их доме теперь живет завзятый наркоман с большим алкогольным стажем.
Вообще, когда днем засыпаешь - оно всегда немножко странно. Как будто ты болеешь или до сих пор ходишь в детский сад. Но сейчас мне было не до ощущений. Особенно после того, как я в полудреме звезданул себе по зубам ручкой душа. Мобильник отключить я уже не сообразил.
Проснулся, естественно, от звона. Вариантов было два и оба мерзкие: либо кто-то из клиентов пытается взять меня за жабры и достать из-под земли, либо я таки забыл закрыть воду и залил все шесть нижних этажей. А это полная хана. Квартиры-то в доме -- евроремонтные до изврата.
В мобильнике прорезалась мама. Я обрадовался. Ненадолго.
Оказалось, что Котька, язви его в Бога душу, забыл у меня в машине чертов учебник по французскому. И без этого учебника, равно как и без приличного образования, дите, естественно, пропадет. В общем, ближайшее будущее видно как на ладони: просыпайся, дорогой Рома, и пи**уй на другой конец Москвы во имя конспирации.
На мой наивный вопрос, почему, собственно, ко мне домой нельзя подогнать Юрку, мама виновато сообщила, что у нашего абитуриента сегодня вечером занятия. Я аж дымом поперхнулся. Оказывается, мама до сих пор не знает, что вместо проплаченных папенькой подготовительных курсов, их ненаглядный Юрасик с кучей таких же расп***яев бренчит на гитарах в переходе под Рижской эстакадой. Я сам узнал почти случайно -- мотанулся в чертову "трубу" в срочном порядке снимать ксерокс ну и узрел братца на боевом посту. Котька потом эту информацию подтвердил, сказав, что он давно Юрку шантажирует. В общем, у нас не семейка, а помесь гадючьего питомника с учебным центром контрразведки. Папочкино воспитание, одним словом.
Мама ждала меня на углу знакомого с детства универсама, давно перевоплотившегося в супермаркет. Дисциплинированно прижимала к себе полиэтиленовую авоську. Когда она досеменила до машины, я разглядел сквозь желто-прозрачную муть голубые кубики упаковок с прокладками. Правильно, за этим добром папу или Котьку отправить нельзя, а женский организм -- штука мерзкая, ему по хрен, что на дворе холодно, темно и мокро.
В машине у меня -- полный бардак. Там не то, что учебник, нудную котькину француженку засунешь и забудешь. Мы с мамой вяло поковыряли пакеты с грязными рубашками, залежи пустых бутылок от колы, папки с договорами и документами, и прочую рухлядь. Наконец, откопали этот светоч знаний. Мама суетливо запихнула учебник под пальто. Как будто собиралась по нему на экзамене списывать. Тоже мне, Мата Хари нашлась.
Мне было как-то не по себе. Я когда по утрам к ней... К нам домой, в общем, заглядываю, когда пацаны в школе, а это чмо уже на работе, то себя кем-то вроде взломщика чувствую. А тут-то вообще: машина, вечер, нелегальная посылка. Шпионский детектив, одним словом.
-- Рома, а ты при Костике точно не куришь? -- ничего умнее мама спросить не могла. Хотя зря я так подумал. Потому как дальше пошел привычный долбеж по нервам:
-- А может, ты все-таки попробуешь помириться с папой? И я с ним поговорю. Рома, ну не дело это...
"Поговорю" в мамином исполнении -- это когда она шепчет заготовленные фразы сдавленным голосом, изучая папину макушку. Все остальное у него скрыто под газетой. Реакций бывает две: если папенька говорит что-то вроде "Соль подай, окно закрой", значит, он возражать не будет. А если газета медленно и торжественно откладывается на угол кухонного стола, впереди серьезная разборка.
-- Ма, -- как можно спокойнее процедил я, -- ну какая к черту разница. Я бы все равно от вас уже отселился. Возраст, знаешь ли... Свободы хочется...
-- Все у тебя не как у людей. Как чужие с ним... -- она как-то странно пожевала губами. Совсем как старушка. Ну это понятно, ей же почти полтинник. Хотя со спины, ее, кстати, можно и за девочку принять: маленькая, худенькая. И волосы не седые. Хотя она их не красила ни разу в жизни. Красивая. Юрка в нее пошел. Котька -- в отца. А я -- вообще черт знает в кого: папина татарская кровь смешалась с мамиными казахстанскими корнями. Сдвинутые на национальности люди иногда интересуются: "Рома, вы цыган или еврей?" И слышат в ответ, что я -- результат взрыва в генетической лаборатории. В детстве, кстати, жутко хотелось, чтобы я оказался не папиным сыном. Но это -- нереально. Мама до замужества -- никогда и ни с кем. Ни разу. А после -- тем более.
-- Я тебе даже помочь ничем не могу, он ведь узнает... -- мама у нас -- домохозяйка с огромным стажем, все деньги в дом несет отец. И он же их подсчитывает. До копейки. Так что я тоже маме ничего подкинуть не могу -- она сама не возьмет из страха запалиться.
-- Мам, -- говорю, -- а ты свяжи мне свитер. Ну, как тот. Только не оранжевый, а другой какой-нибудь.
Вяжет мама классно. Ей кто-то сто лет назад сказал, что шерстяные нитки здорово нервы успокаивают. Сколько себя помню -- столько она со спицами в руках тусит. Я когда дома жил, помогал ей пряжу распутывать. Забавные такие ощущения. Только они не успокаивают ни фига, а совсем наоборот.
Про свитер -- это я правильно. Мама немедленно забыла, что собралась меня с папой мирить. Или хотя бы вид сделала.
Пару минут я честно слушал про узоры и манжеты, потом мама собралась домой. Договорились, что она Котьку сама завтра к училке отведет, потому как у меня -- полный затрах на работе. Кот обидится, но что поделаешь. Может, мы в субботу что-нибудь придумаем. Особенно, если папа попрется, как обещал, на чей-то юбилей. Юрки дома не будет, он не настучит. Со стороны это все, конечно, выглядит по идиотски, но по другому никак: я в нашей семье второй год подряд вне закона.
Из машины мама выскочила бегом. Наверняка теперь будет плести, что в магазине соседку встретила. Я ей дальний свет выставил, чтобы идти удобней было. А со спины она правда ничего. Как будто -- молодая и все еще может исправить.
После второго сотряса меня иногда стало накрывать: то от недосыпа, то от перепада давления. Не то, чтобы сильно и до отключки, но все равно неприятно. Перед глазами какие-то мухи зеленые, а главное -- страх. Такой, совершенно бессмысленный. Как будто я через пару секунд концы отдам. Одно хорошо: эта хрень наступает не внезапно, а потихоньку. Как грипп. Не остановишь, так хоть подготовишься.
Последние пару раз меня на работе плющило. Ну, я народ предупредил, в какое-то кресло забился, прочухался. А потом заметил, что когда рядом кто-то находится, приступ проходит по быстрому. Вроде оно спокойнее. Типа, начнешь отбрасывать ласты -- кто-нибудь из любящих коллег либо вызвонит труповозку, либо оформит твое завещание. Все как в той рекламе: "Вместе -- веселее".
Дергаться я начал по пути домой. По спине пот, руки как замороженные. Осталось только войти в подъезд по стеночке, на радость местной общественности.
Нет, я, конечно, и в одиночку не помру, но... На работу возвращаться было без мазы -- я же, типа, до поздней ночи торчу на объекте в Зеленограде. Маме сказать? Ну, она вообще не в курсе, что у меня такое происходит. Да и приехать не сможет -- дома папаша сидит. Только изведется. Подключать кого-то из знакомых не хотелось: пока объяснишь, что к чему, пока они согласятся... А потом кто-нить обязательно начнет трепаться, что я эпилептик или сезонный маньяк. В принципе, я Боба мог вызвонить, он ко мне подорвется за три секунды, но мы же с ним сейчас типа расстались... Месяца на два, не меньше.
Пробка на Третьем транспортном была знатная, так что я успел перелопатить содержимое мобилы. Четвертой или пятой была эсэмэска от сенбернара -- "Это мой новый номер телефона. Д. А. Пьяных". Видимо, он всей своей записной книжке такие мессаджи слал. Я хотел сразу стереть, а потом чего-то замотался. А сейчас -- пригодилось.
Сенбернар отозвался мгновенно, как будто он дежурил в диспетчерской Центра Спасения.
-- Дмитрий Анатольич, -- томно мычу я, задыхаясь, как рыба на одесском Привозе. -- Помните, вы мне в случае чего, по хозяйству помочь обещали?
Дима подтвердил боевую готовность.
-- Ну вот и отлично. Ты можешь сейчас ко мне домой подъехать?
-- Да, конечно... А что делать надо?
-- Не боись. Мы с тобой шкаф будем двигать... -- я выворачиваю кондиционер на полный холод. Не помогает.
-- Хорошо. Роман, мне с собой что-нибудь привезти?
Отвертку, блин. Вместе с плоскогубцами.
-- Я не пью, а себе... Сам решай, -- ну какого ж черта я с собой воды сегодня не взял. Всухую ни одна таблетка не пойдет.
Сенбернар изумленным голосом уточнил адрес. Сказал, что через час приедет.
Чтобы малость отвлечься, я прикинул, что способен припереть с собой Дима. Потому как по продуктовому набору можно понять, как именно тебя воспринимают. Если он приволочет бутылку и какую-то тупую еду типа пресловутых беляшей, то я для него -- обычный знакомый, хотя и со странностями. Если будет какая-то хе*ня типа апельсинов с кремовыми розочками, то его поездка -- это визит к больному на всю голову.
Как выяснилось впоследствии, Дмитрий Анатольевич притаранил в мой дом бутылку коньяка, пакет сока и пачку хорошего кофе. Из продуктового теста следовало, что я -- что-то типа некрупного сотрудника в очень полезном учреждении.
5.
-- А где шкаф? – Димин вопрос, как всегда, отличался большой оригинальностью. Впрочем, тут он не виноват. Шкафа у меня действительно нет. Как и любой другой мебели. Есть большая встроенная хреновина в бывшей прихожей и трехместный траходром с видом на газовую плиту. Ибо квартирка-то, по всем объявам проходила как «студия», то бишь – пустая коробка без перегородок. Разумеется, ни один нормальный человек ее бы в жизни не снял за те деньги, за которые снимаю я. Центр города, пять минут до метро (на машине --- пятнадцать, потому как пробки и одностороннее движение), консьерж внизу и три огромных окна – наследие бывшей кухни и бывшей комнаты. Эту роскошь жизни мне подогнали любящие коллеги на вторую неделю моего бомжовства. Исключительно из эгоистических соображений – типа они больше видеть не могли, как я с утра пораньше чищу зубы и бреюсь в нашем офисном сортире.
Цену мы сбивали аварийным состоянием перекрытий и отсутствием планировки, так как с порога бывшая сталинская «однушка» обозревается полностью, а это вроде бы недостаток.
-- Извините, Дмитрий Анатольевич. Примите мои глубокие соболезнования. Шкаф вас не дождался и помер в страшных мучениях.
-- Тогда, может быть, мы его... так сказать... помянем? – Дима вышагивает из ботинок и начинает хозяйственно шуршать пакетом. Как я уже говорил: кофе, коньяк и большая пачка сока.
Выделяю Диме под коньяк кофейную чашку и падаю обратно в койку – в позе дохлой морской звезды.
Сидеть у меня в квартире не на чем – кроме бескрайней кровати и пола. Впрочем, Дмитрий Анатольич остался верен себе и небанально устроился на подоконнике.
-- Роман, вы что, заболели?
Нет, блин, я просто лежу.
-- У меня отходняк.
-- Вы же говорили, что не пьете, -- опять он "выкает". Ну, сам напросился в таком случае...
-- Дмитрий Анатольевич, ну не смешите меня. Расслабляться можно не только с помощью алкоголя. На свете столько прекрасных вещей: трава, таблетки, секс, в конце-концов.
Мне гораздо легче согласиться с тем, что я принимаю всякую дрянь, чем объяснять Диме про вегето-сосудистую дистонию.
-- Ну… -- Дима смущается, а потом перетаскивает к подоконнику бутылку с чашкой. – А я тогда, с вашего позволения… -- Кажется, он ко мне уже поддатый приперся. Неважно.
-- Конечно-конечно… --- я не выдерживаю, закрываю к чертовой матери глаза. Кровать жесткая, но теплая. Нагрелась уже. Как резиновый плот на все том же пресловутом турецком берегу. Для меня самый простой способ расслабиться – это залезть куда-нибудь в воду. В теплую, холодную – один хрен. Главное, чтобы она нормальная была, природная. Без запаха хлорки и без кафельных бортиков. И чтобы никто с берега не орал «Рома! Ты куда поплыл?»
-- Роман, вы мне можете объяснить, зачем вы вообще меня сегодня позвали?
-- Ммм… Я нарушил какие-то ваши планы? – глаза открыть уже можно. Зеленые мухи мельтешат реже и медленнее, как снежинки в новогодних сказках.
-- Нет.
-- Тогда какая разница?
-- Это нелогично. Мы с вами виделись пару раз…
-- Четыре.
-- Что?
-- Четыре, Дмитрий Анатольевич. Сперва мы разговаривали у вас… в ванной. Потом в редакции. Потом вы пытались отравить меня растворимым кофе. Это было три.
-- Да, действительно. Кстати, по поводу кофе. Давайте, я сварю. Он хорошо действует… Ну, когда плохо.
Какой, к черту, кофе. Спасибо, я уже пил. И, когда плохо, и когда -- совсем все за**ись.
-- Нет, не хочу. Не отвлекайтесь. Так что же вас, собственно говоря, удивляет?
-- Зачем я … Что вам от меня нужно?
Блин, вот только философствующей протоплазмы мне и не хватало. Как бы его отсюда сопровадить?
-- Да откуда ж я знаю, -- я почти естественно скатываюсь с кровати. Дима в жизни не догадается, что за пару минут до его прихода мне жутко хотелось застрелиться. Чтобы не мучаться. – А вы сами зачем поехали?
-- Ну, вы же тогда говорили. Я вам пообещал помочь.
-- И все? --- стены чуть-чуть качаются, я пристраиваюсь на подоконнике рядом с Димой. Подождет водичка. А вот курить уже хочется. Это хорошо.
-- Ну… Еще мне стало любопытно. Я подумал…
-- Знаете, Дмитрий Анатольевич, в чем ваша главная проблема? Вы слишком много думаете. Это неправильно.
-- А как правильно? – Дима снова тянет к себе фарфоровый наперсток с коньяком. Чаепитие в Мытищах, блин…
-- А как вам хочется… Прекратите все время все анализировать, плюньте на последствия. Себя послушайте... Изнутри. Вот чего вам сейчас хочется, то и сделайте.
-- Изнутри? – у Димы становится очень смешное выражение лица. Он умолкает. Я тоже. Если бы в моей квартире были часы – даже наручные – мы бы обязательно услышали, как они тикают.
Я хочу сбросить пепел. Но не могу – Дима перехватил мои пальцы. Он тащит к себе наполовину выкуренную сигарету. Но вместо того, чтобы затянуться, тушит ее в коньячной чашке.
-- Извините… Меня очень раздражает ваш табак.
-- А меня нет, -- я ведь тоже постоянно прислушиваюсь к себе. И теперь – закуриваю по новой.
Следующие двадцать секунд проходят без последствий. Я даже успеваю глотнуть дым. Ровно один раз. Потому что Дима, сенбернар несчастный, зажмуривает глаза и лезет ко мне целоваться.
Я не знаю, кто его учил и учил ли вообще. Или, может, он просто отвык. Смешно. Щекотно. Но приятно, черт бы всех побрал.
-- Правильно, Дмитрий Анатольевич… Когда я целуюсь – я не курю.
-- Я делаю то, что я хочу…-- а перегар-то от него не слабый. Но это неважно. Оказывается, когда он думает, что он уверен в себе, он… Короче, классный он. И язык такой шершавый. Широкий.
-- Все нормально? – похоронным шепотом интересуется Дима.
-- Все роскошно. Ты только мозги отключи. Выдохни, как следует, и отключи.
Он выдыхает. И снова целуется.
Понятно, что он волнуется. Потому что для Димы это – ну вообще как в первый раз. А мне-то хорошо, спокойно. И вообще, такая ситуация запросто могла бы перерасти в более серьезный вариант. Если бы я себя нормально чувствовал.
В общем, я от него отлепился аккуратно. Обратно в кровать заваливаться нельзя – Дима сразу полезет, я его пошлю, он обидится. Дошел до чайника, водички глотнул. Умылся прямо под кухонной раковиной.
Дима пасся рядом. Разве что хвостом не махал. И дышал так же часто.
Я не выдержал и рухнул обратно в койку.
-- Роман? --- Дима дисциплинированно нависал над кроватью. Я махнул рукой в сторону подоконника. Ну что поделаешь, нет у меня в квартире кресел. А табуретки я с детства не люблю.
-- Ну?
-- Рома… С тобой все нормально? -- на брудершафт с ним, что ли выпить? Того самого кофейку... Я в этих местоимениях уже устал путаться.
-- Разумеется.
-- То есть... Для тебя подобное – в порядке вещей?
Зеленые мухи перед глазами… Несутся стремительными косяками, направляются на север и юг. Мне остается только помахать им вслед заледенелыми пальцами. Это не дистония и не последствия сотряса. Это почти рецидив. Флэш-бэк. Моя коронная история.
-- Я спросил что-то не то?
Это точно. Все в порядке вещей.
-- Разумеется, Дмитрий Анатольич. Последствия будут катастрофическими, – я улыбаюсь в тридцать два зуба.
-- Да неужели?
-- Вам сейчас придется выслушать очень страшную историю. Историю моей жизни…
-- Полную лишений и выгоняний?
-- Конечно. Запаситесь носовыми платками и пристегните ремни.
Часть вторая.
1.
Знаете, есть такой анекдот: «Жила-была девочка, сама виновата». Не смешно, зато про меня.
В общем, все началось с того, что накануне моего шестнадцатилетия родители в очередной раз решили развестись. В принципе, они этим постоянно занимались. Первый раз мама попробовала уйти от отца аккурат за девять месяцев до моего рождения. Папа вспомнил, что у него восточный менталитет, возмутился и принял меры. Позже тактика была отшлифована до блеска: мама в суд -- заяву о разводе, папа маме -- ужин с цветочками и нового ребенка. А поскольку терпения у мамы столько, что его можно переливать донорским путем, и бунтует она очень редко, у нас троих такая дикая разница в возрасте: между мной и Юркой семь лет, и между ним и Котом -- столько же.
На этот раз мама взбрыкнула не по графику: до следующего заскока и залета оставалось еще лет пять. Но вот накатило... Месяца полтора по дому свистели тарелки и с хрустом вылетали штепсели из розеток, а потом папа свалил к чертям. Черти, скорее всего, обладали параметрами девяносто-шестьдесят-девяносто и работали на Ленинградской трассе в ночную смену.
В общем, жизнь началась веселая. С одной стороны -- денег в доме вообще не стало и мама с утра до вечера скрипит, что вот, скоро будем квартиру разменивать или вообще к дедушке за Урал переезжать, с другой...
Господи, это такая кайфуха тогда была. Никто не прессует, не интересуется, почему ты в восемь еще не дома и какого черта дверью хлопнул. И на кухню можно вечером спокойно зайти, не боясь, что тебя начнут пилить из-за любого левого повода, потому как у папаши настроение х**вое... И вообще много чего можно: одноклассников домой таскать, курить, отвесить Юрке пенделя за то, что рылся в письменном столе. Я даже не особо этой свободой пользовался. Просто прислушивался к себе иногда -- внутри как будто часики тикали. Щекотное такое ощущение. Счастье.
Ну и натикали -- через полгода папаша вернулся. Больше всего я боялся, что мама от него опять залетела. Только четвертого ребенка нам и не хватало. Хотя зарабатывал папик уже тогда вполне прилично. Просто дети -- это стресс, а фазер у нас по жизни стрессанутый, с рождения.
Фишка в том, что сразу после юрфака, прежде, чем свалить из госструктуры, папа какое-то время был ментом. Причем карьеру начал строить в детской комнате милиции. Спасибо, что хоть не в колонии для несовершеннолетних: иначе ходить бы нам троим по периметру квартиры стрижеными наголо и с руками за спиной. В общем, методы воспитания папик вынес именно оттуда. Или, может, решил, что если детей не пи**ить постоянно, то они обязательно попадут в ментовку. Именно из-за этого мама с ним и пыталась ругаться. Но дело в другом.
В общем, возвращается папаша ту зе хоум, а на дворе начало апреля, у меня три месяца до поступления. А поскольку с деньгами, как я уже говорил, был полный трындец, ни о каких подготовительных курсах речи не шло.
Я наивно думал, что попробую ткнуться куда-нибудь на психолога. Но в принципе тогда уже было без разницы, лишь бы под призыв не попасть. Папа наскоро побренчал связями и диагностировал знакомых в юридическом. Единственной затыкой был тот факт, что я во вступительной программе вообще ни хрена не ловил. Тут-то на моем горизонте и нарисовался Боб. В миру -- Борис Евгеньевич, папашин не то однокурсник, не то одногруппник, не то -- партнер по каким-то очень старым делам. В общем, папа с ним слопал не одну дюжину собак.
Именно этот хрен с горы и обязался вдолбить в меня за оставшееся время основы государства и права, а потом умаслить вступительную комиссию. В результате, долбил и умасливал он меня. В прямом смысле этих двух слов. Но началось все вполне невинно...
Занимался Борис Евгеньевич со мной почти каждый день и где попало: то в какой-нибудь институтской аудитории, то у себя дома, то к нам приезжал. Времени оставалось в обрез, а пройти надо было много.
Именно на объеме знаний я и сломался через две недели. Потому как понимал, что никогда столько не выучу, завалю вступительные, а потом папа завалит меня. И вообще, от наличия папы жить дома как-то не особо хотелось. Была даже тупая мыслишка реально пойти в военкомат. После папиных методов воспитания деды казались не такими уж и страшными. Я же говорю -- идиотизм клинический.
Ну и в один прекрасный вечер я сижу в какой-то занюханной аудитории и тупо конспектирую речи Бориса Евгеньевича. Вечер реально прекрасный -- апрель, солнышко, сирень-черемуха, туда-сюда. А меня тут погребают заживо определениями законодательной власти и прочими увлекательными вещами.
В общем, Боб затыкается на полуслове, подсаживается ко мне за парту и спрашивает, почему я никак сосредоточиться не могу. А я, естественно, молчу от страха. Потому как, если Борис Евгеньевич стуканет папе, что я на занятиях туплю, домой мне лучше не приходить. Боб внимательно смотрит на мою перекошенную рожу, кладет руку мне на спину и начинает втирать про стрессовое состояние любого абитуриента. А я хренею слегка -- потому как лапы у Боба еще больше, чем у моего папеньки (а там вообще совковые лопаты, а не ладони). И по идее, если таким кулаком вмазать, то это капец всему живому. А тут наоборот, он так нежно со мной.
-- Рома, успокойтесь, все в порядке вещей, -- и дальше он что-то там плетет про авитаминоз и гормональную активность. А сам тем временем перемещает свою лапу по моей спине вниз. И все гладит, гладит...
А я не шевелюсь и вообще почти не дышу. Нет, я про такие вещи знал, естественно, но как-то твердо был уверен, что подобное, если и произойдет, то с кем угодно, но только не со мной.
А Боб разве что не мурлычет и губами мне в макушку тычется. И говорит, что я вообще могу ничего не учить, он сам все устроит, даже денег особых с папы не возьмет, главное, чтобы я... В общем, не сопротивлялся. Что он все аккуратно сделает и не сразу, и мне понравится, и какой я красивый... Трындец... Такое во сне приснится - и то полдня потом будешь ходить в полном охуе. А это отнюдь не сон, а галимый реал.
Я, наконец, дергаюсь и пытаюсь вякнуть, что я, мол, не девчонка, чтобы меня так лапать. И вообще, я папе скажу, он же меня к Борису Евгеньевичу совсем не для этого отправил.
Боб только смеется и кладет вторую ладонь мне на пузо. А потом говорит, что у меня ничего не выйдет.
Самое главное, что если бы он там сказал, что-то типа «папа не возражает, я с ним уже договорился» или угрожать начал – я бы ни разу не повелся. Но Боб, зараза, заявил совершенно непрошибаемую вещь: если я отцу что-то такое расскажу, тот мне просто не поверит. А это – абсолютная правда. Борис Евгеньевич, сука старая, моего папашу за столько лет знакомства изучил как облупленного. Так что в лучшем случае мне светила фраза – «сам виноват», а в худшем – большой бэмс за попытки «оклеветать взрослого уважаемого человека».
-- Рома, не переживайте. Все в порядке вещей. Вам все равно надо немного расслабиться, я вам ничего плохого не сделаю.
Ага, как же...
До конца занятия еще минут двадцать оставалось. Боб так с места и не сдвинулся. Каких-то определений мне надиктовал и облапал всего, как я не знаю... Но оно реально все аккуратно было. А самое страшное -- приятно, хотя и противно.
Я естественно, в тот же вечер все-таки попробовал прощупать почву. Выждал, когда сытый папа досмотрит по ящику новости, и выполз на кухню типа чайку себе налить. Ну и поинтересовался, мимоходом, сколько лет папаша Боба знает... Потому как преподает он классно, но сам какой-то странный. Ответ был ровно таким, как Борис Евгеньевич мне и предсказывал. Что странный у нас это я, и как у меня только язык повернулся, и чтобы я шел и молча занимался, потому как, если не поступлю... Что со мной будет, если я не поступлю -- я и так знал. А тут еще папа резко вспомнил, что Юрка припер в дом двойку по русскому, и пошел руководить процессом образования. А я под эти вопли попытался конспект бобовской лекции почитать. Бесполезно. Во первых, Юрка орал, как резанный, сосредоточиться невозможно, а во вторых... Короче, у меня стояло.
2.
На следующий день я должен был заниматься у Боба дома. Потому как воскресенье и в институт так просто не попадешь. Честно говоря, я полночи дергался. Страшно было. В институте я бы, наверное, все-таки заорать бы мог или типа того, а в квартире... Жена у Бориса Евгеньевича на выходные сваливала на дачу, погодка-то была в самый раз, плюс двадцать семь в тени, просто не апрель, а июль. А меня трясет так, будто уже лето настало и мне прямо сегодня на вступительные ползти.
От полной безнадеги я попытался изобразить умирающего лебедя. Потому как за ночь я все равно ничего не придумал, а так хоть сутки выиграю. Или, может, Борис Евгеньевич за это время успокоится. Хрен!
По папиному мнению, лучшее средство от головной боли, это засветить кулаком в зубы. Помогло. К Бобу домой я заявился вовремя и с распухшей нижней губой. Ничего особенного, там только царапина маленькая внутри. Но Боб неизвестно почему захлопотал. Сперва приволок перекись водорода, а потом сказал, что на ранку надо обязательно подуть. Засунул меня в кресло, сам рядом устроился. Я от этого больше всего обалдел. Потому как "взрослый уважаемый человек", перед которым мой папаша малость заискивает, стоял передо мной на коленях. И плел такую ласковую херь, что у меня просто уши в трубочку свернулись. Через пару минут выяснилось, что ранка у меня начинается на губе, а заканчивается на десять сантиметров ниже пупка.
У меня с Бобом потом еще много чего разного было, за столько лет... Но самое страшное воспоминание -- вот это. Как я тогда в кресле сидел. Точнее, не сидел, а лежал почти. Руки-ноги во все стороны торчат, как у лягушки препарированной, шмотки на полу. А Боб -- огромный, какой-то перепуганный, слюнявый, как собака -- меня вылизывает. И самое поганое -- что он в одежде, а на мне только футболка. И та до подбородка задрана. Мокро, липко и стыдно до черта.
В комнате жара дикая, хуже, чем в сауне. А в голове почему-то строчка из лекции плывет "Отличительными признаками монархического строя государства является..." А кресло уже ходуном ходит. Боб одну руку себе в штаны запустил, а второй по мне возит. То нежно, то наоборот, сильно. Но ощущения -- как от горячего утюга. Я когда перед сном потом раздевался, никак поверить не мог, что кожа -- чистая. Все время казалось, что на ней красные пятна будут, как от ожогов.
Минут через пять Боб угомонился. Я время совершенно случайно запомнил: где-то на улице магнитола в машине играла. Аккурат земфировский "Спид" и рекламная пауза столько времени и длились.
В общем, он от меня отсосался наконец. Губы липкие, огромные, как лопухи, и в моей сперме. Полный блевантос. Меня правда замутило -- и от жары, и от недосыпа, да и после первого сотряса чуть больше года прошло. Я дергаюсь, вспоминаю, где у Бориса Евгеньевича ванная и скорее туда. А он за мной поперся. Сперва смотрел, как я блюю, потом кружку для водички притащил, полотенце. Душ включил, помог туда забраться. Потом, наверное, сам хотел залезть, но тут я уже отмахиваться начал. Понимал, что Боб -- сильнее, что он меня, в случае чего, в лепешку расплющит, но поделать ничего не мог. Потому что так -- хоть какая-то попытка сопротивления, чтобы потом перед самим собой не так тухло было бы.
Самое дурацкое, что это помогло. Боб проникся. Из ванной, конечно, не ушел, но руками больше не лез. Мне почему-то так смешно стало. Хихикаю и остановиться не могу. От травы и то не так накрывает.
Боб меня из-под душа вытаскивает, тусит с полотенцем, опять всякую ласковую херь нашептывает. Потом за плечи приобнял, и в комнату поволок. А я все хихикаю. Потому что со мной мама так никогда не возилась, даже если папик в раж входил. А тут здоровенный мужик, шкаф в поперечнике, а сюсюкает как первоклассница. Ромочка то, Ромочка се... Какой я ему на фиг Ромочка... Ну и дохихикался. Боб сам, кажется, чуть блевать не начал с перепугу. На кухню мотанул. Чай, валерьянка, все дела. Даже плед приволок откуда-то. В общем, опять, и противно, и приятно...
А потом мы с ним реально подготовкой к экзамену занимались. Только перед этим он меня сам одел. Как будто я мог не справиться. Как будто я -- маленький.
Перед самым уходом, когда, по идее, надо Борису Евгеньевичу деньги за урок отдавать, опять начался ералаш. Уже в прихожей. Потому как я ему купюры протягиваю, а он вместо этого сам лезет в портмоне. И кладет поверх папиных сторублевок полтинник грина. Вроде как это мне. Типа компенсация. Рома, купите себе что-нибудь приятное, чтобы снять стресс. Наверняка надо было ему эти деньги в рожу швырнуть. Но я не стал. Потому как выходило, что я их все-таки заработал. При таком раскладе они сильно пригодятся, если я все-таки из дома уйду, когда завалю вступительные.
Я пока до дома добирался, снова думал про все это. Решил, что попробую с мамой как-то посоветоваться. Ну, не напрямую, закамуфлированно. Скажу, что к кому-то из одноклассников наш физрук пристает, а я типа видел. Только не фига не вышло. Во первых, оказалось, что Котька на детской площадке нажрался мокрого песка и маме сейчас не до чего, а во вторых, пока я от Боба ехал, он за это время умудрился позвонить отцу. Морда у папы была благостней, чем у Дед Мороза. Оказывается, я, по мнению, Бориса Евгеньевича, и одаренный, и талантливый, и хрен знает какой еще. И материал ловлю на лету, и все такое прочее. После этого стало понятно, что от занятий я точно не отверчусь. Осталось только сообразить, где тайник для денег устраивать. Ибо по всему выходило, что сегодняшняя полтаха баксов -- не последняя.
Ближе к выпускному бабла набралось столько, что я мог, в принципе, в течение года снимать комнату у какой-нибудь подмосковной старушки. Другое дело, что папа бы меня объявил в федеральный розыск, достал из-под земли, а потом закопал заживо.
С деньгами оно непонятно все-таки было. Потому как я сам получался чем-то вроде шантажиста или соучастника преступления. Бобу ведь ничто не мешало в любой момент заявить отцу, что он с наших занятий ни копейки не имеет. При таком раскладе заначку папа точно найдет, и доказывай потом, что я не верблюд... Понятно ведь, что поверят не мне.
А с другой стороны, выходило, что я реально эти баксы зарабатывал. На фоне только что кончившегося безденежья они особенно солидно выглядели. Я до этого думал, что придется летом какой-то приработок искать, но там больше этого полтинника за месяц бы не вышло, если разгрузку не считать.
В общем, я сам перед собой оправдывался, как мог. Потому как рассказать было некому. Мой общезатраханный вид мама к тому моменту упорно списывала на нервотрепку из-за вступительных, а папа на такие вещи вообще никогда не заморачивался.
Ну, оно, глупо, конечно, так считать, но с Бобом мне в одном определенном смысле очень сильно повезло. Он ведь реально мог заставить меня... Короче, с ним что-то делать. А Борис Евгеньевич сам суетился, такие пляски с бубном устраивал, что просто...
А еще он при виде меня обмирал... Примерно, как моя соседка по парте при словосочетании "Ленечка Ди Каприо" и "Титаник". Не то, чтобы я себя до этого каким-то страшным чувствовал или что. Но все равно, это приятно было, хотя и мерзко. Как и сам Борис Евгеньевич.
То есть вот, он сидит, объясняет что-то, мне непонятно становится, я переспрашиваю, он снова объясняет, я начинаю какие-то вопросы задавать, мне уже интересно... А потом хренак -- и у него лицо краснеет и становится студенистым. И если мы не у него дома, то он меня просто приобнимает на пару секунду. Ему, видимо, этого достаточно было. А если у него вдвоем, то все, технический перерыв...
К счастью, оно ведь не каждый день происходило.
То есть когда я к Бобу домой приезжаю, то понятно, чем все это кончится, а когда мы в институте или у нас дома пересекаемся -- то все прилично до стерильности. Он до меня вообще почти не дотрагивался, смотрел только. Глаза блестят, как маслины, и почему-то кажется, что от таких взглядов на одежде жирные пятна останутся. Меня тогда, кстати, из-за шмоток сильно клинить начало. Потому как к его приезду или, прежде, чем в институт ехать, я упорно натягивал рубашку с длинными рукавами. И чтобы воротник под горло. Хорошо, как раз, что в мае похолодало слегка, оно не так странно выглядело.
3.
Мою оскорбленную невинность Борис Евгеньевич заполучил ровно за два дня до поступления. К этому моменту не только бобова жена, но и моя мама была на даче. Вместе с Юркой и Котом, естественно. Папа в подготовку почти не лез. Пару раз, правда, попробовал устроить что-то вроде блиц-опроса по билетам, удостоверился, что все нормально и отпилился.
Ну сидим у Боба, он меня к этому моменту уже потискал основательно, мы просто заниматься начали. Полчаса прошло, час… Боб время от времени на балкон с сигаретой сваливает, я просто за столом туплю. Типа у меня время на подготовку идет. Очередной билет ему рассказал, в конспект почти не заглядывал, все сам нормально запомнил. Он слушал-слушал, потом меня перебил и говорит, что я все знаю, а вот излагаю неправильно. И что он сейчас объяснит, только вот... Давайте, Рома, немного передохнем, я пока кофе сварю.
Знаю я этот кофе. Может, Боб его и сварит, но до чашки я доберусь, когда она уже серой пленкой покроется.
Так и есть. Сперва он на кухню поперся, а вот потом – в шкаф за чистой простыней. Я узор до сих пор помню. Какие-то зеленые цветочки, загогулинки в виде буквы S и кружавчик, как на нижнем белье. Борис Евгеньевич эту тряпку на диване распластал. Аккуратно очень, без складок. Мама наша и то так не умеет.
Ну, я понимаю, к чему дело идет, мысленно прикидываю, что мне сегодня не полтинник светит, а сотня, если не полторы. Потому как второй раз за вечер...
Боб ко мне подкатывает. Сперва что-то на счет отдыха сказал, вроде как мне надо мозги немного переключить, потом задыхаться начал. Как эпилептик, наверное. И вперемешку уже шепчет, что я поступлю обязательно, он сам в приемной комиссии сидит, что у меня кожа такая теплая, что отвечать надо увереннее, даже, если я не знаю ничего, что молнию сейчас расстегнем, пальцы убери, вот сюда пересаживайся, а на учебник лучше не ссылаться…
Потом он заткнулся. Дело в том, что незадолго до этого я умудрился в родном подъезде стукнуться бедром о почтовые ящики. Там такие рельсы есть, для колясок. По ним спускаться прикольно, как канатоходец. Тоже странно, я вроде взрослый уже, а от подобной ерунды кайф ловлю. Ну и словил. Синячина размером с сигаретную пачку на пятый день как раз приобрела благородный цвет тухлого лимона. Как Боб ее не заметил, когда меня перед этим облизывал – я не понял. Но тут… Его такие вещи заводили, я тогда уже понял. Чтобы пожалеть, зацеловать, обслюнявить… И при этом такую пургу несет, мама дорогая. И деточка я, и солнышко, и котеночек, и…
На этот раз Борис Евгеньевич оказался в своем репертуаре. Я даже не знаю, что было хуже – не рыпаться, пока он этот несчастный синяк ублажает, или слушать кудахтанье. Я еще подумал, что может, этим все и ограничится. А простыня – черт ее знает. Вдруг Боба переклинило в больничку сыграть.
Хрена! Сижу у него на коленях, как дебил. Не хватает еще только слюни до полу пустить, для полного вхождения в образ. Боб пальцами туда-сюда, потом меня в матрас впечатал, а сам снова в кухню ломанулся. Возвращается обратно с бутылкой растительного масла и сияет, как блин.
Дальше – оно понятно. Больно, кстати, и вправду почти не было. Он же обещал, что аккуратно все сделает. Ну и постарался… Фигово только, что поза дурацкая, лицом к лицу, я у него практически на коленях оказался.
Зато потом полный цирк начался, когда я это масло с себя попробовал мылом соскрести. Фигушки. Про ванну с пеной я, естественно, в курсе был. Но у нас в дальнейшем эротическом беспределе участвовала жидкость для мытья посуды. Как оказалось, запах зеленого яблока перешибает все улики. Я уже потом, дома, в тот же вечер получил от папы втык за грязные тарелки. Но я к ним, правда, подступиться не мог. На хи-хи пробивало только так. А Боба с валерьянкой рядом не было.
Поступление папа решил отметить по полной программе: столик в ресторане, он с мамой, Боб с женой и я в виде бесплатного дополнения… Или развлечения. Смотря для кого. Я на бобову жену полвечера пялился. Обычная такая тетка, постарше него слегка. Близорукая немножко и какая-то уютная. Добрая. Понятно, что она про всю эту историю вообще ни черта не знает. Иначе бы так не улыбалась.
После третьей рюмки папу пробило на ностальгию и он начал вспоминать, как они с Бобом когда-то в ментовке работали. В той самой детской комнате. Меня как будто током ударило, только изнутри. По всему выходило, что Бориса Евгеньевича именно тогда на пацанах клинить начало. Тем более, что папаша вякнул о том, что у них на пару работать здорово получалось. Типа папенька «злобный мент», а Боб – наоборот. Представляю как именно «наоборот».
Я замираю с открытым ртом и тупо пялюсь перед собой. Аккурат в декольте бобовской жены. Она смеется. Вроде как я за пять лет в институте себе чего-нибудь получше найду, чем старая тетка. Папа на всякий случай зеленеет, а мама смотрит на него как кошка течная и вообще ничего не замечает. Щебечет про то, как мы зашибенно будет отдыхать в Турции.
У Боба глаза опять темнеют, как чернослив в компоте, и он начинает судорожно подливать мне шампанского.
А тут дело даже не в том, что я терпеть не могу эту помесь минералки, сиропа и виноградного спирта, а в том, что я год с лишним вообще никакого алкоголя в рот не брал из-за сотрясения. Даже на выпускном как-то выкрутился под всеобщий стеб. Типа Скворушка – домашний мальчик, ему мама не велит. Ну и пошли они…
В общем, шампуньчик явно пришелся не ко двору. Боб поднял тост. Что-то там по поводу пяти лет учебы и его кураторства, ибо он надеется и на дальнейшее общение с таким нестандартно мыслящим…
Твою мать… У меня шампанское мимо рта по подбородку льется, папа хмурится, а Боб начинает тянуться ко мне через весь стол с салфеткой. А она такая белая-белая…
Как выяснилось впоследствии, я умудрился упасть в самый настоящий затяжной обморок. Жалко, что не в кому.
Бориса Евгеньевича я до первого сентября вообще в глаза не видел. Они с женой в тот вечер из ресторана свалили раньше, чем я в себя пришел, а потом у нас в семье началась одна сплошная Турция…
4.
В институте и правда стало легче. Во первых, я с Бобом не каждый день пересекался -- он у первого курса вообще ничего не читал. А во вторых, он сам сперва ко мне не лез. Примерно до середины октября. Я к этому времени вполне оклемался, начал про всю эту историю думать в прошедшем времени. Особенно хорошо это звучало на фоне ректорских слов о "трудностях, с которыми вы все столкнулись при поступлении".
Ну, как говорит мама, "трудности -- явление временное". Я тоже так решил. У нас на курсе народ нормальный подобрался, мы потихоньку оттягиваться начали. Тогда как раз очень сильно бабки пригодились, которые мне Боб перед этим отстегивал. Но деньги, они ведь тоже, явление временное. К середине осени моя заначка растворилась в небытии.
Тут-то Боб и нарисовался. С прекрасным предложением слегка подзаработать не особенно трудоемким путем. Я, честно говоря, чего-то такого ожидал с первого дня учебы. На счет цены немножко повозмущался, а так --- все нормально.
Папику было заявлено, что Боб натаскивает меня перед первой в жизни сессией. Больше вопросов ни у кого не было. У меня самого, кстати, тоже. Потому что оно, все-таки привычное было. Ну и не противное уже, а как-то так... Не очень интересно. Как на занудной лекции, когда мысли неизвестно где блуждают, а надо сидеть и делать вид, что слушаешь. Ну и тут то же самое. Я честно притворялся. Краснеть научился, паниковать... Разве что не мяукать.
Тем более, что с Бобом потом можно было разговаривать. Он ведь правда классный препод. И перед сессией меня хорошо так успокоил.
У меня в начале декабря реальный переклин начался. Упорно казалось, что в институт я поступил, просто потому, что повезло. А когда пойду сдавать, то окажется, что я ни фига не знаю, я все завалю, меня отчислят. Дальше мне представлялась уже знакомая альтернатива в виде папы и военкомата. В общем, я тогда первый раз в жизни Борису Евгеньевичу сам позвонил. Без договоренности, без разрешения. Ночью.
Он, по-моему, даже обрадовался слегка. Первые пару минут еще позевывал, а потом включился. Все очень логично мне объяснил, не кричал, наоборот, почти мурлыкал. Ну просто кот валерьяночный. Уже в конце разговора Боб предложил завтра прямо с утра встретиться, ему самому только на третью пару надо было. Я тогда с лекций особо не гулял, но тут не выдержал.
В общем, подъезжаю утром к его дому. Уже собираюсь в домофон позвонить, а тут дверь распахивается, и Боб сам выходит. Я даже растерялся слегка. Думаю, мало ли, может он уже забыл, что мы с ним пересечься собирались. Еще так обидно было, потому что на первую пару я при таком раскладе точно опоздал.
Как оказалось, ничего подобного. Боб меня чуть ли не за локоть цапает и предлагает немного прогуляться. А это как-то непривычно. Я еще решил, что, наверное, у него жена до сих пор в квартире осталась, на работу не пошла. Спрашиваю об этом, он смеется. И начинает мне про мои заморочки рассказывать. Не мармеладным тоном, а нормальным.
Мы так минут пятнадцать побродили около дома. Кругом народ суетится, кто к метро несется, кто к светофору. А мы просто вдвоем стоим. Как вообще не из этой жизни.
Потом Борис Евгеньевич стопанул машину. Тоже непривычно так... В общем, минут через двадцать мы с ним подъехали к зоопарку. Зима, холодно, народу почти никого, звери все дрыхнут. А Боб выгуливает меня по аллейкам и даже не разглядывает почти. Просто какие-то байки травит из своей студенческой жизни. По его показаниям выходило, что все эти пять лет Боб в альма матер заявлялся только за стипухой, которую пропивал, не отходя от окошечка кассы. Оно вообще интересно было, только немножко неправдоподобно.
Потом я не выдержал и начал показательно клацать зубами. С Боба мгновенно слетела вся ностальгическая шелуха. Шарф с себя содрал, попытался на меня намотать. Потом чуть ли не ладони мне растирать начал. Поволок в ближайший кабак отогреваться. Дело, правда, кончилось мороженым. В том смысле, что у Бориса Евгеньевича коньяк, а у меня эта липкая белая пакость. Ну а что делать? Пришлось давиться. Перемазался как поросенок. Боб, естественно, от этого зрелища на слюну изошел. Купюры официантке он уже дрожащими лапами отсчитывал. Потом снова затормозил машину и потащил меня к себе домой.
Дальше оно как обычно было, квартира-то пустая. Разве что Боб все время пытался меня отогреть. Даже таблетки какие-то скормил для профилактики гриппа. Я, разумеется, поломался для приличия. Но оно уже почти весело было. Потому что мне, наконец, все по барабану стало: и сессия, и все эти вылизывания дурацкие. Лежу в койке, разве что не мурлыкаю. Борис Евгеньевич морду слегка приподнимает, а на ней моя сперма. Белесая, скользкая, как то чертово мороженое. Он, естественно, уверял потом, что и на вкус похоже.
И как-то так получилось, что деньги я у него в тот день брать не стал. Потому что, во первых, он все равно на меня их сегодня просадил, а во вторых... Оно почему-то неудобно было, хотя Боб остался довольный, как индийский слон.
Мы потом еще долго встречались. К весне Боб малость поостыл. Может, я для него слишком взрослым стал, а может он опять кого-то репетировать начал. В том же самом смысле. Мне оно почти без разницы было, своей личной жизни хватало по уши. И с девочками, и не с девочками. Главное, чтобы ничего сентиментального в постели. После первого же "зайка"-"солнышко"-хуе-мое -- с вещами на выход. Потому как розовые слюни -- это я только от Боба стерпеть могу по старой памяти. Он, кстати, тоже очень спокойно ко всем моим лав-стори относился. Только просил поаккуратнее быть, чтобы не подцепить на хвост какую-нибудь дрянь и, чтобы не засветиться.
Я, разумеется, умудрился сделать и то, и другое. Ну, с болячками там довольно легко обошлось, хотя Боб, естественно, свою долю кайфа от ухода за помирающим лебедем получил. А вот с секретностью...
5.
Я тогда уже институт закончил, заколачивал кой-какие деньги и, вообще, по мнению нашего драгоценного папы, "вырос нормальным человеком". Как же я его крупно обломал в результате!
Кто уж там с кем меня видел, и кто потом кому стуканул -- я не в курсе. Но подозреваю, что дело не обошлось без Юрки. То ли он озверел от того, что папа теперь в основном из него пытается человека сделать, то ли в очередной раз попытался у меня денег поклянчить, а я не дал.
В результате, именно Юрец в один прекрасный вечер открывает мне дверь и с порога заявляет на всю квартиру -- "Пап, этот пидор домой приперся!"
Надо сказать, что я с Юрчиком, конечно, никогда не ладил, но вот до того, чтобы от балды друг друга как-то обзывать, у нас не доходило.
Хороший расклад, ничего не скажешь. Оглядываю квартиру. Мамы не видно: ее папа иногда у Котьки в комнате закрывал, когда со мной или Юркой разбирался.
Папаша обнаружился на кухне. И морда у него была -- как у вора-рецидивиста из какого-то советского фильма.
Юрец сразу в комнату уполз --- знал, что и ему под горячую руку влететь может. А я торчу у холодильника и чувствую себя так, будто кто-то время на несколько лет назад открутил и я только что из школы двойку приволок.
-- Ромка, ты что творишь? -- похоронным голосом говорит папа и срывается на непереводимый русский фольклор с примесью языковых вкраплений времен татаро-монгольского ига. Краткое содержание вопля таково: папашке крайне любопытно узнать, правда ли, что я вступаю в нетрадиционные половые отношения со всем мужским населением нашего прекрасного города Москвы.
-- С чего ты взял? -- искреннее изумляюсь я, чтобы выиграть время. Потому как прямо сейчас надо решать -- либо я открещиваюсь от всего и потом маскируюсь под натурала до самой пенсии (с приложением в виде жены и выводка сопливых детей, иначе папа не успокоится), либо прямо сейчас сдаю все карты и обретаю свободу и статус бомжа. А дело в том, что все мои попытки свалить из дома до этого пресекались железной папиной рукой. Типа без присмотра я брошу работу, стану наркоманом, а потом женюсь на лимитчице. Ну, это он зря. Я в крематорий попаду раньше, чем в ЗАГС. Мне нашей семейки хватило на всю жизнь. И вообще, я детей ненавижу...
Папаша сообщил, что кто-то там видел меня в крайне сомнительном обществе.
-- И чего, я прям е**лся что ли?
Подобрав челюсть, папенька сообщил мне, что я больной извращенец. Ничего нового. Я предложил ему малость разнообразить словарный запас.
Понять бы еще, про кого он трындит. Если про того рыжего, с которым я последнюю пару недель тусил -- это одно, а если про Бориса Евгеньевича -- другое. Боб к тому моменту стал мне кем-то вроде удаленного родственника, с которым можно переругаться вдрызг и не разговаривать полгода, а потом свалиться к нему на шею посреди ночи со всеми проблемами. Ну, в том случае, естественно, если у него жены поблизости нет. В общем, его я как раз сдавать бы не стал. Он же меня сам просил, чтобы я был поаккуратнее.
-- Так правда или нет?
Жалко, что у нас на кухне настольной лампы не было. Папенька бы точно мне сперва свет в морду направил, а потом бы и самой лампой приложил.
-- Ну да, -- говорю. Если тебя это удивляет, то для меня оно -- вполне в порядке вещей.
"В порядке вещей" -- я эту фразу у Боба перенял давно, он ее хронически использовал, как другие употребляют слово "блин" или выражение "так сказать".
Папа шмякнул по столу газетой и заявил, что оторвет мне голову и яйца, и вообще лишит крыши над головой.
-- Спасибо, что не невинности… На счет этого другие давно подсуетились, -- гоню я на полном автопилоте. Главное в такие моменты -- не задумываться, не тормозить. Иначе испугаешься.
Дальше события развиваются по давно изученному сценарию: газета в сторону, папа – с табуретки, я – башкой о стену. И над всем этим цирком-шапито упоенно блеет Фредди Меркьюри – Юрка у себя в комнате колонки на максимум врубил. Как и полагается во время семейной разборки. Я где-то читал, что фашисты в концлагерях расстрелы под музыку проводили, под «Рио-риту». А у нас все семейное воспитание шло под Алену Апину и группу «Любэ».
В общем, шоу продолжается. Потому как я в эту самую табуретку вцепился обеими руками.
-- Нанесение тяжких телесных. От семи лет, -- на полном автопилоте сообщил отец семейства.
-- А я тебя не буду повреждать. Я ее сейчас в окно кину. Там машины с сигнализациями, через три минуты шмон начнется. Хочешь?
Папа не хотел. Он предложил провести мирные переговоры. В ходе дипломатической беседы пострадал графин с водкой, свежая папина газета, плетеная хлебница, кастрюля из-под борща и замок в котькиной комнате – мама его вынесла с мясом и вырвалась на кухню:
-- Ты же его сейчас убьешь!
Кто кого – интересно?
Отреагировали мы синхронно:
-- Алла, выйди!
-- Мама, не лезь!
-- С-ссученыш… -- это я впечатал папу в дверцу холодильника.
-- У**ок! – это папа откинул меня по направлению к кухонной мойке.
-- Мальчики, я сейчас милицию…
А кухня у нас широкая. Только вот табуреток слишком много. Было.
-- Не мешай!
-- Алла, отойди!
-- Мама, а что они делают?
-- Котя, не лезь на кухню, видишь, папа с Ромой разговаривает…
-- Блин, вы можете не орать, я по телефону ни черта не слышу! – а это уже и Юрка нарисовался.
Дальше было еще веселее. Приободренный зрительской поддержкой папа наскоро меня проклял, сообщив, что я ему больше не сын. Вот и исполнилась мечта детства, однако. Только чего-то запоздала она…
Далее мне было предложено покинуть территорию и вернуть ключи от машины. Шмотки я собрал минут за десять. А вот с ключами -- х*й. Дело в том, что в приступе своей юридической паранои папа все имущество расписал на родственников, чтобы с мамой не делить при очередной попытке развода. И по всем бумагам новая «Ауди» была моей. Я же сам на папеньку за пару месяцев до этого доверенность оформлял. В общем, в машине я в ту ночь и спал в результате. А на следующий день перебрался в офис.
Серьезного геноцида в отношении моей скорбной персоны папа устроить не мог, но домашним было строго-настрого объявлено: в квартиру меня не пускать, на связь не выходить, в случае обнаружения врага – доносить властям. То есть — папаше.
Мама держалась полтора дня, а потом позвонила мне на работу от соседей. В общем, через пару месяцев она уже смело могла делиться опытом с лидерами краснознаменного партизанского движения.
Юрка в какой-то момент оставил мне сообщение на телефоне. Что мол, в принципе, братские связи – это прекрасно, но он рокер, а рокеры, естественно, пидарасов ненавидят. А так я вполне нормальный кент и не завалялась ли у меня лишняя сотня рублей? Я стирал мессадж с тем чувством, с которым нормальные люди спускают воду в унитазе.
А в начале марта меня разыскал Котька. Выклянчил потихоньку у мамы адрес и сам приперся в офис. В первый и последний раз в жизни свалил из школы. Типа соскучился. Я по нему тоже, кстати.
И чего с этим делать – было непонятно. Потому как днем у меня работы выше крыши, а вечером и в выходные --- папаша дома бдит. Выход мы с мамой, конечно, нашли, но идиотский.
Дело в том, что один из папенькиных бзиков, это святая уверенность, что бесплатное образование хорошим не бывает. Посему Котька два раза в неделю должен ездить к своей училке по французскому, сушеной Марковне. Раньше его туда конвоировала мама. Теперь эта святая обязанность досталась мне. Весь секрет в том, что два академических часа, по мнению папаши, это два раза по шестьдесят минут, а вовсе не час двадцать, как на самом деле. Разуверять его никто из нас не собирается. Главное – высадить Кота из машины не у самого дома, а у автобусной остановки, чтобы его там мама типа «встретила». У меня после истории с Бобом на слово «репетитор» очень специфические ассоциации идут. Но за тухлую француженку можно быть спокойным. В отличие от ее бывшего супруга.

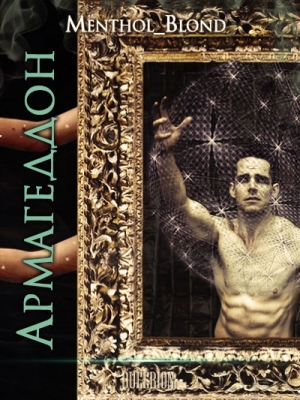

2 комментария