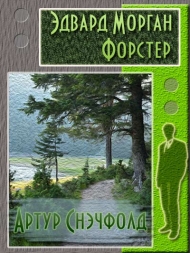Эдвард Морган Форстер
Артур Снэчфолд
Аннотация
Скучающий английский джентльмен и простой сельский парень, разносчик молока. Что между ними может быть общего? Только туманное утро, лесная тропка да примятая трава. Казалось бы, кому какое дело? Но закон есть закон. И каждый из любовников заплатит свою цену.
Конвей (сэр Ричард Конвей) проснулся рано и подошел к окну — взглянуть на сад Тревора Доналдсона. Слишком много зелени. Лестница с замшелыми ступеньками вела от главной дорожки к выложенному дерном амфитеатру, на котором, словно набросанные карандашом, расположились деревья. И клумбы, подававшие надежды, которым наверняка не суждено было сбыться в этот уик-энд. Лето вошло в пору цветения и густой листвы. Садовник, хоть и напустил на себя важный вид, в этот ранний час уже был за работой. Амфитеатр опоясывала высокая живая изгородь из тиса — внушительный задник без противовеса авансцены. За изгородью темнел лес, закрывавший небеса. Чего всему этому недоставало — так это цвета. Дельфиниума, огненных сальвий, цинний, табака — хотя бы чего-нибудь. Конвей размышлял обо всем этом в ожидании утреннего чая, свесившись за щегольской оконный переплет. Он не был ни художником, ни философом, просто ему нравилось упражнять свой ум, когда не было других занятий — вот как в это воскресное сельское утро, обещавшее обильную еду и скудные беседы.
Визит, так же как и вид из окна, навевал скуку. Вчерашний ужин прошел довольно монотонно. Смешно сказать, но самым ярким пятном явилась собственная голова Конвея, отраженная в зеркалах столовой — седая, тщательно ухоженная. Волосы же Тревора Доналдсона пребывали в беспорядке, а миссис Доналдсон начесала на макушке этакие неприступные бастионы. Но Конвея не смущало предчувствие скуки. Он был человек опытный, вооруженный мощью внутренних ресурсов. Славное он создание. Доналдсоны ему не ровня, они не любили ни читать, ни путешествовать, не увлекались ни спортом, ни любовью. Для него они — просто деловые союзники, с которыми его связывали общие интересы в алюминиевом производстве. И все-таки, раз его сюда пригласили, он должен сделать этот визит приятным. «Но разве так просто найти что-то приятное для нас, деловых людей», — подумал он, прислушиваясь к чонканью дроздов, звяканью молочного бидона и отдаленному бормотанию электрического насоса. «Мы не отупели и не стали грубее, мы еще способны, ежели требуется, проявить воображение. Мы можем пойти на концерт, если не слишком устали за день. Мы наделены — и даже Тревор Доналдсон не исключение — чувством юмора. Но, боюсь, мы не получаем от всего этого удовольствия. Нет. Удовольствие — это то, что не дано нашему брату.» После смерти супруги сэра Конвея все больше поглощал бизнес. Он прикладывал к нему свой деятельный ум и стал быстро богатеть.
Он еще раз оглядел пышный и скучный сад. Уже лучше — из-за тисовой изгороди показался человек. На нем была канареечно-желтая рубаха, и это произвело нужный эффект. Картинка ожила. Этого-то и не хватало — не клумбы, но человека, спускавшегося уверенной походкой по амфитеатру. По мере того, как тот приближался, Конвей отмечал, что человек этот не только прекрасно вписывался в цветовую схему — он и сам был прекрасен своей юностью. Широкоплечий, с приятным, открытым лицом, а глаза, смотревшие против света, сулили незлобивый нрав. Одну руку он согнул в локте, другой удерживал молочный бидон.
— Доброе утро! Хороший денек! — крикнул он, и показался вполне счастливым.
— Доброе утро! — отозвался Конвей.
Человек продолжил свою уверенную поступь и скрылся в дверях для прислуги, где его встретили взрывом радостного смеха.
Конвей надеялся, что выйдет он тем же путем, и ждал. «Приятный паренек. Мне нравится, как он держится. Наверно, с ним не будет проблем», — подумал он. Но видение исчезло, солнечный свет прекратился, сад вновь стал тоскливо-зеленым, и в комнату вошла горничная. Она принесла чай со словами:
— Простите за опоздание, сэр, мы ждали, когда придет молочник.
Тот паренек не сказал ему «сэр», и это понравилось Конвею. «Доброе утро, сэр» было бы более естественным приветствием, обращенным к старшему по возрасту и к тому же незнакомому мужчине, гостю богатого клиента. Но бодрый голос прокричал: «Доброе утро!» — как будто они были равны.
Куда он теперь направился — он и его голос? Продолжать утренний обход, где его радостно встречали в каждом доме, а потом, может быть, купаться. Рубашка, золотящаяся на зеленом берегу. Коричневый, в красноту, торс… Как его имя? Местный ли он? Сэр Ричард, одеваясь, задавал себе эти вопросы, но так, между прочим. Он чужд сентиментальности, ничем его не выбить из колеи на остаток дня. Конечно, он бы не прочь еще раз насладиться этим видением, провести с ним воскресенье, устроить шикарный ленч в гостинице, взять напрокат машину, которую они вели бы по очереди, съездить с ним в кино в соседний городок и возвратиться после хорошей выпивки по сумрачным переулкам. Однако это сущая чепуха, даже если тот согласится с предложенной программой. Он в гостях у Тревора Доналдсона. На гостеприимство нельзя отвечать небрежением. Одевшись в светло-серое, Конвей сбежал в комнату для завтрака. Там уже сидела миссис Доналдсон. Она поинтересовалась, как идут дела в школе у его дочерей. Затем к ним присоединился хозяин. Он вошел, потирая руки, и сказал: «Ага! Ага!» Позавтракав, они отправились в другую часть сада — ту, что спускалась к реке, и начали разговор о делах. Это не было предусмотрено заранее, но в их компании оказался мистер Клиффорд Кларк, а когда Тревор Доналдсон, Клиффорд Кларк и Ричард Конвей собирались вместе, разговоров об алюминии избежать было невозможно. Их голоса загустели, головы кивали или отрицательно покачивались, когда они вспоминали огромные суммы, потерянные из-за ненадежных инвестиций или недобросовестных советов. Конвей из этой троицы вел себя наиболее разумно. Он быстрее всех ухватывал суть и приводил самые убедительные аргументы. Шли минуты, дрозды чонкали, никем не замечаемые, как без внимания оказалась и неудача садовника вырастить что-либо, кроме тугих гераней, заброшенными остались дамы на лужайке, которым хотелось поиграть в гольф. Наконец хозяйка воскликнула:
— Тревор! Это выходной или нет?
И они прекратили беседу, даже устыдившись. Сели в автомобили, и скоро уже отъехали за пять миль отсюда, заняв место в череде окрестных бездельников. У Конвея получалось в гольф довольно неплохо. Он извлек из этого занятия все удовольствие, какое было возможно извлечь, но стоило мячу улететь неведомо куда, как им овладела апатия. Гольфом они занимались до ленча. После кофе отправились на реку, играли с собаками — миссис Доналдсон разводила силихэмов. К чаю пришли соседи, и Доналдсон сразу оживился, ибо он корчил из себя местного магната и хотел показать, как хорошо ему в этой роли. Зашел разговор о преимуществах сельской жизни, о женских организациях, о наведении порядка в образовании и борьбе с браконьерами. Конвею все это показалось совершенно лишенным смысла и оторванным от реальности. Люди, не являющиеся феодалами, не должны играть в феодализм, а всем членам магистрата (это он произнес подчеркнуто громко) следует хорошо платить и основательно обучать. Поскольку сэр Ричард был хорошо воспитан, его слова никого не обидели. Так проходил этот день. До ужина они успели съездить к развалинам монастыря. И на что им сдался этот монастырь? Непонятно. Конвей поймал скорбный и торжественный взгляд Клиффорда Кларка, устремленный к окну-розетке, и у него возникло ощущение, будто все они ищут то, чего нет и не может быть, во всяком случае, здесь, что это — сиротливый стул у стола, карта, выпавшая из колоды, мяч, затерянный в зарослях дрока, пропущенный стежок во шве на сорочке. У него возникло ощущение, будто главный гость так и не пришел. На возвратном пути они проезжали через поселок, в местном кинотеатре крутили вестерн. Они возвращались сумрачными переулками. Они не говорили: «Спасибо! Что за чудесный день!» Это было припасено на завтрашнее утро, для финальных благодарностей при расставании. Тогда пригодится каждое слово. «Я тоже очень, очень довольна. Это было великолепно!» — пропоют дамы, мужчины промычат что-то нечленораздельное, а хозяин с хозяйкой растроганно расплачутся: «О, приезжайте еще, приезжайте, приезжайте, приезжайте!» И незначительный, непамятный визит канет в бездну — так, как листок падает на точь в точь похожие на него, но Конвей размышлял: не слишком ли это, так сказать, безрезультатно, из ряда вон бесцветно, не унес ли победитель с голой рукой, согнутой в локте, в помещение для прислуги нечто освежающее, чего так отчаянно недоставало в их курительной комнате?
«Что ж, посмотрим и, быть может, успеем отведать», — подумал он и, отправляясь к себе в спальню, взял с собой плащ.
Ибо он был не из тех, кто жалуется на судьбу и покоряется неизбежности. Он верил в наслаждение, у него был свободный ум и деятельное тело, и он знал, что наслаждение нельзя добыть без мужества и хладнокровия. Доналдсоны во всех отношениях славные люди, но в них отнюдь не вся его жизнь. И его дочери тоже очень славные, но хороши они тем же, что и Доналдсоны. Женский пол очень славный, и в целом он был привержен ему, но иногда разрешал себе отклонения. Он поставил будильник чуть раньше того часа, в какой привык просыпаться по утрам, сунул его под подушку, и заснул безмятежно, как юноша.
В семь часов зазвенело. Он выглянул в коридор, затем надел плащ, домашние туфли на толстой подошве и подошел к окну.
Утро было тихое и пасмурное. Казалось даже, что час более ранний. Зелень травы и деревьев была подернута налетом седины. Хотелось отскоблить. Вдруг заработал насос. Он вновь посмотрел на часы, бесшумно спустился по лестнице, вышел из дому и поднялся по зеленому амфитеатру к тисовой изгороди. Он не бежал — вдруг увидят, и тогда придется объясняться. Он шел максимально быстрой походкой, приличествующей чудаковатому джентльмену. Джентльмену, которому приспичило прогуляться с утра пораньше в пижаме. «Я решил все-таки осмотреть твой парк, а то после завтрака на это не будет времени» — вот что он скажет в случае чего. Разумеется, парк он уже осматривал позавчера, и лес тоже. Тот самый лес стоял теперь перед ним, и солнце только начало просачиваться в чащу. В папоротник вели две тропинки: широкая и узкая. Он ждал, пока не услышал, что молочник приближается по узкой. Затем быстро пошел навстречу, и они поравнялись в том месте, которое не просматривалось из поместья Доналдсонов.
— Привет! — воскликнул он непринужденно, даже развязно. У него было несколько голосов, и он по наитию прибегал к нужному.
— Привет! Что-то вы раненько!
— Ты тоже ранняя пташка.
— Я? А пили бы вы молочко, если бы я дрых? — осклабился молочник и застыл, откинув голову.
Теперь, когда он стоял рядом, выяснилось, что он грубоват, очень простонароден, — что называется «от сохи». Лет сто тому назад такой тип людей смешали бы с грязью, но теперь они расцветают пышным цветом и в ус не дуют.
— Ты разносишь молоко по утрам, да?
— Да, а разве не видно?
Паренек старается выглядеть весельчаком — но даже неуклюжие шутки могут быть такими милыми, когда слетают с желанных губ.
— По крайней мере я не разношу его по вечерам, и я не бакалейщик, не мясник и не угольщик.
— Здесь живешь?
— Может, здесь. А может, не здесь. Может, летаю сюда на аэроплане.
— И все же, я думаю, ты живешь здесь.
— Что с того?
— Если ты — да, то да, а я если нет, то нет.
Бессмыслица имела успех и была встречена раскатистым смехом.
— Если ты нет, то нет! Ну и загнули! Забавный вы. Надо же так загнуть. Если ты нет, то нет! Гуляете в исподнем, еще простудитесь ненароком, тогда придет вам конец! Вы из гостиницы, верно? Угадал?
— Нет. Приехал в гости к Доналдсонам. Ты видел меня вчера.
— А, к Доналдсонам! Вот оно что. Так это вы — папаша из окошка?
— Папаша… Это уж чересчур. Если я папаша, то ты… — и он, не договорив, ущипнул паренька за нахальный нос. Тот увернулся — как видно, привык к таким шуткам. Вероятно, нет ничего, на что он не согласился бы, если подойти с умом, — частью из озорства, частью из почтения.
— А, кстати… — и он пощупал рубашку, словно интересуясь качеством материи. — О чем это я собирался спросить? — он взялся за поводок молнии у воротника и потянул вниз. Взгляду открылось многое. — А, вспомнил! Во сколько заканчивается твой обход?
— В одиннадцать. А что это вы спрашиваете?
— А почему бы нет?
— В одиннадцать ночи. Ха-ха. Уяснили? В одиннадцать ночи. А что это вы задаете такие вопросы? Мы ведь друг другу чужие, разве нет?
— Сколько тебе лет?
— Девяносто — сколько и вам.
— Говори адрес.
— Ах, так вот что вам надо! Мне это нравится! Хорошенькое дельце! Продолжаете приставать, когда я сказал уже — нет.
— У тебя есть девчонка? Как насчет пива? По паре кружек?
— Отвалите.
Но он позволил погладить себя по руке и даже поставил бидон на землю. Ему было интересно и забавно. Он был словно зачарован. Он попался на крючок. Если его погладить — ляжет.
— А ты, кажется, парень сообразительный, — задыхаясь, прошептал мужчина.
— О, перестаньте… Ладно, пойду с вами, так и быть.
Конвей пришел в состояние восторженности. Так, именно так следует получать маленькие радости жизни. Они поняли друг друга с определенностью, недоступной любовникам. Он приложился лицом к теплой коже над ключицей, подталкивая его к себе ладонями, сложенными замком. Потом ощущение, ради которого он все так тщательно спланировал, растаяло. Стало принадлежностью прошлого. Упало, как цветок среди таких же сорванных цветков.
Он услышал:
— С вами все в порядке?
И это тоже растаяло, стало принадлежностью иного прошлого. Они лежали в лесной тиши, там где папоротники были особенно высоки. Он не отвечал, ибо хорошо было лежать вот так — вытянув все тело, и смотреть сквозь зеленые опахала на далекие верхушки деревьев и бледно-голубое небо, и чувствовать необыкновенно приятную истому.
— Так вы этого хотели, да?
Подперев голову локтем, юноша озабоченно смотрел вниз.
Вся грубость и развязность ушла, теперь ему хотелось знать лишь одно — угодил ли?
— Да… Мне было хорошо…
— Хорошо… Вы сказали — хорошо? — просиял он и прикоснулся к мужчине животом.
— Красивый мальчик, красивая рубаха, всё красивое.
— Факт?
Конвей понял, что тот тщеславен. Те, кто получше, часто тщеславны. Тогда он толсто помазал лестью, чтобы порадовать его, назвал симпатягой, похвалил его молодую силу. Много чего в нем можно было похвалить. Ему нравилось хвалить и видеть лицо, расплывающееся в широкой улыбке, чувствовать на себе его приятную тяжесть. В лести Конвея не было цинизма, он искренне восхищался и искренне благодарил.
— Значит, вам понравилось?
— А кому не понравилось бы?
— Жалко, вы не сказали мне вчера.
— Я не знал, как.
— Я вчера вас видел, когда ходил купаться. Вы могли бы помочь мне раздеться… Вам бы понравилось. Ладно, не будем бурчать. — Он протянул Конвею руку, помог ему встать, отряхнуться, привести в порядок плащ — помог, как старому другу. — Мы могли получить за это семь лет, верно?
— Семь не семь, но ничего хорошего мы бы за это не получили. Идиотизм, правда? Кого это касается, если мы оба не против?
— Надо же им хоть чем-то заняться, так я разумею, — сказал тот и поднял бидон, собираясь уходить.
— Минутку, парень — возьми вот и купи себе чего-нибудь.
Он протянул банкноту, приготовленную специально для этого случая.
— Я пошел с вами не ради денег.
— Знаю.
— Оба мы были хороши… Ну спрячьте ваши деньги.
— Я буду рад, если ты возьмешь. Я, как ты понимаешь, далеко не бедняк, а тебе это может пригодиться. Сводишь куда-нибудь свою девчонку или отложишь на новый костюм. Одним словом, сделаешь себе приятное.
— А вы честно не из последнего?
— Честно.
— Ну что ж, я найду, как потратить эти деньги, не сомневайтесь. Знаете, люди нечасто поступают так красиво, как вы.
Конвей мог бы возвратить комплимент. Свидание получилось тривиальным и сыроватым, и все же оба они вели себя идеально. Они никогда больше не встретятся и даже не узнают имени друг друга. После сердечного рукопожатия паренек быстрым шагом пошел по тропинке. Солнце и тень играли на его спине. Он не обернулся, однако его рука, для равновесия оттопыренная, махнула в подобии прощального жеста. Желтое пятно поглотила зелень, тропинка сделала поворот, он скрылся из виду. Возвратился в свою жизнь, и в утренней тишине можно услышать его смех, когда он начнет балагурить со служанками.
Конвей выждал некоторое время, как было задумано, и тоже пошел возвратным путем. Удача его не подвела. Он никого не встретил ни в зеленом амфитеатре сада, ни на лестнице в доме, но, как только он очутился у себя в комнате, минуты не прошло, и вошла горничная с утренним чаем.
— Простите, молочник сегодня опять опоздал, — сказала она.
Конвей с удовольствием выпил чаю, помылся, побрился и нарядился по-городски. Когда он спускался по лестнице, в зеркалах отражался холеный столичный житель. Сразу после завтрака подали машину и отвезли его до станции, и он совершенно искренне признался Тревору Доналдсону, что замечательный этот уик-энд надолго сохранится в его воспоминаниях. И Тревор, и его супруга поверили Конвею, и лица их просияли.
— Приезжайте еще, непременно приезжайте, — кричали они вслед отходившему поезду.
В вагоне он просмотрел гораздо меньше прессы, чем успевал обыкновенно, а улыбался про себя гораздо больше. С этим незнакомым пареньком было так замечательно. Все помнится до мелких подробностей — вплоть до особенностей его кожи. Этот случай сделал Конвея еще более уверенным в себе. Этот случай увеличил в нем ощущение силы.
Рекомендуем:
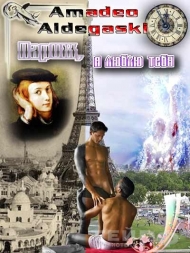
Париж, я люблю тебя...
Amadeo Aldegaski
Афиктофтал
Александр Пархоменко