Данил Горский
Моя роль статиста
Аннотация
Повесть о театральной юности, студенческих веселых годах и моем когда-то друге, для которого Бродвей так и остался призрачной химерой, как для меня Пулитцеровская премия - но тогда так хорошо и задорно мечталось.
Повесть о театральной юности, студенческих веселых годах и моем когда-то друге, для которого Бродвей так и остался призрачной химерой, как для меня Пулитцеровская премия - но тогда так хорошо и задорно мечталось.
 Часть 1.
Часть 1.Статист:
1. Актёр, исполняющий второстепенные роли без слов.
2. Человек, чьё участие в каких-нибудь действиях ограничивается только присутствием. (Толковый словарь)
1. Актёр, исполняющий второстепенные роли без слов.
2. Человек, чьё участие в каких-нибудь действиях ограничивается только присутствием. (Толковый словарь)
В театральных гримерках всегда отвратительно пахло: в мужских — застоялым, перезревшим амбре из пота и перегара, в женских, несмотря на притягательность и некоторую таинственность — старыми, приторными духами и лаком для волос. Но отчего-то это никогда не останавливало нас от ежевечерних посиделок после спектаклей в этих самых тесных душных комнатушках в компании помятых уставших актеров. С душевными разговорами, алкоголем, черствыми пирожными из буфета и песнями старых кинофильмов. Как сейчас помню: Остров невезения, когда мы все нестройно, пьяно орали про бедных аборигенов, у которых не рос кокос и Ланфрен Ланфра, под которую мы жалобно подвывали или молчали, слезливо вслушиваясь в подрагивающий, но неизменно мощный меццо-сопрано Аньки, студентки второго курса театрального. Это потом, через несколько лет она станет звездой московской оперетты, а тогда… тогда мы все вместе пили дешевый портвейн, курили сигареты без фильтра и смеялись над пошлыми анекдотами.
Да, это было тогда, почти пятнадцать лет назад. Мне было разухабистых двадцать два, тот самый прекрасный возраст, когда все лучшее еще непременно впереди, по крайней мере, так казалось, а позади за плечами служба в армии и первый курс технического вуза. Я самый обычный парень с окраины провинциального города, из самой обычной рабоче-крестьянской семьи, где кроме разговоров: о работе на сборочном заводе, где корячились мать и отец, и политике на уровне кухни ничего не знали, по воле случая оказавшийся в кипящем котле театральной богемы.
А случай был тривиальный по тем годам, хотя и сейчас в этой плоскости у кого-то жизнь не изменилась — голод и деньги. Стипендию, которую кот наплакал, всегда задерживали, всегда, сколько помнил, а то, что выплачивали, сразу раздавалось или прогуливалось. Родители помочь не могли, сами были в долгах, как в шелках, да чего там, мы жили только хлипким огородом в четыре сотки, где летом впахивали до черноты перед глазами, и тем, что удавалось отцу тайком вынести с завода и потом продать из-под полы на рынке. Бывало еще бабка из деревни посылочку перешлет оказией, сами мы не ездили, времени не было, да и далеко от города.
Наверное, эта нужда и безнадега стали решающими, в начале второго курса я воспользовался полученной в армии специальностью электрика и устроился на полставки в местный Драматический театр, выкручивать перегоревшие лампочки и проверять старую проводку. Платили копейки, но за пару-тройку вечерних часов студенту-очнику не так и мало, в то время в театры ходили только редкие маньяки-театралы и почтенного возраста бабульки, еще школьников иногда пригоняли стадом на какой-нибудь тухлый спектакль. Не пыльная работка, все больше болтаешь или пялишься на сцену, а потом после гужбанишь с коллегами по цеху. Вот только на самом деле, тогда я не работал вовсе, это я понял много-много позже, да я вообще, если честно, потом не думал о деньгах, я просто впервые по-настоящему тогда жил и летал…
Об этом странном полете, увлекательном, но коротком, а может быть и смертельном, где я исполнял роль отчаянного летчика-испытателя, прошедшего точку невозврата, да именно о том далеком двухтысячном годе, юбилейном — как мы смеялись, я и вспоминал сейчас, сидя в припаркованной напротив театра машине.
Знакомое каждой трещинкой здание в стиле советского модернизма, нелепое, оквадраченное, перестроенное в конце шестидесятых, сегодня выглядело на порядок лучше, чем тогда. Тогда, когда мы спасаясь, прятались под его широким навесом от проливного дождя или грелись между дверей фойе, куда дул теплый воздух обогрева. Там еще был бесплатный телефон-автомат и мы кому-то всегда звонили, сейчас и не вспомню кому. Но вот то ощущение радости и счастья, которое в нас плескалось, вырываясь наружу заразительным хохотом и сверкающими глазами, это навсегда отпечаталось на подкорке.
Была осень, обычная для нашей средней полосы: промозглая, серая, унылая, прямо как сейчас. Но там, в этом здании, в его извилистых, таинственных лабиринтах расцветало буйством красок начало нового театрального сезона: кутерьма за кулисами, разбор пыльных декораций, бесконечные репетиции, студенты-первокурсники с театрального, которые вечно ошивались в узких коридорах старинной постройки, прогуливая лекции по актерскому мастерству и искусству речи. Я бегущий с политеха на работу, перепрыгивающий лужи на выщербленном асфальте, в погоне за отходящим трамваем.
Грустно и приятно вспоминать то далекое время, когда общественный транспорт ходил раз в час и успеть на него было своего рода подвигом, о маршрутках никто ничего не знал, как и о сотовых телефонах. Мы ели в институтских столовых пережаренные, прогоркшие от масла чебуреки и салат «Винегрет», запивая обед противным лимонадом «Тархун», спорили о кино и книгах, вернее вы спорили, а я просто слушал, потому как не знал ничего, кроме полученного из школьной программы и сериалов про ментов. Но тем вы меня и привлекали, вы были свежим воздухом в моей удушающей бытовухой жизни. Вы — студенты-первогодки, фонтанирующие, мечтающие, пленяющие. Потом окажется, что навсегда.
В тот год я узнал столько всего, сколько не узнал за предыдущее двадцать два года своего существования, я почти все время сидел с открытым ртом и с не менее открытыми глазами, впитывая в себя какие-то интригующие подробности неизведанной жизни героев культовых книг и авторских фильмов. Это именно тогда я узнал о Феллини и Озоне, о Кизи и Берроузе, о рок-музыке и театральных постановках. Я был, как переполненный водой пузырь, того и гляди лопну от информации, но как же прекрасно я себя тогда чувствовал. Открытие за открытием каждый день, и с трепетом ждешь следующего, чтобы еще раз опьянеть от этих тихих разговоров или шумных споров…
Вы научили меня тому, что жизнь не только черно-белая и плоская, она цветная, с тысячей нюансов и миллионами лиц. Как я тогда хотел быть частью вас, частью от этого целого, которым были вы. И в какой-то момент так и получилось, меня приняли, меня посвятили, меня навсегда околдовали. После работы, иногда опаздывая на последний трамвай, я бегом бежал домой через весь город, чтобы в оставшийся кусочек от ночи, заглянуть в очередную книгу, или тайком, на минимальной громкости в зале, боясь разбудить родителей, посмотреть пиратскую видео-кассету с редким фильмом. Чтобы причаститься, чтобы быть таким же избранным, чтобы полететь, как летали и вы.
Да, сначала были вы, и только потом возник, словно проявился на общем затертом фото, ты. Ты, сверкающий мириадами звезд в далеких галактиках, ты, влекущий в неизведанные дали, пьянящие первобытным любопытством и чуточкой азарта. Ты, такой необычный и непривычный человек в нашем сером городе, ты, такой инопланетный и радужный, такой загадочный и импульсивный, такой прямой и трудный. Ты, Марк Шейман, восемнадцатилетний студент-первокурсник театрального факультета, ты разделил мою жизнь на три части: «до», «тогда» и «сейчас».
Часть 2.
Центр города с тихой, поросшей старыми липами улицей, направо от театра, если пройти метров триста неспешным шагом, начнется главная площадь с неизменным памятником Ленину, городской управой и видом на Волгу, чуть дальше будет заброшенная гостиница «Советская», а напротив — музыкальная школа, по крайней мере, она здесь когда-то была. Из ее окон частенько слышался плач, измученной нерадивым учеником скрипки или нестройные, сыгранные на фортепиано, гаммы. Сколько я не был в родном городе? Кажется, года два, а в этом месте? Да, как раз лет десять, все не мог заставить себя прийти, из карусели, которую закрутила моя жизнь, так просто было не вырваться, да и хотелось ли?
Но сейчас мне нравилось здесь быть, сидеть в машине, зябко кутаться в кашемировое пальто под шелест мелкого дождя по крыше и мерные щелчки работающих дворников на лобовом стекле. Редко мимо проносились машины, выплескивая на зазевавшихся прохожих брызги мутной холодной воды с асфальта. А я криво улыбался, вспоминая, как мы бегали на этом перекрестке через трамвайные пути, под мат водителей и возмущенные гудки клаксонов.
Хотелось бы вернуться туда, еще раз пропитаться беззаботным счастьем и весельем, и теперь уж так, чтобы точно хватило до конца дней. Чтобы не смазались образы, не разъелись буднями, не обесцветились и обесценились в погоне за «пылью в глаза».
Интересно, а как у тебя, Марк? Сложилось? У меня, наверное, да. Так кажется со стороны, когда в чужих взглядах, остановленных на моей персоне, ловишь проблески зависти, с ухмылкой, молча вопрошая в такие моменты: к чему? Но не об этом сегодня, стоило ли вырваться на несколько дней из бесконечной кабалы, чтобы поныть и плакаться воображаемому тебе? Нет, не стоило. Я здесь только для того, чтобы прикрыв глаза, очутиться снова в этом нашем с тобой «тогда» — самом счастливом времени моей жизни.
Тогда все было по-другому. Тогда — это стойкий привкус мяты и полыни на кончике языка, свежо и горько одновременно, как тот абсент, что мы тайком пили у тебя дома, закуривая его сигаретами с ментолом. Я не помню, когда я увидел тебя впервые, кажется, что ты был всегда. Но я точно помню ту бесконечно-длинную секунду — ту самую точку невозврата в моем сокрушительном полете, когда я посмотрел на тебя иначе, чем просто на парня из нашей большой и дружной театральной компании.
Темный, узкий коридор, желтушно-больной цвет давящих стен служебных помещений театра и ты, словно падший ангел — лениво плывущий или летящий навстречу, смотрящий куда-то глубоко в себя, но определенно мимо. И я, прижавшийся к стене и замерший, прозревший в миг слепец, и эта какофония красок, что стала вливаться в меня — до слез и звука сердца где-то в пересохшем горле.
Невысокого роста, стройный, с копной вьющихся, всегда нечесаных темных волос, которые падали на хрупкие плечи, широкий неизменно джинсовый комбинезон и черная футболка с длинным рукавом, чуть прикрывающая тонкие, словно стеклянные запястья с кучей замысловатых фенечек. И потрепанные грязные кеды. Тогда их точно никто кроме тебя не носил, это сейчас мода, а тогда, тогда для меня, парня из спального района, ты, выросший в центре города в среде местной элиты, казался пришельцем с другой планеты, эдаким представителем какой-то загадочной, неизвестной ранее культуры. А еще у тебя были маленькие колечки в ушах, по три на каждом, которые можно было разглядеть только в определенные моменты… они всегда позвякивали… когда мы…
Но это было позже, а тогда, в том узком коридоре, я рухнул вниз и полетел. За тобой. В прямом смысле. Я стоял на стремянке, вворачивая лампочку, и да, не удержался, рухнул, засмотревшись, к твоим ногам и это уже во всех смыслах. Ты хохотал, громко и вызывающе, как не мог никто другой. А я хватал тебя за изящные пальцы, которые ты тянул и никак не мог встать на подкашивающиеся ноги. Мы были знакомы, шапочно, кажется, несколько раз пересекались в компаниях, первокурсников особо не жаловали и не приглашали, но потом я часто вспоминал, что ты был всегда, да и как могло быть иначе.
— В следующий раз, будь осторожнее, Саша, — отсмеявшись, быстро протараторил ты и равнодушно пожав плечами, пошел дальше. Я смотрел тебе в чуть сутулую спину до тех пор, пока ты не скрылся за углом, и мое солнечное утро вдруг не превратилось в глухую ночь. Потому что тогда я еще не знал, что частишь ты словами только, когда волнуешься. А так, твоя речь обычно была плавной и тягучей, как свежесобранный, золотистый мед, и такой же сладкой.
Тогда, в самом начале, я многого о тебе не знал. Например, того, что ты любишь слушать Кобейна и Моррисона, смотреть Хичкока и читать Камю, что иногда ты куришь травку, а потом танцуешь под Light my fire — босиком, в одних, державшихся на косточках таза джинсах, так низко, что можно было спокойно рассмотреть выглядывавшие из-за пояса белые маленькие ягодицы. Я всегда сидел в такие минуты на полу, смотрел снизу вверх на плавное покачивание твоих узких бедер и изгибы спины, и то, как ты облизываешь сухие губы, подпевая почти на безупречном английском.
Но это все было позже. А тогда… тогда я стал часто ловить себя на том, что пропускаю слова каких-то витиеватых тостов, долго рассказываемых почтенными актерами, не гнушающимися рюмкой водки, потому что в очередной раз засмотрелся на тебя. На то, как ты крутишь в пальцах дымящуюся сигарету, или как ты лихо вливаешь в себя коньяк, ни разу не поморщившись, это в твои-то нежные восемнадцать. На жест, которым ты откидываешь волосы со лба, на взмах пушистых ресниц и блеск зеленых глаз…
Иногда ты перехватывал мои деланно-равнодушные взгляды, улыбался уголком рта и тут же отворачивался или с кем-то начинал очередной спор о какой-нибудь значительной, но точно мне неизвестной ерунде.
Впрочем, рядом с тобой все казалось тогда ерундой, даже воздух, которым порой никак нельзя было надышаться. Я не думал о том, что симпатия к тебе была чем-то неправильным и развращенным, тогда я уже слышал о подобных отношениях, и не тех, что рассказывали мои гоп-одноклассники в школе, а тех, о которых я прочел у Уайльда в его «Телени», я уже различал нюансы тех красочных прилагательных, которые люди употребляли, я уже на тот момент считал себя другим — парящим над обыденностью.
Тогда, мы не знали слова «гей», которое сейчас кричат на каждом углу. Мы знали только слова: «гомик» и «голубой» (были, конечно, и другие, они есть до сих пор — низкие, непотребные, какие-то смердящие) и употребляли их больше ради смеха, чем примеряя на себя. Да, тогда я и не видел еще таких парней, думал, что не видел. Пока однажды не попал с кем-то в местный кабак, сейчас и не вспомню, как он назывался, но мы смеялись, что эта наша локальная «Голубая устрица».
Так вот там, за одним из столов в тот вечер я увидел тебя, увидел и почему-то сразу все понял, про тебя, но главное — про себя. Ты тогда, наверное, впервые смутился, когда наши взгляды встретились и ты нервно стал вытаскивать пальцами сигарету из мятой пачки. А я ушел, отчего-то не хотел видеть, как тебе чуждо-неприятно под обстрелом моих излишне любопытных глаз. И шел я всю ночь через город, выветривая из себя алкоголь и какие-то ненужные мысли о том: «а что теперь?».
Я не буду врать, и не скажу, что с я радостью принял эту новую сторону себя, или то, что я отчаянно страдал и резал вены на лоскуты. Не было ничего такого и близко, мне тогда все больше было никак. До одного памятного вечера…
Часть 3.
К открытию нового театрального сезона была приурочена оперетта Кальмана «Фиалка Монмартра». Главную роль в постановке играла небезызвестная Анька, с ее сильным голосом тягаться из труппы никто не мог, оно и понятно, хотя за спиной гадости говорили все, кому не лень. Представление прошло с небывалым аншлагом, зрители аплодировали стоя, забрасывали сцену цветами, актеры выходили на поклон раз десять, не меньше. Зал был забит под завязку, уж не знаю по какому поводу, но сам я смотрел спектакль из угла галерки, только там место и нашлось. И смотрел я в основном на массовку, в которой заняли студентов первого и второго курсов (других и не было, театральный факультет открылся только два года назад).
Смотрел, угадывая в толпе твою, прилизанную по случаю макушку и радовался, как ребенок, что вот, сбылась твоя мечта и ты на сцене. И пусть рукоплещут пока не тебе, но я точно знал, откуда-то был уверен, что ты пойдешь намного дальше, чем та же Анька или кто-то из Заслуженных — было в тебе что-то такое, наверное, именно это и называют талантом. А потом мы всем скопом, безостановочно галдящие и радостные, терлись у студенческой общей гримерки, что располагалась в старой части театра, чтобы поздравить, поделиться впечатлениями и как следует отметить.
Тот удивительный, полный открытий вечер я запомнил навсегда, могло ли стать по-другому? Тогда именно он поставил точку в моем, казалось, что бесконечном ожидании, которое я нес на своих плечах с момента постыдного бегства из кафе «Эль Гаучо» (да, я вспомнил, как оно называлось). Все это время мы с Марком практически не виделись и тем более не разговаривали. Но это не отменяло того, что иногда я тайком наблюдал за ним, подсматривая в щель двери учебного класса, где проходили занятия по сценическим танцам или фехтованию, или бог знает, чему еще. Я незримо присутствовал в его жизни, сам толком не понимая и не гадая почему. Тогда все было до удивительного просто, тогда я не мучился метаниями, я все принял, как должное. И я ждал, ждал, потому что сам бы никогда не решился…
Мы поторапливали переодевавшихся ребят, стоя в коридоре у зарешеченного окна, смоля одну за другой, утопая в дыму и бесконечно споря. Кто о чем, это было и не важно, главным было желание выплеснуть из себя слова, поделиться новым. Я втолковывал какой-то незнакомой мне девушке о том, что «С широко закрытыми глазами» никогда не переплюнет «Заводной апельсин», а она что-то вещала о новом альбоме Дельфина «Глубина резкости». И это могло бы продолжаться еще очень долго, но из гримерки вышел ты и я онемел.
Такой неземной и всклокоченный, такой счастливо-уставший. Такой небрежно облокотившийся спиной на широкий подоконник, запрокинувший голову назад, так сильно, что стало заметно, как чуть подрагивает небольшой кадык на горле. Медленно прикрывший глаза, лениво попыхивая прикуренной сигаретой, зажатой между обветренных губ.
— Боже, какой же это кайф, надеть нормальную одежду после костюма. — ты выдохнул в потолок витой клубок дыма, глубоко засунул руки в карманы бледно-голубых, почти белых, узких джинсов и улыбнулся. А я забыл, что еще минуту назад что-то горячо кому-то доказывал, я просто смотрел на тебя, понимая, что смотреть уже мало. Что уже хочется дотронуться, хотя бы кончиками пальцев, хотя бы просто до руки… Ты делал вид, что не замечаешь, что не улавливаешь моих неровных от волнения выдохов и не слышишь гулкого стука сердца… Но ты поступал правильно, я это как-то, должно быть, подсознательно понимал.
А дальше был калейдоскоп привычной, не в меру громкой, вечеринки. С морем алкоголя и закусками, на которые в обычные дни никогда не хватало денег. Но сегодня была премьера — особый случай. Мы расположились в самой большой общей гримерке, сдвинули в один несколько столов, расселись вокруг и понеслось… Разговоры, критика, истории, мечты, мат, смех, песни.
Я уже куда-то плыл от коньяка, мерзко вонявшего клопами, и уже не прятал томного тоскующего взгляда, направленного на неприступного тебя. Но все равно было хорошо, просто хорошо, не почему-то, а вопреки. От осознания того, что вот ты рядом, сидишь на той стороне длинного стола, улыбаешься, куришь, тихо кому-то что-то шепчешь на ухо. И пусть не мне, да разве ж это было важно? Я тогда, в тот вечер и не думал ни о чем, просто наслаждался часами, проведенными в кругу уже единомышленников, которые понимали с полуслова, и кажется, с полувзгляда.
Но все это была лишь подводка, легкий аперитив к основному, горячему блюду. Не знаю, много ли найдется людей, которые были в такой обстановке и в такой компании, в которой бывал я — богемной, развязной, без предрассудков и комплексов. Мы могли с легкостью говорить на любые темы, нам все равно было кто и с кем, зачем и почему; мы гордились своими широкими взглядами на жизнь, тем самым абстрагируя себя от привычных устоев общества. Но то, что произошло дальше у неподготовленного меня, надолго выбило почву из-под ног и наверное, что-то изменило внутри.
В свои двадцать два я прекрасно был осведомлен о сексе, как с теоретической, так и с практической стороны. Возможно, я многого не знал, да так оно и было, ведь на тот момент интернет еще не был доступен, и порно я видел только черно-белое на затертой кассете, найденной мной случайно на полке чулана, за инструментами отца. Как и откуда она взялась в нашем доме, я был без понятия, но одним глазом глянул, само собой — просветился. Так вот, в общем, секс для меня был приятным, ни к чему не обязывающим ритуалом, редким — не скрою, и не сказать чтобы насыщенным. Три позы (миссионерская, коленно локтевая и, так называемая, наездница) все, что я пробовал на тот момент. Нет, понятное дело, что я видел в том фильме много чего еще интересного. Но кто тогда из девчонок на такое соглашался? Да никто в трезвом уме и твердой памяти! Все эти заграничные излишества были одним большим фу, об этом с приличной девушкой, вообще, не принято было говорить. Дают и радуйся, как-то так.
Знаете, как у студентов театрального бывало? «А тебе слабо сыграть это?». И конечно же, никому не было слабо, особенно, если перед этим изрядно было влито алкоголя. В тот вечер «не слабо» стало разыграть сцену секса. Мы все приветствовали, хлопали в ладоши, улюлюкали, уж точно надеясь увидеть не то, что нам показали, я-то безусловно. Я, душой наивного чукотского ребенка, думал увидеть пародию или может быть, фарс…
Но показали секс, настоящий, прямо на столе, буквально в паре метров от меня. Как это было? Сначала все смеялись и подбадривали, когда девочка стала виться вокруг уже состоявшегося актера, господи, я до сих пор ее помню, тихую, обычно скромную, не блиставшую на занятиях, я еще думал, как ее вообще взяли в театральный? А еще я помню коровьи глаза с длинными ресницами, которые не изменили своего тупого выражения даже тогда, когда ее поставили раком и хорошенько оттрахали перед всеми. Нет-нет, все было добровольно, никто никого не принуждал, но тем не менее, я впал в состоянии шока, такого, что не мог отвести глаз.
Так и стоял соляным столбом, как и остальные, полностью обалдевшие в заполненной людьми и тишиной комнате. И только ножки стола истошно скрипели по дощатому полу, в такт движениям «актеров». Я не знал, что было бы дальше, в тот момент никто ни о чем не думал, не могли. Абсолютно немая сцена, наверное, в такие минуты должно быть слышно, как на цыпочках крадется к кому-то смерть.
Когда твои холодные пальцы дотронулись до моей руки, я вздрогнул. От неожиданности, страха и острого удовольствия, что прошило буквально за мгновение с головы до ног. Я медленно повернулся, чтобы наткнуться на твои насмешливые глаза и безропотно пошел следом, когда ты потянул меня куда-то из комнаты.
В коридорах было темно и тихо, а мы все шли и шли, бесконечно поворачивая, пока не оказались на малой сцене, где обычно проходили репетиции и занятия студентов. Пустые, расставленные полукругом красные бархатные кресла, раздвинутые пыльные кулисы и маты на полу, это все, что я успел вырвать из полутьмы взглядом, все еще сжимая твою ладонь в своей. Потому что потом были только твои глаза и ничего больше.
— Что, дурашка, впервые увидел? — я только и мог, что быстро кивнуть. — Такое бывает, не принимай близко к сердцу. Наплюй.
— А ты привычный?
— Скажем так, не удивленный.
— По-твоему, это нормально?
— А это? — и ты меня поцеловал…
Дерзко, смело, не настойчиво. Просто коротко впился губами в мои губы и тут же отпрянув, замер, выжидая мою реакцию. А она, на фоне предыдущей сцены, была какой-то непростительно долгой. Я очень медленно соображал и переваривал, рассматривая пол под ногами и только несколькими минутами позже, поднял на тебя счастливые до невозможности глаза и стеснительно улыбнулся…
Часть 4.
А дальше, дальше были ежедневные совместные прогулки, в любое время дня и ночи, в любую погоду, не теряя ни одной свободной секунды: дул ли сшибающий с ног северный ветер или лил проливной дождь, или шел первый снег и было до невозможного скользко на тонком льду в легких кроссовках. Мы сбегали из дома и с лекций, чтобы побыть вдвоем, пойти прогуляться в заброшенный, уже по-зимнему голый парк на склоне реки или посидеть на горячих трубах отопления за зданием Дома Профсоюзов, попить пива и покурить, где обычно собирались редкие неформалы нашего города.
Мы были обычными парнями, мы не проявляли к друг другу открытых чувств на улицах или в кафе, в которых часто бывали долгими вечерами, чтобы погреть замерзшие посиневшие руки о бока горячих чашек с горьким кофе. Или выпить пятьдесят грамм коньяка, обжигая нутро до замирания дыхания и слез. Но чаще, много чаще мы были в компании друзей, лишь иногда бросая короткие опаляющие взгляды, пряча красные от смущения щеки и широкие улыбки, которые сами собой расплывались, стоило только медленно провести пальцами по волосам или шее…
Но отчего-то больше всего мне запали в душу вечера, проведенные с тобой в театре. Мы тогда забивались в одну из пустующих темных лож, садясь на пол, слушали краем уха, как на сцене разыгрывается действо и ели вафельные стаканчики из-под мороженного. Ты приносил их целую коробку, которую выторговывал у буфетчицы, и мы пачкая руки в подтаявших молочных липких каплях, кормили друг друга этим, тогда казалось, что королевским лакомством. А бывало ты оттачивал на мне хитрый трюк, который подсмотрел на каком-то своем занятии. Ты заставлял меня закрыть глаза и обострить все чувства, быстро царапал несколько раз ногтями по тыльной стороне ладони, а потом оторвав их от кожи на пару миллиметров, проводил медленно вверх по руке, заставляя угадывать, когда они доберутся до сгиба локтя. Я никогда не угадывал, а ты всегда после заливисто смеялся и целовал.
Тогда, в сравнении с тобой, я был слепым котенком, которого ты водил за собой на длинном поводке, не понукая, не принуждая, ты был, как умелый терпеливый дрессировщик, который лаской и нежностью добивался результатов. Ты не настаивал ни на чем, ты мягко подталкивал, не полагаясь на мою робость и зажатость в отношении тебя. Ты никогда не заводил разговоров о сексе или о том, как он происходит между парнями, ты не лез, не распускал руки, позволяя себе лишь поцелуи и объятия. Так мы и проходили, держась за руки, когда никто не видел, месяца полтора…
Вспоминая это, я начинаю тихо смеяться и качать головой, от той неловкости, той необразованности в интимных вопросах… Это сейчас достаточно зайти в интернет, чтобы все узнать, а тогда — не было гей-сайтов, гей-чатов, гей-фильмов, гей-порно и всего остального. Я мог лишь догадываться откуда ты знал тонкости, о которых никогда не говорил или говорил, густо краснея и неизменно шепотом, я просто чувствовал, что тебе можно довериться. И я доверился, разве могло быть иначе, ведь мне и самому стало казаться, что пора сделать следующий шаг.
Театр всегда живой, он пульсирует и дышит, даже если уже пуст и темен, особенно его старинная часть, отстроенная еще в конце девятнадцатого века. Незаметный служебный вход, который был с торца здания, вел в тесный холл с огромной кованной лестницей посередине. Когда я ее увидел впервые, был готов заплакать от этой скрытой от других людей красоты. Ее железные ступени шли круто вверх в обрамлении крученых, переплетенных цветами и листьями перил. Но самое главное, что лестница эта вела в мой личный локальный и определенно тайный рай.
Мы были на том же месте, в том же окружении пустующих красных бархатных кресел, в пьянящей, удушающей темноте малой сцены. Вокруг нас тихо раскачивались длинные черные кулисы в несколько рядов, а где-то вдалеке, за стеной и глухо-закрытыми дверями шло вечернее занятие студентов. Мы застыли в немой мизансцене, как два неопытных актера, пожирая друг друга глазами… и нужно было дать реплику — кивнуть или выдохнуть несмелое, хриплое: «да». Не помню, что сделал я. Помню только ощущение черных матов под спиной на полу между кулис, уходящий в бесконечность потолок, рваное дыхание и бешеный стук сердца.
Это был самый безумный, самый быстрый и самый дерганный секс в моей жизни… Мы толком даже не успели раздеться, ты как был в спущенных до коленей джинсах и футболке, так в них и остался, а я, я был в толстом свитере, который задрался к груди, но с голой задницей, прилипающий к дермантину мата. Надо ли говорить, что снизу был я? У меня тогда даже других вариантов в голове не возникало, я знал только то, что хочу кожей и каждым нервом почувствовать твою обнаженную кожу и как это должно было быть, было абсолютно не важно…
Ты целовал торопливо и жарко, оставляя засосы и царапины, ты, словно, наконец, дорвался до самого вожделенного. Я тогда потерялся в тебе, в твоей страстности и жадности, в твоих дрожащих руках, влажных губах… Мне было все равно, что ты делал со мной, потому что только одно осознание, что это ты, делало меня самым счастливым на земле.
Тогда, тогда мы сошли с ума, оба… Хорошо еще, что ты, как я потом узнал, всегда носил с собой маленькую плоскую баночку с вазелином — на всякий случай (да-да, тогда мы еще ничего не знали о смазке, мы даже не пользовались презервативами, потому что самой страшной болезнью был трепак, который еще надо было умудриться подцепить, а СПИД казался чем-то далеким и незначительным, от чего, как я слышал, умер Фредди Меркьюри, тоже еще тот голубой). Так вот, спасибо той заветной баночке, да, сейчас я могу со знанием дела сказать об этом, а тогда, я лишь раскрыл удивленно глаза, внимательно наблюдая, как ты этой вязкой субстанцией мажешь свой небольшой член.
Не стоит ждать, что я скажу, что это было непередаваемо и величественно, и я узрел, как взрываются звезды в конце долгого пути, ни черта я тогда особо, кроме жжения в заветном месте не ощутил. Ты так торопился, что забыл растянуть (да и не знал я, что это обязательно, как не знал об очищении и тому подобных стыдных подробностях) и нырнул в меня со всей своей мощью, что я не успел захлопнуть рот, и мой громкий вскрик, наверное, слышали те самые студенты за стенкой. А ты шептал: «прости, прости, прости». Даже тогда, когда через двенадцать фрикций, я считал то самое мелодичное позвякивание колечек на твоих ушах, кончил глубоко в меня…
А потом ты лежал рядом, крепко держал меня за руку, переплетя свои изящные пальцы с моими, смотрел бессмысленно в темноту потолка и улыбался, а я улыбался, глядя на довольного, разморенного тебя. На эти тоненькие, влажные от пота, колечки волос, прилипшие к вискам и щеке, на покрасневшую кожу шеи и припухшие губы… Это потом все было иначе, потом мы занимались сексом часто как кролики, в самых замысловатых местах и позах, в том же театре на третьем ярусе, за занавеской подсобки, где хранился реквизит и где буквально в паре метров от нас, прогуливались зрители спектакля… А тогда, тогда я по-быстрому кончил тебе в кулак и отеревшись носовым платком, натянул на себя штаны. Но я не был разочарован, вот что странно, может потому, что я ничего от тебя никогда не ждал и уже тогда понимал, что люблю.
— В следующий раз все будет по-другому, Солнышко. — Да, солнышко, именно так ты меня всегда называл, очень редко по имени. Даже когда мы ругались, я оставался для тебя Солнышком. Это было странным и непривычным, а иногда и страшным, когда ты забывался на людях… — Переночуешь в выходные у меня? Родители снова куда-то свалят. Мы будем курить отцовские сигары, пить абсент и смотреть черно-белые фильмы.
— Конечно, Марк. — разве я мог отказать тебе? Нет, не мог и никогда не отказывал, даже потом, когда все стало рушиться, я бесконечно долго соглашался на бессмысленные встречи с тобой. Мучая и себя, и тебя…
Но это было потом. А тогда, тогда мы возвращались из театра по ночному пустынному городу. Медленно молча плелись по улицам, не смотря на легкий морозец, толкая друг друга в бок…
Часть 5.
Все считали нас лучшими друзьями, даже наши общие друзья. И даже если Марк забывался и позволял себе излишне-личные слова и интимные жесты, мы всегда списывали это на шутку и проявления его творческой натуры. Он мог с легкость обнять меня на людях, нежно взять за руку, прислониться щекой к спине, горячо выдохнуть в ухо шепотом или провести пальцами по коленке — в такие моменты я всегда густо краснел и чуть ли не сбегал, а Марк заливисто хохотал, ему нравилось это опасное хождение по лезвию бритвы, словно он эквилибрист, нравилось чувство опасности и некий эпатаж. Мне это не то, чтобы претило, но, да черт, мне было страшно.
В тот год декабрь с самого начала неистово закружил ветрами и оплел крепкими морозами, по городу невозможно было свободно пройти, трамваи вставали, застревая в высоких сугробах, а мы утопали по колено в снегу. Совместные прогулки по парку постепенно сошли на нет, и все вечера наша пестрая околоактерская компания проводила в чебуречной, что располагалась на первом этаже гостиницы «Советская». В ней часто собирались неформалы, ролевики, какие-то потрепанные жизнью, обескровленные спившиеся интеллигенты и само собой, те тайные меньшинства, о котором большинство предпочитало не говорить.
Я до сих пор не знаю, как мы друг друга на раз вычисляли, не было никаких особых знаков, пассов или еще чего-то подобного. Но достаточно было посмотреть на человека, чтобы понять — да, ты такой же, как я. Словно над головой загоралась тайная лампочка, да что говорить, я до сих пор их вижу, и сейчас много чаще, чем тогда. Кажется, теперь это называют гей-радаром, может оно так и есть, спорить не буду.
В тот вечер Марка не было, что-то произошло в семье — так он мне сказал (но я подозревал, что ему в очередной раз достался нагоняй от предков, мы совсем забросили учебу, впереди уже отчетливо виделось исключение из института и не только нам), я не лез и не выспрашивал. Иногда мы проводили время у него дома, но я никогда не встречался с его родителями. Я знал только то, что они оба работали на местном телевидении: отец директором, мать гримером. Был еще младший брат Артур, иногда придя из школы, он заставал нас едва ли не на самом интересном. Мы только успевали натянуть штаны и накинуть футболки, а потом, как два распоследних идиота громко смеялись под обиженным взглядом ничего непонимающего ребенка.
За столом шло громкое, но беззлобное обсуждение премьеры фильма по роману Паланика «Бойцовский клуб», как мы жарко спорили о том, кто лучше: Бред Питт или Эдвард Нортон, как цитировали, разбирая на отдельные слова строки нашумевшего культового романа, как наслаждались игрой актеров и великолепной Хеленой Бонем Картер… и как я по всему этому скучаю сейчас. Столько эмоций и столько кружек кофе с коньяком… прекрасное время не менее прекрасной молодости…
Парня все звали Кукла, может от того, что его лицо было похоже на фарфоровое кукольное? В детстве, когда мама водила меня в Детский мир, там такими куклами были завалены все полки, они были с оранжевыми и голубыми кудрявыми волосами и огромными глазами, которые по-глупому закрывались, издавая забавное хлоп-хлоп. Так вот, с Куклой меня познакомил Марк в кафе «Эль Гаучо», он был, как сейчас говорят: пассивным геем. Я запрещал себе думать на тему этого более чем подозрительно и неприятного знакомства, Марк жестко сказал, что так было нужно. Ему нужно было в какой-то момент его жизни знать, что он такой не один и, в конце концов, всему научиться. Я только молча кивал… Хотя на душе кошки скребли, сколько их таких было, тех, кто его учил?
Да, я тебя ревновал, но тем не менее, никогда не закатывал истерик. Истерики были твоей привилегий, я прощал, улыбался, иногда бил кулаком в стену, пока ты не видел, но всегда прощал. Поэтому, когда Кукла вошел в тошниловку, я встал навстречу, поприветствовать и пожать руку. Мы о чем-то даже потрепались незначительном, может и о дурацкой погоде и я минут через пять вернулся за стол. И вот тогда на меня снизошло понимание того, что какие бы хорошие друзья не окружали, всегда найдется тот, кто кинет в тебя камнем. Конечно же, были и другие — понимающие и толерантные, но их было единицы. А может быть, и сейчас ничего не изменилось, как знать.
— Саш, ты знаешь, кто это? — я даже не помню, кто это тогда спросил. Его лицо, как и имя давно стерлось из памяти, но слова засели очень глубоко.
— Да знаю. А что?
— Ты бы с ним не водился, про него всякое говорят. — и тот, кто это выдал, под любопытные взгляды остальных, наклонился почти к уху и прошептал. — Он педик, оно тебе надо? Мало ли что, слухи пойдут.
Помню, я удивленно раскрыл глаза и молча покивал, все еще искоса посматривая на Куклу, который сидел с каким-то парнем за соседнем столиком. Это был весьма мерзкий случай, не последний в моей жизни, но очень показательный. Через пару дней я рассказал об этом тебе, ты кричал матом, говорил, что я дурак, и если я еще что-нибудь подобное выкину, то ты начистишь мне рожу.
— Никогда, никогда не подходи к таким, как Кукла или Елисей! Ты можешь незаметно кивнуть им, проходя мимо по улице. Но в кругу близких и якобы друзей — нельзя выставлять на показ такие знакомства. Больше так не делай, никогда! Обещай мне.
Но были и те, кто о нас знал, кому Марк решил доверить личную тайну — его однокурсник Женя со своей подругой Леной. Мы были частыми гостями в их приветливом теплом доме, часто там ночевали. И когда стал приближаться конец декабря и Новый год, было дружно решено, что встречать мы его будем у них. Я был до опупения рад, ведь это должен был быть первый праздник, который бы я провел не дома, не в кругу опостылевшей недалекой семьи, с которой и поговорить-то не о чем. Да, этот праздник обещал быть самым настоящим, потому что рядом будешь ты и нам не нужно будет скрывать своих чувств.
Всю неделю до часа «икс» мы, как бешеные сдавали зачеты и носились по магазинам, на отложенные карманные деньги и чуть заработанные, закупая продукты и алкоголь. Не скажу, что наш стол ломился от деликатесов, да и не было их тогда на прилавках, но это был мой самый лучший Новый год. Если вспомнить сейчас все прожитые года, все праздники, то именно тот будет самым легким и радужным, самым счастливым.
Я помню, как тогда под громкий бой Курантов по телевизору мы уже довольно пьяненькие и развеселые, целовались и загадывали желания. А потом зажигали бенгальские огни и стреляли хлопушками, осыпая друг друга разноцветным конфетти. И черт с ним, что на следующий день, мы несколько часов ползали по полу собирая те самые мелкие кружочки.
— Знаешь, говорят с кем встретишь год, с тем его и проведешь. — это я жарко шептал тебе в ухо, когда мы уже голые и удовлетворенные лежали на диване, а рядом расточая одурительный хвойный аромат, стояла разряженная в огоньки елка.
— Неправильно, Солнышко. Сегодня мы встретили целое тысячелетие, так что, так просто ты от меня не избавишься через год. — и тон твой тогда был таким серьезным, что мы оба надолго замолчали. Я представил, что следующую тысячу лет проведу с тобой и мне почему-то стало по-настоящему страшно.
Часть 6.
Остаток той суровой зимы размазался по памяти невзрачной рутиной, подчисткой хвостов по зачетам и вздохами долгожданного облегчения. Мы все еще были студентами ВУЗов, все еще опаздывали на лекции и судорожно готовились к семинарам, за десять минут до звонка открывая вырванные из рук у однокурсников учебники и конспекты. Ты где-то там, в закоулках и тупичках старого театра, штудируя ненавистный тобой французский, а я, я в новом, только что отстроенном корпусе университета, постигая глубины сопромата и логики.
А потом была весна: ласковая и зеленая, с ароматами распустившихся на клумбах тюльпанов и зарослями цветущей сирени в запутанных аллеях города. С долгими посиделками на затертых кривоногих лавочках и пригоршнями звенящей мелочи в карманах, что оставалась от покупки сигарет и пирожков, тех самых промасленных и прогоркших, но таких неизменно вкусных. Пьяные вечеринки в тесных гримерках, чужих квартирах и дешевых кафе постепенно выплеснулись на улицы, сменились прогулками в парках и редкими выездами на чьи-то дачи. Прежним осталась лишь то, что были мы — я и ты, пусть и уже не так остро и часто, как раньше. Но все еще, вопреки здравому смыслу, косым взглядам и личному ощущению приближающегося конца.
Нет, я любил тебя, все еще любил, мне нравился твой необременительный стиль жизни и твои неиссякаемые интересы, твои необычные вкусы, которые я впитывал в себя, не гнушаясь ничем, а бывало что и затыкая слабые возмущения совести. Даже в сексе с тобой, я переступил, пусть и не сразу, узкие, навязанные родительским воспитанием и обществом, рамки и кинулся вперед покорять новые, до этого неприступные, вершины. Порой ты мог смущать своей откровенностью и пошлостью, подсмотренными в каких-нибудь фильмах, категории ХХХ. Но мне нравилось, пусть я стеснительно морщился и зажмуривал глаза, искоса из-под ресниц наблюдал за опьяненным близостью тобой, краснел, пыхтел и робко повторял те самые священнодействия, доводящие нас обоих до исступления. И наверное, именно тогда и именно ты привил мне излишне развращенную эстетику страсти и задал ту самую высоту планки в интимных отношениях, которую я все последующие годы примерял на других. Но это было потом, между тогда и сейчас…
А пока к нам незаметно подкрадывалось душное пыльное лето и вереница изматывающих экзаменов. Короткие ночи, полные бессонницы и зубрежки до черноты перед глазами, это все, что я запомнил из сессионного ада — я сдал и в каникулы не просто влился, я в них вбежал сломя голову, ожидая какого-то чуда. Вот только ничего волшебного так и не произошло. Трудно сейчас сказать почему, по большому счету вокруг меня тогда ничего не изменилось, а может изменилось все, но я проспал или проглазел — не заметил. Ты стал часто пропадать дома, тебя увозили то в отпуск на море, то к бабушкам в другой город, то куда-то еще. Ты был вечно занят, а бывало что и просто-напросто забывал о назначенной встрече — можно было бы это назвать свиданиями, но тогда я определенно точно не мыслил такими громкими категориями. Я думал, что лето нас сблизит еще больше, но нет, оно потихоньку подтачивало и без того хрупкое ненадежное счастье, оставляя меня в одиночестве на задворках бетонных кварталов.
Но было и то, что и теперь, спустя кучу лет, сложенных в полтора десятилетия, отчетливо всплывает в памяти, и закрой я глаза, передо мной нарисовалось бы несколько ярких картинок и навсегда застывших кадров из моего авторского кинофильма, длиною в жизнь. Такие коротки вспышки, которые отчего-то приятно теплятся внутри, словно старые угли, окуная в бесшабашную юность. И это даже совсем ничего, что вспоминается не только хорошее, теперь все вызывает легкую улыбку и налет светлой грусти.
— Солнышко, давай завтра погуляем в парке? — ласково лепетал ты в трубку, и я засовывая в очередной раз подальше обиду, всегда отвечал: «Да». И мчался едва тащившимися по рельсам трамваями на те самые тайные встречи, словно украденные у самих себя.
Я всматривался в синее небо над головой, в скользящие по нему скрипучие кабинки канатной дороги с редкими пассажирами и в листву, что трепетала от дуновения теплого ветра, отбрасывая ажурные тени на наши обнаженные тела. Чувствовал прелый запах травы под спиной и щекочущее копошение насекомых, что норовили пробраться к потной коже. Я прикасался к тебе, дышал твоим ароматом, слушал рваное позвякивание колечек в ушах, и твоих и моих — наших. Отчего-то думал, скорей бы все закончилось, а потом долго и нудно очищал пятна зелени с истертых коленей и одежды, и капли спермы со своего живота. И курил, до фильтра, до обожженных кончиков пальцев, понимая, что ты уже не со мной. Ты давно пошел дальше, лишь изредка отдавая дань прошлому.
То жаркое лето прошло разделительной полосой по моей жизни, и совершенно незаметно по твоей. Эти качели — вверх-вниз еще долго не давали спокойно существовать. Я все еще говорил, скорее по привычке, что люблю, но уже откровенно злясь, и даже твое «Солнышко» стало неимоверно выводить из себя. Особенно в те моменты, когда ты оправдывался, запыхавшись дыша в телефонную трубку. Сколько было таких звонков из случайно повстречавшихся автоматов? Я только и мог, что гадать: где ты и откуда звонишь, вслушиваясь в шум города на заднем плане.
Нет, я не страдал от первой несчастной любви и вдруг разбитого сердца, я не разрывался на куски от горького разочарования, я просто в какой-то момент оглянулся вокруг и увидел, что мир по-прежнему здесь, стоит на месте, бурлит словно варево в казане и что в нем еще столько интересных людей, которым по-настоящему нужны мои чувства. И к концу августа даже нашелся тот, кому я захотел их отдать. Там тоже все кончилось, едва успев начаться, да и сколько еще было потом таких влюбленностей — не пересчитать…
Первое сентября в тот двухтысячный год, ознаменовался ветром, принесшим проливной дождь и моим твердым решением уйти. Я помню, как мы сидели на полу в модном тогда кафе, в подвальчике музея, куда приходили посмотреть пиратские фильмы под чашечку кофе со сливками, как вокруг нас сновал народ, а ты прижавшись лбом к моему плечу, просил остаться и начать все сначала. И как мне было неприятно видеть чуждое тебе унижение и твою, сквозящую в дёрганных движениях, злость.
Ты говорил — много торопливо без тормозов, именно тогда я узнал, что были другие. Не много, но мне было удивительно все равно, я даже в какой-то момент того дня улыбнулся, словно избавившись от давившего на грудь камня. Может от того, что ты был для меня слишком сложным и непонятным, да притягательным, но даже это проходит. И уж совсем откровенно смеялся над очередным заверением в безграничной любви, про себя отмечая твой прирожденный талант актера. Как ты заламывал руки — я внутренне рукоплескал. Молча слушал, согласно кивал, мысленно закрывая за собой двери.
Потом, через несколько месяцев до меня отголоском или запоздалой сплетней донеслось, что тебя пьяного снимали с крыши шестнадцатиэтажки, и ты что-то кричал обо мне и моей подлости. А я, памятуя о твоей склонности к театральным эффектам, только качал головой, убежденный в том, что ты бы никогда не спрыгнул. О нет, ты слишком сильно любил жизнь и себя.
Наша последняя встреча была нелепой и абсурдной до безобразия, и совсем ненужной мне. Было лето, еще одно, но уже две тысячи второго года, тогда я попал в больницу с неожиданным диагнозом, заставившим меня проваляться в палате около двух месяцев. Первая городская стояла на берегу Волги в сосновом бору, и как только погода стала позволять, я через окно на первом этаже выбирался на улицу, подышать свежим воздухом и поболтать с друзьями, что приезжали в выходные меня навестить.
Мы компанией сидели на пригорке, подставляя изможденные болезнью тела первым горячим лучам солнца. Я курил запрещенные врачом сигареты, смеялся глупым шуткам и точно не ожидал услышать твой голос у себя за спиной. Ты стал другим, не таким, каким я тебя запомнил. Даже прическа изменилась, намного короче, чем прежде и голос, отчего-то тихий и неуверенный, правда с теми же ленивыми интонациями.
— Здравствуй, Саша. Я слышал ты в больнице, решил навестить. — Я смотрел то на него и его спутницу, странную девицу с излишне пышным телом, то на своего нового, очередного парня. И единственное, что в тот момент хотел, чтобы ты просто ушел и никогда больше не появлялся. Мне не нужна была твоя жалость и твое сострадание, мне уже не нужен был ты. Я даже не вспомню, что ответил, но точно сквозь зубы и недовольно.
— Что это за хрен, Сань? — спросил Лешка скорее для проформы, нежели питая чувство ревности. Он, вообще, был не склонен в проявлению эмоций, если дело не касалось танцев, которыми он жил.
— Да так, когда-то учились вместе. Ерунда.
Часть 7.
Спектакль еще не закончился, а я полчаса уже как сидел в машине под мерный шелест дождя, ощущая внутри абсолютную безвозвратность былого. Я видел тебя, видел на сцене, где ты играл — обычный мужик средних лет, без прежних сияющих искр в глазах, зато с большими залысинами на высоком лбу и неизгладимым отпечатком ошибок молодости на помятом лице. А у меня ничего, кроме короткой усмешки своей глупости, чего ради стоило ворошить весь этот воз старья? Только задохнулся от слежавшейся пыли, что серым облаком взвилась ввысь, пробуждая приступ раздражающей аллергии.
Да и откровенно говоря, постановка была так себе или за долгие годы, прожитые в большом городе, я набаловался и привык к другому уровню театров? Все было не так, и даже отреставрированное старинное здание больше не впечатляло до замирания сердца, и огромная люстра над партером уже светила не так ослепляюще ярко, как тогда. И даже коньяк в буфете, что я пригубил в антракте был настоящей отравой. Удивительное разочарование от вечера и бессмысленно убитого времени.
Откровением стала лишь краткая биография под твоим портретом в фойе — на стене почета — я долго стоял перед фотографией в лучших театральных традициях любого провинциального города, не менее долго вчитывался в текст: бла-бла-бла, карьера, постановки, ведущий актер, женат, ребенок… Только и смог, что покачать головой и закусить губу от накатившего веселья. Вот это в жизни повороты, на все сто восемьдесят, поэтому и ушел, не стал продолжать питать ностальгию истертыми и давно забытыми образами прошлого. Зачем, когда есть такое прекрасное, пусть пока по достоинству неоцененное, настоящее и наверняка будущее?
Это всего лишь город — едва подсвеченное нагромождение зданий в сгустившихся сумерках. Навеял бестолковую грусть по юности, и осень и желание поразвлечься, не нарушая установленных самим собой границ. Будь то любое другое время года, любой другой город и культурный поход, и не вспомнил бы никогда, как бегал босиком через эту улицу по лужам, под козырек театра, где меня ждал ты. А теперь меня ждет другой, и не здесь и не так, но точно без фальши и наигранной театральности.
Поэтому и включил телефон, который тут же разразился громким верещанием, не терпящим промедления. Я счастливо улыбнулся, увидев довольную рожицу своего неугомонного Даньки.
— Привет, мой хороший.
— Привет, Саш! У меня такие новости, нет, ну ты представляешь, меня утвердили! Боже, как я рад. Я ведь думал, все — завалили, отдадут место своему…
— Это стоит отпраздновать, — я смеясь, прервал поток его слов, Данька мог говорить о своем назначении на должность часами — до отъезда он мне всю плешь проел, да так, что я частенько стал задумываться о перерыве в отношениях. Два карьериста в одной квартире - чересчур.
— Да! Я об этом даже не подумал. А ты когда вернешься? Если в выходные, то можно успеть на ту вечеринку в клубе, о которой ты мне говорил…
— Завтра, ближе к вечеру. Что-то я уже нагостился за глаза. Домой хочу.
— И соскучился?
— Очень, очень-очень.
— Тогда я сделаю ужин, да?
— Да. Делай, что хочешь. Ведь тебе можно все.
— Все мне не нужно, только ты. О, блин, я правда так соскучился, Саш. Я знаю, что в последнее время только и говорил, что о работе, черт бы ее побрал…
— Я люблю тебя, Дань. Ты даже не представляешь, как сильно и как по-настоящему, — Данька надолго замолчал, я слышал только его шумное дыхание в трубке.
— Ты там не заболел часом? Такие откровения и от тебя? Начинать бояться? Вещи собирать?
— Начинать радоваться и думать, чем меня будешь потчевать. Мне мамины борщи и макароны по-флотски уже в печенке сидят. Хочу нормальной еды! Нормальной постели и нормального тебя под боком.
— А нормальный секс в перечень входит? А то я уже как-то подзадолбался тут в одного…
— Только если ты ни слова не скажешь о своем назначении.
— Больше, вообще, ни слова. Клянусь! Я не хочу, чтобы ты снова от меня сбегал.
— Больше и не сбегу. Обещаю.
Да, это было тогда, почти пятнадцать лет назад. Мне было разухабистых двадцать два, тот самый прекрасный возраст, когда все лучшее еще непременно впереди, по крайней мере, так казалось, а позади за плечами служба в армии и первый курс технического вуза. Я самый обычный парень с окраины провинциального города, из самой обычной рабоче-крестьянской семьи, где кроме разговоров: о работе на сборочном заводе, где корячились мать и отец, и политике на уровне кухни ничего не знали, по воле случая оказавшийся в кипящем котле театральной богемы.
А случай был тривиальный по тем годам, хотя и сейчас в этой плоскости у кого-то жизнь не изменилась — голод и деньги. Стипендию, которую кот наплакал, всегда задерживали, всегда, сколько помнил, а то, что выплачивали, сразу раздавалось или прогуливалось. Родители помочь не могли, сами были в долгах, как в шелках, да чего там, мы жили только хлипким огородом в четыре сотки, где летом впахивали до черноты перед глазами, и тем, что удавалось отцу тайком вынести с завода и потом продать из-под полы на рынке. Бывало еще бабка из деревни посылочку перешлет оказией, сами мы не ездили, времени не было, да и далеко от города.
Наверное, эта нужда и безнадега стали решающими, в начале второго курса я воспользовался полученной в армии специальностью электрика и устроился на полставки в местный Драматический театр, выкручивать перегоревшие лампочки и проверять старую проводку. Платили копейки, но за пару-тройку вечерних часов студенту-очнику не так и мало, в то время в театры ходили только редкие маньяки-театралы и почтенного возраста бабульки, еще школьников иногда пригоняли стадом на какой-нибудь тухлый спектакль. Не пыльная работка, все больше болтаешь или пялишься на сцену, а потом после гужбанишь с коллегами по цеху. Вот только на самом деле, тогда я не работал вовсе, это я понял много-много позже, да я вообще, если честно, потом не думал о деньгах, я просто впервые по-настоящему тогда жил и летал…
Об этом странном полете, увлекательном, но коротком, а может быть и смертельном, где я исполнял роль отчаянного летчика-испытателя, прошедшего точку невозврата, да именно о том далеком двухтысячном годе, юбилейном — как мы смеялись, я и вспоминал сейчас, сидя в припаркованной напротив театра машине.
Знакомое каждой трещинкой здание в стиле советского модернизма, нелепое, оквадраченное, перестроенное в конце шестидесятых, сегодня выглядело на порядок лучше, чем тогда. Тогда, когда мы спасаясь, прятались под его широким навесом от проливного дождя или грелись между дверей фойе, куда дул теплый воздух обогрева. Там еще был бесплатный телефон-автомат и мы кому-то всегда звонили, сейчас и не вспомню кому. Но вот то ощущение радости и счастья, которое в нас плескалось, вырываясь наружу заразительным хохотом и сверкающими глазами, это навсегда отпечаталось на подкорке.
Была осень, обычная для нашей средней полосы: промозглая, серая, унылая, прямо как сейчас. Но там, в этом здании, в его извилистых, таинственных лабиринтах расцветало буйством красок начало нового театрального сезона: кутерьма за кулисами, разбор пыльных декораций, бесконечные репетиции, студенты-первокурсники с театрального, которые вечно ошивались в узких коридорах старинной постройки, прогуливая лекции по актерскому мастерству и искусству речи. Я бегущий с политеха на работу, перепрыгивающий лужи на выщербленном асфальте, в погоне за отходящим трамваем.
Грустно и приятно вспоминать то далекое время, когда общественный транспорт ходил раз в час и успеть на него было своего рода подвигом, о маршрутках никто ничего не знал, как и о сотовых телефонах. Мы ели в институтских столовых пережаренные, прогоркшие от масла чебуреки и салат «Винегрет», запивая обед противным лимонадом «Тархун», спорили о кино и книгах, вернее вы спорили, а я просто слушал, потому как не знал ничего, кроме полученного из школьной программы и сериалов про ментов. Но тем вы меня и привлекали, вы были свежим воздухом в моей удушающей бытовухой жизни. Вы — студенты-первогодки, фонтанирующие, мечтающие, пленяющие. Потом окажется, что навсегда.
В тот год я узнал столько всего, сколько не узнал за предыдущее двадцать два года своего существования, я почти все время сидел с открытым ртом и с не менее открытыми глазами, впитывая в себя какие-то интригующие подробности неизведанной жизни героев культовых книг и авторских фильмов. Это именно тогда я узнал о Феллини и Озоне, о Кизи и Берроузе, о рок-музыке и театральных постановках. Я был, как переполненный водой пузырь, того и гляди лопну от информации, но как же прекрасно я себя тогда чувствовал. Открытие за открытием каждый день, и с трепетом ждешь следующего, чтобы еще раз опьянеть от этих тихих разговоров или шумных споров…
Вы научили меня тому, что жизнь не только черно-белая и плоская, она цветная, с тысячей нюансов и миллионами лиц. Как я тогда хотел быть частью вас, частью от этого целого, которым были вы. И в какой-то момент так и получилось, меня приняли, меня посвятили, меня навсегда околдовали. После работы, иногда опаздывая на последний трамвай, я бегом бежал домой через весь город, чтобы в оставшийся кусочек от ночи, заглянуть в очередную книгу, или тайком, на минимальной громкости в зале, боясь разбудить родителей, посмотреть пиратскую видео-кассету с редким фильмом. Чтобы причаститься, чтобы быть таким же избранным, чтобы полететь, как летали и вы.
Да, сначала были вы, и только потом возник, словно проявился на общем затертом фото, ты. Ты, сверкающий мириадами звезд в далеких галактиках, ты, влекущий в неизведанные дали, пьянящие первобытным любопытством и чуточкой азарта. Ты, такой необычный и непривычный человек в нашем сером городе, ты, такой инопланетный и радужный, такой загадочный и импульсивный, такой прямой и трудный. Ты, Марк Шейман, восемнадцатилетний студент-первокурсник театрального факультета, ты разделил мою жизнь на три части: «до», «тогда» и «сейчас».
Часть 2.
Центр города с тихой, поросшей старыми липами улицей, направо от театра, если пройти метров триста неспешным шагом, начнется главная площадь с неизменным памятником Ленину, городской управой и видом на Волгу, чуть дальше будет заброшенная гостиница «Советская», а напротив — музыкальная школа, по крайней мере, она здесь когда-то была. Из ее окон частенько слышался плач, измученной нерадивым учеником скрипки или нестройные, сыгранные на фортепиано, гаммы. Сколько я не был в родном городе? Кажется, года два, а в этом месте? Да, как раз лет десять, все не мог заставить себя прийти, из карусели, которую закрутила моя жизнь, так просто было не вырваться, да и хотелось ли?
Но сейчас мне нравилось здесь быть, сидеть в машине, зябко кутаться в кашемировое пальто под шелест мелкого дождя по крыше и мерные щелчки работающих дворников на лобовом стекле. Редко мимо проносились машины, выплескивая на зазевавшихся прохожих брызги мутной холодной воды с асфальта. А я криво улыбался, вспоминая, как мы бегали на этом перекрестке через трамвайные пути, под мат водителей и возмущенные гудки клаксонов.
Хотелось бы вернуться туда, еще раз пропитаться беззаботным счастьем и весельем, и теперь уж так, чтобы точно хватило до конца дней. Чтобы не смазались образы, не разъелись буднями, не обесцветились и обесценились в погоне за «пылью в глаза».
Интересно, а как у тебя, Марк? Сложилось? У меня, наверное, да. Так кажется со стороны, когда в чужих взглядах, остановленных на моей персоне, ловишь проблески зависти, с ухмылкой, молча вопрошая в такие моменты: к чему? Но не об этом сегодня, стоило ли вырваться на несколько дней из бесконечной кабалы, чтобы поныть и плакаться воображаемому тебе? Нет, не стоило. Я здесь только для того, чтобы прикрыв глаза, очутиться снова в этом нашем с тобой «тогда» — самом счастливом времени моей жизни.
Тогда все было по-другому. Тогда — это стойкий привкус мяты и полыни на кончике языка, свежо и горько одновременно, как тот абсент, что мы тайком пили у тебя дома, закуривая его сигаретами с ментолом. Я не помню, когда я увидел тебя впервые, кажется, что ты был всегда. Но я точно помню ту бесконечно-длинную секунду — ту самую точку невозврата в моем сокрушительном полете, когда я посмотрел на тебя иначе, чем просто на парня из нашей большой и дружной театральной компании.
Темный, узкий коридор, желтушно-больной цвет давящих стен служебных помещений театра и ты, словно падший ангел — лениво плывущий или летящий навстречу, смотрящий куда-то глубоко в себя, но определенно мимо. И я, прижавшийся к стене и замерший, прозревший в миг слепец, и эта какофония красок, что стала вливаться в меня — до слез и звука сердца где-то в пересохшем горле.
Невысокого роста, стройный, с копной вьющихся, всегда нечесаных темных волос, которые падали на хрупкие плечи, широкий неизменно джинсовый комбинезон и черная футболка с длинным рукавом, чуть прикрывающая тонкие, словно стеклянные запястья с кучей замысловатых фенечек. И потрепанные грязные кеды. Тогда их точно никто кроме тебя не носил, это сейчас мода, а тогда, тогда для меня, парня из спального района, ты, выросший в центре города в среде местной элиты, казался пришельцем с другой планеты, эдаким представителем какой-то загадочной, неизвестной ранее культуры. А еще у тебя были маленькие колечки в ушах, по три на каждом, которые можно было разглядеть только в определенные моменты… они всегда позвякивали… когда мы…
Но это было позже, а тогда, в том узком коридоре, я рухнул вниз и полетел. За тобой. В прямом смысле. Я стоял на стремянке, вворачивая лампочку, и да, не удержался, рухнул, засмотревшись, к твоим ногам и это уже во всех смыслах. Ты хохотал, громко и вызывающе, как не мог никто другой. А я хватал тебя за изящные пальцы, которые ты тянул и никак не мог встать на подкашивающиеся ноги. Мы были знакомы, шапочно, кажется, несколько раз пересекались в компаниях, первокурсников особо не жаловали и не приглашали, но потом я часто вспоминал, что ты был всегда, да и как могло быть иначе.
— В следующий раз, будь осторожнее, Саша, — отсмеявшись, быстро протараторил ты и равнодушно пожав плечами, пошел дальше. Я смотрел тебе в чуть сутулую спину до тех пор, пока ты не скрылся за углом, и мое солнечное утро вдруг не превратилось в глухую ночь. Потому что тогда я еще не знал, что частишь ты словами только, когда волнуешься. А так, твоя речь обычно была плавной и тягучей, как свежесобранный, золотистый мед, и такой же сладкой.
Тогда, в самом начале, я многого о тебе не знал. Например, того, что ты любишь слушать Кобейна и Моррисона, смотреть Хичкока и читать Камю, что иногда ты куришь травку, а потом танцуешь под Light my fire — босиком, в одних, державшихся на косточках таза джинсах, так низко, что можно было спокойно рассмотреть выглядывавшие из-за пояса белые маленькие ягодицы. Я всегда сидел в такие минуты на полу, смотрел снизу вверх на плавное покачивание твоих узких бедер и изгибы спины, и то, как ты облизываешь сухие губы, подпевая почти на безупречном английском.
Но это все было позже. А тогда… тогда я стал часто ловить себя на том, что пропускаю слова каких-то витиеватых тостов, долго рассказываемых почтенными актерами, не гнушающимися рюмкой водки, потому что в очередной раз засмотрелся на тебя. На то, как ты крутишь в пальцах дымящуюся сигарету, или как ты лихо вливаешь в себя коньяк, ни разу не поморщившись, это в твои-то нежные восемнадцать. На жест, которым ты откидываешь волосы со лба, на взмах пушистых ресниц и блеск зеленых глаз…
Иногда ты перехватывал мои деланно-равнодушные взгляды, улыбался уголком рта и тут же отворачивался или с кем-то начинал очередной спор о какой-нибудь значительной, но точно мне неизвестной ерунде.
Впрочем, рядом с тобой все казалось тогда ерундой, даже воздух, которым порой никак нельзя было надышаться. Я не думал о том, что симпатия к тебе была чем-то неправильным и развращенным, тогда я уже слышал о подобных отношениях, и не тех, что рассказывали мои гоп-одноклассники в школе, а тех, о которых я прочел у Уайльда в его «Телени», я уже различал нюансы тех красочных прилагательных, которые люди употребляли, я уже на тот момент считал себя другим — парящим над обыденностью.
Тогда, мы не знали слова «гей», которое сейчас кричат на каждом углу. Мы знали только слова: «гомик» и «голубой» (были, конечно, и другие, они есть до сих пор — низкие, непотребные, какие-то смердящие) и употребляли их больше ради смеха, чем примеряя на себя. Да, тогда я и не видел еще таких парней, думал, что не видел. Пока однажды не попал с кем-то в местный кабак, сейчас и не вспомню, как он назывался, но мы смеялись, что эта наша локальная «Голубая устрица».
Так вот там, за одним из столов в тот вечер я увидел тебя, увидел и почему-то сразу все понял, про тебя, но главное — про себя. Ты тогда, наверное, впервые смутился, когда наши взгляды встретились и ты нервно стал вытаскивать пальцами сигарету из мятой пачки. А я ушел, отчего-то не хотел видеть, как тебе чуждо-неприятно под обстрелом моих излишне любопытных глаз. И шел я всю ночь через город, выветривая из себя алкоголь и какие-то ненужные мысли о том: «а что теперь?».
Я не буду врать, и не скажу, что с я радостью принял эту новую сторону себя, или то, что я отчаянно страдал и резал вены на лоскуты. Не было ничего такого и близко, мне тогда все больше было никак. До одного памятного вечера…
Часть 3.
К открытию нового театрального сезона была приурочена оперетта Кальмана «Фиалка Монмартра». Главную роль в постановке играла небезызвестная Анька, с ее сильным голосом тягаться из труппы никто не мог, оно и понятно, хотя за спиной гадости говорили все, кому не лень. Представление прошло с небывалым аншлагом, зрители аплодировали стоя, забрасывали сцену цветами, актеры выходили на поклон раз десять, не меньше. Зал был забит под завязку, уж не знаю по какому поводу, но сам я смотрел спектакль из угла галерки, только там место и нашлось. И смотрел я в основном на массовку, в которой заняли студентов первого и второго курсов (других и не было, театральный факультет открылся только два года назад).
Смотрел, угадывая в толпе твою, прилизанную по случаю макушку и радовался, как ребенок, что вот, сбылась твоя мечта и ты на сцене. И пусть рукоплещут пока не тебе, но я точно знал, откуда-то был уверен, что ты пойдешь намного дальше, чем та же Анька или кто-то из Заслуженных — было в тебе что-то такое, наверное, именно это и называют талантом. А потом мы всем скопом, безостановочно галдящие и радостные, терлись у студенческой общей гримерки, что располагалась в старой части театра, чтобы поздравить, поделиться впечатлениями и как следует отметить.
Тот удивительный, полный открытий вечер я запомнил навсегда, могло ли стать по-другому? Тогда именно он поставил точку в моем, казалось, что бесконечном ожидании, которое я нес на своих плечах с момента постыдного бегства из кафе «Эль Гаучо» (да, я вспомнил, как оно называлось). Все это время мы с Марком практически не виделись и тем более не разговаривали. Но это не отменяло того, что иногда я тайком наблюдал за ним, подсматривая в щель двери учебного класса, где проходили занятия по сценическим танцам или фехтованию, или бог знает, чему еще. Я незримо присутствовал в его жизни, сам толком не понимая и не гадая почему. Тогда все было до удивительного просто, тогда я не мучился метаниями, я все принял, как должное. И я ждал, ждал, потому что сам бы никогда не решился…
Мы поторапливали переодевавшихся ребят, стоя в коридоре у зарешеченного окна, смоля одну за другой, утопая в дыму и бесконечно споря. Кто о чем, это было и не важно, главным было желание выплеснуть из себя слова, поделиться новым. Я втолковывал какой-то незнакомой мне девушке о том, что «С широко закрытыми глазами» никогда не переплюнет «Заводной апельсин», а она что-то вещала о новом альбоме Дельфина «Глубина резкости». И это могло бы продолжаться еще очень долго, но из гримерки вышел ты и я онемел.
Такой неземной и всклокоченный, такой счастливо-уставший. Такой небрежно облокотившийся спиной на широкий подоконник, запрокинувший голову назад, так сильно, что стало заметно, как чуть подрагивает небольшой кадык на горле. Медленно прикрывший глаза, лениво попыхивая прикуренной сигаретой, зажатой между обветренных губ.
— Боже, какой же это кайф, надеть нормальную одежду после костюма. — ты выдохнул в потолок витой клубок дыма, глубоко засунул руки в карманы бледно-голубых, почти белых, узких джинсов и улыбнулся. А я забыл, что еще минуту назад что-то горячо кому-то доказывал, я просто смотрел на тебя, понимая, что смотреть уже мало. Что уже хочется дотронуться, хотя бы кончиками пальцев, хотя бы просто до руки… Ты делал вид, что не замечаешь, что не улавливаешь моих неровных от волнения выдохов и не слышишь гулкого стука сердца… Но ты поступал правильно, я это как-то, должно быть, подсознательно понимал.
А дальше был калейдоскоп привычной, не в меру громкой, вечеринки. С морем алкоголя и закусками, на которые в обычные дни никогда не хватало денег. Но сегодня была премьера — особый случай. Мы расположились в самой большой общей гримерке, сдвинули в один несколько столов, расселись вокруг и понеслось… Разговоры, критика, истории, мечты, мат, смех, песни.
Я уже куда-то плыл от коньяка, мерзко вонявшего клопами, и уже не прятал томного тоскующего взгляда, направленного на неприступного тебя. Но все равно было хорошо, просто хорошо, не почему-то, а вопреки. От осознания того, что вот ты рядом, сидишь на той стороне длинного стола, улыбаешься, куришь, тихо кому-то что-то шепчешь на ухо. И пусть не мне, да разве ж это было важно? Я тогда, в тот вечер и не думал ни о чем, просто наслаждался часами, проведенными в кругу уже единомышленников, которые понимали с полуслова, и кажется, с полувзгляда.
Но все это была лишь подводка, легкий аперитив к основному, горячему блюду. Не знаю, много ли найдется людей, которые были в такой обстановке и в такой компании, в которой бывал я — богемной, развязной, без предрассудков и комплексов. Мы могли с легкостью говорить на любые темы, нам все равно было кто и с кем, зачем и почему; мы гордились своими широкими взглядами на жизнь, тем самым абстрагируя себя от привычных устоев общества. Но то, что произошло дальше у неподготовленного меня, надолго выбило почву из-под ног и наверное, что-то изменило внутри.
В свои двадцать два я прекрасно был осведомлен о сексе, как с теоретической, так и с практической стороны. Возможно, я многого не знал, да так оно и было, ведь на тот момент интернет еще не был доступен, и порно я видел только черно-белое на затертой кассете, найденной мной случайно на полке чулана, за инструментами отца. Как и откуда она взялась в нашем доме, я был без понятия, но одним глазом глянул, само собой — просветился. Так вот, в общем, секс для меня был приятным, ни к чему не обязывающим ритуалом, редким — не скрою, и не сказать чтобы насыщенным. Три позы (миссионерская, коленно локтевая и, так называемая, наездница) все, что я пробовал на тот момент. Нет, понятное дело, что я видел в том фильме много чего еще интересного. Но кто тогда из девчонок на такое соглашался? Да никто в трезвом уме и твердой памяти! Все эти заграничные излишества были одним большим фу, об этом с приличной девушкой, вообще, не принято было говорить. Дают и радуйся, как-то так.
Знаете, как у студентов театрального бывало? «А тебе слабо сыграть это?». И конечно же, никому не было слабо, особенно, если перед этим изрядно было влито алкоголя. В тот вечер «не слабо» стало разыграть сцену секса. Мы все приветствовали, хлопали в ладоши, улюлюкали, уж точно надеясь увидеть не то, что нам показали, я-то безусловно. Я, душой наивного чукотского ребенка, думал увидеть пародию или может быть, фарс…
Но показали секс, настоящий, прямо на столе, буквально в паре метров от меня. Как это было? Сначала все смеялись и подбадривали, когда девочка стала виться вокруг уже состоявшегося актера, господи, я до сих пор ее помню, тихую, обычно скромную, не блиставшую на занятиях, я еще думал, как ее вообще взяли в театральный? А еще я помню коровьи глаза с длинными ресницами, которые не изменили своего тупого выражения даже тогда, когда ее поставили раком и хорошенько оттрахали перед всеми. Нет-нет, все было добровольно, никто никого не принуждал, но тем не менее, я впал в состоянии шока, такого, что не мог отвести глаз.
Так и стоял соляным столбом, как и остальные, полностью обалдевшие в заполненной людьми и тишиной комнате. И только ножки стола истошно скрипели по дощатому полу, в такт движениям «актеров». Я не знал, что было бы дальше, в тот момент никто ни о чем не думал, не могли. Абсолютно немая сцена, наверное, в такие минуты должно быть слышно, как на цыпочках крадется к кому-то смерть.
Когда твои холодные пальцы дотронулись до моей руки, я вздрогнул. От неожиданности, страха и острого удовольствия, что прошило буквально за мгновение с головы до ног. Я медленно повернулся, чтобы наткнуться на твои насмешливые глаза и безропотно пошел следом, когда ты потянул меня куда-то из комнаты.
В коридорах было темно и тихо, а мы все шли и шли, бесконечно поворачивая, пока не оказались на малой сцене, где обычно проходили репетиции и занятия студентов. Пустые, расставленные полукругом красные бархатные кресла, раздвинутые пыльные кулисы и маты на полу, это все, что я успел вырвать из полутьмы взглядом, все еще сжимая твою ладонь в своей. Потому что потом были только твои глаза и ничего больше.
— Что, дурашка, впервые увидел? — я только и мог, что быстро кивнуть. — Такое бывает, не принимай близко к сердцу. Наплюй.
— А ты привычный?
— Скажем так, не удивленный.
— По-твоему, это нормально?
— А это? — и ты меня поцеловал…
Дерзко, смело, не настойчиво. Просто коротко впился губами в мои губы и тут же отпрянув, замер, выжидая мою реакцию. А она, на фоне предыдущей сцены, была какой-то непростительно долгой. Я очень медленно соображал и переваривал, рассматривая пол под ногами и только несколькими минутами позже, поднял на тебя счастливые до невозможности глаза и стеснительно улыбнулся…
Часть 4.
А дальше, дальше были ежедневные совместные прогулки, в любое время дня и ночи, в любую погоду, не теряя ни одной свободной секунды: дул ли сшибающий с ног северный ветер или лил проливной дождь, или шел первый снег и было до невозможного скользко на тонком льду в легких кроссовках. Мы сбегали из дома и с лекций, чтобы побыть вдвоем, пойти прогуляться в заброшенный, уже по-зимнему голый парк на склоне реки или посидеть на горячих трубах отопления за зданием Дома Профсоюзов, попить пива и покурить, где обычно собирались редкие неформалы нашего города.
Мы были обычными парнями, мы не проявляли к друг другу открытых чувств на улицах или в кафе, в которых часто бывали долгими вечерами, чтобы погреть замерзшие посиневшие руки о бока горячих чашек с горьким кофе. Или выпить пятьдесят грамм коньяка, обжигая нутро до замирания дыхания и слез. Но чаще, много чаще мы были в компании друзей, лишь иногда бросая короткие опаляющие взгляды, пряча красные от смущения щеки и широкие улыбки, которые сами собой расплывались, стоило только медленно провести пальцами по волосам или шее…
Но отчего-то больше всего мне запали в душу вечера, проведенные с тобой в театре. Мы тогда забивались в одну из пустующих темных лож, садясь на пол, слушали краем уха, как на сцене разыгрывается действо и ели вафельные стаканчики из-под мороженного. Ты приносил их целую коробку, которую выторговывал у буфетчицы, и мы пачкая руки в подтаявших молочных липких каплях, кормили друг друга этим, тогда казалось, что королевским лакомством. А бывало ты оттачивал на мне хитрый трюк, который подсмотрел на каком-то своем занятии. Ты заставлял меня закрыть глаза и обострить все чувства, быстро царапал несколько раз ногтями по тыльной стороне ладони, а потом оторвав их от кожи на пару миллиметров, проводил медленно вверх по руке, заставляя угадывать, когда они доберутся до сгиба локтя. Я никогда не угадывал, а ты всегда после заливисто смеялся и целовал.
Тогда, в сравнении с тобой, я был слепым котенком, которого ты водил за собой на длинном поводке, не понукая, не принуждая, ты был, как умелый терпеливый дрессировщик, который лаской и нежностью добивался результатов. Ты не настаивал ни на чем, ты мягко подталкивал, не полагаясь на мою робость и зажатость в отношении тебя. Ты никогда не заводил разговоров о сексе или о том, как он происходит между парнями, ты не лез, не распускал руки, позволяя себе лишь поцелуи и объятия. Так мы и проходили, держась за руки, когда никто не видел, месяца полтора…
Вспоминая это, я начинаю тихо смеяться и качать головой, от той неловкости, той необразованности в интимных вопросах… Это сейчас достаточно зайти в интернет, чтобы все узнать, а тогда — не было гей-сайтов, гей-чатов, гей-фильмов, гей-порно и всего остального. Я мог лишь догадываться откуда ты знал тонкости, о которых никогда не говорил или говорил, густо краснея и неизменно шепотом, я просто чувствовал, что тебе можно довериться. И я доверился, разве могло быть иначе, ведь мне и самому стало казаться, что пора сделать следующий шаг.
Театр всегда живой, он пульсирует и дышит, даже если уже пуст и темен, особенно его старинная часть, отстроенная еще в конце девятнадцатого века. Незаметный служебный вход, который был с торца здания, вел в тесный холл с огромной кованной лестницей посередине. Когда я ее увидел впервые, был готов заплакать от этой скрытой от других людей красоты. Ее железные ступени шли круто вверх в обрамлении крученых, переплетенных цветами и листьями перил. Но самое главное, что лестница эта вела в мой личный локальный и определенно тайный рай.
Мы были на том же месте, в том же окружении пустующих красных бархатных кресел, в пьянящей, удушающей темноте малой сцены. Вокруг нас тихо раскачивались длинные черные кулисы в несколько рядов, а где-то вдалеке, за стеной и глухо-закрытыми дверями шло вечернее занятие студентов. Мы застыли в немой мизансцене, как два неопытных актера, пожирая друг друга глазами… и нужно было дать реплику — кивнуть или выдохнуть несмелое, хриплое: «да». Не помню, что сделал я. Помню только ощущение черных матов под спиной на полу между кулис, уходящий в бесконечность потолок, рваное дыхание и бешеный стук сердца.
Это был самый безумный, самый быстрый и самый дерганный секс в моей жизни… Мы толком даже не успели раздеться, ты как был в спущенных до коленей джинсах и футболке, так в них и остался, а я, я был в толстом свитере, который задрался к груди, но с голой задницей, прилипающий к дермантину мата. Надо ли говорить, что снизу был я? У меня тогда даже других вариантов в голове не возникало, я знал только то, что хочу кожей и каждым нервом почувствовать твою обнаженную кожу и как это должно было быть, было абсолютно не важно…
Ты целовал торопливо и жарко, оставляя засосы и царапины, ты, словно, наконец, дорвался до самого вожделенного. Я тогда потерялся в тебе, в твоей страстности и жадности, в твоих дрожащих руках, влажных губах… Мне было все равно, что ты делал со мной, потому что только одно осознание, что это ты, делало меня самым счастливым на земле.
Тогда, тогда мы сошли с ума, оба… Хорошо еще, что ты, как я потом узнал, всегда носил с собой маленькую плоскую баночку с вазелином — на всякий случай (да-да, тогда мы еще ничего не знали о смазке, мы даже не пользовались презервативами, потому что самой страшной болезнью был трепак, который еще надо было умудриться подцепить, а СПИД казался чем-то далеким и незначительным, от чего, как я слышал, умер Фредди Меркьюри, тоже еще тот голубой). Так вот, спасибо той заветной баночке, да, сейчас я могу со знанием дела сказать об этом, а тогда, я лишь раскрыл удивленно глаза, внимательно наблюдая, как ты этой вязкой субстанцией мажешь свой небольшой член.
Не стоит ждать, что я скажу, что это было непередаваемо и величественно, и я узрел, как взрываются звезды в конце долгого пути, ни черта я тогда особо, кроме жжения в заветном месте не ощутил. Ты так торопился, что забыл растянуть (да и не знал я, что это обязательно, как не знал об очищении и тому подобных стыдных подробностях) и нырнул в меня со всей своей мощью, что я не успел захлопнуть рот, и мой громкий вскрик, наверное, слышали те самые студенты за стенкой. А ты шептал: «прости, прости, прости». Даже тогда, когда через двенадцать фрикций, я считал то самое мелодичное позвякивание колечек на твоих ушах, кончил глубоко в меня…
А потом ты лежал рядом, крепко держал меня за руку, переплетя свои изящные пальцы с моими, смотрел бессмысленно в темноту потолка и улыбался, а я улыбался, глядя на довольного, разморенного тебя. На эти тоненькие, влажные от пота, колечки волос, прилипшие к вискам и щеке, на покрасневшую кожу шеи и припухшие губы… Это потом все было иначе, потом мы занимались сексом часто как кролики, в самых замысловатых местах и позах, в том же театре на третьем ярусе, за занавеской подсобки, где хранился реквизит и где буквально в паре метров от нас, прогуливались зрители спектакля… А тогда, тогда я по-быстрому кончил тебе в кулак и отеревшись носовым платком, натянул на себя штаны. Но я не был разочарован, вот что странно, может потому, что я ничего от тебя никогда не ждал и уже тогда понимал, что люблю.
— В следующий раз все будет по-другому, Солнышко. — Да, солнышко, именно так ты меня всегда называл, очень редко по имени. Даже когда мы ругались, я оставался для тебя Солнышком. Это было странным и непривычным, а иногда и страшным, когда ты забывался на людях… — Переночуешь в выходные у меня? Родители снова куда-то свалят. Мы будем курить отцовские сигары, пить абсент и смотреть черно-белые фильмы.
— Конечно, Марк. — разве я мог отказать тебе? Нет, не мог и никогда не отказывал, даже потом, когда все стало рушиться, я бесконечно долго соглашался на бессмысленные встречи с тобой. Мучая и себя, и тебя…
Но это было потом. А тогда, тогда мы возвращались из театра по ночному пустынному городу. Медленно молча плелись по улицам, не смотря на легкий морозец, толкая друг друга в бок…
Часть 5.
Все считали нас лучшими друзьями, даже наши общие друзья. И даже если Марк забывался и позволял себе излишне-личные слова и интимные жесты, мы всегда списывали это на шутку и проявления его творческой натуры. Он мог с легкость обнять меня на людях, нежно взять за руку, прислониться щекой к спине, горячо выдохнуть в ухо шепотом или провести пальцами по коленке — в такие моменты я всегда густо краснел и чуть ли не сбегал, а Марк заливисто хохотал, ему нравилось это опасное хождение по лезвию бритвы, словно он эквилибрист, нравилось чувство опасности и некий эпатаж. Мне это не то, чтобы претило, но, да черт, мне было страшно.
В тот год декабрь с самого начала неистово закружил ветрами и оплел крепкими морозами, по городу невозможно было свободно пройти, трамваи вставали, застревая в высоких сугробах, а мы утопали по колено в снегу. Совместные прогулки по парку постепенно сошли на нет, и все вечера наша пестрая околоактерская компания проводила в чебуречной, что располагалась на первом этаже гостиницы «Советская». В ней часто собирались неформалы, ролевики, какие-то потрепанные жизнью, обескровленные спившиеся интеллигенты и само собой, те тайные меньшинства, о котором большинство предпочитало не говорить.
Я до сих пор не знаю, как мы друг друга на раз вычисляли, не было никаких особых знаков, пассов или еще чего-то подобного. Но достаточно было посмотреть на человека, чтобы понять — да, ты такой же, как я. Словно над головой загоралась тайная лампочка, да что говорить, я до сих пор их вижу, и сейчас много чаще, чем тогда. Кажется, теперь это называют гей-радаром, может оно так и есть, спорить не буду.
В тот вечер Марка не было, что-то произошло в семье — так он мне сказал (но я подозревал, что ему в очередной раз достался нагоняй от предков, мы совсем забросили учебу, впереди уже отчетливо виделось исключение из института и не только нам), я не лез и не выспрашивал. Иногда мы проводили время у него дома, но я никогда не встречался с его родителями. Я знал только то, что они оба работали на местном телевидении: отец директором, мать гримером. Был еще младший брат Артур, иногда придя из школы, он заставал нас едва ли не на самом интересном. Мы только успевали натянуть штаны и накинуть футболки, а потом, как два распоследних идиота громко смеялись под обиженным взглядом ничего непонимающего ребенка.
За столом шло громкое, но беззлобное обсуждение премьеры фильма по роману Паланика «Бойцовский клуб», как мы жарко спорили о том, кто лучше: Бред Питт или Эдвард Нортон, как цитировали, разбирая на отдельные слова строки нашумевшего культового романа, как наслаждались игрой актеров и великолепной Хеленой Бонем Картер… и как я по всему этому скучаю сейчас. Столько эмоций и столько кружек кофе с коньяком… прекрасное время не менее прекрасной молодости…
Парня все звали Кукла, может от того, что его лицо было похоже на фарфоровое кукольное? В детстве, когда мама водила меня в Детский мир, там такими куклами были завалены все полки, они были с оранжевыми и голубыми кудрявыми волосами и огромными глазами, которые по-глупому закрывались, издавая забавное хлоп-хлоп. Так вот, с Куклой меня познакомил Марк в кафе «Эль Гаучо», он был, как сейчас говорят: пассивным геем. Я запрещал себе думать на тему этого более чем подозрительно и неприятного знакомства, Марк жестко сказал, что так было нужно. Ему нужно было в какой-то момент его жизни знать, что он такой не один и, в конце концов, всему научиться. Я только молча кивал… Хотя на душе кошки скребли, сколько их таких было, тех, кто его учил?
Да, я тебя ревновал, но тем не менее, никогда не закатывал истерик. Истерики были твоей привилегий, я прощал, улыбался, иногда бил кулаком в стену, пока ты не видел, но всегда прощал. Поэтому, когда Кукла вошел в тошниловку, я встал навстречу, поприветствовать и пожать руку. Мы о чем-то даже потрепались незначительном, может и о дурацкой погоде и я минут через пять вернулся за стол. И вот тогда на меня снизошло понимание того, что какие бы хорошие друзья не окружали, всегда найдется тот, кто кинет в тебя камнем. Конечно же, были и другие — понимающие и толерантные, но их было единицы. А может быть, и сейчас ничего не изменилось, как знать.
— Саш, ты знаешь, кто это? — я даже не помню, кто это тогда спросил. Его лицо, как и имя давно стерлось из памяти, но слова засели очень глубоко.
— Да знаю. А что?
— Ты бы с ним не водился, про него всякое говорят. — и тот, кто это выдал, под любопытные взгляды остальных, наклонился почти к уху и прошептал. — Он педик, оно тебе надо? Мало ли что, слухи пойдут.
Помню, я удивленно раскрыл глаза и молча покивал, все еще искоса посматривая на Куклу, который сидел с каким-то парнем за соседнем столиком. Это был весьма мерзкий случай, не последний в моей жизни, но очень показательный. Через пару дней я рассказал об этом тебе, ты кричал матом, говорил, что я дурак, и если я еще что-нибудь подобное выкину, то ты начистишь мне рожу.
— Никогда, никогда не подходи к таким, как Кукла или Елисей! Ты можешь незаметно кивнуть им, проходя мимо по улице. Но в кругу близких и якобы друзей — нельзя выставлять на показ такие знакомства. Больше так не делай, никогда! Обещай мне.
Но были и те, кто о нас знал, кому Марк решил доверить личную тайну — его однокурсник Женя со своей подругой Леной. Мы были частыми гостями в их приветливом теплом доме, часто там ночевали. И когда стал приближаться конец декабря и Новый год, было дружно решено, что встречать мы его будем у них. Я был до опупения рад, ведь это должен был быть первый праздник, который бы я провел не дома, не в кругу опостылевшей недалекой семьи, с которой и поговорить-то не о чем. Да, этот праздник обещал быть самым настоящим, потому что рядом будешь ты и нам не нужно будет скрывать своих чувств.
Всю неделю до часа «икс» мы, как бешеные сдавали зачеты и носились по магазинам, на отложенные карманные деньги и чуть заработанные, закупая продукты и алкоголь. Не скажу, что наш стол ломился от деликатесов, да и не было их тогда на прилавках, но это был мой самый лучший Новый год. Если вспомнить сейчас все прожитые года, все праздники, то именно тот будет самым легким и радужным, самым счастливым.
Я помню, как тогда под громкий бой Курантов по телевизору мы уже довольно пьяненькие и развеселые, целовались и загадывали желания. А потом зажигали бенгальские огни и стреляли хлопушками, осыпая друг друга разноцветным конфетти. И черт с ним, что на следующий день, мы несколько часов ползали по полу собирая те самые мелкие кружочки.
— Знаешь, говорят с кем встретишь год, с тем его и проведешь. — это я жарко шептал тебе в ухо, когда мы уже голые и удовлетворенные лежали на диване, а рядом расточая одурительный хвойный аромат, стояла разряженная в огоньки елка.
— Неправильно, Солнышко. Сегодня мы встретили целое тысячелетие, так что, так просто ты от меня не избавишься через год. — и тон твой тогда был таким серьезным, что мы оба надолго замолчали. Я представил, что следующую тысячу лет проведу с тобой и мне почему-то стало по-настоящему страшно.
Часть 6.
Остаток той суровой зимы размазался по памяти невзрачной рутиной, подчисткой хвостов по зачетам и вздохами долгожданного облегчения. Мы все еще были студентами ВУЗов, все еще опаздывали на лекции и судорожно готовились к семинарам, за десять минут до звонка открывая вырванные из рук у однокурсников учебники и конспекты. Ты где-то там, в закоулках и тупичках старого театра, штудируя ненавистный тобой французский, а я, я в новом, только что отстроенном корпусе университета, постигая глубины сопромата и логики.
А потом была весна: ласковая и зеленая, с ароматами распустившихся на клумбах тюльпанов и зарослями цветущей сирени в запутанных аллеях города. С долгими посиделками на затертых кривоногих лавочках и пригоршнями звенящей мелочи в карманах, что оставалась от покупки сигарет и пирожков, тех самых промасленных и прогоркших, но таких неизменно вкусных. Пьяные вечеринки в тесных гримерках, чужих квартирах и дешевых кафе постепенно выплеснулись на улицы, сменились прогулками в парках и редкими выездами на чьи-то дачи. Прежним осталась лишь то, что были мы — я и ты, пусть и уже не так остро и часто, как раньше. Но все еще, вопреки здравому смыслу, косым взглядам и личному ощущению приближающегося конца.
Нет, я любил тебя, все еще любил, мне нравился твой необременительный стиль жизни и твои неиссякаемые интересы, твои необычные вкусы, которые я впитывал в себя, не гнушаясь ничем, а бывало что и затыкая слабые возмущения совести. Даже в сексе с тобой, я переступил, пусть и не сразу, узкие, навязанные родительским воспитанием и обществом, рамки и кинулся вперед покорять новые, до этого неприступные, вершины. Порой ты мог смущать своей откровенностью и пошлостью, подсмотренными в каких-нибудь фильмах, категории ХХХ. Но мне нравилось, пусть я стеснительно морщился и зажмуривал глаза, искоса из-под ресниц наблюдал за опьяненным близостью тобой, краснел, пыхтел и робко повторял те самые священнодействия, доводящие нас обоих до исступления. И наверное, именно тогда и именно ты привил мне излишне развращенную эстетику страсти и задал ту самую высоту планки в интимных отношениях, которую я все последующие годы примерял на других. Но это было потом, между тогда и сейчас…
А пока к нам незаметно подкрадывалось душное пыльное лето и вереница изматывающих экзаменов. Короткие ночи, полные бессонницы и зубрежки до черноты перед глазами, это все, что я запомнил из сессионного ада — я сдал и в каникулы не просто влился, я в них вбежал сломя голову, ожидая какого-то чуда. Вот только ничего волшебного так и не произошло. Трудно сейчас сказать почему, по большому счету вокруг меня тогда ничего не изменилось, а может изменилось все, но я проспал или проглазел — не заметил. Ты стал часто пропадать дома, тебя увозили то в отпуск на море, то к бабушкам в другой город, то куда-то еще. Ты был вечно занят, а бывало что и просто-напросто забывал о назначенной встрече — можно было бы это назвать свиданиями, но тогда я определенно точно не мыслил такими громкими категориями. Я думал, что лето нас сблизит еще больше, но нет, оно потихоньку подтачивало и без того хрупкое ненадежное счастье, оставляя меня в одиночестве на задворках бетонных кварталов.
Но было и то, что и теперь, спустя кучу лет, сложенных в полтора десятилетия, отчетливо всплывает в памяти, и закрой я глаза, передо мной нарисовалось бы несколько ярких картинок и навсегда застывших кадров из моего авторского кинофильма, длиною в жизнь. Такие коротки вспышки, которые отчего-то приятно теплятся внутри, словно старые угли, окуная в бесшабашную юность. И это даже совсем ничего, что вспоминается не только хорошее, теперь все вызывает легкую улыбку и налет светлой грусти.
— Солнышко, давай завтра погуляем в парке? — ласково лепетал ты в трубку, и я засовывая в очередной раз подальше обиду, всегда отвечал: «Да». И мчался едва тащившимися по рельсам трамваями на те самые тайные встречи, словно украденные у самих себя.
Я всматривался в синее небо над головой, в скользящие по нему скрипучие кабинки канатной дороги с редкими пассажирами и в листву, что трепетала от дуновения теплого ветра, отбрасывая ажурные тени на наши обнаженные тела. Чувствовал прелый запах травы под спиной и щекочущее копошение насекомых, что норовили пробраться к потной коже. Я прикасался к тебе, дышал твоим ароматом, слушал рваное позвякивание колечек в ушах, и твоих и моих — наших. Отчего-то думал, скорей бы все закончилось, а потом долго и нудно очищал пятна зелени с истертых коленей и одежды, и капли спермы со своего живота. И курил, до фильтра, до обожженных кончиков пальцев, понимая, что ты уже не со мной. Ты давно пошел дальше, лишь изредка отдавая дань прошлому.
То жаркое лето прошло разделительной полосой по моей жизни, и совершенно незаметно по твоей. Эти качели — вверх-вниз еще долго не давали спокойно существовать. Я все еще говорил, скорее по привычке, что люблю, но уже откровенно злясь, и даже твое «Солнышко» стало неимоверно выводить из себя. Особенно в те моменты, когда ты оправдывался, запыхавшись дыша в телефонную трубку. Сколько было таких звонков из случайно повстречавшихся автоматов? Я только и мог, что гадать: где ты и откуда звонишь, вслушиваясь в шум города на заднем плане.
Нет, я не страдал от первой несчастной любви и вдруг разбитого сердца, я не разрывался на куски от горького разочарования, я просто в какой-то момент оглянулся вокруг и увидел, что мир по-прежнему здесь, стоит на месте, бурлит словно варево в казане и что в нем еще столько интересных людей, которым по-настоящему нужны мои чувства. И к концу августа даже нашелся тот, кому я захотел их отдать. Там тоже все кончилось, едва успев начаться, да и сколько еще было потом таких влюбленностей — не пересчитать…
Первое сентября в тот двухтысячный год, ознаменовался ветром, принесшим проливной дождь и моим твердым решением уйти. Я помню, как мы сидели на полу в модном тогда кафе, в подвальчике музея, куда приходили посмотреть пиратские фильмы под чашечку кофе со сливками, как вокруг нас сновал народ, а ты прижавшись лбом к моему плечу, просил остаться и начать все сначала. И как мне было неприятно видеть чуждое тебе унижение и твою, сквозящую в дёрганных движениях, злость.
Ты говорил — много торопливо без тормозов, именно тогда я узнал, что были другие. Не много, но мне было удивительно все равно, я даже в какой-то момент того дня улыбнулся, словно избавившись от давившего на грудь камня. Может от того, что ты был для меня слишком сложным и непонятным, да притягательным, но даже это проходит. И уж совсем откровенно смеялся над очередным заверением в безграничной любви, про себя отмечая твой прирожденный талант актера. Как ты заламывал руки — я внутренне рукоплескал. Молча слушал, согласно кивал, мысленно закрывая за собой двери.
Потом, через несколько месяцев до меня отголоском или запоздалой сплетней донеслось, что тебя пьяного снимали с крыши шестнадцатиэтажки, и ты что-то кричал обо мне и моей подлости. А я, памятуя о твоей склонности к театральным эффектам, только качал головой, убежденный в том, что ты бы никогда не спрыгнул. О нет, ты слишком сильно любил жизнь и себя.
Наша последняя встреча была нелепой и абсурдной до безобразия, и совсем ненужной мне. Было лето, еще одно, но уже две тысячи второго года, тогда я попал в больницу с неожиданным диагнозом, заставившим меня проваляться в палате около двух месяцев. Первая городская стояла на берегу Волги в сосновом бору, и как только погода стала позволять, я через окно на первом этаже выбирался на улицу, подышать свежим воздухом и поболтать с друзьями, что приезжали в выходные меня навестить.
Мы компанией сидели на пригорке, подставляя изможденные болезнью тела первым горячим лучам солнца. Я курил запрещенные врачом сигареты, смеялся глупым шуткам и точно не ожидал услышать твой голос у себя за спиной. Ты стал другим, не таким, каким я тебя запомнил. Даже прическа изменилась, намного короче, чем прежде и голос, отчего-то тихий и неуверенный, правда с теми же ленивыми интонациями.
— Здравствуй, Саша. Я слышал ты в больнице, решил навестить. — Я смотрел то на него и его спутницу, странную девицу с излишне пышным телом, то на своего нового, очередного парня. И единственное, что в тот момент хотел, чтобы ты просто ушел и никогда больше не появлялся. Мне не нужна была твоя жалость и твое сострадание, мне уже не нужен был ты. Я даже не вспомню, что ответил, но точно сквозь зубы и недовольно.
— Что это за хрен, Сань? — спросил Лешка скорее для проформы, нежели питая чувство ревности. Он, вообще, был не склонен в проявлению эмоций, если дело не касалось танцев, которыми он жил.
— Да так, когда-то учились вместе. Ерунда.
Часть 7.
Спектакль еще не закончился, а я полчаса уже как сидел в машине под мерный шелест дождя, ощущая внутри абсолютную безвозвратность былого. Я видел тебя, видел на сцене, где ты играл — обычный мужик средних лет, без прежних сияющих искр в глазах, зато с большими залысинами на высоком лбу и неизгладимым отпечатком ошибок молодости на помятом лице. А у меня ничего, кроме короткой усмешки своей глупости, чего ради стоило ворошить весь этот воз старья? Только задохнулся от слежавшейся пыли, что серым облаком взвилась ввысь, пробуждая приступ раздражающей аллергии.
Да и откровенно говоря, постановка была так себе или за долгие годы, прожитые в большом городе, я набаловался и привык к другому уровню театров? Все было не так, и даже отреставрированное старинное здание больше не впечатляло до замирания сердца, и огромная люстра над партером уже светила не так ослепляюще ярко, как тогда. И даже коньяк в буфете, что я пригубил в антракте был настоящей отравой. Удивительное разочарование от вечера и бессмысленно убитого времени.
Откровением стала лишь краткая биография под твоим портретом в фойе — на стене почета — я долго стоял перед фотографией в лучших театральных традициях любого провинциального города, не менее долго вчитывался в текст: бла-бла-бла, карьера, постановки, ведущий актер, женат, ребенок… Только и смог, что покачать головой и закусить губу от накатившего веселья. Вот это в жизни повороты, на все сто восемьдесят, поэтому и ушел, не стал продолжать питать ностальгию истертыми и давно забытыми образами прошлого. Зачем, когда есть такое прекрасное, пусть пока по достоинству неоцененное, настоящее и наверняка будущее?
Это всего лишь город — едва подсвеченное нагромождение зданий в сгустившихся сумерках. Навеял бестолковую грусть по юности, и осень и желание поразвлечься, не нарушая установленных самим собой границ. Будь то любое другое время года, любой другой город и культурный поход, и не вспомнил бы никогда, как бегал босиком через эту улицу по лужам, под козырек театра, где меня ждал ты. А теперь меня ждет другой, и не здесь и не так, но точно без фальши и наигранной театральности.
Поэтому и включил телефон, который тут же разразился громким верещанием, не терпящим промедления. Я счастливо улыбнулся, увидев довольную рожицу своего неугомонного Даньки.
— Привет, мой хороший.
— Привет, Саш! У меня такие новости, нет, ну ты представляешь, меня утвердили! Боже, как я рад. Я ведь думал, все — завалили, отдадут место своему…
— Это стоит отпраздновать, — я смеясь, прервал поток его слов, Данька мог говорить о своем назначении на должность часами — до отъезда он мне всю плешь проел, да так, что я частенько стал задумываться о перерыве в отношениях. Два карьериста в одной квартире - чересчур.
— Да! Я об этом даже не подумал. А ты когда вернешься? Если в выходные, то можно успеть на ту вечеринку в клубе, о которой ты мне говорил…
— Завтра, ближе к вечеру. Что-то я уже нагостился за глаза. Домой хочу.
— И соскучился?
— Очень, очень-очень.
— Тогда я сделаю ужин, да?
— Да. Делай, что хочешь. Ведь тебе можно все.
— Все мне не нужно, только ты. О, блин, я правда так соскучился, Саш. Я знаю, что в последнее время только и говорил, что о работе, черт бы ее побрал…
— Я люблю тебя, Дань. Ты даже не представляешь, как сильно и как по-настоящему, — Данька надолго замолчал, я слышал только его шумное дыхание в трубке.
— Ты там не заболел часом? Такие откровения и от тебя? Начинать бояться? Вещи собирать?
— Начинать радоваться и думать, чем меня будешь потчевать. Мне мамины борщи и макароны по-флотски уже в печенке сидят. Хочу нормальной еды! Нормальной постели и нормального тебя под боком.
— А нормальный секс в перечень входит? А то я уже как-то подзадолбался тут в одного…
— Только если ты ни слова не скажешь о своем назначении.
— Больше, вообще, ни слова. Клянусь! Я не хочу, чтобы ты снова от меня сбегал.
— Больше и не сбегу. Обещаю.

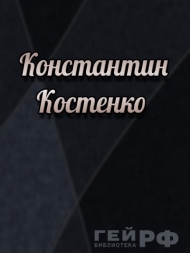


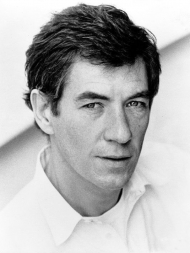
1 комментарий