Cyberbond
Жизнь хрупка и безумна
Аннотация
Судьбы женщин вокруг гея — это ж почти всегда какой-то дурдом! На самом деле любая судьба дурдом, если вдуматься…
Судьбы женщин вокруг гея — это ж почти всегда какой-то дурдом! На самом деле любая судьба дурдом, если вдуматься…
 О том, что жизнь хрупка и безумна, мне живо напомнил пример одной милой, но странной женщины. Звали ее Натальей Николаевной, фамилии я не помню, да и не в этом суть.
О том, что жизнь хрупка и безумна, мне живо напомнил пример одной милой, но странной женщины. Звали ее Натальей Николаевной, фамилии я не помню, да и не в этом суть.Н. Н. была хрупкая, тоненькая, как птичьи лапки, женщинка, но в чертах ее имелось что-то кошачье и даже тигриное: ноздри очень сильно играли, глаза навыкате и — стоячие дыбом, как у писателя Гофмана, крашеные хной волосы.
Теперь она в сумасшедшем доме, доча туда ее определила, доча и не могла иначе: Н. Н. стала на нее бросаться с ножом, раздувая свои тигриные ноздри, а доча работает, на сиделку нет денег. Короче, дурка пожизненно.
А с Н. Н. мы ходили в Консерваторию, я и Андре[1], несколько лет подряд — последний раз в феврале месяце. Она хватала нас за руки и бурно, бурно на все реагировала. На нас — радостно, на других — враждебно, и даже чуть не сунула кулачком по лысому темени впереди сидевшей старушке, — старушка стала есть конфету во время симфонии, шуршала фантиком и не давала летать. Н. Н. чуть ее не убила, но мы подхватили ее за локти, — тогда обошлось без жертв.
А вот что мы слушали, вспомнить уже не могу (да и вам это надо ли?)
Первое, что делает в Консерве Андре — он в ней писает; простатит. Я стою среди клубов дыма в курилке, словно среди пожаров чужих здоровий, и жду его. А он всегда там вздернутый, с пафосом, наш Андре: Консерва — храм, и простатит в это время по боку…
А ведь это, как говорит одна моя тетушка, «здоровьичко»! И что за трагедия — вставить свечи в задницу? Я ведь вставил себе 20 штук — ничего. Писаю реже, к музыке приникаю всем сердцем, без позывов нелепых и унизительных.
Вы скажете: о чем он пишет! Сперва о сумасшедшей какой-то, теперь о своей моче.
Но жизнь хрупка и безумна — поэтому все в строку. Можно, как акын, гундеть на губе про любое, что под руку подвернется.
Потому что под руку поэту попадает не просто любое, а с божественным умыслом. Эх, был бы он, умысел этот, только поснисходительней!..
Но он не помышляет о нас и воздвигает в своих космических пустынях, что ему хочется.
А мне сейчас горестно и не спится, и вот я пишу то про свою мочу, то про несчастного человека, которого как бы ногтем поддели и выковырнули из сонма людей, — и нету его!
То есть, он где-то еще живет, но это уже не жизнь.
И все чаще в голову лезет, как близкие и просто знакомые — рядом, своими путями, прошли. Шли-шли, прошли, — и все вышли.
Мы — как стадо. Одно безумие.
Вот пример безумия вам еще…
*
Когда-то, в голодные 90-е, я жил с одной сумасшедшей женщиной. Познакомила нас Жули (см. рассказ "Девочки", — тогда мы с Жули еще как-то дружили).
Жули предупредила, что Надюша была в дурке. Но эти хиппи всегда обо всем самом важном говорят очень косвенно — к жизни относятся по касательной, чтобы она их слишком не потревожила.
Надюша оказалась миниатюрной девочкой, темно-красные волосы туго-натуго стянуты сзади гимназическим бантиком, в лице что-то от олимпийского медвежонка добродушное, изумленное, а конопушек — как на блине. Казалось, лицо ими пушится.
Наде я очень понравился; Надя в меня влюбилась. И хотя была на год старше, но совсем еще, именно — девочка, гимназистка, беспризорное существо: не прошедшее, не отставшее детство.
Отец ее умер, он был профессор. Мать никогда не работала, к тому же была больна и стара. С началом «реформ» они погрязли в такой нищете, так голодали, что у них на ногах язвы открылись. Вскоре мать умерла от рака, и Надя осталась совсем одна в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте, в точно таком же сталинском доме, как у меня, посреди руин былого благополучия.
Приезжая к ней, я всегда изумлялся: словно через всю Москву, через эту снежную серо-черно-желтую слякоть я перся, чтобы войти в знакомый подъезд — только не в трехкомнатную свою, а в двухкомнатную соседскую квартиру. И такую пустынно пустую, что там голосом можно было гонять шары из отчаяния.
Мы сидели с Надей на шатком диванчике начала 60-х, и все вокруг было из тех лет, хлипкое, колченогое, — все из раннего детства нашего, все кремовое и синее, как детское засыпание в летние бесконечные сумерки.
Блудить в этой детской казалось странным, словно я Свидригайлов какой-нибудь.
Это было и трогательно, и страшно: безумье большого города, безымянное и обыденное.
И мне всё казалось (и теперь по разным поводам мнится), что каждому отведено заранее определенное число впечатлений, которые не преумножаются, а лишь по-разному повторяются, то согревая, то навевая уныние беспросветное. Они движутся мимо нас, как бусины, лишь им внятною чередой. То есть, почему именно они и почему в таком вот порядке — они-то знают, а мы знать не то, что не можем, а просто остерегаемся. Не нужно нам это знать.
До «главного» у нас что-то долго не доходило, Надя стеснялась, сбегала с рук. Потом всё же произошло, и она поведала мне свое страшное горе: какие-то родичи ее изнасиловали и вообще хотели отравить из-за жилплощади. Рассказав это, она тыкалась мне головой в грудь — так плод тычется в стенку чрева, проверяя, насколько он под защитой, насколько храним и любим, быть может.
А еще от Нади просто дикой скукой, как стужею, наносило, и на меня нападала такая тоска, что я из постели бросался звонить от нее знакомым, чтобы просто назло судьбе весело потрепаться. Я увлекался, и тогда она звала меня к себе густым странным басом, ревнуя.
Никак я не мог понять, зачем я весь этот маразм завел и как мне от него, дураку, избавиться.
Из-за стекол шкафа на меня смотрели огромные фото ее родителей, таких молодых, счастливых, приличных, из, наверно, поздних 40-х годов. Я старался не встречаться взглядом с этими четкими их зрачками, с их ласковым (хотя и с вопросительным знаком к грядущему) ликованием.
Из соседней — «моей» — квартиры заливалась злая собачка. Там жила злая соседка, которая Надю «терпеть не могла».
И вообще над Надей клубились какие-то тени — тени острых крыльев, острых клювов и острых когтей. Но все это было лишь фоном. «Я счастливая», — говорила она.
Я ушел, — просто ну сил моих больше не было!
Потом Жули сказала, что Надя опять в психушке. Я перся в дурку, была весна, цвели вишни и яблони — дым отечества самый сладостный. Но было не до того, было очень всё как-то безумно-бессмысленно, в никуда.
Врачиха в дурке уныло смотрела на меня, как на беспризорного еще идиотика. (Я: «У Нади ужасные родственники!» — Она: «Вы ей верите?..»); старшая медсестра была мощный, жизнерадостный гренадер и, наверное, лесбиянка.
Надя явилась в длинном сером халате, заляпанном кашей, говорила хриплым, чудовищным басом, несла сексуальный бред: Басаев в другом отделении, она его видела через решетку, но он ей сказал, что «ему пока не нужно»… То есть, она и с Басаевым, и с врачом, и с санитарами, которые ее сюда везли, — и смотрела на меня с жадным, но почти равнодушным ликованием валькирии, пролетающей над армиями мужчин покоренных, взыскующих.
Смотрела, как на ребенка, как на мальчика.
Я понял, что больше туда никогда не пойду, — ни за что!.. Ах, ну хватит!
*
Я так и не знаю, что сталось с Надей. Одна, сумасшедшая, в такой квартире, в такое безнадежное для нее, в страшное время…
Даже думать про это не хочется.
Жули тогда разоралась: «Ты что, жениться на ней не можешь?!» — «И что это будет за жизнь?» — тихо, покорно ответил я.
*
Дом скорби, в который потихоньку превращается этот текст, должен быть дополнен и этим вот экземпляром. Все в нашей конторе звали ее просто Танькой, Танюшником. Епифанова была именно «Танюшником» — сочетание балагана, гадючника и помойки.
Хилая, мелкая, угловатая, как подросток, она имела бледное, нервное и очкастое лицо зубрилы — тайного живодера.
Как старомодные дамы носили с собой ридикюль, так и Танюшник всегда таскалась по конторе с чайником, перевязанная по брюху допотопным клетчатым платом и в войлочных ботах почти в любое время года.
Я только что пришел на работу, считался молодым специалистом, в людях не разбирался. И Танюшник набросилась на меня. Поймите, однако, верно: Танюшник изливала мне душу. Душу она изливала часами, поливая при этом всех остальных. И если слово есть бог, то Епифанова решила заменить им для меня все доступное мироздание.
Я ей сонно, почти без чувств уж, внимал. Наконец, взбунтовался — и она сделала меня тотчас своим врагом.
Танюшник ненавидела всех, кто трезво видел ее, кто знал ей цену: ей нынешней, убогонькой, с этим чайником.
У нее часто возникала на лице судорога, и это раздражало, как признак оставшейся в ней человечности.
Однажды она пригласила нескольких нас в просмотровый зал, и долговязый Коля-механик, чуть растерянно усмехаясь, показал нам черно-белый фильмец.
Там Танюшник Епифанова была в фате, в дивном платье, — красавицей. И жених у нее оказался двухметровый блондин и летчик.
Включили свет. Таня сидела, гордая, царственная, светски любезная. Она готова была ответить на любые вопросы.
А нам все равно казалось: она ссимулировала какой-то бред.
Увы, Епифанова пала жертвою неудачных родов. Она родила ребенка ценой своего здоровья — в том числе и психического.
Короче, пленка не помогла. Епифанова все равно осталась для нас никчемным, но злобным Башмачкиным из финала «Шинели».
И все-таки ее, в общем, терпели — она же, со своей стороны, оказалась живучей.
Был паритет, потом ее радостно, через 20 лет, «проводили» на пенсию.
Она жила в однокомнатной квартире с сыном — запойным пьяницей.
Где она теперь — кто бы знал?
Да и кому она интересна?..
*
Вообще я встречаю довольно много психованных, особенно среди женщин, и эти встречи сопровождают меня всю жизнь.
Наша новая редакторша Римма Васильевна Чингачгук походила на банку. Не на ту стеклянную банку с вареньем, о которой вы все, наверно, подумали, а на чугунную болванку, к которой швартуются корабли.
Она была квадратно-круглая коренастая брюнетка в костюмчике грубого мужского покроя и подчеркнуто, назойливо деловитая. Какие корабли швартовались к ней, можно было только догадываться. Потом все-таки выяснилось, что это были наши художники-концептуалисты и диссиденты всех мастей, спервоначалу принимаемые нами за дворников и бродяг.
Римма Васильевна выдавливала из себя слова с важной неповоротливостью долго остававшегося в запоре — с неповоротливостью почти мучительной. При этом все эти слова оказывались мудреными, из них Хайдеггер и когнитивный диссонанс были наипростейшими.
Когда я тоже пытался вставить в беседу свой очумелый животный мык, то всегда спрашивал позволения и слышал в ответ ее снисходительно-забубенное: «Валяйте!»
Своим пытливым правдолюбием и бодрой склонностью к разоблачениям Р. В. доводила начальство до белого каления, до истерик с серией беспомощных выкриков лядь-лядь-лядь, — и это посреди культурных ценностей нашей конторы!
После этого Р. В. на время успокаивалась и даже начинала сама страдать, что подавила в начальстве личность, а не пробудила ее — как надо бы!..
Со мной диссидентка сошлась на почве гороскопов, составила мой и заявила, что в прошлой жизни я жил во Франции и теперь должен познать ее ментальную противоположность — Россию.
Но сама Р. В. от природы была смешливой полухохлушкой и по неожиданным для меня поводам начинала часто-часто дышать, выдавая затем совершенно девичий и даже стыдливенький «хи-хи-хи!..». В том числе и на мои вполне ведь серьезные вопросы, — например, гомосек я все-таки или, может быть, пронесет?
— И меня тоже! — отвечала она, лукаво играя ямками на щеках и намекая то ли на свою ориентацию, то ли на бородатый один анекдот.
Именно Р. В. познакомила меня с известной в богемных кругах лесбиянкой Милой, которая учила тантрическому сексу — но это отдельная песнь, и не здесь, не здесь!..
Зато очень скоро я оказался единственным, кто мог в конторе затыкать гражданочку Чингачгук простым: «Ну конечно, Р. В.! Мне больше делать нечего, как только кнопки вам в чай пулять…»
Она начинала тотчас смеяться и прощала мне свое подозрение.
Все остальные ее боялись, а иные при встречах и прятались.
Потом у нее случился роман с правнуком одного святого, крестившего племена Крайнего Севера. Кто-то из них (то ли предок, то ли потомок) был геем, но роман все равно имел место и, наверно, счастливый. Потому что после одного из свиданий Римма Васильевна как-то особенно страстно помогала мне в проведении «круглого стола» на тему «Молодежь и отечественная духовная традиция: аспекты проблемы». Она активно, пригнувшись, бегала, среди слушателей и вообще была похожа на толстую черную мышь, проглотившую накануне зерна пшеницы молочной спелости.
Не в пример другим, она была тогда счастлива.
*
Ну, и здесь мне придется вспомнить ее непосредственную начальницу. Она тут вроде бы ни причем, никакой шизы, даже странно.
Никакой шизы, — но зато судьба, а это, наверно, еще печальнее!
Итак, Елена Сергеевна Цолльнер возглавляла редакторов, в том числе была шефиней и Танюшника, и мистической Чингачгук. И такое всегда было впечатление, что сперва ее вздели на копья, а потом посадили на щит и сказали: «Работай! Ты здесь одна это можешь, ты добрая…»
Елена Сергеевна была добрейшая женщина, но и умнейшая, из старинной немецкой московской семьи (ноги в третьей позиции), однако политизирована просто до ужаса. («Этот Ельцин! Он богатырь!») Как и всем в ее поколении, Е. С. нужно было во что-то верить. Чтобы был, наконец, мужчина — и не совок, а деятель…
При мысли об этом мне становилось страшно за Елену Сергеевну. Ее рыжеватые локоны, тонкость ее фигуры и эта непременная «третья позиция» — и взгляд серых немецких честных-пречестных глаз, сперва такой взыскующий, пристальный, но затем все более затравленный, подозрительный, отрешенный…
Она считала меня неисправимым — незаслуженно — пессимистом.
Порой Е. С. звонила мне в 12 ночи и утробным и трубным голосом, плача и пьяная, говорила:
— Валера! Ну зачем он (Ельцин) так? Ну зачем, почему он ТАКОЙ? А?.. Как все, Валера… Валера! Я опять напилась, как дура, мне стыдно, но я вам скажу правду сейчас, вы только не пугайтесь: вы — ГЕНИЙ! И не надо так! Так смотреть на жизнь! Жизнь — другая, хорошая… Вы понимаете? НЕ НАДО ТАК!
При слове «гений» я нервно дергал себя за яйца и утешал ее, и говорил, что жизнь, конечно, другая и всякая, и хорошая в том числе, а сейчас лучше лечь, выспаться, и черт с ней, Елена Сергеевна, с этой политикой!
Мне кажется, она была немного мною увлечена. И я — я как-то, опасаясь этих ее ночных утробных звонков, все же внутри ХРАНИЛ (охранял?) ее, берег, как кусочек России, «которую мы потеряли». И что-то еще про храм…
После своих долгих горьких отсутствий она чувствовала себя виноватой перед всеми, даже перед Танюшником. Что вот, мол, неделями на работу не выходит, но все ведь горит внутри — и почти, может, уже выгорело.
Даже третья позиция…
В начале осени 97 (кажется) года она умерла внезапно: оторвался тромб. В гробу Елена Сергеевна хитро, таинственно улыбалась.
День похорон был чудный:
Осень, прозрачное утро,
Небо как будто в тумане,
Даль из тонов перламутра,
Солнце холодное, раннее.
Я молча плакал, что больше никогда не увижу ее, даже раз в две недели. Зато она ото всего избавилась.
*
Да, жизнь хрупка и безумна. И если я вогнал вас в депрессию, то не отчаивайтесь! Даже в этом во всем бывают просветы, смешное, — а смех ведь лечит, не так ли?
Когда мама Андре сошла с ума, она часами разговаривала с собой на разные голоса — и так любезно, и именно на разные:
— Ох, милая! Какая шляпка! Вы прекрасно выглядите сегодня!
— Да, это я в ГУМе очередь отстояла полдня…
И тут вдруг врывался деловитый мужской басок:
— Это чешская или из «Балатона», скажите, товарищ, пожалуйста?
Андре летел в комнату, думая, что в квартиру проник посторонний.
Мать не замечала сына и светски щебетала в ответ:
— Нет, это из «Ванды», она — польская.
Конечно, Андре приходилось с ней круто, и он часто срывался. Мать замолкала.
Однажды он расчесывал свои длинные локоны, сверкая серебряными перстнями, — опаздывал на работу.
Мать подошла сзади, обошла его с одной стороны, с другой и густо, с угрозой почти, изрекла:
— У-у, женщина! И как только Андрюша с тобой живет…
[1] См. мой рассказ "С Новым гадом!""


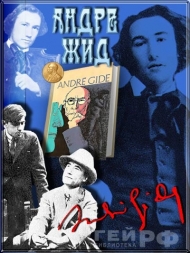

7 комментариев