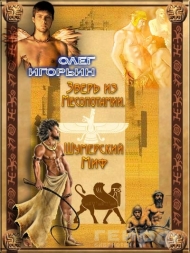Cyberbond
Цурипопис, блудница Бабилонская
Аннотация
Древний Бабилон (Вавилон) – неисчерпаемый кладезь сюжетов. Теперь нам туда!
Древний Бабилон (Вавилон) – неисчерпаемый кладезь сюжетов. Теперь нам туда!
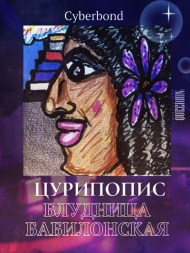 «Бабилон! Великий могучий единственный такой на Земле людей и богов; город, распаленный похотью величайшей, неслыханной; город, которым правит Царь Царей Царь Любимейший и Могучий и Вавилонский и Ассирийский и Междуреченский и Зареченский и Приморский с обеих сторон Земного диска и Гениальный Вождь Народов и Учитель Жизни и Любовник Правды Шалапутнасрал III сын Хервотвала VI-го, внук Задрала VIII-го; город, без которого кто я? — последняя сучка подзаборная, шавочка мокрохвостая; город, который которым которого…» — я перевернулась на спину, наконец.
«Бабилон! Великий могучий единственный такой на Земле людей и богов; город, распаленный похотью величайшей, неслыханной; город, которым правит Царь Царей Царь Любимейший и Могучий и Вавилонский и Ассирийский и Междуреченский и Зареченский и Приморский с обеих сторон Земного диска и Гениальный Вождь Народов и Учитель Жизни и Любовник Правды Шалапутнасрал III сын Хервотвала VI-го, внук Задрала VIII-го; город, без которого кто я? — последняя сучка подзаборная, шавочка мокрохвостая; город, который которым которого…» — я перевернулась на спину, наконец.Из всего, что бубнил во мне этот унылый и сиплый, точно спросонья, голос, — голос моего скрытого «я», — правдой было, прежде всего, то, что я сучка по жизни вполне подзаборная. Я начинала как сучка. Стать сучкой опять, самой уличной? Уже не тот возраст, уже не получится! В одно лукошко два раза не какают. Вот почему (по всему по этому) расскажу про себя, по порядку, не кокетствуя (зачем вам теперь оно?) и не пряча в воду концы (чужие). Но их было так много, этих концов… Нет, сперва не об этом, сперва о случае в жизни — и о просто жизни как таковой, подзаборной и сладкой и всяческой!
О женской судьбе, без которой ни один из вас не явился б на свет, придурки!
Итак, негодяи, слушайте!
Моя жизнь началась с того, что я, сама того не желая, вдруг нате вам родилась. Причем родилась неудачно, не в царской семье, как хотелось бы, а в тростниковом почти шалаше, на краю поля, которое походило на болото, полное всякой тропической нечисти. Мой отец носил простейшее аккадское имя Задница и был сыном, внуком и правнуком череды бесчисленных скромных вечно чумазых Задниц, покорных незавидной своей судьбе. Мать имела имя шумерское, принятое в их таком же скромном роду — Соббака. Мою младшую сестренку тоже назвали Соббачкой, но для меня и брата родители еще мечтали об иной, прекрасной судьбе. Брат получил имя Задсоббак — имя воина, но не земледельца, а я стала называться импортным (египетским) именем Цурипопис. То есть, с пеленок родители предназначили меня в дар богам.
Еще в детстве я была глазастенькая, губастенькая, чем и возбуждала этих ненормальных мужчин. Во всяком случае, Задсоббак, парень не по годам смышленый и «правильный», приводил ко мне своих дружочков, и я играла на их дудочках с наивностью, достойной лучшего — более выгодного для всей семьи — применения.
В известном возрасте меня отдали в дар храму бога Дар-Кадума. Я вышла на тропу служения богу Дар-Кадуму, да святится имя его и имя нашего государя Шалапутнасрала III в веках и прочих тысячелетиях. Я сразу научилась предохраняться и вообще следовать всем нашим бабилонским бабским традициям, без которых нам, женщинам, ну никак.
Я и впрямь увлеклась своей миссией, своим служением божеству, с которым — я подозревала — у меня все было «не просто так». Поэтому после дневного рабочего священнодействия в храме я на свой страх и риск выходила на вечерние улицы, такие таинственно привлекательные для всякой девицы — не только профи, но и любительницы, и даже если у вас лишь собачка имеется.
В тот год наша страна вела всякие операции на территории воображаемого противника. Дело в том, что душа бабилонская шире вселенной, так что все земли вокруг для нас — наши по существу, а враги только воображаемые, ведь они, дураки, это (что они наши враги) лишь навоображали себе. Затем-то (чтобы в себя, наконец, пришли) мы их и бомбим. Вот почему Бабилон уже сделался таким дико и пестро населенным, как энциклопедия, городом, ведь каждый норовит в нем еще и спастись. Без этого мы бы стали просто нормальными обывателями — но кто же в истории ценит и помнит «просто нормального обывателя»? Он кроме себя никому и не нужен в истории, эдакий в теплой постели червяк. Человечество устроено так, что запоминает одни извращения.
И вот иду я, значит, по пыльному за день раскалившемуся асфальту, на мне полосочка золотистой дешевой ткани, голые титьки торчат, как нос у вечно юного Буратино, волосы везде на себе я покрасила в мудрый такой серебристый цвет, — короче, была хороша, чертовка!
Ну, и конечно, почти тотчас услышала:
— Скучаем, ля?
Это был молодой очень крепкий парень, и голова его была брита налысо, как яйцо. Часть хобота из тренировочных он выставил, и резинка так отклячила залупень, что густо-розовая головка пустила мутную искреннюю слезу.
Я смотрела строго только на эту слезу, мне почему-то стало очень жалко ее. И значит, для него я «потупилась» — от стыда? Я назвала цену вдвое ниже той, что ему бы пришлось в храме платить.
— Че задешево-то? Болеешь, ля? — удивился (равнодушно, однако ж) он. Черный ворс у него клоком даже из выреза майки торчал, а мускулистые руки были словно в чехлах из курчавой шерсти. И это его музыкальное «ля» после каждого слова почти, — все заставляло увидеть в нем не просто очередную сволочь, но еще и романтика.
Он сунул мне недопитую банку пива как задаток наших будущих отношений и с треском открыл другую, для себя.
— Я у тя первый сегодня, ля? — спросил.
— Какая разница? — проявила я естественное для всякой девушки, положенное ей равнодушие. Ставила, значит, на место его.
— Да че: ты не под парами же, ля, пока. Был бы не первый, ты бы датенькая была б.
— Не с каждым пьем! — отрезала дерзко я.
— Ха, такая сопля, а опытная! — ухмыльнулся (сам опытно) он. Если честно, он не то, чтобы мне сразу понравился, но почему-то как-то вот забирало меня от него. Жалко, если одним отсосом здесь за кустом ограничатся наши с ним отношения. Хотелось всего его тела, в котором так и играла, так ведь и прыгала похоть, ходила волнами с мутно-белыми на гребнях барашками.
Почему-то сразу пришло: «А ты не быдляк, козлина! Ты ведь кто-то еще, д р у г о й! Но кто? Не маньячино же? Хотя — если и да, он маньяк?..»
— Я маньяк, — кивнул парень серьезно, будто мысли мои прочел.
— Не пойду с тобой! Отвяжись! — отрезала строго я.
— Еще как, ля, пойдешь! Пиво мое сосала? Значит, и хрен пососешь! — сказал он не злясь, а, скорее, бодро-уверенно.
Он меня сразу как-то и захватил этой своей уверенностью.
— Покажи талон! — велел он. — А то прям Лолита какая-то. Читала?
— Я не студентка тебе тут книжки читать. Я здесь, между прочим, работаю!
— Не быкуй, работящая! — ответил он со смешком, но так, что вроде бы и одернул. Начальничек — над моей… Но не люблю грубых слов, если всерьез не собачимся. Вы меня, ясно же, поняли…
Я еще удивилась, чего он тянет? Хер-то весь уже взбеленился от семени. Другой бы в первом бы подъезде бы уже бы сделал бы все бы дела б! А этот… Маньячино? Но что-то говорило во мне: не то! Не шиза — или я просто не хотела разочарований в этот в общем обычный мой рабочий начавшийся вечер. Но он даже имени своего не назвал. Понятно: имя в наших отношениях вовсе не главное, но нередко мужик, под банкой особенно, делится: все ж таки люди мы.
— Мы же люди — слышь-ка ты, работящая? Тут шалман есть один, подходящий. Хочется расслабона, ля.
А может, он нарк — ищет, где бы закинуться?
— Там и обслужишь! — он опять угадал направление моих мыслей. Эх, «мои мысли — мои скакуны», как поется в древней шумерской песне. Корень слова — конечно, «какун». Срут мыслишки-то, где ни попадя.
И мы спустились в шалман, который, конечно же, был в подвале — который, конечно же, был говно. Сиренево-красная кислотная цветомузыка, и баба голая у шеста от масла блестит.
— Хе, — кивнула я на шест многознающе, — говорят, у царя царей (да святится имя его!) во дворце тоже такая волшебная палка имеется…
— На то он и царь, чтобы под рукой, ля, было хотя бы необходимое, — пожал он плечом. — Ты, ля, не отвлекайся-ка. Живо под стол, и давай начинай уже. А я тя, ля, буду с руки кормить.
Вот! Пригласил типа на ужин дамочку… Но такие обломы у нас, у жриц, каждый вечер случаются. Значит, простой отсос и никакой больше с ним лирики.
Стало сразу скучненько, муторно. И с чего я, дура, сперва раскатала губу?
Вообще шалман был левый какой-то, да в другой бы меня не пустили. Надо всем бушевала багрово-алая надпись: «Всё для вас!», и вертлявенький диск-жокей насмешливо и пронзительно выкрикивал то и дело, в одно слово: «Всёдлявас!» Но уж точно не для меня…
Козлина сел за столик в углу. Я полезла под стол, работала тупо, равнодушно, наощупь, на автомате и в темноте. Вспомнился дуре мой самый первый «конец». Был он совсем молоденький и в н и м а т е л ь н ы й. Было приятно очень, не как сейчас. Он юный, я у него тоже первая. Случилась почти любовь. А случись первым у меня такой вот равнодушный козлина, всё бы во мне поломал, и никакого романтизма от мужчин я больше бы не ждала, даже их бы возненавидела!
Вспомнился тут мне и Задсоббак со своими дружочками. Ни один в меня по-серьезке-то не впихнул, совсем дураки еще, да и братец следил, чтобы было без главных глупостей. Моя целка была капиталом всей нашей семьи. А тот мой самый первенький, юноша, наследство как раз получил и тотчас баб вот распробовал. Наверно, теперь уже промотался вконец. Дурацкое дело нехитрое. Звали парнишечку Валтасар.
Ну, работаю себе под столом тихо, почти инкогнито, И слышу: кто-то подходит к моему кавалеру. Ноги босые в слайсах пластмассовых, слайсы хлопают. Голытьба, но запах от ног — запах до одури ведь знакомый. Запах, можно сказать, родной! Я про своего-то козлину думаю: еще и сосать дружку заставит, мной угостит. Такие залеты у нас, бабилонских блудниц, да запросто! Каждый видит в нас вещь, а не живого «работника великой армии труда», как поется в популярной аккадской песне. Ну, я дело делаю, а мой козлина весь под парами и радостный (ясное дело):
— О ля! Какие люди в Болливуде! Седай давай, ля! Угощаю, а ты дальше, ля, рассказывай про войнушку свою, чего вчера мне не добазарил, ля!
Ну, слайс мне на руку наступил, садясь, и погнал, как на скифов они напали, всех разбомбили в хлам, а после уцелевшим еще и больницу построили. И какой он был при этом при всем, сука, (его словцо!) «молодца».
Козлина меня под столом пнул:
— Слыхала, какой, ля, герой, ля, жопу греет со мной? Ну-ка, и ему сделай, как мне! Угощаю, мужик!
Тут я аж взбесилась:
— Да он же брательник мне! Задсоббак! И эту его байку про больницу у нас в селе только кошки не пересказывают. Но построили мы скифам разбомбленным не больницу, а школу, потому что те, кого мы разбомбили, и без всякой больницы померли.
Мой козлина руками развел:
— Ну, раз так, можешь ему не отсасывать. Мы же, ля, не ебиптяне какие-нибудь, не извращи, ля!
Козлина все ж таки оказался с совестью. Люблю, если которые с совестью. Не то, что дружки эти братцевы.
Но мы все встрече обрадовались, побратались аж. Козлина велел третий бокал — для меня — подать.
Козлина и вовсе поплыл:
— Люблю, ля, наш бабилонский народ! Хоть об угол его лупи — все одно, сволочь, выживет!
На это мой Задсоббак заплакал без голоса, но после войны он вовсе сделался нервный какой-то, как бы и трахнутый: то молча заплачет, то вдруг взбеленится вот именно что «до белых глаз».
Мой козлина вздохнул: да что тут и скажешь-то?..
— Ладно, герой! Душевно с тобой, но нам, ля, пора. Бывай! — и козлина — хоп! — мне на шею ошейник так ловко, опытно, засадил. И на поводке потянул к выходу. А я, значит, на четырех на всех рядом шлепай, именно как собака.То есть, никакой даже и не отсос рядовой, а махровое садомазо — во всех смыслах «густопсовое». Я и эти примочки знала уж от клиентов, от других «концов», но за такое всегда плата отдельная. Я ему про это и сказани.
А он:
— Не щемись, работящая! Получишь по всему прейскуранту и с добавочкой. Ну-ка, ля!..
И хлоп мне на глаза — дорогущие, между прочим — шоры. То есть, я не только как собака, но и вслепую с ним телепайся на улице, при всей голытьбе! Слава Дар-Кадуму, хоть ночь совсем, на панели одна пьянь, не обратят на такое внимание, сами едва ведь ползают.
А день был — чисто парилка, и вечер такой же: плывешь в собственном, «ля», едучем поту. Я не про запахан — еще на запах на работе внимание обращать! — а что глаза неудобно ест.
Сперва шлепали по грязи липучей, после пошел камень довольно чистый, асфальт. Пару раз козлина останавливался и ссал мне в рот — ну да это ж такая моя работа, ничего личного. Я хавальник раскрывала бездумно, но козлина, гад, наслаждался и все гундел, что это ж он кровь почти что свою в меня заливает. С каких это пор ссаки — то же, что кровь? Либо у него, у козлины, и то и другое — одно? Гломерулонефрит?
Я чуть было это не брякнула, но слава Дар-Кадуму, не выдала. А он все про войну тарахтит, про братца моего героического и про то, что мы всегда побеждаем, которые вавилонцы-халдеи и ассирийцы-молодцы, а которые египтяне (он говорил «ебиптяне») и всякие гречишки ничтожные — эти все пшено, их всегда били и бить будем бессчетно. А которые хетты — они тоже вроде бы молодцы (хоть и враги), умеют сражаться и свирепые, как мужику по жизни вообще и положено, — но у них боги какие-то придурочные: один другого в жопень отодрал, а у того оттуда третий божонок вдруг народился.
— Прикинь-ка, ля, работящая: пантеон жоподрищенский!
Ну, я тоже пофыркала: прикольно, ага.
— То ли дело нашенский Дар-Кадум! Детишек в жертву ему регулярно приносим, кормим несозревшею молочною детворой. А то без дела она туда-сюда носится, бесится; еще бунтовать начнет!
И дальше всякая про наш бабилонский патриотизм пошла пропаганда. Мой Задсоббак тоже на этом деле сильно повернутый: типа мы зашибись, а остальные окрестные все — говно, но, сволочи, залупаются. («Были б говном, так и не залупались бы», — я подумала).
Тут, правда, и хорошо пошло: камень-асфальт горячий закончился, ползу по шелковистой влажной муравушке — и запах ночных цветов просто совсем дурой делает. И вода мирно шумит впереди — наверно, фонтан.
— Это мы в Народном парке имени Дар-Кадума? — спрашиваю.
— Мы у самого Дар-Кадума, считай, за пазухой!
Вконец, видать, мужик окосел.
Потом опять камень пошел, какие-то всё ступени, ступени, но чистые. И запах совсем удивительный — от такого точно на небо улетаешь. Но ползти по ступенькам было непросто: слишком долго и муторно. У меня в груди будто что-то острым углом повернулось.
Я тут стала скулить:
— Отпусти меня, сил нету дальше карабкаться, я же не скалолаз!
А он:
— Терпи, дура! А то вмиг слетишь у меня.
Может, мой и жрец Дар-Кадума, но не до такой же , блин, степени!..
Наверное, я вас утомила этой всей болтовней, но из песни слова не выкинешь. Поверьте, я очень тогда намучилась. А те, которые «работящие», как и я, к носу притрите: терпенье и труд всё перетрут! Подумаешь, полсотни солдат тебя отработало — а ты, может, на пятьдесят первом это… которое… Вдруг и судьба?
Но нет — зачем забегать вперед?
Еще проползли — и всё, я рухнула.
Он:
— Ну ты че, работящая? Три ступеньки всего и осталось-то…
Но я молча лежу! Пускай хоть откуда сбрасывает. В полете перед смертью хоть отдышусь.
Он матюкнулся, подхватил меня подмышки и эти три ступеньки волоком дотащил. И как куль, через порог перевалил. А пол-то холодный и вроде мраморный.
Надо мной закурил.
— Ну че, — говорит, — попинаю тя, трахну, ля, и выкину. Один иудей ученый сказал: «Человек рожден для счастья, как птица для полета». Вот ты и будешь целых три секунды, ля, очень счастливая.
— Я об этом уже подумала, — отвечаю с огромной такой чисто женской усталой горечью.
Маньяк! Вот залетела — перед полетом-то…
А он поржал, видя весь ужас мой, и кричит:
— Эй, Без-Яиц! Принимай товар! И смотри, чтобы девка была довольная!
Тут и Без-Яиц этот явился, евнух. Снял с меня шоры и потянул за собой. Не стану деталями вас томить, только через час я была вся чисто вымыта, накрашена и надушена, и Без-Яиц мне даже сикель очень грамотно пососал. Но все молча, на вопросы не отвечал.
Восстановил меня полностью. О смерти я уже и не думала, легкомысленная коза, хотя ведь жмуров у нас красят еще сильней, чем живых: «всем смертям типа назло».
— Ну ты, ля, красава фартовая! — восхитился мой кавалер.
Сам он даже не переоделся, и такой же потный. Ну да и ладно: принял-то хорошо. Сидел на кушетке чистого золота, а на столе — чего только нет!
— Вы, — говорю, — вовсе и не козлина. А кто?
— Хрен в пальто, — отвечает. — Тебе что за разница?
Я пожала плечами: не хочешь — не говори. А сама, между прочим, была вся голая, тряпочку Без-Яиц не вернул мне.
— Помещение, — говорю, — у вас странное. Почему круглое и без окон?
А комната и впрямь цвета такого сиреневого и вся от купола до пола, и самый пол, в серебряных звездочках.
Махнул рукой:
— Потанцуй! — и музон врубил: дунц-дунц-дунц. Я подрыгалась, старалась красиво дергаться. (И по бокалу уж выпили — вкуснотища ужасная!) Я говорю:
— Я е ю и курить могу. Китаец один научил.
Показала.
Он посмеялся:
— Видел я эту фигню. Но ты молодец, работящая, ля, стараешься! Ты вообще-то прикинь: я ж ваш царь и есть, Шалапутнасрал намбер сри, Я ж заодно и бог. А тебя, такую вот, выбрал в супруги себе на эту святую ночь. Сегодня праздник Шабаш — забыла, ля? Мне всяких богатеньких пихали на ложе тут. Но нет, думаю: раз ночь сегодня святая, то она святая для всех. Для всяких шанс, не только для, ля, элиты!
— Демократ, — говорю, — какой же вы все-таки у нас демократище, ваше величие!
— Ты демократией своей сраной меня не мажь! Просто, ля, умный вот. Теперь быстро про помещение. Зало круглое, поскольку это типа вечность и есть, а в вечности нет границ, жизнь и смерть — одно и то ж, между собой без разницы. Также и звезды эти. Считается, что в вечности нет, ля, границ, ни между предметами, ни между чем. Мы с тобой сейчас, ля, как два облака в невесомости трахаемся.
— С ума спрыгнуть! — говорю. — Ведь такая великая честь…
— Для тебя, — отвечает, — честь. А для меня — работа такая, долг. Просто Шабаш, и я, царебог, должен трахнуть какую-нибудь дщерь человеческую. Так что я тебя взял сюда не просто так, не дурака, ля, валять. Потому лестницей и испытывал. Испытание ты выдержала — в смысле, ля, вынесла. Ну, значит, подходишь для Шабаша.
— А если б я не смогла, не вынесла?
— Тогда мне тебя с лестницы скинуть пришлось бы. Тут без обид, чисто традиция. Ну, хорош лясы точить, иди-ка сюда. Время трахаться!
— А потом?
— А потом — суп с котом. Ля! Если, само собой, не понравишься…
Но я понравилась — вот ведь что! Даже не потому, что старалась — хоть это само собой. Но именно чем-то глубинным покатила моему Шалапутику, ненаглядному моему Насранушке. Потому что он народ наш халдейский любит, любит с народом быть, потому что устал, бедный, от царской-то роскоши. А я самая что ни на есть народная — из-народная и под-народная!
Вот судьбы-то и сошлись.
А еще ему покатило, что от меня кроме парфюма наносного и бабьего всякого запаха еще и несмываемым солдатьем несло. Да и как же не пахнуть, если по взводу в день?
Ну, в общем случилось самое человечное, что может случиться на планете Земля: нашли мы друг дружку, подошли друг к дружке, как ключик к скважине. Это редко, но метко случается. И если с вами этого еще не было, — почаще пробуйте! И должно повезти, не может не повезти, в нашем-то Междуречье-то! В нем всяк счастье свое хоть в яме с дерьмом, а отроет ведь!
— Хочешь, коза, все те здесь покажу? — спросил он, когда отдышались. Теперь я ему не «работящая» сделалась, а «коза» — то есть, вполне даже родная душа и женщина.
И он повел меня по всему зданию, которую у нас в городе зиккуратом зовут.
А там внутри ничего ужасного, помещения очень даже уютные, можно жить. Мой-то (я теперь его так называла уж про себя) там часто и живет. Запрется, пиво ящиками, и даже без баб. Бабы тоже достали его эти дворцовые.
— Класс, что ты солдатней разишь, — говорит. — Хоть какой свежачок… А вот это — не обосрись! — Дар-Кадум и есть. Тот самый, кому детвору в жертву приносим. И никакого изврата, не думай, не ебиптяне — только сжигаем живьем у него в брюхе. Они как бы ему в пищу идут, а зола — вот видишь? — в поддон высыпается, он как бы ею и срет. Удивительно легонькая зола и пахнет вроде как молоком.
Он зачерпнул полную ладонь, мне поднес.
— Не! Как сметанка, мне кажется, — возразила я.
— Дура! — тут обозлился он. — Они же живые были, жить хотели, наверное…
И вдруг заревел белугой. Это после узнала я, что его самого дитенком в медном брюхе Дар-Кадума чуть не сожгли. Враг тогда к самому Бабилону подошел, надо было бога задобрить самым чтоб дорогим. А он у царя — старший сын, наследник, и возраст вполне молочный еще. Но обошлось: там на осаждавших срач вдруг напал, антисанитарию никто ведь не отменял. Они отступили. Ну, и мой Шалапутушка уцелел, мой Насралушка. Так что точное имя дали ему — точно судьбу напророчили.
А сам Дар-Кадум, чтоб вы знали — вовсе простой: метра так полтора дяденька, лысенький и с бородкой. «Самый человечный человек» по виду, — хотя, конечно, и бог в первую очередь. Но если б он был просто сам себе бог, без всего человечьего, как бы мы о нем вообще узнали? Он был бы для нас, как микроб, незаметный нам. «Не пойман — не вор, не виден — не бог», — так говорят наши проверенные халдейские мудрецы. И еще говорят: ничто человеческое ему, богу, не чуждо — а молочная детвора уж точно, в первую очередь.
А Шалапутушка-то все рыдает, все рыгает от чувств. Я обхватила его, все сопли его себе на грудь приняла, в сисях горе его утопила, как совсем еще мелкого. Сисями утираю слезы-сопли ему, он в сиси сморкается. Успокоился, наконец. Потом стал сиси мои обсасывать, внимательно, очень нежненько.
— Добрая ты, — урчит, — добрая, как кормилица, ля, моя…
Тут я гляжу, и глаза у меня вылезают на лоб сами собой. Темя у Дар-Кадума засветилось, свет разлился по лысине и стал на лицо спускаться на старенькое. И доброе гномье лицо его тоже засветилось всё. Ожил наш Дар-Кадум!
— Смотри, — говорю, — Шалапутушка: он нам радуется!
— Не радуется. Просто уже рассвет.
Я вверх-то глянула — а там в самом темени купола дырочка. И она такая распрекрасно, как головка у члена, резко розовая!
— Вот в эту, ля, обычно минуту и кормим его, — Шалапутик пробормотал.
Мы поскорее ушли на балкон.
— Ой, — говорю, — из города видно нас. А я ж голяком…
— Ну и хрен с ними! Пускай смотрят. Может, я в царицы тебя, ля, возьму. Пойдешь за меня, козуля сисястая?
Я, вздохнув:
— Так только сказки кончаются…
— А фигли это не сказка. Взгляни!
А небо такое розовое над нами, а парк внизу такой темный и пышный спит, но щелкает уже там птаха незримая.
— Соловей! — говорю.
— Говорю же: как в сказке, ля, — умыто смеется царь.
13.06.2022