Cyberbond
Слезы в дыму
Аннотация
Роман из жизни пажей времен Николая Кровавого. Тайны, загадки, секреты (в том числе, и альковные: да, и Григорий Распутин — отчасти наш, и принц Петр, муж сестры царя — тоже). Ну, и налет постмодернятинки. Так что и Григорий Распутин, и Маша Распутина. А Ленин=Пикуль+Акунин+Распутин, но Валентин: они же все литераторы!
Роман из жизни пажей времен Николая Кровавого. Тайны, загадки, секреты (в том числе, и альковные: да, и Григорий Распутин — отчасти наш, и принц Петр, муж сестры царя — тоже). Ну, и налет постмодернятинки. Так что и Григорий Распутин, и Маша Распутина. А Ленин=Пикуль+Акунин+Распутин, но Валентин: они же все литераторы!
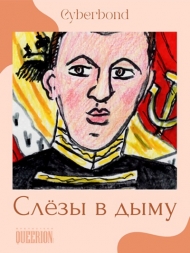 Глава первая
Глава первая«Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили!
Ананасы в шампанском — это пульс вечеров!»
Игорь Северянин
Характер в жизни — первая вещь! И я твердо теперь убежден: если бы не мой расплывчатый, странный нрав, не случилась бы и вся эта история. Грешным делом, теперь я думаю: не вышла б в России и революция… Впрочем, это последнее есть уже преувеличение — глупое, невозможное…
Скажем так: жизнь наша русская столь причудлива, что стрястись в ней может любое и всякое, и даже такой конфуз, как, прости господи, революция. Мы все любили нашего государя, лысоватого, компактного, ловкого, в меру ленивого, в меру нахального, отчего и революцию поняли сперва как пустой неумный конфуз праздных народных толп — слишком, правда, докучный, чтобы вовсе его игнорировать.
Но что я заладил все: «революция», «революция»?!.. Вернемся лучше ко мне и расскажем всю эту историю «от яйца», с самого ее розового начала.
Отец мой Карл-Фридрих-Иероним барон фон Катценлебен-Нидерпруф из остзейских немцев, матушка — княжна Мурукова, из татарских древнейших мурз. Papa — тих и светел лицом, до тотальной брезгливости чистоплотен и въедливо предан монархии как идее единственно неизбежного в его жизни порядка. Зато maman — стихия угрюмая, вольная, мрачная, лупившая меня и слуг зонтиком, веером и перчатками почем зря, но все же прекрасная, потому что видите ли — maman!..
Я родился русый и чистенький, но со стихией в душе столь вольной и жуткой, что до сих пор пугаюсь себя во сне, ибо только там мы предстаем перед нашим внутренним взором без пут, скреп и прикрас, без привычных русскому военному человеку нового 20 века сапог, кальсон, монокля и аксельбантов.
Позже, прочитав «Петербург» модного нынче современного автора, какого-то странного «А. Белого», я подумал: а ведь это все обо мне — правда, только отчасти, касательно!.. (История на месте-то не стоит).
Отца я знал мало и стеснялся его. Он все время был во дворце при царе или «у штабУ», как называл это дело денщик Гриша Власенко. А кстати, о денщике, неизбежное: Власенко был рослый нагло томный хохол, с глазами и шерстью на теле точно из черного с кучерявиной бархата. Такой весь пушистый, огромный и мягонький, что невозможно в нем было хотя бы разок в неделю не утонуть. Он оставался неизменной моей грезой все детство, целых три летних бескрайне зеленых и порою опасно проказливых месяца.
Осенью нас разлучили, отдав меня в Корпус учиться, хотя я сразу понял, что мучиться. Ах, я тотчас ведь догадался: это грустно шелестевшее вялое золото на ветвях, это слишком белое прохладное солнце и слишком пристально синее, как соглядатай, небо, — это все н е к д о б р у!.. Гриша Власенко меня как «паныча» уважал, хотя, конечно, с некоторых пор не стеснялся. Но здесь, в Корпусе, почти все были при титулах.
Уже в дортуаре, в первую ночь, меня переименовали в Катценлибена (из «Кошачьей жизни» в «Кошачью любовь»). И это было только начало! Нравы в Корпусе цвели совершенно восточные — младшие служили старшим наложниками, а самым распространенным невиннейшим развлечением было «кропанье булочки». На бедную булочку дрочили и спускали в кружок, и впавший в экстаз последним должен был булочку эту, уже всю в «соусе», съесть под общий хохот и улюлюканье. Затея пагубная! Привычка всегда спешить помешала многим из нас во взрослой (даже и политической, и военной) жизни…
Мне, маленькому и тихому, совсем бы туго пришлось среди этих монстров, этих «зверюг», если бы не имелся в Корпусе надежный «поплавок» — двумя годами старше меня мой кузен князь Миша Муруков. И здесь тотчас на ум приходит манерное, декадентское слово «рок»: Миша Муруков обличьем был схож с моим Власенкой — томный, смуглый и бархатно-черненький, но с руками тонкими, нежными, и ни луком от него не разило, ни душною ваксою.
Миша Муруков был весь, от макушки до маленьких пяточек, «игрушечка», comme il faut[1]. В жизни действовал он не кулаками, а хитростью и необыкновенным своим обаянием. Анекдоты Мишель мог часами рассказывать в лицах; прекрасно играл на рояле, гитаре и пел. Его за это любили — снисходительно относиться стали все и ко мне. И даже «Катценлибен» в устах великовозрастных «старшаков» звучало теперь не уничижительно, а почти ласково…
Корпус, сливочно-желтый, с белыми «сахарными» колоннами, внешне съедобный, внутри гулкий, торжественный и сырой, располагался на тихой улице в трех минутах ходьбы от старого, одичавшего парка, привольного, точно лес. Мы часто занимались гимнастикой под этою рукотворною сенью, а порой и сбегали туда на часок-другой, чтобы побыть «индейцами», вдохнуть вольного воздуха.
Здесь-то и приключилась завязка всей этой истории.
Однажды, в начале мая, на уроке гимнастики, мы с Мишей отстали от прочих всех, на минуту — о, пылкая кровь весны! — скрывшись в развалинах грота. Было пронзительно холодно здесь и сыро. Яркая, свежая, вся в солнце зелень казалась сквозь дыры в стенах виденьем с другой планеты: золотым, изумрудным дымом причудливым. Но нам было не до деталей, почти не до них. Мишель бросил на пол газеты, мы кое-как улеглись валетом и прильнули друг к другу, всхрапывая и пуская газы от нетерпения.
Строго говоря, ничего ужасного мы не делали: так в Корпусе поступали все. Нам и в голову не могло придти, что по мненью иных это — «нехорошо», вовсе не comme il faut для мужчины, для дворянина, для воина; да и булочки при нас, между прочим, не было!
Я первым взорвался, еще молодой, неопытный — Мишель же тянул мгновенья восторга телесного, задыхаясь и смоченным мною горлом громко, гневно бурля. Иногда он вынимал мой член изо рта и сквозь ресницы, хмельно разглядывал его, надеясь добыть «еще себе на прокорм» из этого алого «яхонта»…
Что-то свистнуло и прошелестело над нами в воздухе.
«Уходим, господа идиоты!» — бодро крикнул снаружи наш наставник-«гимнаст» поручик Теплицын, колченогий мелкий блондин и азартный любитель драться даже без повода. Я стал торопить Мишеньку, напрягать язык. Он заквохтал оглушительно, дрогнул весь — дернулся. Но судорога эта была вовсе не наслаждения, а какая-то беззащитно паническая и в сторону. Миша задрыгал ногами, точно повешенный.
Выпустив его, я тотчас вскочил. Мика жадно хватался за шею. Красная шелковая бечевка пережала ее, конец удавки уходил во тьму грота. Я бросился сдирать петлю с Мишиной шеи, но только мешал ему. Черт меня догадал выхватить, наконец, перочинный ножик и перерезать бечевке хвост!..
— Ах, вот вы где, сладкая парочка?!.. — Теплицын влез в грот и схватил обоих за шиворот.
Он стукнул нас лбами:
— Паршивцы! Теперь просите прощения!
Теплицын потряс нас, словно в воздух поднял. Я послушно, испуганно зашарил ему по штанам. Поручик отшвырнул Мишу и начал быстро расстегиваться. Миша в стороне жадно глотал воздух, силясь стянуть удавку. Она, как кровавый взрез, впилась в его шею. Словно кот, Теплицын жмурился и мерно-размашисто ходил нижним профилем. Поручик Мишу словно не замечал…
В строй мы встали под насмешливыми взглядами всего отделения: ага, попались, голубчики?!.. И, трогаясь в путь, особенно лукаво и весело, с удалым каким-то намеком и присвистом, грянула наша ротная строевая:
Скажи-ка, дядя, ведь д-неда-аром
Москва спале-, эх, д-Москва, эх, д-спаленная пожа-аром…
«Кони» ржали до вечера. Уверяли: мы еще приятно отделались — обычно Теплицын для «пардону» жопу себе лизать заставляет! Фельдфебель старших пажей юный герцог Гримальди, носастый с жирными глазками «аблизьян», предлагал, чтобы мы с Мишелем на нем повторили любимый «пардон» Теплицына. Сам-то он ведь не раз… Мы огрызались в решительном, мрачном отчаянии.
— Что это было? Кто хотел удушить тебя, Мигуэль?! — спросил я, едва мы оказались с Мишенькой тет-а-тет.
Он горько вздохнул в соседней кабинке:
— Видишь ли… Не хотел бы, ушастик, я тебя в это дело запутывать… Ах, cher ami, c’est bien dommage, cette affaire[2]…
Он зашуршал бумагой нервически. Я, однако ж, не отставал:
— Quelle affaire? Dis-moi tout, Мишенька! Tu sais, je ne suis pas une lopette! Je peux comprendre tout, je veux t’aider! Ah, merde![3] Бумага закончилась…
— Вот, возьми. И… Эх, ушастый, ну, слушай же!..
Тайна, в которую погрузил меня Миша тем майским идиллическим вечером, была тяжка, просто ужасна. И теперь, когда все уже кончилось, я не верю порой, то это была не обманка, не сон.
«Je veux t’aider!..» О, знал бы я, какие предстояли нам испытания…
Эта тайна связала меня и Мишеля крепче некуда.
*
В июне кончился первый мой курс в Корпусе, и мы отправились на каникулы в Крым, на дачу нашей общей бабушки княгини Муруковой-Чингисхан, урожденной де Куафель. Прожив в России семьдесят восемь легкомысленных лет, старушка затвердила по-русски лишь слово «урод», которым награждала всех мужчин, не понимавших ее французского. В остальном она была даже очаровательна и совсем не мешала нам с Мишелем жить привольно, предпочитая внукам привычное общество попугая и пяти сварливых болонок. Кто-то научил птицу материться семиэтажно, но бабушка и этих слов от варваров не усвоила, простодушно восхищаясь мужественной экспрессией, с которой пернатый негодяй выкаркивал ей в лицо такие подробные матросские ужасы.
Дача бабушки в мавританском назойливо-причудливом стиле располагалась над самым морем. Утром, едва проснувшись, мы с Микой сбегали по тропинке на пляж — и вот она, «свободная стихия», такая еще серовато-ленивая, толком не проснувшаяся! Волна заглатывала нас прохладной своею шелковой пастью, увлекая плыть все дальше и дальше — чуть ли не к турецкому незримому берегу…
Ах, и надо бы было!.. Но мозги наши вовсе расплавились в этом жарком, душистом, казавшемся теперь бесконечным dolce far niente. Пляж был совсем маленький, уединенный — словно утес с виллой под соснами протянул внизу к морю круглую ладонь. Проникнуть на него можно было лишь по тропе сверху или выйдя из волн. Мы загорали, плавали, предавались любви совершенно нагими. Да и кто мог нас увидеть? Матисс и Петров-Водкин силой воображения?.. Солдатчина, неизбежная эта печать пребывания в Корпусе, смыта была бесследно. Мы стали детьми древнего космоса — или хаоса, — тут уж по настроению…
В раскаленные дни июля мы ночевали на огромном балконе над широким, как арена, крыльцом. Там же ночами помещалась и бабушка, отделенная от нас японскою ширмою. Предаваться ласкам при таком соседстве мы не смели, юные грешники: гадостный попугай сквозь ширму чуял любые наши поползновения — и начинал неистово голосить русские народные выражения, пробитые версальским картавым «р».
Эта тень несвободы вынуждала нас все дальше уходить от дачи и ее уютного пляжика. Окрестности вокруг были дикими и пустынными: скалы, поросшие мелким кустарником, отвесные берега.
Мишель, по натуре азартный, повадился прыгать с утесов. После, с горящими глазами, выспрашивал:
— Видел, как мой сучок торчит, когда вниз я лечу?
Я молча, восторженно сглатывал слюну. Защемив мне нос, он тормошил меня и пихал от себя с шутливою строгостью:
— Ты так не смей, ушастый! Мал еще! Понял?..
Мише нравилось, что он из нас старший и такой во всем смелый, сильный, бравый и «опытный»…
В начале августа мы забрались на дальний конец мыса, где еще не были. И здесь все то же: пыльные выцветшие колючки и отвесный, как ножом срезанный, утес.
— Следи! — крикнул Мишель, вскочил на верхушечный камень над моей головой, разбежался и…
Подняв тучу белых брызг, обычно он тотчас выскакивал из волны, играя головой и плечами, как поплавок. Но на этот раз… Словно пронзенный ледяною стрелой, стоял я над морем, так долго пустынным…
Вдруг понял — с л у ч и л о с ь!..
Стряслось…
Я опустился на землю — повалился вдруг на нее — и завыл, царапая ногтями ноздрястый камень.
Сколько это продолжалось, не помню. Вконец обессилев, я и как-то весь обмер. Род обморока наяву накатил. Солнце сжигало меня — я не чувствовал. Словно красный прозрачный плащ окутал весь мир.
Вдруг рядом раздалось хриплое, прерывистое дыханье. И голос, совсем незнакомый, пролаял:
— Assez, idiot!
Я не сразу поверил, а потом бросился к Мише. Он был весь ледяной, в черных водорослях, и сперва всякая чертовщина влетела мне в голову…
Он оттолкнул меня, наклонился над кустами. Его долго, трудно рвало соленой водой.
Я молча, неостановимо рыдал. Никогда в жизни еще я не был так счастлив…
Миша повалился в сухую траву. Не сразу смог он подняться.
Весь день Мика был молчалив — да и я не смел лезть с расспросами. Ночью мы лежали на балконе, глядя прямо перед собой на такое богатое звездами предосеннее небо. Звезды перемигивались, небо дышало таинственными этими живыми искорками, и мы знали, что нам они совершенно не соразмерны.
— Пошли! — шепнул он.
В любой миг гнусный Коко за ширмой мог взорваться картавой растрепанной матерщиной, перебудить бабушку, ее болонок и двух старых горничных…
Мы прошли гостиную, узенькую портретную, тесную диванную, дедушкин кабинет с мемориальными моделями парусных кораблей на шкафах. Дальше начинался большой зал со шкафами давно забытых бабушкой французских книг и задорных журналов времен Александра II, с портретом какого-то древнего армянского патриарха в остроконечном куколе, в черном одеянии, похожем на домино.
Мишель подошел к окнам, задернул шторы плотно совсем, щелкнул ключом в двери, нащупал мою руку и потянул за собой в сторону портрета. Что он там делал с рамой, я не смог разглядеть, но вдруг раздался тягучий скрип, и на нас густо пахнУло лежалой пылью.
— C’est ici[4]…
Мишель щелкнул дорогой новинкой тогда — австрийскою зажигалкой — изобретеньем барона Ауэра фон Вельсбаха. Синеватый свет выхватил глубокий черный проем на месте, где был портрет.
Миша пошарил рукой в проеме, чихнул и добыл лаковую, китайскую по виду, коробочку:
— Tiens!
Сразу было видно: коробочка древняя. Глубокая косая царапина перерезала золотого феникса на ее крышке. Саблей, что ли, лупили по ней?..
Миша досадливо отобрал у меня коробочку, сунул мне зажигалку и что-то нажал на вещице. Крышка, звенькнув, отскочила. В синем отблеске пламени лунным тяжелым светом воссиял большой кружок полированного металла. На нем также изображен был феникс.
— Держи, держи огонь! — прикрикнул Мишель и перевернул диск.
Мика дрожал. Диск, отмеченный бликом, так и подпрыгивал у него в руках.
Странная узкоглазая маска, похожая на лица, которые рисуют дети, уставилась на меня. При всей примитивности рисунка было в ней что-то беспощадное и зловещее, дико выразительное. Четыре как бы пламенеющих иероглифа окружали маску.
Мне стало не по себе. Даже не из-за диска: Миша сделался нервным, дерганым. Таким я его не видел.
— Это ярлык Чингисхана, — с жаром зашептал мне Мишель. — Его владелец становится главой всех Чингизидов на Земле, повелителем Черной секты потомков рабов Чингиса. Вот за чем они охотятся! Понял теперь?
— Тогда, в Корпусе, ты мне про нее рассказывал, но что ярлык у тебя…
— Это у отца моего ярлык! Он его держит здесь, потому что четырежды о н и перерывали наш дом в Петербурге — и вот сюда добрались… Они все думают, что рвутся на свободу. Им надо прекратить действие талисмана или убрать последнего из тех, кто может стать их господином — меня.
— А я?..
— А ты — у ш а с т и к! Катценлебен, побочная ветвь.
Каюсь: я даже обрадовался. Значит, ничто мне не угрожает?!.. Но почему, почему он так весь дрожит?..
Я стал гладить Мишеньку по руке. Вроде он чуть успокоился.
— Верховодит там Черный шаман, — привычно перешел на французский Мишель. — Он внушил всей секте мечту о свободе, но сам лишь хочет стать их повелителем. Все, как в романах, дружок! И все, как в жизни… Ему мало убрать меня — важно захватить и вот это. Он говорит им, что переплавит диск, уничтожит его.
Миша дернулся:
— Он им врет!
— А кто он, собственно говоря?
— Если бы мы с papa это знали… Я тебе ярлык показываю, чтоб и ты знал, где скрыта реликвия. Ты, конечно, Катценлебен и даже К а т ц е н л и б е н пока, — но, черт возьми, жизнь так прихотлива! И потом…
Мишель не сказал, что ближе человека у него нет сейчас. Мне жутко захотелось его прямо здесь и сейчас. Но он отстранился и снова весь затрясся:
— Помни, ушастый, они здесь повсюду, как мухи на арбузной корке, черноголовая саранча! А Черный шаман — да, да: повелитель мух… Сегодня утром кто-то тянул меня на самое дно, прижимал к камням под водой… Думаешь, они и сейчас не бродят где-то тут, возле? Вот почему я не включил сейчас свет. Да прекрати ты зажигалкой трещать, дурак! Вот же бестолочь!..
В полной тьме он спрятал реликвию. Мы вернулись тишком на балкон. Молочный оттенок предрассветных небес встретил нас — и яркая на нем, как отметка, царапина Веспера.
*
Правду сказать, при всем пылком полудетском воображенье моем я не совсем доверился рассказу Мишеля. Дважды мелькнувшая возле него смертельная опасность могла бы и любого взрослого убедить — но только не меня юного. Детский эгоизм отгонял страхи, да и подозревал я подсознательно, что Мишель не совсем, быть может, здоров. Что, впрочем, и подтвердилось той же осенью самым скандальным образом.
В конце ноября должен был состояться прием при дворе по случаю дня рождения государыни-матери Марии Феодоровны. Нас, свежую поросль пажей, муштровали для участия в этом торжестве целый месяц. Ничего особенно сложного не было в том, чтобы нести трен императриц или великих княжон, но скользкий паркет, тяжелые ботфорты, перчатки, высокие шляпы с плюмажами, — нужно было ко всему этому привыкать и вытерпеть, исключив любые несообразности.
— И газ-два-тги; газ-два-тги; газ-два-тги, — важно, нудным картавым голосом считал Гримальди, пока мы, шестеро дебютантов, подхватив длинное покрывало, закрепленное у Мишеля на поясе, дружно поднимали этот «трен» и, шагая торжественно в ногу, несли его следом за Мишей через весь наш холодный и гулкий актовый зал.
— Un, deux, trois; eins, zwei, drei; one, two, three[5]…
Это картавое карканье почему-то напомнило мне о Коко. Вот так же небрежно, скучая, поигрывая перчаткой, Гримальди перейдет на отборные солдатские выражения. Но эта мысль почему-то не развеселила меня. Гримальди был черняв — Мишель э т и х в с е х назвал черноголовыми, саранчой…
Хотя разве саранча черная? Она вроде зелененькая… Надо в атласе посмотреть!
Я хотел поделиться своим наблюденьем с Мишей. Однако в тот день не удалось. Вообще он стал избегать меня в последнее время, сделался молчаливым, рассеянным — и взгляд угрюмый такой уже вторую неделю…
Наутро нас повезли во дворец. Эти мучительные ботфорты, эти треклятые лосины, которые сырыми натягивали на меня двое… Неудобств было столько, что я даже не думал о предстоявшей встрече с августейшей фамилией — и лишь во дворце, среди блеска зал, осознал, что же мне сейчас предстоит. А этот особенный запах придворных духов, пышный и крепкий! Лакеи лили их на раскаленные совки. Есть такие, любимые еще Николаем I — «Аромат двора», которые мне очень нравились, бодрые, цитрусовые. Но эти были другие, ближе к «Любимому букету императрицы», с оттенком жаркого летнего луга, пряные, как подвядшие трава и цветы.
Нас, пажей, провели во святая святых — «за кавалергардов». Не всякий придворный имел право пересекать линию, что занимал этот бело-черно-красный караул. Сразу по выходе из Малахитового зала царской семьи мы, пажи, должны были подхватить каждый шлейф своей госпожи. Меня назначили нести трен великой княжны Ольги Александровны, младшей сестры государя, недавно ставшей женой принца Петра Ольденбургского.
В паре со мной был ВиктОр Пыжин, которого наши старшаки прозвали Пыжиком: коренастый, плотный, чуть медлительный и очень всегда серьезный. В разговоре он прикрывал глаза пушистыми рыжеватыми ресницами, да и всеми повадками и плюшевою макушкой был похож на деловитого медвежонка. Он мне то, что называется «и м п о н и р о в а л». Но вот я ему… Кажется, Виктор посмеивался, если поглядывал в мою сторону. Или казалось мне? Поди разбери этого чертового хитрого Пыжика…
Мы встали в ряд у самых дверей. Мишеля назначили нести трен государыни Александры Федоровны.
Трижды сухо и деревянно стукнул жезл обер-церемониймейстера, эта волшебная палочка всех придворных торжеств. Двери Малахитового зала медленно отворились: мы нацелились подхватить назначенные «хвосты».
От волнения все немного зыбилось и плыло перед моими глазами. Лишь бы не опростоволоситься и не метнуться к чужому «хвосту»!.. Прошел государь под руку с августейшею матерью. Следом Мишель решительно шагнул к трену царствующей императрицы… «Четвертая пара, четвертая пара…» — зудело в мозгу. Вот он и настал, наш черед с Пыжиком! Мы подхватили шлейф Ольги Александровны.
Она мило нам улыбнулась, подбадривая. Некрасивое губасто-скуластое лицо, это сплошное «Прощай, любезная калмычка», все же выказало в ней человека простого, сердечного. И мы с Пыжиком улыбнулись ей дружно, доверчиво. Как-то нам с ней не страшно вдруг сделалось, да и шлейф оказался легче покрывала, с которым мы репетировали. Ее очень высокий муж с вытянутой маленькою головкой показался мне породистою уродиной — от него пахнУло тревожным холодом.
А ведь именно он должен был вскоре стать одним из ближайших мне людей!..
Сверкая тяжелою позолотой, впереди распахивались двери все новых залов. Толпа в военных, придворных, дипломатических мундирах и «русских» придворных платьях почтительно склонялась по обе стороны от нас, как поле под мерными порывами сильного, но теплого ветра. Мы находились в луче света высшей власти сейчас, едва заметные в нем пылинки, и словно плыли, подчиняясь мерному ритму шагов.
Ах, что за удовольствие было двигаться в унисон с Пыжиком, будто мы с ним сделались, наконец, ц е л о е — одно тело хотя б! Слишком неопытный, я не понимал тогда, что влюблен в него по уши — и это неведение делало мое наслаждение безграничным и вполне, вполне «на сегодня» уже достаточным. Казалось, сердце мое расширилось и вместило весь этот зал с его настойчивым и щемящим каким-то, осенним блеском. За окнами в серой мгле кружили первые длинные хлопья снега, но здесь время словно бы задержалось — или пошло, может, вспять?.. Все мы были еще полны красок осени, такой теплой и затяжной в тот год, такой ласковой, будто она не хотела в зиму нас отпускать. Долгое-долгое бабье лето, его мудрый и вещий вздох; и будто Крым все еще во мне продолжался — вопреки очевидности…
Вот уже впереди раскрылись двери придворной церкви.
Вдруг нечто споткнулось в общем движении: раздался стук и женский испуганный вскрик. Шествие надломилось, толпа придворных по обе стороны от нас выпрямилась; люди тянули шеи, тревожно переговаривались, некоторые дамы прикрывались веерами. Ольга Александровна оглянулась, решительно отняла у нас шлейф и двинулась вперед.
Озадаченные, растерянные, мы последовали за ней. Через спины и локти я увидел Мишеля. Он лежал на полу среди обступивших его людей — беспомощно, мелко трясясь всем телом, страшно бледный, с искаженным лицом и пеною на полураскрытых губах. «Зы! Зы! Зы!..» — повторял Миша, словно силясь что-то сказать. На белых его лосинах темнело широкое пятно. Это, а также красное, с поджатыми губами лицо Александры Федоровны мне запомнились особенно явственно. Ее лицо показалось мне очень злым.
Строй был нарушен, кажется, навсегда. Но вот Мишеньку унесли. Шествие восстановилось. Царская фамилия вошла в церковь. Мы могли передохнуть теперь.
— За мной! — Гримальди потащил нас с Пыжиком к двери. За ней оказалась площадка лестницы, на которой свитские коротали время, пока царская фамилия была на церковной службе, и страшно дымили. Закурил и Гримальди:
— Ну что, господа пажи? Как оно вам? А?! Не слышу!
— Жалко Мишеля, — выдавил я.
— Кто бы мог подумать, что он пгипадочный? Молодой князь Мугуков — и вот тебе скушай пегсик! — Гримальди был зло и весело возбужден.
Тотчас явился придворный чин и отвел Гримальди в сторону.
Я прислушался. «Муруков, Муруков, бедный…», — шуршало со всех сторон. Скучная церемония для этих господ обрела достоинство свежей новости.
— Какие они все противные… — шепнул Пыжик. — Как мухи на арбузной корке, зудят…
Я что-то уже слышал похожее про корку — где, от кого?..
К нам вернулся Гримальди, несколько озадаченный:
— Катценлибен, понесешь тген госудагыни. А ты, Пыжик, один — ее импегатогского высочества.
После этого Гримальди потерял к нам интерес и втерся ко «взрослым» сплетничать.
Нас с Пыжиком разлучали! Кажется, лицо у меня сделалось горестное (тем более, я отчаянно боялся императрицы). Пыжик положил руку мне на плечо:
— Тошно, брат? — спросил тихо.
Его внимание и сочувствие подлили масла в огонь. Мысль о Мишеле вспыхнула: я чуть в голос не разрыдался. (Мне было и совестно, что сейчас. Только что я ведь совсем позабыл о нем!)
— Ты знал, что он болен? — тихо спросил Пыжик.
Я покачал головой. Слезы сами собой потекли по щекам.
— Ну-ну! Не помер же…
Грубоватый, душевный тон Пыжика окончательно полонил меня.
Одного я боялся: что дружба меж нами все-таки не завяжется.
*
ДОма меня поздравили с дебютом при дворе, «в целом, удачным», и «вечно веселый» румяный дядюшка Игнаций Ляховский отвез в первый раз к «этим женщинам». В сущности, обыкновенная церемония вхождения во взрослую жизнь вызвала во мне содрогание страха и какой-то неожиданной, до тошноты, брезгливости. В карете дядюшка понял все по-своему:
— Ну-ну! Не разбивши яиц, омлета, милый, не сбацаешь…
Он потрепал меня по щеке. Я отвернулся.
Зимние сумерки, таинственный этот l’heure bleue[6], мною всегда любимый, сгустились совсем в черно-белый предзимний вечер; зажглись рыжим светом уличные огни.
Мы вошли в дом уединенный и представительный. Толстый швейцар, брадатая бочка, вся в голунах, снял с нас пальто. Свет на высокой лестнице был приглушен, сама же лестница, хоть и с ковром, была довольно нечистая.
— Доложи, братец, Минне Ивановне про нас, — велел дядя Игнаций швейцару. — К а к д о г о в а р и в а л и с ь…
Он подмигнул мне, ободряя. Сразу представилась мне эта Минна Ивановна — гигантская страшно жирная женщина.
Швейцар исчез и тотчас выкатился из боковой двери опять. Следом явилась высокая рыжая дама в черном во всем и бриллиантах, что-то слишком обильных и крупных, как мне показалось.
Дядя Игнаций и Минна распахнули друг другу объятья. Я растерялся: следует ли Минне руку поцеловать?
— О!.. — как-то неопределенно воскликнула она, обдав меня жестким, еловым каким-то шелестом и ярким до ядовитости ароматом туберозы. Она перешла на французский, грубо, по-немецки, грассируя. — Такой милый, зелененький… Ты прав, Игнаций: Лили!.. Только Лили — милая, добрая девушка. И опытная.
Последнее слово ужаснуло меня.
— Прошу! — Минна указала на лестницу.
Мы поднимались следом за ней, и сердце мое екало больше, чем в первый раз при дворе.
— Прошу! — Минна отогнула багрово-золотистую шелковую портьеру.
Следом был зал, круглый, золоченый, в розово-голых фресках и без окон. На диванах лениво полулежали девицы в коротких и ярких открытых платьях. Для гостей час, видно, был еще ранний.
Минна подвела меня к девушке маленькой, пухленькой, несколько пучеглазой, с вишневой родинкой над верхней губой и с красной розой во взбитых пепельных волосах. Из-за родинки казалось, что девушка все время чуть презрительно надувает губы.
Нас представили.
— Шампанского им в комнату, фруктов, конфет, — велел Минне дядя Игнаций. — И нечего здесь рассиживаться. А ты мне ту, японочку, Минночка, а?..
Здесь даже японки есть!.. Я потерял дар речи.
— Ананацу бы, — сказала Лили несколько низким хрипловатым голосом.
— Кабачков тебе, а не ананасу! — рассмеялся дядя Игнаций. И махнул рукой. — Ладно, пускай несут.
Лили взяла меня за руку теплой влажной ладошкой и потянула из зала. Дальше был длинный коридор с пушистой, кое-где плешивой красной дорожкой, с рядами узких дверей по обе стороны.
— Сюда! — голосом старшей велела Лили.
Мы оказались в темной от сизых обоев комнате с широкой стальною кроватью и золоченым трельяжем в углу.
Лили дернула плечом. Кружевная кофточка сползла ей на локоть, обнажив вялую, как теперь понимаю, грудь.
— Раздеть вас, кавалер, или сам растелешешься? — спросила Лили как-то насмешливо.
И, видя, что я вовсе остолбенел, добила:
— А то иной явится: сапожищи с него тянешь, он тебе в грудя упирается. Напаскудит везде, натопает… Кавалер!
Что за окаянно глупый, беспомощный вид был у меня, если Лили взяла такой тон!..
Я стал обреченно расстегивать сюртучок. Тотчас в дверь постучали. Чернявый желтенький полумальчик, видом татарчик, в алой атласной рубашке и что-то в слишком больших сапогах, уставил на стол поднос. Из ведерка со льдом торчала бутылка шампанского, была также ваза с фруктами, ананасом увенчанная.
Татарчик зыркнул на меня, поклонился, исчез.
— Почему дядя смеялся про кабачки? — спросил я, пытаясь хоть как-то расслабиться.
— Потому что я дура была. Как впервой-то увидела ананац, решила, что кабачки.
— Знаешь стихи? — спросил я:
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!
Лили прыснула, упала на кровать:
— За перо я уж возьмусь! Давай, раздевайся от испанского своего, молоденький!..
Она поболтала задорно ногами и потянулась к шампанскому.
Перелом ее тона не удивил меня.
Мы выпили по бокалу: наливала Лили.
Стало весело как-то, жарко и просто.
— Ну, давай сюда свое перышко… — Лили проскользнула рукой в кальсоны. Я чуть не подпрыгнул: свершилось, да?!..
Она начала с отлично мною уже изученного. Лили, правда, думала, что погружает меня в самые сладкие заветные бездны порока. Из-под светлых кудряшек хитро уставились фиалковые ее глаза. А я — я вспомнил Мишеля! Послушно работая торсом ей в такт, я бродил взглядом по мрачной, цвета лилового винограда, стене, по глупым фотографиям голых и пухлых женщин. Бедный Мишель; это лето; Крым… Эта тайна и внезапная эта его болезнь…
Честно скажу: большой искусницей Лили не показалась. Так, Коппелия заведенная…
— Ну, чего ж ты? — обиженно спросила она, отдуваясь.
— Ничего… Приятно, merci… — соврал я.
Она вздохнула, поморщилась и вновь принялась за свое унылое, трудное дело.
А Пыжик? Была ли женщина у него?..
Пыжик; Мишель; тайна… Я бродил взглядом по стене, не решаясь взглянуть вниз, на «страдалицу».
Опять эти глупые фотографии…
Наконец, что-то у нее получилось.
— Давай! Иди ко мне, маленький… — Лили повалилась на кровать. — Ну чего ж ты?!..
Я стоял, задрот задротом (pardon pour l’expression), не в силах отвести взгляд от одной фотографии. Собственно, это была не фотография. Из рамки на меня глядели, помаргивая, узкие черные, пристальные глаза.
— Кто это?
Лили приподнялась на подушках.
— Н-не знаю, — запинаясь, произнесла она. — Здесь э т о г о, правда, не было…
Глава вторая
«Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь».
А. Блок
…Конец того дня в памяти всплывает урывками. Помню, мы с Лили наскоро завершили жалкий, птичий какой-то интим и долго перешептывались, поглядывая на роковую ожившую «фотокарточку». Глаза и не думали прятаться: помаргивали себе невинно, нахально и вполне равнодушно, будто там, за стенкой, их обладатель в носу рассеянно ковырял.
Шампанское, юность и страх сделали свое дело. Схватив подушку, я бросился лупить по фото, отважно крича русские выражения. Глаза отчаянно моргали в ответ. Лили хохотала и подсказывала оборотцы родимой речи.
С нами тогда случилась форменная истерика!..
— Сейчас! — я схватил ножик для фруктов, чтобы проткнуть, наконец, наглый «глазок». Лили повисла у меня на руке. Но опасность нас сблизила: мы договорились, что я непременно приду еще, а она тем временем разведает все про «глазок» и назойливого соглядатая.
Затем я и Лили вновь принесли жертву на Венерин алтарь, с обеих сторон теперь нестыдно обильную.
Домой мы с дядюшкой вернулись хорошо подшофе и оба страшно жизнью довольные, так что в карете я полез целовать милого дядю Игнация в его голубые безгрешно польские oczy. Он вдруг смутился и отстранил меня.
В тот вечер я стал мужчиной, да еще и тайна у меня завелась — и какая! Я почти гудел, будто чайник, от довольства собой.
Вот же легкомысленный амбесиль!..
День спустя известно стало, что Мишель при смерти. То, что приняли за внезапный приступ падучей, было все-таки о т р а в л е н и е м. На бедре обнаружили след укола, но слишком поздно. Противоядия не помогли: в начале декабря Миша Муруков покинул нас навсегда, повторяя в предсмертном бреду: «Глаза, глаза…»
В гробу был он чужой, неожиданный. Восковая желтизна подчеркнула азиатские черты: высокие скулы, короткий нос, жестокую складку навсегда сомкнувшихся губ. Мне почему-то казалось, что это не тот Мишель, которого я знал так хорошо и любил, а другой, незнакомый человек со своею г о р ю ч е ю тайною. Слово «горючая» пришло само собой и не оставляло меня всю печальную церемонию, такую долгую, что под конец я невольно рассеялся, вслушиваясь в шепотки окружающих. Занимала их всякая бодрая ерунда, ею они словно бы отгоняли тягостные впечатления панихиды и похорон.
Вот люди! Ничего не стОит перед их пугливою суетой не только наша жизнь, но и вечность сама… И кто скажет, что она, суета эта, тоже есть «бессмертья, может быть, залог»?.. А какая отвратительная была могила, сырая и грязная — словно канава в дикой степи… Хлюпнув, она должна была поглотить все эти цветы и ленты, и холодное тело, которое еще месяц назад было мне так — почти единственно — дорого!..
После похорон мы с дядюшкой сели в карету, в ту самую, что возила меня к Лили.
— Теперь ты — Муруков, — сказал со вздохом дядя Игнаций.
И видя мое рассеянное недоумение, пояснил:
— Отец Мишеля прошение государю подал о передаче тебе после смерти его титула и фамилии. Гордись, божьей милостью паж и барон Катценлебен — ты будущий князь Муруков, принц Чингисхан!..
*
Три дня спустя отправился я к Лили. Пришлось взять извозчика: командовать нашим кучером я еще не смел.
Был снежный декабрьский день, первая серьезная метель в этом году. Снег валил и валил. Громадный извозчик на глазах превращался в снежную бабу, он поминутно встряхивал мелким ведром своего кучерского цилиндра. Огни — рыжие, желтые, розовые — растекались в волшебном полуслепом круженье. Я чувствовал себя и совсем мальчишкой на елке, и взрослым, который уже едет к с в о е й женщине. И тайна, тайна — она будет сейчас раскрыта! И —
ах, но бедный Мишель… Он лежит там сейчас, в мерзлой земле, под сугробом, в который превратила зима составленные пирамидкой венки…
— Тпр-у!.. Приехали!
В прихожую навстречу мне выкатился все тот же швейцар, но теперь очень строгий, жующий, с красным недовольным лицом.
— Мне к Лили, — пробормотал я, оробев.
— Нету-с таких-с! — швейцар всем брюхом попер на меня. — И нынче гостей мы не принимаем-с!
— Но Минна Ивановна?..
— Не велено-с, сказано! Попрошу-с!
Он решительно распахнул дверь парадного.
Растерянный, я оказался опять под залпами липкого снега. Эх, надо было бы с дядей Игнацием сперва сговориться! И что ж?.. Рассказать ему про глаза?.. Да он сумасшедшим меня сочтет…
Сквозь снежное мельтешенье чернели те же сани с извозчиком.
— Баринок, ехать не надобно ль?
— Нет!.. — поймет еще, что мне здесь дали п о д ж о п н и к а!..
— Как же не надобно, баринок? Экая нынче страсть: иззябнете!
Обреченно полез я в сани, мысленно проклиная и Лили, и швейцара, и Минну, и дядюшку, и самое судьбу.
— Эх, погодка! От погодка-то!.. — мотнул головой извозчик восторженно.
— Послушайте, нет ли здесь где-нибудь кабачка поблизости? Я ноги промочил, и что-то знобит меня…
— К а б а ч к а именно, баринок?
— Да! Хоть бы чаю с грогом попить, горячего…
— Ет можна, ежели только чаю… — рокотнул возница лукаво, двусмысленно.
Меня и впрямь ломало всего, трясло. В голове досужая кутерьма крутилась: вспомнились «Капитанская дочка», «Метель». Господи, при чем тут Пушкин А. С.? Какой же я все еще школьник, дурак!.. А ведь через три года офицером уже! Гримальди заранее меня «фендриком» дразнит и «ушастой пехтурою». В том смысле, что по моей неспособности к математике и чертовой их строевой шагистике начну службу в пехоте жалким прапором, именно — фендриком[7]. О, как представишь сермягу эту армейскую!.. Надежда лишь на родителей. Maman обсуждала с papa давеча, что можно при великой княгине Ольге Александровне камер-пажом устроить: она добрая, любит maman, и я ей понравился. Я и Пыжик. Но Пыжик не хочет быть при дворе, рвется весь в артиллерию. Вот у кого математика на ура… Милый Пыжик, хороший Пыжик, добрый Пыжик, умный Пыжик — и славный такой… Чижик-Пыжик мой золотой, ненаглядный; мой плюшевый… Господи, как же, однако, и жарко, и холодно! Зуб на зуб не попадает… Je suis malade, sans doute[8]. А papa возразил, что Ольга Александровна, конечно, чудесная и святая душа, и художница превосходная, и государь ее любит, но вот принц Петр, муж ее… А то я не знаю — а то весь Питер не говорит — кто этот ее принц Петр! Но вроде он любит простой совсем жанр: денщики, кузнецы всякие деревенские.
Две недели назад Гримальди поэмку сунул, «Похождения пажа»:
Меня невинности лишили,
Как в Корпус я лишь поступил…
<…>
Здесь будет объяснить уместно,
Что корпусные все пажи
В столице севера известны
Как бугры или бардаши.[9]
Я и бугр теперь, и бардаш — хоть из бардака со свистом только что выперли. Значит, и принца Петра перетерпим уж как-нибудь, п е р е т о п ч е м с я. Ах, что за слова после Корпуса прилипают: пехтура, поджопник, бардаш, перетопчемся!.. Mauvais genre, хоть и по существу… Господи, как знобит!.. Бедный Мишель! А жизнь продолжается, продолжается…
— Готово, баринок! Здеся, пожалуй что… Ежели не побрезгуете, я с вами зайду, а то всяко тута случается… Эй, Прошка, постереги сани-то!
Мы стали возле чайной, рядом с разными другими извозчичьими санями. Пить чай в мужицком кабаке, в обществе извозчика — это даже не mauvais genre, это какое-то вовсе грехопадение, которое только принц Петр смог бы простить, да и то тишком.
Ах, как же меня колотит!..
К нам подбежал мальчишка в рваненьком армяке.
— Дрязгу нет? — осведомился со значеньем извозчик.
— Нетути покудова, дядь-Роман, — мальчишка был чуть не в лаптях, только что из деревни. Видно, явился на заработки.
— Ну мотри, племяш! Калача-то те вынести?
— Благодарствуйте, дядь-Роман! Прозябнул а то.
Мальчишка шмыгнул носом для пущей наглядности.
Роман потопал на крыльце сапожищами, оббивая снег.
— Прошу-с! — распахнул он передо мною тяжкую, как у амбара, дверь. Тугая пружина вскрикнула, колоколец над нами брякнул сварливо и наставительно.
Мы вошли в низкую залу. По красным стенам кучерявились намалеванные кой-как жар-птицы. За столами, крытыми клеенкой, сидели большей частью извозчики в синих теплых кафтанах, бородатые, важные. Тянули из блюдец чай, степенно переговаривались. Кухонный чад мешался с крепким запахом пота, отсыревших ватных одежд, крутого сапожного дегтя и кожи. Но все перекрывал першливый махорочный едкий дым.
— Проходите, чего ж… — Роман снял цилиндр, пригладил пятерней волосы, ухмыльнулся. Видно, рожа у меня сделалась совсем перевернутая.
Подскочил половой, весь в несвежем белом, как помятое привидение.
— Нам бы, братец, отдельный какой кибинет, — приказал Роман.
— Сюда-с, — метнулся половой, мельком взглянув на меня.
«Кибинетом» был закуток со столом и диванчиком, отделенный от залы мелко-пестрою занавеской.
— Сядем рядком да поговорим уж ладком, — сказал отчего-то тихо, глуховато Роман. — Мужика-то не сгоните, бариночек? Перетерпите возле-то как-нибудь?..
Половой знающе усмехнулся.
Странный этот Роман оказался вовсе не толстым, а рослым, плечистым и жилистым. «Жильным», — про себя они говорят. Волосы черные, по-деревенски длинные, но не слишком густые, борода тоже вполне по извозчичьим меркам скромная. Зато глаза светлые, голубовато-серые. Они то скрывались за темными веками, то неожиданно распахивались и сияли ярче обычного. Было в его большеносом губастом лице и доброе нечто, и хитрое. И постоянная — да, надо мною усмешечка. Руки — лопатами с черными от дегтя ногтями.
Страшные руки. А ногти длинные…
— Музычку, может быть? — половой ловко полотенцем стряхнул крошки со стола нам на колени.
— Машку поставь мою. Которая «Ты меня не буди»… — велел Роман. И мне пояснил со значением. — Сеструха-т в артистки, вишь, выбилась. Не знали, как в деревне стреножить ее, козу. Такая шалава! А здесь говорят: талан. Но девка работящая, добрая…
Я пил чай с тягучим приторным ромом и слушал непривычные звуки ш а л м а н а — или как еще назвать это все заведение?.. Слава богу, родители поздно вернутся сегодня от Муруковых… Ах, бедный Мишель…
Вот в зале заскрипел, захрипел граммофон, заводимый рычагом, будто и он а в т о. Maman находит и авто и граммофон решительно mauvais genre’ом нового века. Авто, дескать, только для выскочек, нуворишей, а граммофон — лишь для п р о с т ы х, для тех, кто не могут позволить себе рояля, арфы или скрипки хорошего итальянского мастера. Вечный мамин снобизм, снобизм статс-дамы и институтки! А как хочется на авто прокатиться опять… У Гримальди есть с занавесками и рычажком спереди целый новейший Peugeot[10]!..
Извозчики примолкли, ожидая непривычного им еще чуда.
Мягко-зудливый, вкрадчиво-мечтательный наигрыш балалаек и мандолин — и вот он, хриплый и сладкий, как патока, грешный и грубо-нежный, чисто «шалавный» голос:
Ты меня не буди,
Не целуй горячо,
Я от ночи шальной
Не остыла еще…
Я устала от ласк,
Что нежнее, чем шелк.
Ты меня не буди,
Мне итак хорошо…[11]
И столько истомившего себя, усталого счастья звучало в этом голосе, в его почти виноватой полуулыбке, что подумалось: «Она фея! Фея любви… Вся из роз и медовая…»
От этих звуков, от чада и духоты, и, конечно, от рома меня развезло совсем.
— Она не просто талант, твоя Маша! Она фея… фея Драже, как у Чайковского, — залепетал я, придвигаясь совсем вплотную к Роману, к его синему мягонькому кафтану на меху. — Или как у Уайльда, у Метерлинка… Но ты, бедный, не читал Метерлинка, наверное. Ах, пардон, пардон, милый Роман! А знаешь ли, я ездил сегодня к женщине, и меня не пустили. Меня, милый Роман — меня в ы г н а л и! Ах, если б ты знал, как мила Лили — и хотела нынче тайну мне сообщить…
— Нету ее для тебя. Кончилась! — жестко молвил Роман и привстал, задергивая завеску.
— Ты с ума сошел! — пролепетал я. — Лили умерла?..
— Кончилась! — отрезал Роман. Он сгреб меня и прижал к себе. — Экий ты! Прыщик… Мормышка-то…
Он мял и ласкал меня бережно, но руки его царапали мою кожу. Я жмурился, ойкал. Он продолжал мягко меня терзать, будто лепил из теста — как у них в Сибири называется это? — шанежку.
— Горячий ты! Эх, горячий-то!.. — приговаривал Роман, распаляясь весь сам. Прочь стянул с меня сапоги с чулками и сунул ступни к своим губам, проводил языком, грел дыханьем, щекотал бородой, усами, будто что-то неслышное мной пяткам моим нашептывал. Я повизгивал.
Он провел губами и бородой у меня между ног — словно мохнатый и сильный зверь там пронесся решительно, оглянулся, и снова вернулся. Пальцы нащупали мою дырочку. Я брыкнулся.
— Не стану, не стану покудова! — шептал Роман жарко, услужливо; успокаивал. — Еще-то, знай, встренемся. Экий бутон! Непочатый, ох, сладенькай…
Нужно сказать, дырочка у меня была еще «девочка», и не его колуном ее в первый раз разворачивать на траверс любви. Но язык, но язык его так и лез ведь в меня! Я извивался, я ныл от сладости. Выхлестнул прямо ему на нос. Он пятерней снял червяченка в косматый рот.
— Эк ты меня измучил-то, измытарил всего! Ну, пупырышек, пожалей же и ты ужо!..
Что же: noblesse oblige[12]! Я, правда, вздрогнул от его запаха. Но… Вот загадка души! И коряга такая яростная, узловато-здоровая. Я распалился, сам потный весь.
На середине моего мучительного усердия в зале раздался грохот и гам.
— Мля, Гришка, братан, небось!.. — Роман длинно, витиевато выругался.
— Эй, человек! — загремел в зале хриплый голос. Голос был, словно второй Роман. — Машку поставь, едрена макрель! «Хулиганчиков»! Й-ех, гулям, мужики!..
Завеска над моей головой слетела на сторону.
И на фоне грохота песни и разудалого топота в нашем закутке повисло молчание.
— Ну чего, Гришка, ты здесь не видал? Че уставился? — раздраженно спросил, наконец, Роман, продолжая трудить меня.
— А ниче! — Словно себе, насмешливо ответил Романов голос. — Больно сладко вечеряешь, Ромча! Инда поделишься?..
— Ходи давай, Гриша! Не твоя оно ягода.
— Ну и хер с вами с обоими!
И с грубым шорохом завеска снова отрекла нас от залы с ее гиком, чадом, свистом и топотом.
*
Ты меня не буди,
Не целуй горячо,
Ведь от ночи шальной
Не остыл я еще…
Эх, устал я от ласк,
Что нежнее, чем полк.
Ты меня не буди,
Я и сам серый волк… —
так злой насмешник Гримальди переиначил Машину песню, которую я ему доверил с таким восторгом, дурак!.. Впрочем, мне хватило ума не проболтаться ни про Лили, ни про весь талантливый куст семейства Распутиных. Кстати, с тех пор, как я сделался «будущим князем Муруковым», Гримальди стал обращаться со мною куда как ласковее, даже дружбы искал. Это и настораживало…
Вполне я доверился одному только Пыжику:
— Роман и Григорий — близнецы, только очень ведь разные. Вообрази, Пыжик: Григорий целитель, а Роман как бы еще и пророк, видит узор судьбы у каждого. А Маша поет — и как поет!..
— И что ж он тебе про тебя напел, этот пророк? — губы Пыжика дернулись то ли от смеха, то ли от бешенства.
— Ничего. Только волосы мне ерошил, будто я ему как бы хомяк.
— И каково оно тебе было, п о д м у ж и ч к о м?
Кажется, Пыжик ревнует? Я растерялся.
Пыжик почти закричал:
— Ты уравнения с тремя неизвестными никак не осилишь, балда, а лезешь под мазурика в смазных сапогах! Тебе теперь к доктору надо! Ты там все, наверно, уже подхватил, весь медицинский справочник!
— Пыжик, он не такой!.. — я испугался.
— Фея Драже тупорылая… — карандаш в пальцах Пыжика хрустнул и раскололся.
— Пыжик, милый!.. Ты же не понимаешь: ты же мне самый р о д н о й!..
— Учи алгебру, идиот! — Пыжик отвернулся к окну.
Я честно уставился в уравнения, но от набежавших слез они двоились и троились, эти настырные «иксы» и «игреки» — и растекались в совсем уже непонятное. Суматошно, испуганно проносились в памяти все события последней недели, от смерти Мишеля до встречи с Романом, может быть, роковой…
И Лили — с ее, наверное, гибелью…
— Послушай, Пыжик! Гримальди вечером звал на его Peugeot покататься. И очень просил привести тебя. Он тебя уважает! Он говорит, ты будешь военным министром со временем. Или морским. Или внутренних дел. Или генерал-губернатором. Ты ведь умница!..
— Пошел ты со своим Peugeot, знаешь, куда?.. — дернув локтем, Пыжик больно заехал мне в грудь. — То он с какой-то млядью, то с мужиком! Медицинская, сука, энциклопедия!
И тут я понял: не Роман бесит его, а что я, «б а л д а у ш а с т а я», с женщиной уже побывал. А он еще нет. Мне сделалось жалко Пыжика. И я полез к нему обниматься, невзирая на энергичную, рычаговую работу его локтей. Я терся головой о его плечо, о щеку, о подбородок. Потом стал на пол сползать, чтобы уж на коленях, раз так, прощение вымолить…
С моей стороны, собственно, это был шантаж. Пыжик испуганно подхватил меня под руки, рывком поднял:
— Спятил?! Дедушка войдет — что подумает?..
Красные, растрепанные, мы смотрели друг другу в глаза — и наши губы сами собой сложились вдруг трубочкой…
Но Пыжик оттолкнул меня. И вовремя: горничная позвала пить чай.
Ах, как же мне нравилось бывать у Пыжика! Он жил с дедушкой — адмиралом в отставке, сухоньким, тихеньким, маленьким старичком с лысиной и пышными седыми баками а ля Александр Второй, и с глазами такими ясными, светлыми, что я почему-то уверен был: он все знает про нас — а может быть, и одобряет вполне?..
Как нравилась мне их небольшая квартира в пять комнат, со старинными географическими картами в рамах и моделями парусников, с морскими пейзажами там и сям, то безмятежными, то бурными, белопенными!.. Глядя на них, так тянуло в Крым…
Конечно, я рассказал Пыжику про золотой ярлык Чингизидов. Пыжик выслушал меня с скучным лицом. (Такое лицо у него всегда делается от особенного внимания и раздумья, от р е ф л е к с и и). В следующую нашу встречу у него Пыжик выложил передо мною на стол огромную раскрытую книгу. Половину страницы занимала гравюра. С нее на меня смотрел ярлык, это беспощадная примитивная рожа!
Книга была английская, язык этот я знал плохо. Пыжик, водя пальцем по строчкам, переводил:
— «Ярлык Чингизидов — древний артефакт. Согласно преданию, в изображении Чингисхана на лицевой стороне ярлыка зашифровано место погребения монгольского полководца. Арабские источники передают, что вместе с завоевателем было захоронено множество сокровищ и пленных. Ярлык использовался как необходимая инсигния при вступлении на престол нового великого кагана (императора) Монгольской империи со столицей в Каракоруме. Обладание этим ярлыком было главным свидетельством законности власти кагана. Так как имелись сомнения в том, что старший отпрыск Чингисхана Джучи — законный сын, поэтому титул кагана унаследовал третий сын Угэдэй. Второй же сын Чингиса Чагатай удовольствовался ролью главного арбитра и авторитета в Монгольской империи, будучи лучшим знатоком Ясы — закона для всех монголов, принятого Чингисом. Ярлык Чингизидов был сделан по приказу Чагатая и торжественно передан им Угэдэю в октябре 1228 года. С середины 14 века следы ярлыка теряются. Предположительно он может находиться на территории современных Монголии, Китая или Российской империи. Согласно преданию, ярлык делает его обладателя старшим в разветвленном потомстве Чингиса и наделяет полномочиями абсолютного суверена на всех землях, входивших в состав средневековой Монгольской империи».
Закончив чтение, Пыжик торжественно помолчал.
— Понял, кто ты, Ушастик? — спросил он, наконец.
— Ужас какой! — вырвалось у меня.
— Тут еще в примечании сказано, что у тебя дикие миллионы рабов. Во всяком случае, они таковыми себя считают. Ты как бы восточный царь, Ушастый! — добил меня Пыжик и прыснул: такая у «восточного царя» сделалась испуганная физиономия.
Но мне было совсем не до смеха:
— Теперь понятно, зачем о н и Мишеля убили! Кто-то домогается ярлыка из нам неизвестных. Выходит, Пыжик, я — с л е д у ю щ и й?..
— Погоди, но князь Муруков ведь жив?!..
— У него чахотка. И значит, я — следующий!..
Я чуть не заплакал.
— Не нюнь! — сурово оборвал меня Пыжик. — Думать надо, как из этого дела выйти…
Мы прикидывали весь вечер и твердо решили, в конце концов, непременно летом поехать в Крым к бабушке. Ах, как было бы хорошо, если б ярлык исчез!.. А если он все еще там, мы его выкинем к чертовой матери! Да хоть бы и в море — пускай подбирает тот, кому жизнь не мила.
Решенье вполне мальчишеское, но ведь, по сути дела, мы и были мальчишками.
А посему в тот же вечер отправились к Гримальди кататься на его новомодном Peugeot.
*
Дом Гримальди, богача, которого по несовершеннолетию его опекал дядя князь Литта, размещался на Мойке.
Странный это был особняк: длинное здание с полуколоннами по бельэтажу, времен Александра Первого, и убранство его было той же, классически «пушкинскиой», так сказать, эпохи. Но вся эта скучновато выверенная гармония-симметрия, вся эта ампирная бронза, малахит и карельская ласковая береза, были необыкновенно какие-то новенькие, или, как бы сказать — н о в о д е л ь н ы е. И «новодел» этот при всей неоспоримой дороговизне своей отдавал хвастливой подделкою. А главное, какое отношение этот строгий стиль имел и к скандальной жизни родителей молодого хозяина, и к его тяжелому, гнусненькому характеру?
— В сущности, Гримальди — дикий говнюк, и дружить с ним зазорно человеку приличному, — рассуждал Пыжик, пока мы шли морозною синею улицей. — Ты же знаешь, Ушастик: его мать была любовницей великого князя Алексея. Они так и появлялись в свете втроем: она, ее жалкий муж и великий князь. Про них говорили: cette ménage à trois[13]. И не факт, что Алексей ими обоими не пользовался. Он на них дикую кучу денег казенных извел из сумм, что на флот ему отпускались. Однажды в театре ей кричали, когда она там вся в бриллиантах в ложе явилась: «Вот наши корабли! Эй, эскадра, на рейд!»
— Люди завистливы, — заметил я философски. Все эти сплетни мне были давно известны. К чему сейчас-то они, когда ждет нас Peugeot, а на Руси разве что ленивый не крадет?
— Люди суть люди, и никуда от этого нам не деться, Ушастик. Но только есть достойные, порядочные, даже и из п р о с т ы х, а есть такие, как твой Гримальди. А в России, может быть, все скоро изменится.
Тон наставника, что на Пыжика порой находил, решительно мне не нравился:
— Не изменится, Пыжик, не жди! И с чего это он вдруг «мой»?..
— Не знаю, с чего. Сдается, как-то вы дико связаны. А я бы на этого герцога и дедова Василья не променял.
(Василий был старый денщик адмирала, сварливый пьяница; «злыдень и аспид», как аттестовала его горничная Матреша; к ней красноносый старик, кажется, приставал).
Мы вышли на Невский. Здесь горели широкие витрины, мчались потоки карет, грохотали конки: люди облепляли их, громоздились на крышах, как мрачный, тяжелый груз. По тротуарам уже сновали «эти женщины», и белый косматый свет газовых фонарей беспощадно освещал их равнодушные или лукавые накрашенные физиономии. Мелькали тальмочки и ротонды из непонятных мехов, и заиндевелые шляпки «с покушениями на моду». Котелки, фуражки, шапки мужчин шли своим чередом, но к шляпкам были дерзко внимательны и нагло взыскательны.
Maman говорит: порядочной женщине после трех часов на Невском неприлично быть не в карете.
Вспомнилась вновь Лили, и я с некоторым превосходством подумал, что Пыжик не ровня мне. Ну, пока не ровня…
Кажется, он почувствовал это, нахмурился:
— Что за сани волокутся за нами? Прямо пришитые…
(Мы были уже на более тихой Мойке).
Я оглянулся. Ну да: Роман!..
Вроде б он мне кивнул…
За нами, что ли, следит? За мной?..
Странное дело: я почти не встревожился. Точнее, тревога была, но приятная. Ох, этот его язык там, в межножье, и червячонок мой на густых усах!..
— У тебя сейчас дико дурацкая рожа, Ушастый!.. — Пыжик сурово дернул меня за рукав. — Это, что ли, и есть твой п р о р о к?
— Знаешь, Пыжик, мне почему-то не кажется, будто он опасный. Может, он нас охраняет сейчас? Может, нас бережет? Он добрый, по-моему…
— Если кажется — перекрестись! Что, других гузок в Питере ему не нашлось? Нет, Ушастый, не бережет он тебя — с т е р е ж е т! Так-то оно вернее будет!
Мне стало не по себе. В самом деле: с чего я вдруг «Ромче», если, скажем, есть Прошка, и Прошек таких — вагон?
Именно — стережет…
Гнусаво пропел клаксон: Гримальди вылез из кузова. Он был весь в желтом кожаном, в гетрах и в крагах с раструбами, и круглые «шоферские» очки закрывали пол-лица.
Гримальди ухмылялся, довольный произведенным эффектом.
Мягкий английский «r» давался ему куда легче твердого нашего.
— Good evening, gentlemen! — он воздел руку, и раструб перчатки хлопнул на пронзительном ветерке. — Faites connaissance, messieurs: this is my French girlfriend! And my French love too. Herzlich willkommen zum zwanzigsten Jahrhundert![14]
— Не выдгючивайся! — хмуро поддразнил задаваку Пыжик.
Но суровое мужское рукопожатие все же свершилось меж нами: модерная «французская девушка» — обязывала.
Мы с Пыжиком разместились на тесной льдине заднего сиденья. В шедевре технического прогресса имелось лишь ветровое стекло: у нас по лицам гуляли мерзлые шторки. Стесненных друг другом, тотчас нас оковал морозец — при ходьбе почти не заметный.
Гримальди азартно крутнул — раз, другой, третий — рычаг над бампером. Мотор бодренько встарахтел. Гримальди прыгнул к рулю.
— Двадцатый век — что ж вы хотите, госудаги мои?!.. Но зима в Питеге все еще гусская, мать ее в сгаку.
— А почему она у тебя фганцуженка, если ты ей хген накгучивал? — снасмешничал Пыжик.
— Какой же ты м а л ь ч и к еще! — снисходительно ударил Гримальди по главному.
Пыжик мрачно умолк.
Машина покатила вдоль парапета к тяжело-пышному Строгановскому дворцу.
Невольно я оглянулся. Нет, Ромча за нами не двинулся. Постойте, да где же он?!..
Ничего особенно нового мы в пресловутом Peugeot не почувствовали. В санях и теплей под дохой, и быстрей. И чада-треска нет этого…
— Слышишь, герцог, ты плед хоть кинул бы сюда или тулуп какой! Задубеешь в этом двадцатом веке! И ссать дико охота, — пробурчал Пыжик.
— Эх вы, лошадники! — Гримальди повернул назад. Кажется, он был задет нашим в отношеньи прогресса дружным скепсисом.
Мы вылезли из авто уже в гараже. Н-да-а: ух! Зуб на зуб не попадает…
— Давайте, чаем вас напою? Господи, что за тьма вы сибигская!.. — и Гримальди первым взбежал по железной гремучей лестничке в тепло, наверх в комнаты.
— Только белым медведям кататься в твоем Peugeot, — ворчал Пыжик. — Не для человека делано это! А в прогрессе главное не техника — люди.
— Еще скажи, что когда-нибудь «все люди станут бгатья», — ухмыльнулся Гримальди, выпуская душистый дым сигары поверх наших голов. — Ты, Пыжик, как нянька моя говогила: л е ж е н ь. Заскогузлый ты! И Ушастика под себя подг’гебаешь, чтобы таким же стал. Гусак ты неиспгавимый!
— Я — гусак?!
— Я говогю не гусак, а гусак! — вскипел Гримальди, но как-то, показалось, рассеянно.
— Он говорит: русак! — встрял я все же для верности.
Посмеялись, скорей, надо мной.
— Ну а что такое прогресс п о - т в о е м у? А, Гримальди? Ежели sérieusement? — наседал Пыжик. Чай с ромом раззадорил его, а хозяин злил.
— Хочешь увидеть? Allons[15]!
Из столовой мы прошли через несколько пустынных и скучных комнат, словно оцепеневших в своей безупречно классической новенькой роскоши.
Вот и библиотека, мрачная от темного дерева и золотых корешков, от бюстов великих древних, что, как отрубленные головы, светлели на высоких шкафах. Со стен смотрели портреты дам и вельмож в орденских лентах. «Паноптикум пгедков», — так называл их Гримальди, небрежный потомок прежних властителей. Полстены было отдано под портрет Николая Первого во весь рост. У государя было лицо снулого судака — уместное на фоне полных грозой небес.
На овальном столе в центре комнаты поблескивал странный аппарат: на подставке — серебристая вогнутая полусфера, прикрытая редкой решеткой из проволоки.
— Рефлектор? — Пыжик любил технические новинки, если они были удобны, уместны, «оправдывали себя».
— Если б я был вовсе дугак вгоде тебя с Ушастиком, я бы сказал: да, гефлектог для душ! Этот аппагат пгислали мне из Амегики. Там уже догадались, что суть пгог’гесса не в совегшенстве техники или социальной, так сказать. спгаведливости, а в умении манипулиговать общественным мнением. Важно не что мы едим, а что пго эту пищу пги этом думаем.
— И что, эта вот тарабань может заставить меня думать не то, что я хочу, и не то, что есть даже на самом деле?.. — усмехнулся Пыжик.
— Хуже, мой дгуг, много хуже и опасней для вас! Эта вот, как ты говогишь, «тагабань» может исказить пгостганство и вгемя. Точнее, смешать эпохи, пгошлое и будущее, так что сам чегт в них после не газбегется! Колоду истогии можно с ней тасовать, как вздумается!
— Дьявольское изобретение, — поежился Пыжик. — Хотя, если так, можно в пользу людей все переиграть. И прошлое, и грядущее. Тогда — да: это дико полезная тарабань!
— Что есть «польза людей»? Только пгедставление кого-то об этой пользе. А пгедставление можно сфогмиговать. Воспитать, если тебе больше так нгавится. Новый век — век масс. И значит, наша задача дать им по минимуму и заставить служить по максимуму.
— Это подло! — Пыжик аж покраснел. — Это ведь шулерство окаянное!
— Это называется технология власти, мой дгуг. В сущности, мы все только этим и занимаемся. В Гиме когмили габов лишь постольку, поскольку они габотали. Двадцатый век, на котогый вы так надеетесь, это геанимигует со всей откговенностью. И дай бог в а м до этого не дожить, — он посмотрел на нас грустно, почти с состраданием.
— Ты — дьявол?.. — вырвалось у меня.
Гримальди пожал плечами и ткнул в красную кнопку на подставке «рефлектора».
Сперва медленно, потом все ускоряясь, полусфера стала бесшумно вращаться вокруг своей оси. Теплый ветерок понесся по нашим лицам. Полусфера внутри наливалась краснотой — ну да, как рефлектор. Лампочки в люстре замигали, и она завращалась тож.
Мы как бы оказались участниками циркового аттракциона, в вихре светотени. Физиономии наши остались прежними, это я точно помню. Но лица на портретах переменились разительно. Всякое благообразие с них сползло, исчезли улыбки любезные, томные, глаза стали жесткими и холодными, тупость и алчность читались в каждой складке, в каждой подробности. Такие рожи я прежде видел лишь у охотнорядцев, у мелких торгашей на Сенной. Эдакие могли бы быть ну у колодников. Но здесь, в аристократической этой зале…
На нас обрушились морды зверей… Только лицо Николая Павловича на портрете стало еще суровей, еще недовольнее.
— Et voila, messieurs![16] — Гримальди откинулся на спинку кресла. Щурясь от дыма сигары, разглядывал нас, почему-то грустно и, показалось мне, даже сочувственно. Что-то соображал он — а может, и хозяйски провидел в наших судьбах уже. Мы столбами стояли перед ним, не смея и шелохнуться.
— Не все так стгашно, — вздохнул, наконец, Гримальди и провел ладонями по подлокотникам, — ждет вас и утешение, может быть…
Он щелкнул кнопкой. И люстра и полусфера замерли, портреты в мгновенье ока восстановились в милостивом своем старинном величии. И только лицо Николая Павловича стало другим — гладким и беспородным лицом то ли сметливого филера, то ли клубного шаромыжника из простых, то ли спортсмена из хитрых, но неуспешливых…
Это была физиономия поручика нашего Теплицына!
Глава третья
«…Но сердце молится, сердце строит:
Оно у нас плотник, не гробовщик…
Пускай нам кажется, что мы не верим:
Оно за нас верит и нас хранит».
М. Кузмин
Нечего говорить, что от Гримальди мы с Пыжиком вышли, себя не помня. Молча шли плечо в плечо, точно в строю или как обреченные. Свежевыпавший снег резко, зло визжал под ногами. Очень холодно стало — от мороза мы и очнулись.
— Все равно это только дикий аттракцион! — упрямо тряхнул головой Пыжик. — Что он такое, этот Гримальди? Ломается, кривляется: будущее ему открыто! А показал какую-то тарабань из цирка. Американцы и не такое придумают, the show, но мозги человеку тоже не за хрен собачий даны. Нет, Ушастый, народ не обманешь!
— Обманешь, Пыжик, еще как обманешь! Наш народ — он тупой, ленивый и темный. Вспомни Ходынку! Все думали: после мятеж начнется, столько народу передавили — а царь к французам в тот же вечер на бал укатил. И что? Повозмущались в подушку — и баста. Да наш бомонд и не роптал: плясал себе! А сейчас? Сплошные в войне с япошками поражения, одно позорней другого. При Цусиме из тридцати восьми кораблей тридцать четыре мы потеряли! Царский дядя флот проебал, царский зять новый флот у аргентинцев отказался купить, потребовал взятку в 300 тысяч[17] . Те не дали, флота нет — и что, думаешь, наши бунт учинят? Утрутся, как миленькие! Все на этом в России, на привычном безмолвии, держится.
Пыжик фыркнул — нехотя согласился.
— Ах, Пыжичек, мы сами не знаем, чего хотим и что любим! — (На меня философский стих, что ли, нашел?). — Ведь и мы с тобой, как и все почти у нас, только т е п л е н ь к и е. А бог таких, Пыжик, не любит! Он на них за хладотеплость, как няня моя говорила, л и х о насылает. Ему больше подходят или вовсе холодные, как Гримальди, или горяченькие, как Роман… или, скажем, Теплицын?..
Последнее вырвалось у меня неожиданно.
— Да какой Теплицын горячий?! Дикий бардаш и шпион. На портрете рожа его вылезла — так это проекция была, le cinéma[18]. Говорю же тебе: аттракцион Гримальди нам показал!.. А Теплицын к тебе еще не подкатывал, чтоб ты ему про такие вот разговорчики доносил?
— Нет, — я покраснел. — Пока только посмеивается, иногда. Он же видел нас с Мишелем… Как бы намекает, но этак игриво, нежненько.
— Ты аккуратней с ним! Он еще та ско …
— Э, господа хорошие! Ай подвезу?..
Роман нагнал нас. Усмехался из заиндевелого веника бороды.
— Ступай, братец! Нам тут недалеко, — ответствовал Пыжик надменно. И вдруг хлопнулся всей спиной на меня, толкнув от саней. Из передка их торчала, содрогаясь, стрела с нечастым оперением.
— В сани, прыщи! — рявкнул Роман.
…Лишь повернув на Невский, он придержал лошадей. Перегнулся вперед, расшатал, вытянул из облучка стрелу. Сунул нам:
— Осторожнее, баринки! Вдруг чем намазано…
Пыжик, как зачарованный, вертел ее в руках:
— Смотри, Ушастый! М о н г о л ь с к а я!
— Почему монгольская?
—Наконечник плоский, без граней. Она и летит быстрее, и больше их в колчане помещается. В том числе поэтому лучники Чингиса были несокрушимы!
— Послушай — но монгольские стрелы здесь, в центре Питера?!.. — почти взмолился от страха я.
Пыжик не ответил, почему-то очень довольный. Похлопал стрелой плашмя о Романову спину:
— Эй, любезный!..
Он назвал свой и мой адресы.
— Нельзя, баринок! Дьявол их знает: может, там тоже уже пасутся, вас дожидаются? Айда ко мне, пересидите хотя б до утра. И тюляфон имеется домой позвонить, чтобы няньки-родители не бесилися.
— У тебя?! Есть т е л е ф о н?!.. — изумился Пыжик.
— Где там мне! У братанА. Я ж у братана здеся живу, у Гришухи.
— Говорил же тебе: брат у него — Григорий Распутин! — дернул я Пыжика за рукав.
— Дикий, дикий хрен!.. — проворчал Пыжик растерянно.
Конечно, как и все в Питере, он знал о новой звезде — целителе, что недавно кровь остановил несчастному цесаревичу. Господи, сколько об этом разговоров по всем гостиным!.. Maman рассказывала мне об этом уже несколько раз и с новыми все подробностями. Papa хмурится, называя все это «новой панамою».
А дело было вот ведь как. У великого князя Николая Николаевича захворала легавая. Его высочество приказал ветеринару, чтобы она выздоровела. Врач ответил: мудрено это выполнить, но у него есть один знакомый такой м у ж и ч о к — может быть, он и заговорит б о л е с ь… Мужичок явился, животное встало на ноги.
— Согласись, душечка, само начало этой исторьи уже скандалезно! — строго перебил papa. — Где пес — и где наследник престола?!..
— Я знаю, Карл-Фридрих-Иероним, вы неисправимый с к э п т и к и вечный спорщик со мной! — Сердясь, maman всегда переходила с papa на «вы». — Но всякий р у с с к и й сразу бы догадался, что если бессмысленное животное отозвалось на внушение, то человек разумный — тем более!
— Ah, je sais tout, ce que vous me direz![19] — отмахнулся papa и ушел в кабинет.
Maman же победоносно продолжила:
— С тех пор Григорий Ефимович принят всюду, везде. Он и до этого вылечил массу людей, в том числе и каких-то купчих, и даже крестьян курировал, что, впрочем, естественно: Григорий Ефимович тогда жил совсем на пленэре. Он и сам был божий странник… И вот, вообрази, милый: у цесаревича открылось кровотечение! Ничем остановить не могли. В отчаянии государыня призвала, наконец, Распутина. Ах, мать готова на все ради своих детей, даже и мужика во дворец позвать! (Но если бы дети ценили это!..) Старец только сказал: «Чух-чух! Злой дух — под крыльцо да и с т у х!» И ведь стух! Старец лишь поводил руками над кроваткой его высочества — et la maladie est partie[20]! Какие же еще нужны доказательства?!.. Теперь он в свете для многих пророк, un prophète. При нем и Аннет Вырубова сейчас, и Муня Головина (невеста несчастного Nicolas Юсупова, которого на дуэли убил из-за своей жены, этой femme facile[21], граф Мантейфель в прошлом году, в начале сезона), и эта красотка генеральша Лохтина, хотя мне всегда казалось, что она сумасшедшая… Ах, они там в с е, кажется, fou[22] — но это так увлекательно!..
(Логика maman для меня всегда была непостижима, как и высшая математика…)
Мы въехали на Гороховую. Час был поздний, улица пустынна, здания сонные, полутемные. Распутины жили в пятиэтажном доме, ничем не примечательном, кроме башенки.
Роман провел нас по лестнице, удивительно будничной и нечистой, к двери на третьем этаже и своим ключом отпер ее.
Мы оказались на кухне — значит, лестница была черная. Очень толстая женщина в белом платке ставила на плиту огромный чайник. Лицо у нее было злое и хитрое.
— Это что еще за шлендр приволок, Роман?! — напустилась она тотчас на нашего провожатого.
— Ша, Акуля, то не хрен собачий тебе: то пыжи!
— Каки таки пыжи?! Че мелешь-то? Сам пол мне сапожищами гвоздашь, так еще и пыжей приволок каких-то, язва сибирская!
Это была знаменитая Акулина Лаптевская, то ли секретарь Распутина, то ли экономка его — но точно знали все, что также и «полюбовница».
Роман хлопнул Акулину по заднице:
— Не на твоем подоле сижу-ездию, деушко! Чайку нам бы с чем-нибудь…
— Сушек дам, калача — да и хватит с вас! — огрызнулась двуспальная «деушко».
Но взглядцем отметила нас примечающе.
Мы с Романом прошли в его комнату. Она была совсем небольшой, тускло-серенькой от дешевых обоев, с половинным окном. Железная койка под лоскутным одеялом, стол, пара венских стульев — вот и вся обстановка. Ах, нет: над койкой картинка висела еще — голый юноша на красной лошади. Лицо юноша имел удивленного идиота, впрочем, породистого. Картинка была из журнала вырезана и наклеена заботливо на картон.
— «Купание красного коня» называется, — проследив мой взгляд, не без гордости сообщил Роман. — Петрова-Водкина какого-то (наверное, пьяница). Из «Нивы» давеча вырезал. Люблю картинки в журналах глядеть. Попадаются оченно подходящие!
— А зачем он голый? — спросил Пыжик, нахмурившись бдительно.
— Ты аль в деревне не был, баринок? Кто ж одежу неволит, коней купаючи? — удивился, в свою очередь, и Роман.
— А к р а с н ы й конь почему? — уличал Пыжик. Он настаивал на своем праве быть от разбойника независимым.
— Потому красный, что жисть в ем ажник горит! Ты стрелку-т на стол положь али, лучше, на подоконник. Покорябаешься.
— Это называется символизм, Пыжик, — мягко заметил я. — Stéphane Mallarmé a dit[23]…
— Надо дедушке позвонить! — строго перебил меня Пыжик.
— И то: уж десятый час! — Роман встрепенулся, улыбаясь, однако, в усы. Своим «супротивством» Пыжик, кажется, очень его смешил — а может, и нравился.
Ромча распахнул дверь в коридор. Оттуда явился нам голос, удивительно на Романов похожий. Он произносил слова ласково — тихо пел-курлыкал почти:
— Ой, миленькой, ничего ушко и не болит уже! На бочок повернись-ка да и спи себе… А я тебе говорю: не болит! До утра спать будешь, а завтра встанешь здоровенькой!
— Занятый покудова тюляфон! — Ромча развел руками. — Братан царевича лечит, вишь…
В голосе его звучала фамильная гордость.
Акулина внесла поднос — чайник, калач — с лязгом бухнула посуду на стол:
— Че ж они у тя, всю ночь, что ли, будут, пыжи? Эку моду взял: в братнином доме блудить!
— Ступай, деушко, ступай, милая; дальше мы с а м и управимся! — медово, точно к больной обращаясь, пророкотал Ромча. — Эвон, и тюляфон ослобонился уже…
Акулина, фыркнув, выкатилась.
Мы выглянули в коридор. Григорий — вылитый Ромча, только в шелковой лиловой рубахе — постоял перед двустворчатой дверью, наверно, гостиной, подвыдернул из-под пояска рубаху спереди, и с очевидным следом этого как бы от натуги возникшего (иль от нужды приспичившейся) беспорядка, шагнул к гостям. Дверь оставил за собой распахнутой.
*
Едва успели мы домой позвонить, как вновь «тюляфон» затренькал. Ромча машинально взял трубку. В ней раздался взволнованный женский голос с выраженным акцентом:
— О, Григорий Эфимович! Чудо! Он уснуль! Бэби уснуль, Григорий Эфимович!
«Старец» уж был тут как тут. Выхватив трубку у Ромчи, затараторил, заговорил громко, чтоб и в притихшей гостиной все слышали:
— Верь мне, Мама, спать ему до утра, а утречком все пройдет у нашего андела. Да и сама ты теперь ложись, ведь намаялась! А я за тебя помолюсь, чтобы сны у тя были седни, у голубицы, как песенка.
— О, мой трук! — с пафосом отвечала трубка. — И я за фас пуду всегда молиться, фсегда! Плагослови фас косподь!
Григорий повернулся к своим гостям, рявкнул властно:
— Все за Маму и андела Алешеньку сейчас мы помо-о-олимся!..
Лицо его сияло, глаза горели, широко распахнутые. Он был само вдохновение и нас, кажется, не заметил — как бы даже перешагнул.
Из гостиной поплыл хор спевшихся (женских, главным образом) голосов, приторных и печальных.
Нас с Пыжиком от аппарата точно ветром сдуло уже. Одно дело — сплетни, другое — воочию убедиться в существовании таинственной силы и во власти этой самой силы над владыками земными, реальными…
— Ето што! Кажный день почти Гришка с царицей обчается, — похвастал Роман. — Садитесь-ка лучше чай пить, господа п ы ж и. Да и один ли чай?!..
Роман подмигнул, нагнулся, извлек из-под стола темную бутылку, красным сургучом запечатанную. Повертел в руках, щелкнул по ее короткому горлышку черным ногтем:
— Настоечка наша, сибирская! Шаманская, почитай что, волшебная! Слыхали, небось: «Чтобы пелось и жилось, чтоб хотелось и моглось»?..
…А густая оказалась настоечка! Отдавала травами и чем-то еще очень животно интимным, стыдным почти и манящим, зовущим, дурманящим, подстерегающим, все запоры в человеке срывающим.
Мы с Пыжиком сразу улетели куда-то, где шум в голове, где тесно, просто и радостно; и ничего-то уже не жаль… И стихи читать хочется — это как минимум… И чтоб стихи непременно глупые-глупые были бы, очевидно для дур!
— Это было у моря! — возопил я истошно и радостно. — Где ажурная пена! Где встречается редко… едко… метко… В общем, Ромча, там т а к о е в с т р е ч а е т с я!..
Пыжик стукнул меня кулаком в плечо:
— Замолчи, дурак! Мало ли что и где тебе встретилось?!.. Ну и что?.. Нам вот стрела сегодня встретилась… и Peugeot!
Вдруг он во все горло, грубо, захохотал, упал на кровать и задрыгал ногами беспечно, беспомощно. Я метнулся к нему, совершенно Ромчи не стесняясь. Дядька повалился сверху на нас огромной душною глыбою, беспокойною.
— Йэх, пупырышки! Бесенятки мундирные!.. У-ух!.. — Ромча обнял обоих, вжал в грудь себе. Рубаха его пахла мужским терпким пОтом, хлебом и лошадью. И этим вот стыдным — тем же, что и «настоечка»…
— Ты задуть нам ведь хочешь, мужик? — вдруг спросил очень трезво Пыжик, о т ч е т л и в о. — Хочешь?! Ведь так?..
— Нету в тебе такой дырки, чтоб от меня без кровей уйтить! Эх ты, Аника-вояка! Бабу еще не спознал — так хоть дружку задуй, он-то готов! А я погляжу!
Пыжик вырвался из его объятия и уставился на Ромчу, весь всклокоченный, с приоткрытым в беспомощном гневе и изумленье ртом.
— Сявка ты, сявочка! — потрепал его за нос Роман. — Спознайтесь уж по-людски, ребятушки! Инда ведь как детишки, сосетеся только-лишь. И что за радость все время вам эдак-то?..
Широкая мужицкая лапа полезла Пыжику вниз по штанам.
Все дальнейшее, что было в ту ночь, вспоминаю обрывками. Помню, боль была, сильная, и вдруг она расцвела в мозгу какой-то мучительной сладостью, как колючий алый цветок. А Пыжик стал яростный-яростный, гневный, отчаянный — таким я не видел его еще.
Потом он спал, откатившись совсем к стене, словно упрятался. Роман опять ездил по мне языком с жадной нежностью, и меж нами случилось, что и раньше было уже.
…Мы сидели, обнявшись, во тьме — погасло вдруг электричество. Газовый фонарь с улицы положил на стекло окна мутно-белесую полосу.
Пыжик храпел.
— Эк заливается! — усмехнулся Роман. — Мужичок растет! Надо бы ему женчину… Припозднился парнишечка.
— А я?..
— А ты — как и я: пчелка сахарна ты моя, размедовая… Другого, значить, мы коленкору с тобой. Как он тебя зовет — Ушастик? Ушастик и есть! Эх, не в то время родились вы, мои пыженяточки… Жалко вас! Да и всех жалко ведь! А Гришке, думашь, не жаль? Он же ж, как и я, знает, беднай, во всю ширь, кто здесь как упокоится. Очень царицу жалеет и цареночка. Вы думаете: злая Александра Феодоровна, гордая? А она всех вас смущается.
— Она у нас — как Алиса в Стране чудес? — догадался я.
— Чего?
— Книжка такая есть: девочка Алиса оказалась в стране, полной чудес. И никак она не может оттуда вырваться, хотя все вокруг становится «чудесатей и чудесатей»…
— Чудеса-то больно злые пучатся вокруг государыни! А что дальше будет — ох, лучше не говорить. Не та, знать, страна ей досталася…
— Что ж, Ромча, будет и у нас революция?
— Будет, милой! Куда же мы денемся…
— Но потом станет всем хорошо?
— Кому? Кто в земле упокоится? Эх, милой ты мой родной! Лучше не спрашивай…
Он нашарил стрелу на подоконнике, повертел в руках:
— А не просто так нынче вас чуть не пришпилили! Мне-то ведомо, какие там концы в воду упрятаны — да сказать… Нет, помолчу я покудова. Не вмешаюся…
Внезапно под потолком вспыхнула лампочка: «дали ток». И тотчас из коридора услышал я неровный, нетерпеливый треск телефонного диска.
Голос Григория донесся до нас неотчетливо:
— Але? Это ты Валек? Че бужу? То и бужу тя, душу чернильную! Ты че же про братовьев намаракал, про нас с Ромчею? Будто мы чуть не черти и пхаем Расею хер знает куда. Ты окснись, дуродел! Ты один из нас, Валек, грамотей, а ведь пургу несешь! Державу куда готовишь — подумай сам!.. Мне Аннушка вслух нынче вечером зачитывала из газетки твоей — дык я чуть ее, бедную, тою газетою не пришиб. А надо бы автыра!
— Младшенькой у нас шибко грамотный выдался, странь бумажная… Газета «Искра» у него какая-то альбо «Канистра»… Большевик! — Роман сплюнул на пол. — Тьфу! Смотреть не на что…
*
Жизнь моя в ту зиму была пестрой необычайно. Словно все вокруг стронулось с места и повалилось в разные стороны, открывая зияние самого разного нового. Прежде всего, по проискам неутомимой maman, я окончательно стал своим в доме — а точнее б сказать, «при дворе» — великой княгини Ольги Александровны. Надобно знать, что свой двор был у каждого члена царской фамилии, и всяк такой «малый» двор имел свой штат, свой цвет и свой особенный колорит (что не одно и то же!).
Ольга Александровна была простая и добрая девушка, и девушкой оставалась она все одиннадцать лет замужества за принцем Петром. За него и вышла, чтобы из России не уезжать. Великокняжеская чета обитала в длинном доме на Сергиевской улице (бывший дворец Барятинских), куда меня доставляла дважды в неделю придворная карета на «дежурство». Дежурство состояло, главным образом, в том, что надо было сопровождать Ольгу Александровну на бал или в театр. Собственно, окончательно моя судьба близкого их «семье» человека в театре-то и решилась!
Давали в Мариинском «Щелкунчика». Я стоял у двери ложи и что-то совсем разнюнился во время адажио. Эта музыка и сейчас сильно томит меня. В любом случае я довольно позорно для моего возраста и ответственной ситуации хлюпнул носом. Ольга Александровна была слишком добра и воспитанна, чтобы тотчас обратиться взглядом на неприличный звук — но все же покосилась мельком потом и вдруг указала веером мне сесть в кресло, полускрытое портьерой от зала. Позже она со смехом призналась, что подумала: мальчик простудился — но прочла на лице «мальчика» сильное волнение отнюдь не медицинского происхождения. Она поняла: со мной м о ж н о говорить об искусстве, о музыке.
Но истинной ее страстью была живопись. Мне нравились ее пейзажи и натюрморты. Краски предпочитала она осенние, пламенные, — душу в них отводила. Я признался, что тоже немного рисую, но больше «портретики». В сущности, это были шаржи. Увидев их, Ольга Александровна хохотала от души, велев также и ее не щадить. «Не щадить» ее я, естественно, не осмелился и изобразил в виде, пожалуй, беззастенчиво приукрашенном. На мой льстивый «шедевр» она ответила хитрым взглядом и довольной улыбкой. Вскоре я увидел свой рисунок в белой ажурной рамке на ее туалетном столике.
Лицо у son Altesse[24] с этими калмыцкими скулами, узенькими глазами и толстыми, почти негроидными губами при всей своей некрасивости было очень живое, подвижное и озарялось такой искреннею улыбкой и сердечною теплотой, что некрасота сразу же забывалась. Ольга Александровна то, что называется, «подкупала» и покупала вас с потрохами своей удивительной добродушной домашностью.
Мою принцессу я полюбил искренне и доверчиво, как котенок, которого приласкали после прозябания на холодной улице. И все же посещение ее резиденции давалось непросто мне. Плавный аттик над парадным входом навевал мысль о мрачных временах Анны Иоанновны, когда мой предок со стороны papa явился в Россию в обозе герцога Бирона в облике скромного конюшего.
Дело в том, что принц Петр, супруг Ольги Александровны, как и следовало ожидать, отметил меня своим с т р а н н ы м вниманием. Собственно, мы с ним сразу поняли, что оба «из одного лукошка» грибки. Но принц Петр был, по моим представлениям полуподростка, «стар» да и некрасив какой-то особенно породистой и порочною некрасивостью. Очень высокий, с длинной почти совсем лысою головой, с носатым внешне апатичным лицом, «Петя», как называли его в царской семье, носил и во внешности, и в характере своем откровенные черты вырождения: его родители были близкими родственниками.
Чисто физически он мне был неприятен. Я тянулся к людям мужественным и даже мужиковатым. Но это, оказалось, был и его вкус. В нем же самом таилось застенчивое дитя непонятного пола, и по свойствам характера своего он мне казался подчас младше меня. Его простодушие отдавало откровенною глупостью. При посторонних он даже царя называл по-домашнему «Колей», что было прямым нарушением этикета — но ему, «блаженненькому», прощали любую рассеянность и наивность.
Когда мы оставались наедине в его огромном перегруженном «сувенирами» кабинете в стиле Louis le Juste[25], некая судорога проходила по всему его телу от темени до пяток, и кислая, морщинистая улыбочка искажала лицо.
— Итак, мальчик мой, наконец-то мы можем не чиниться… Ну здравствуй, дружок!
«Не чиниться» значило дрочить и тискать его сквозь штаны. Впрочем, он никогда не кончал. Целовался «принц Петя» тоже довольно неестественным образом: водил надушенными щеками по всему моему лицу — я даже стеснялся губы в движение приводить. Потом он жадно расспрашивал меня о «пажиках». Детали интимных отношений в Корпусе занимали его чрезвычайно — глаза щурились и умасливались: оказывается, юный б у д у щ и й мир человечества полон был «нашими»…
Человек добрый и бесхарактерный, он часто страдал от яростных выволочек бурного своего родителя, который, кажется, не простил себе «такого вот сына» (к тому же единственного).
Была, наверное, у принца Петра своя потаенная жизнь. Во всяком случае, нередко он проводил ночь «в клубе» — но что это был за «клуб», во дворце как-то не уточнялось.
У кого я мог это выведать? Только у моего «куратора» — поручика Теплицына. На мой прямой вопрос я получил прямой грубый ответ.
Что же, мне остается набраться сил и рассказать вам про самое неприятное…
*
— Ну, как вам стрела, барон? А кстати, и где ж она? — этим вопросом, заданным безмятежным тоном в гулком гимнастическом зале, Теплицын столкнул меня в пропасть, на дно которой я все еще лечу и лечу, — и конца полету этому пока не предвидится…
Я был в майке, весь в мыле после скаканья через «коня» — и наверно поэтому показался себе насекомым, которое беспощадный крючок извлек из уютного теплого панциря.
— Vous dites?..[26] — лепетнул во мне «тихий ужас». Кажется, волосы на моей голове шевельнулись..
— Бросьте, барон: со старшими говорят на языке, который о н и вам заказывают!
— Виноват, господин поручик…
В зале мы были вдвоем: он вызвался натаскать меня, пентюха, индивидуально — чтобы я сдал, наконец, зачет.
— Эк, бродит здесь эхо… Пошли-ка ко мне, — кивнул поручик на дверку в конце зала.
Там, в тесной каптерке, пропахшей кожей мячей, ремней и спортивной обуви, он уселся за кургузый стол. Я прилепился напротив, на краешек нижней свободной полки.
— Ваньку валять не будем, барон: за вами охотятся! И сами понимаете, в качестве вашего наставника по гимнастике я об этом бы — знать не знал…
Я молчал. Глаза у этого коренастого лысоватого крепыша были прозрачно-серые, почти белесые. Читать в них не представлялось возможности. Оставалось наслаждаться едкой его улыбочкой.
— Вы с Пыжиным пытаетесь распутать клубок? Берегитесь, мальчики: силы-то неравны.
— Господин поручик, можно вопрос? К т о за нами охотится? Вы и х знаете?
— Вопросом на вопрос отвечу, барон. Вы ведь не думаете, что задача моя — лишь уберечь вас и Пыжина от опасности? То есть, оно, может, и верно: уберечь вас мне хочется даже чисто по-человечески. Поверьте, мы все не звери! И вы, и Пыжин — ребятки-то симпатичные. Но — дело прежде всего! Точнее, взаимная выгода…
— Господин поручик?.. — я тряхнул головой. Гордая кровь Муруковых ударила в голову.
Проплешина в редких рыжевато-желтых его волосах покраснела.
— Да, барон? — он откинулся на спинку стула, равнодушный, скучающий.
— Но, господин поручик… вы хотите сказать… вы хотите мне предложить…
Он разглядывал меня с легкой улыбочкой, поигрывая ключом от каптерки. Взгляд на меня — на ключик, на меня — на ключ.
— Mais c'est bas, monsieur[27], — выдохнул я последний свой довод, последний воздух.
Поручик точно не услыхал. Но вдруг резко наклонился ко мне через стол:
— Я хочу вам предложить с п а с е н и е! Барон — ваше спасение!..
Я молчал, уставившись на носки его сапог, торчавшие из-под стола. Носки показались мне чересчур что-то острыми.
— Вы даже не представляете, барон, кто с нами работает! Вы бы в обморок сейчас грохнулись, услышав эти фамилии. А все почему, барон? Потому что существует б л а г о о т е ч е с т в а. И это редкая удача, барон, когда служба на благо отечества совпадает с вашей собственной выгодой! Поверьте мне, о ч е н ь редкая! Вы слишком молоды, чтобы на своей шкуре это узнать — mais croyez-moi sur le mot[28]…
В его словах прозвучала какая-то грусть сожаления.
— И в чем оно, это благо отечества, которому я должен служить, по-вашему? — сипло осведомился я.
Он тотчас сбросил ключ с пальца:
— В вашем конкретном случае нас интересуют только три человека: Роман и Григорий Распутины и Гримальди. Если явится на сцену еще и третий братец — звать его Валентин, — то и о нем, что уж сможете… Ну, а дура Вырубова, стерва Лаптевская, сумасшедшая Лохтина — это само собой, но как текущий момент. Все они соус, не более.
— А Ольденбургские?
— Мы не смеем вести слежку за членами высочайшей фамилии. Разве что, если вы что-нибудь за чайком и про них мне расскажете… Мы ведь приятели…
— Я вообще-то не дал согласья еще!
— Так мы же и не торопимся! Это о н и торопятся, понимаете? И в любую минуту может случиться, что вы или Пыжин свалитесь от стрелы в сердце, горле или еще где-нибудь. Или не от стрелы… Неужели вы думаете, что князь Михаил Муруков своей смертью помре?..
Он взял ключ, как бы давая понять, что разговор на сегодня окончен.
— И все-таки кто о н и? — не удержался я.
— Барон, я сказал: сведенья баш на баш, иначе разговора у нас не получится. Одно скажу: я бы в сортире их всех замочил! Связал бы и всею гирляндой — в очко…
Последнее поручик сказал с жаром сердечным — искренне, гневно так. Глаза у него потемнели от гнева, лицо стало красным почти до испарины. Он поднялся из-за стола.
— Je suis d'accord[29]… — пролепетал я, не смея себя услышать.
Глава четвертая
«Блажен, въявь видевший мгновенья,
Что прежде грезились во тьме!»
В. Брюсов
Очередной привет от моих преследователей ждать себя не заставил.
Впрочем, !905 год начался так же, как и все предыдущие, с балов и церковных церемоний, которые мой атеистический papa называет «миро-приятиями» (от «миро»). 6 января было «водосвятие» у Иордани возле Зимнего дворца с участием высочайшей фамилии, двора и некоторых гвардейских частей. Лет сто назад царь с царицей выходили к самой Иордани по льду, причем он в одном мундире, без шляпы, она в легкой вуали. Это же умереть просто можно! В такой морозный денек простуда мне б была обеспечена. Слава богу, нынче обе государыни смотрели на церемонию из окна. Великие княгини при них, мы — при великих княгинях.
Церемония была очень торжественная, только я из-за спин мало что разглядел. Когда митрополит окунул крест в воду, раздался положенный залп конной артиллерии. Тотчас мы услышали звон, будто чашку разбили. Смотрю: царица-мать сметает с платья нечто, и это нечто звенит и хрустит на полу. Оказалось, выстрелили не холостыми, а боевой картечью, разбили окно и ранили какого-то жандарма — да не какого-то, а по фамилии Романов!..
Мы все то, что называется, о б а л д е л и. И тут Гримальди потянул меня за рукав и показал пульку картечную. И такая улыбочка у него была! Кажется, и подмигнул…
В эту минуту я не сомневался: выстрел боевою картечью был сделан по мне.
О чем на следующий вечер и доложил я Теплицыну. Мы сидели с ним в квартирке на 3-ей линии Васильевского острова, — в квартирке столь голой, с единственным полотенцем у рукомойника и пустою в прихожей вешалкой, что было сразу понятно: тут никто не живет. Здесь только встречаются, преимущественно мужчины. Желтенькие обои в мелкий цветочек, венские стулья и самовар.
— Бросьте, барон! — поручик зевнул. — Все расследовано уже. Обыкновенное военное наше — наше расейское — головотяпство.
Он поглядел в окно, в густые синие сумерки:
— Хотя и как посмотреть? Может быть, и Гримальди. Все может быть, барон! Мы катимся куда-то — но вот куда?.. Кстати, что вы сейчас читаете?
Я удивился: это-то он к чему?
— Поля Верлена стихи и еще роман Herbert Wells «When the Sleeper Wakes»[30]. Нужно подтянуть английский: все же двадцатый век наступил.
— И о чем, бишь, там?.. — Теплицына неудержимо тянуло на зевоту весь вечер.
— Вообразите, Дмитрий Анатольевич, там некий джентльмен просыпается в 21 веке, и он оказывается властелином мира.
— Каким же это образом, позвольте — ы-э-хо-хо — спросить?
— У него счет в банке вырос такой, что общество, которое от его имени управляет капиталом, скупило всю мировую промышленность.
— Эко ловко-то! Прямо по-нашенски: лежа на боку. И что ж там за жизнь будущая у вашего Wells? Сплошной цуккерброт с цуккербринами?
— Конечно, техника очень шагнула. Самодвижущиеся тротуары. Но цуккербринов, как вы выражаетесь, нет никаких. Есть бедные и богатые, и все бедные ходят в синих штанах на манер американских нынешних крестьян — то есть, фермеров.
— Фу ты, гадость какая! И даже без галстухов?
— И даже без них. Все очень рационально.
— Ну, это, пардону прошу, не по-русски: рационально чтоб! И что ж, эти синештанные — не бунтуют?
— Бунтуют. Но главный герой на их стороне.
— И кто ж победил-то там? Уо-хо-хо-о…
— Я не дочитал еще. Дмитрий Анатольевич, вы английский ведь знаете?..
— Куда мне! Французский с немецким в училище — и то с грехом пополам. А что это значит, название-то книжки у этого — уо-хохо — Вельса?
— «Когда спящий проснется».
— Уо-хо-хо-ау!.. А это он в точку! Прямо в тютельку! С угрозой названьице-то! Наш-то с п я щ и й, похоже, уже проснулся… Хотите взглянуть?..
Мы надели пальто. Теплицын повел носом:
— Экий дух от вас, милый барон! Н е п р о л е т а р с к и й…
Сам поручик в своем сером простецком полупальто на улице преобразился. Что-то в походке его появилось разбитное и косолапое, как у похмельного пролетария, которому «яйца жмут».
Было темно: бастовали электростанции, фонари не горели. Тускло светились в окнах керосиновые лампы и свечки, отчего здания казались полными таинственной, какой-то мистической жизни.
— Когда же эта стачка закончится? Две недели бастуют уже! — проворчал я. — И с чего весь сыр-бор? Выгнали с Путиловского четверых ротозеев-рабочих — и что, весь город рогом встать должен теперь? Это Гапон все мутит!
— К нему и идем, барон. Туда, где он выступает…
От морозца, что ли, зевота слетела с Теплицына. Он зорко оглядывался по сторонам, посмеивался. Теперь поручик еще больше стал похож на нахального паренька из простых, который так и ищет, к кому бы придраться.
— C’est bien dangereux ici?[31] — вырвалось у меня. — У вас, Дмитрий Анатольевич, не обижайтесь, у самого вид хулигана сейчас. Вы о ч е н ь артист!
— Угу… — рассеянно хмыкнул он и вдруг буквально впихнул меня в подворотню.
Мимо с гиком пронеслись сани, щелкнул бич по решетке. Сани были пусты, возница не оглянулся. Резкий зигзаг взрытого снега с мостовой красноречиво отметил то место, на котором мы только что с Теплицыным были.
Поручик сплюнул сквозь зубы, выругался:
— Так я и знал!
— Опять покушение?..
— Пошли дворами!
Дворы здесь, впрочем, еще темнее, страшнее улицы оказались… Я так ошарашен был, что залепетал:
— Mais c’est plus fort que le roquefort!..[32]
— Барон, ваш французский тут неуместен! — оборвал меня по-военному мой провожатый. И зло проворчал под нос. — Рокфор ему, бля!..
Кажется, он не понял, что я выразился фигурально.
Впереди нас шли картузники в кургузых «п о л ь т а х» и «в а т н и к а х», многие в валенках. Этих людей становилось все больше. Черными ручейками стекались они к двери, кажется, некой чайной. Я никогда не был в таких местах. Мне сделалось очень не по себе.
— Язык держать за зубами! — прошипел поручик мне в ухо. — И вперед не лезьте!
*
…Низкое помещение, мутное от слабого света керосиновых ламп и табачного дыма, который полотнищами медленно плавал в воздухе. Мы с поручиком притулились у самого входа.
— Это он! — шепнул Теплицын.
Невысокий красивый поп стоял у стола. В руках у него были бумаги.
— Он похож на Христа! — сказал я поручику.
— Да уж — христосик с Хохляндии… — одними губами прошелестел Теплицын. — Глаза-то, глаза-то как бегают!..
— Глаза лгуна?..
— Скорее, человека растерянного. Трус он; отважный трус… Истерик.
На нас оглянулся бритоголовый детина с гневным лицом.
— Что ж, начнем, братцы, пожалуй! — Гапон поднес листы к лицу и начал читать вслух глуховатым, но выразительным голосом:
— «Государь! Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга, разных сословий, наши жены, дети и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают… в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать. Нет больше сил, государь!.. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук. Мы немногого просим, мы желаем только того, без чего не жизнь, а каторга, вечная мука».
— Немногого — это конституции, — снова одними губами прошелестел мне в ухо Теплицын. — Учредительного собрания, ограничения царской власти. Скромненько, но со вкусом!..
— C’est plus fort que… — начал я. Поручик больно ткнул меня локтем в бок.
Бритый детина зыркнул на нас. Что за мерзкая рожа! Бифштекс, а не физиономия…
Гапон перевел дыхание.
— ВОйну с япОшками закрыть к чертОвОй матери! — округло окая, бухнул некий мужик с кипой мохнатых усов под носом.
— Верно, Алешка! И землицы народу тоже ба… — прошамкал чуть не из-под Гапонова локтя лобастый старик с зеленоватой кудлатою бородой. — Про мужика не забудьте хоть!
— Записали уже! — рявкнул бифштекс-детина, привстав. Он махнул рукой и повернулся к нам:
— Эх, Левушка-старинушка, все запамятовал!..
— Ничего не запамятовал, Володька, не лги! Антирес народный блюду, чтоб вы про люд про деревенскай впопыхах не забыли, хвастуристы, тьфу, гребаные!
— Не боись, дедуль! Хвастуристы не хвастуристы, а конституцию с Николаши сдерем! С гландами из горлА вытянем!
— И про школы, про школы, товарищи! Про театры народные… — встрял некий с бантиком и в пенсне, по виду учетчик. — Культура чтобы была… В рабочем человеке все должно б быть… Как-то ведь так?..
— Да хрена ли, Падыч, в культурке твоей, коли жрать нечего! — взревел Володька нетерпеливо. — Нехай заказы военные у нас в стране размещают и денежки тож! А то, бля, Швейцария им, а то, бля, Лионский им, сука, кредит!
— Или Сосьете женераль — это что же, по-русскому?!.. — вмешался лобастый угрюмый тип с колбасными какими-то, жирными глазками.
— Он это про че ж?.. — насторожился Левушка.
— Да про то, куда денежки сваливают наши кипиталисты! — весь малиновым от гнева лобастый сделался. — Сам с топором бы на эту вот Сосьету попер! Й-эх…
От омерзенья он весь скривился и обметался крупными темными пятнами.
— Дай срок! — тряхнул кулаком Володька. — Мы на горе всем, сука, буржуям мировой, сука, такой пожар, сука!..
Он повернулся к нам и больно схватил меня за плечо:
— Верно грю, хлопчик?
— Oui[33], — выдохнул я. И получил от Теплицына локтем в бок.
Они еще долго гундели про свои дела, про восьмичасовой рабочий день и про учреждение профсоюзов, и про то, что «18+» маркировать все хорошее есть стыд и позор в стране православной, глубоко, истово верующей и верной традициям почитанья царя и прочего, с этим связанного.
— «Лолиту» — в школу! — крикнул гневливый, собравшийся на Сосьете женераль с топором.
— И чтоб втроем! — бухнул кулачищем в мое плечо Володька. Кажется, он спутал меня с трибуной…
— ЧтО втрОем-тО? — проокал, осторожно оживившись, усастый.
— А все! — озоруя, завопил Володька. — Кажный понимает в меру своей!.. А надо — чтобы — СВОБОДА!
И так он слово «свобода» выдохнул, словно поднял огромную гранитную глыбу перед собой, готовясь обрушить ее на головы всех собравшихся.
Но лишь на меня упал он вдруг сверху. Сгреб куда-то себе под мышку гнилой ватной куртки и с надсадной истомой пророкотал:
— Ты меня, хлопчик-то, не боись! Ишь, мясцо какое у тя молочное! И запах, как из-под девки, гулященский…
Он еще надежней, тесней вжал меня в свой ватный кошмар, встряхнул:
— Сладко будет со мной, даже не сомневайся!..
Теплицын на всякий случай от нас отодвинулся.
Володька возил жарким дыханием мне по уху, по щеке, часто переходя просто на шершавый язык — языком старался в губы пролезть:
— Айда выйдем, сахаристый ты марципашечка! Быстро ж, почти и небольно ведь сделаю. А че решили, своими словами те обскажу. Я ж актив Гапошкин, знаю уж, как и что… Завтра к Зимнему всем кагалом, ага… Эх, не вертись… Тут главно видеть, какой Гапоша платок из рукава выкинет. Если белый — царь наш, принял петицию — тогда гульба во весь город, три дня. А ежели красный — царь отказался (ты губы-т не прячь!), значит, все одно гуляй рванина, у нас революция! У-ух, тогда… Да не прячь ты губцы, говорю, ведь достану же! Слышь-ка, я вижу, ты хлопец грамотный, может, и не из нас. Ты хером в ухо не пробовал? Говорят, многие уважают, бабам аж ндравится. А я те стишата свои почитаю еще… Не боись, я и стишата могу, пишу которые. Ну ты ж, сука, не вырывайся, ведь зашибу! А стишата, слушай, такие, блядь:
Жандарм мне сказал:
«Ты гунн пархатый»,
А я ему в морду сразу дал.
Спешите видеть: жандарма на хрен,
А гунну всяку несите в зал!
Ябать балалайкой кажную лярву
И думать о жизни:
Она не пуста. А кто мне в морду
Плюнет окурок,
Драть того в жопу
Балалайкой жа!
Гром и грохот,
Грохот зала, —
Вот что нам надо, братцы мои!
Чтоб, блядь, было
Солнца нам мало, —
Чтоб и луной
Закусили б мы!
Ну как те стишата — зашибись ведь фартовые? Ты гляди, еще, сука, и напечатают! А то есть про параститутку поэмка прям слезная, как она с юнкерьем сперьва, и в подробностях, а после с солдатьем, и тоже в саморазличных подробностях, из жизни моей. А один хахаль чик-чирик ее — и тут как раз Христос заявляется, весь такой в веночке, весь аккуратненький, сладенький, вроде не при делах. Зачем Христос — хер проссышь, а чую: так н а д о там, рихма требует! Это я после тебе зачту. А сейчас языками, давай, поякшаемся, потремся, медовенький! Очень я люблю языками тереться — еще со срочной, ага…
Володька схватил меня в охапку и потащил к выходу, шипя вовсе уж страшное:
— А я, может, тот хахаль и есть, ха-ха! Как ее, теплую, взрежешь да ливер жемчужнай-то вытянешь, да на ручку-то намоташь…
Рыча, он выбросил меня вон на улицу и поволок во тьму. Все померкло вокруг…
*
…Бьют. Бьют по щекам наотмашь. Бьют звонко и горячо. Открываю глаза.
Теплицын! Лицо перекошено:
— Быстро отсюда вон! Н о г и д е л а е м!
Несемся в ночь. Все же оглядываюсь. У крыльца что-то чернеет, горой.
Ливер «жемчужнинькай»…
Отдышались лишь у парадного, где та н а ш а квартирка:
— Спасибо, Дмитрий Анатольевич! Спасибо, родной! Вы его… ножиком?
— А чем же еще прикажете? Чтоб попусту не греметь…
Я шмыгнул носом — и упал Теплицыну на грудь. Рыдал стыдно я, истово.
— Будет, будет, барон! Где ваши рыцари-предки? Эй, извозчик!..
— Бастуем, барин! Стачка у нас, нельзя… — пророкотал некто с облучка, проезжая мимо.
— А ну стоять, скотина! Деньги есть, барон? Ну и славненько! Слышишь, мужик, доставишь в лучшем виде, куда скажут! Иначе — с г н о ю!..
Как бы хотелось, чтобы это был мой Роман! Но нет, это оказался какой-то чужой мужик — всю дорогу на Японию, на «ихнюю аблизьянью микаду», мне жаловался.
Дома я свалился в постель, забыв зубы почистить. Проснулся утром со вкусом чужой слюны во рту. Со вкусом слюны мертвого человека!..
Тотчас позвали к аппарату. Телефонировал Пыжик. Он ликовал:
— Я нашел! Я понял, Ушастый!
— Что ты понял, Пыжик? Алле, алле?..
— Бастуем! — неумолимый металлический голос барышни нас прервал.
Пришлось посылать лакея с запискою к Пыжику и к Ромашечке.
Мы встретились у подъезда. Утро было розовое, волшебно-инистое, морозное.
— Гляди-ка ты!.. — Роман указал кнутовищем на небо.
В сероватом воздухе невысоко стояли три красных натужных солнца — стояли рядком, как солдатики.
— Это «гало», — Пыжик прищурился. — Аберрация света, когда туман и мороз.
— Сие, барин, з н а м е н и е! — Ромча снял шапку и перекрестился. — Как, вишь, я и чувствовал…
Откуда-то раздавались настойчивые, мерные удары колокола.
— Будто на пожар, не на крестный ход, — проворчал Роман. — Что ль поехали?..
По дороге я рассказал друзьям ночное свое приключение. Правда, про Теплицына не стал уточнять. Дескать, напал на меня маньяк-стихотворец-гапоновец, — насилу отбился я… И стихи были такие ужасные!..
Пыжик слушал внимательно, Ромча покряхтывал.
— Вот и все мое происшествие. А ты-то, Пыжик, что открыл?
Пыжик махнул перчаткой:
— Да просто все оказалось! Знаешь, кто мать Гримальди?
— Она давно умерла… И кто?..
— Читай! — он сунул мне бумажку.
— Что это?
— Выписка моя из «Готского альманаха». Не тащить же тебе весь том!
Я пробежал несколько строк:
— И что?
— Ушастик, ты такой тугой на башку! Его мать — урожденная княжна Крым-Гирей! Из Гиреев она — а значит, и он, — понятно? Ведомо ли тебе, будущий князь Муруков принц Чингисхан, что Гиреи только потому заняли крымский престол, что объявили себя Чингизидами? А Чингизидами они на самом-то деле и не являются! Они самозванцы — но о ч е н ь хотят! Понял теперь?.. Вот почему Гримальди за тобою охотится! Он считает, что устранив тебя, станет старшим в роду!..
— Это поперек закону-то? — тотчас обернулся к нам Ромча.
— Тебе-то что? — нахмурился Пыжик. — Правь давай!
Роман усмехнулся и покачал головой.
— L’emblème c'est ce qui m'inquiète! Dans l'ordre-t-il?..[34] — шепнул я Пыжику.
Он с серьезным видом кивнул.
Мы вывернули на Невский.
Мостовую перегородили войска. Впереди пехота в серых шинелях, за ними громоздились на лошадях казаки. Сани, кареты жались к тротуарам. Черная толпа, густо простеганная золотыми и белыми хоругвями, российскими триколорами, царскими портретами, украшенными как-то по-кладбищенски цветочками, грозная и аляповатая, двигалась от Казанского собора.
— Боже мой, что они делают? И с детьми?!.. Царя-то в городе нет. Пыжик, я видел его отъезд еще шестого. Это было похоже на бегство. Когда государь в сани садился, мальчишки ему кричали: «Ату!», залепили снежком в спину кучеру…
Перегнувшись из саней, я схватил за плечо женщину в полушалке:
— Он в Царском, мадам! Царя н е т у в городе!..
— А ты почем знаешь, умничек? Ишь, в санях он раскатывает! Ну и катись, куда ехал-то!
Она прижала к себе блеклую девочку в огромном клетчатом платке, пихнула ее вперед:
— Мы в государя веруем — не то, что вы, стрикулисты проклятые!..
— Святая простота! — пробормотал Пыжик. — И ведь что-то у них, может, получится…
— Еще как получится!.. — буркнул мрачно Роман.
Шагом мы продвинулись почти вплотную к шеренге солдат. По синим выпушкам и бравому виду поняли: семеновцы, красавцы блондины и шатены голубоглазые… Лица их были тугие и строгие, красные от мороза.
Перед нами, как из-под земли, вырос полковник Риман:
— Господа, уезжайте отсюда! Опасно, господа!
Он приложил руку к околышу:
— Очень будет нехорошо-с!
Риман сделал вид, что не узнал нас, хотя мы частенько виделись во дворце.
— Трусит?.. — шепнул Пыжик.
Мы свернули в сторону, уткнулись полозьями в самый поребрик.
Женщину с девочкой снова прибило к нам.
— Дайте хоть девочку нам, мадам! — сказал Пыжик. — Солдаты же: могут стрелять!
— Так я тебе ребеночка и доверила! Ишь, гляделки-то масленые…
Толпа споткнулась о солдатский строй.
— Пропускайте! К царю идем! За вас же просить, солдатики, ироды! За весь за НАРО-ОД! — кричали из толпы.
— Там уже на Дворцовой все наши, с Путиловского! Обуховские тож! И с Сименса!.. Сейчас царь выйдет, сейчас!.. — не унимался мальчишка в картузе. Картуз чуть не вращался на его голове.
Он ловко перепрыгнул через наши сани, картуз хлопнулся на колени мне.
Риман выехал перед строем. Лошадь под ним подплясывала. Полковник поднял руку:
— Прошу разойтись, господа! Ваше шествие незаконно!
— Ишь ты, законник выискался! К царю идем, не к тебе! — закричала женщина. — Мочи нету терпеть, на одной картошке месяц сидим! Посиди-ка сам, фараон!
Краска бросилась в лицо Риману: его, гвардии полковника, шталмейстера Двора, обозвали — и к а к!..
Он резко повернул коня и скрылся за серой массой солдат.
Толпа волновалась, гудела. Вдруг захлопали частые, сухие щелчки выстрелов со стороны Дворцовой площади.
— Убива-ают!.. Убиваа-ааают!.. — закричало сразу множество голосов.
Общая судорога прошла по всем.
— Прямо по толпам стрельба залпами! — послышался бодрый теперь голос Римана.
Солдаты взяли наизготовку.
— Взвод!
Винтовки легли к плечу.
— Пли!
Щелкнув, грянули выстрелы. Людское море качнулось и покатилось прочь, оставляя на снегу десятки словно забытых тел. Мальчишка, подпрыгнув, повалился на мостовую, потеряв второй раз на дню картуз — теперь навсегда…
Женщина обернулась к нам, криво, немо распахнула черный, как дырка, рот.
— Девчонку дай, дура! — завопил Пыжик. — И сама! Сама-то лезь тоже…
— Ромча, гони! — крикнул я.
Мы влетели в проулок, успев услышать крик Римана:
— Прямо по бегущим пальба пачками!
Женщину била дрожь, в груди у нее клокотало.
— Это ка?.. ка?.. ка?.. — твердила она, протягивая растопыренные пальцы, хватаясь за отвороты наших пальто, тряся, ворочая нас.
— Мамочка, я описилась!.. — плакала девочка.
Вокруг пробегали люди, прыгали в двери, в ворота. Звенело стекло витрин.
Парень мастеровой, с залитым кровью лицом, остановился и завопил, потрясая кулаком и хватая себя за кровавый колтун, словно хотел прочь его выдрать:
— Долой царя к такой-разэтакой-всякой матери!.. До-олой!..
Всхлипнул по-детски и повалился в снег.
*
Сумасшедший и страшный девятьсот пятый год слипся в моей памяти в один пестрый ком. Кажется, весь быт пошел вразнос. Часто не работали водопровод, электричество, поезда ходили, как им бог на душу положит, из-за бесчисленных стачек. Даже войска сделались ненадежными. Германский император Вильгельм всерьез предлагал государю ввести свою армию для подавления мятежей. Иные уж думали об отъезде…
В конце июля мы с Пыжиком вырвались в Крым.
За год бабушка вовсе сдала, стала неопрятным дитятей — плаксивая, взбалмошная. Самое жуткое, что княгиня Мурукова принцесса Чингисхан, урожденная де Куафель, ругалась теперь по-русски, как извозчик. (Других русских слов она не усвоила, а э т и каким-то чудом вдруг всплыли и запылали в ее помутившейся голове во всей своей яростной откровенности).
Maman так скандализовалась этим всем, что уехала в Баден-Баден нервы лечить, наказав нам слов таких ни в коем случае не запоминать и тем более н е з а п и с ы в а т ь!..
— Но произносить-то можно?.. — смеялись мы.
Самым неприятным было то, что бабушка переселилась в библиотеку — туда, где за портретом скрыт был ярлык Чингизидов…
— Что за каприз? Она там, что ли, книжки читает? — ворчали мы. — Ей свежий воздух нужен, а не эта вонь из духов и мочи…
— Пытались на терраску ее вывозить — да куда! Кричит, дерется, ужас ведь как ругается!.. — оправдывалась Манечка, новая сиделка при бабушке.
Эта Манечка… Не столько красивая, сколько милая, русая, сероглазая, с простым русским лицом. Вся какая-то светлая. Взглянул я на Пыжика и понял: ну да, ну да…
Стало отчего-то и грустно, и с новой силой затосковал я по Ромче моему. Всю зиму жил он у нас на даче под Питером, надоело ему вечное святОшное колоброжество у Григория и упреки, «грызь» Лаптевской, которая и на меня ведь, гадина, перекинулась. А тут — заснеженная дача, конюшня для его лошадушек, теплый привычный деревенскому мужику домок сторожа. Раза три в неделю навещал я его, погружаясь в простой, немудрящий быт, словно улетал во времена царя Алексея Михайловича.
— Ты это, Ушастик… ты привыкай-ка давай! Всяко жись обернуться-то может! Думашь, всегда в карете те разъезжать да на хварфоре питаться? А я тя вот обучаю простой, значит, житейской-то жисти…
— Ромча, ну расскажи мне про будущее!
— Да хер ли тебе? Инда и всяк ошибиться может — и дай-то бог…
Я даже навоз помогал ему чистить — было занятно так!.. Было забавно опрощаться, надевать одежду простолюдина (кстати, очень удобную), погружаться в иную судьбу…
Милый, славный Ромашечка! Даже maman оценила его, сказав, что он — к о л о р и т н ы й ж а н р и в своем роде вовсе н е м о в э г у. Про особое родство Ромчи я не сказал, но свои способности предсказывать Ромашка родителям по мелочи приоткрыл, и maman окончательно вписала его в н а ш и д о м а ш н и е.
— Славная у тя, Ушастик, матушка! А что дурочка — так это ж ее и хранит… — заключил, со своей стороны, Роман.
Но здесь, в Крыму, Ромчи не было, и мы приехали не за тем, чтобы изучать новые слова урожденной де Куафель. Вытянуть ее из библиотеки не представлялось никакой возможности.
— Есть одно только средство: усыпить старушку! — в сердцах выкрикнул Пыжик.
— То есть — как? Совсем?!.. — ужаснулся я.
— Не будь таким идиотом, Ушастый! Не будь! — взъярился Пыжик. Он не знал еще, ответит ли Маня ему взаимностью…
Ушастик углубился в изученье снадобий, которые бабушка принимала (впрочем, строго по настроению).
Мы выудили из армии пузырьков снотворное:
— Что за разница, в комнате она или нет, если спит?..
Несколько раз проверили действие капель на коте, на себе и на бабушке. И, наконец, решились.
Ночью под заливистый храп старушки мы проникли в тайник. Ярлык был на месте. Ну, слава богам!.. Захотелось забрать его — однако споткнуло об это желание наши чувство чести и справедливости. В конце концов, пока это была чужая собственность: действующий князь Муруков торжественно угасал в Египте.
Ярлык и впрямь был какой-то волшебный: так и тянуло проверить его наличье по несколько раз на дню.
Удивительное дело: от снотворного старушка сделалась еще капризней и злей — и мы решили больше ее не мучить. Хотя так и тянуло снова ощутить тяжелую древнюю блямбу в руке…
Манечка, между тем, околдовала Пыжика с потрохами. Когда точно у них э т о произошло, не знаю, только оба изменились — засияли, заиграли и были счастливы. Перед сном мы плескались в теплых тяжелых волнах. Манечка плавала, как богиня. По ее словам, она и выросла здесь, на море. Странное дело: меня она не стыдилась тоже, хотя мокрый полосатый купальник облеплял ее весьма откровенно. Серые глаза Манечки ласково сияли сквозь русые ресницы — они этими ресницами, как дымком, были подернуты. Осеннее небо, еще до бурь, ласковое и горькое…
— Что ж, ты и женишься на ней? — спросил как-то я Пыжика.
— Отчего бы и нет? — вспылил он.
— Но она, кажется, совсем, совсем из простых…
— А твой Ромча — принц крови, что ль? — осадил меня Пыжик.
— Но, Пыжик, с таким браком ты вылетишь из пажей — и с военной службой проблемы будут! Офицер не может жениться на женщине ниже себя. На что жить-то тогда? В слесари, в дворники ведь не пойдешь…
— Там посмотрим, Ушастый! Да и думаю, в России скоро все переменится, дорогой барон!
— Пыжик, все говорят про то ж, но мне что-то не верится. Вывески поменяются, разве что.
— А что есть титул, сословие? Только вывеска! Все это себя давно пережило, пойми.
— Но в Европе те же условности, даже во Французской республике!
— Заметь: только в нашем кругу!
Решимость Пыжика потрясла меня. И так захотелось опять в Петербург, к Ромашечке!..
Наступал крымский бархатный сезон. И «бархатность» его ночами чувствовалась особенно. Небо было такое ласковое, черно-мохнатое все от звезд. Казалось, космос приблизил свое лицо к нам и вглядывается в нас внимательно и таинственно. Ленивый плеск моря, истома совершенной полноты жизни — полноты такой, что и зримые границы ее не страшили бы.
Когда бабушка засыпала, мы все трое вылезали на террасу или спускались на пляж.
— Мы сейчас, как боги бессмертные, — сказал я задумчиво. — Олимпийцы… N’est-ce pas[35]?
— Бог один, — поправила Маня. — Или, что ль, он триединый, попы говорят.
— А по мне, все едино и все триедино, и все, может быть, выдумка! — беспечно заметил Пыжик. На спине он, ловко отталкиваясь локтями, подполз к волне, окунул ступни. — Пускай море мне пятки чешет!
— Ишь вы какой! Норовистый… — засмеялась Маня тихо и ласково.
— Пыжик, ты как ниччеанец сейчас говоришь. Ты декадент, может быть?
— Это ты декадент, Ушастик! Верлен, Рембо — и прочее в башке у тебя цветастое барахло…
— А что есть этот, который вот декадент? — осторожно спросила Маня. — Который, что ли, бомбист?
— Какой же Ушастик бомбист, Маняша? Декадент — тот, кто любит всякие стихи непонятные. Впрочем, есть и понятные, очень даже понятные:
Ведь где-то есть простая жизнь,
И свет прозрачный, теплый и веселый.
Там с девушкой через забор сосед
Под вечер говорит, и слышат только пчелы
Нежнейшую из всех бесед.
— Славно-то как!.. — вздохнула Маня.
— Когда-нибудь мы вспомним этот вечер, каждый из нас. И, может быть, даже себе тогда не поверим, какие мы были счастливые! — вырвалось у меня.
— Ушастик — философ, а не бомбист!.. — засмеялся Пыжик. — А мозгов все одно у тебя, у лопоухого, нету!..
Наутро мы обнаружили пропажу и ярлыка, и Маняши.
Глава пятая
«Есть игра: осторожно войти,
Чтоб вниманье людей усыпить;
И глазами добычу найти;
И за ней незаметно следить».
А. Блок
Горек был путь наш в Северную Пальмиру. Пыжик напился в ресторане и чуть с кулаками на меня не набросился:
— Что за дурак ты, Ушастый?! Втравил меня в долбанный какой-то ярлык! Мне-то, мне что за радость возиться с этим говном?!
Я молчал.
— Нет, но ты классический идиот, Ушной! И ведь вы все кретины, Муруковы! Кого нанимаете? Бабка твоя помрет теперь…
— Maman вернулась, и нынче с ней… Сидеть с сумасшедшей — это такая жертва…
— Твоя-то maman уж точно найдет с ней общий язык!
— Пыж, не трогай maman и бабушку! Это, в конце концов, делается несносным!..
— Иди ты!..
Разом оба мы отвернулись к окну. Серое, как солдатская шинель, небушко, чахоточно яростные краски осени; дождик настойчиво брызгает, вымывает остатки тепла ледяным языком…
Пыжик открыл фляжку, отхлебнул. Такой — мокрогубый, растрепанный, жалкий и злобный — очень он мне не нравился.
Пыжик хмелел, Пыжик не унимался:
— «Россия, нищая Россия, // Мне избы серые твои»… Тьфу, засрали, задрали, изгадили всю землю от океана до океана! Изолгали, изблевали ее, да еще и стишки про любовь к такой сочиняете… Слышишь, Ушастый, это ведь вы, Муруковы, Чингизиды, ее такой сделали — нашу Россию, да! Всеми вашими Чингизидовыми победами-грабежами, а после всем вашим правленьем, которое тоже лишь грабежи да насилья… Иванами-Петрами назывались, Екатеринами обернулись, а внутри вас один меднорожий истукан, молох-гад Чингисхан всегда торчит, — и это все, что вы можете дать отечеству! Заразили ее азиятством окаянным, как сифилисом, чушкой гунявой сделали — теперь-то она вас и слопает!..
— Н а с, Пыжик! И тобой не подавится.
— Умнеешь, Ушастый! Умнеешь, дурак… А думаешь — те, кто после царя, после Николашки, придут — лучше будут? Может, еще и его вспомянем, как дар небес… Раз в век поднимают мужички Русь на рога, и снова в кровавое дерьмо, в спячку — на сотню лет! Эх, да ну вас всех к черту! И Россию вашу эту, девку позорную — на хрен, в жопу к дьяволу!..
Он отшвырнул пустую фляжку, повалился к стене.
Что «выходит из дела», Пыжик объявил уже. Из-за Маньки я вот, похоже, и друга лишился, и ярлыка. Ярлык! Да что в нем? Доктора сказали: бабушка дольше месяца не протянет, месяца через три уйдет и нынешний князь Муруков — а там уже я, с ярлыком ли, без… Но зачем мне оно, это вот «азиятское» княжество?..
Прав Пыжик: не сегодня — завтра все для нас в этом мире, для Чингизидовых отпрысков, к о н ч и т с я. Почему maman и виллу в Сан-Тропе, и дачу в Финляндии прикупила. Бежать, без оглядки бежать отсюда, из этой гиблой бездонной осени, от этих коварных Мань, от бессмысленных золотых ярлыков, от бархатного злодея Гримальди… Гримальди — вот тоже русак мне выискался!.. Хорошо, хоть врага знаешь в лицо… Но ловко он с Манькой-то облапошил нас. Бедный Пыжик — бедный мой уже бывший (наверно) друг…
Вот и станция. И здесь люди живут, в этой обшарпанной Кинешме. Бежать им отсюда некуда. Вон мальчишка газетчик носится, орет что-то, машет кипой газет. К нему из поезда прыгают, мокрые грязные листки жадно хватают. Совсем люди с ума посходили! А мне ничего не надобно: ни ваших тайн, ни ваших глупых, пустых газет. Мне бы Ромче подмышку залезть сейчас, подышать банным пОтом его, снять губами березовый листик — и на сосочек ему же, родимому. Когда трогаешь, когда теребишь, он так, до вздрога ведь, откликается…
Вот поезд тронулся — и каждый перестук колес к Ромче, к Ромче, к Ромче приближает меня! Там, с ним, навсегда бы — упрятаться… «Будьте благонадежны»: я ему все-все теперь расскажу. Даже и про Теплицына. И точно выпотрошу его самого насчет грядущего! Ромча, ты у меня единственный — тайн у меня от тебя больше нету, любимый; я чист! И ты мне поэтому должен, о б я з а н всю правду про будущее открыть!
Кажется, от Пыжиковых паров и я захмелел… голова кружилась. Рывком отбросил дверь, вывалился, как на берег, в ярко, бессонно освещенный узенький коридор. За окнами, за шторками прыгало прочь сумеречное пространство.
Вымыть, вымыть лицо, отмыться от этой осени, — от всего…
В тамбуре перед туалетной комнаткой колеса звучали еще громче, еще строже, еще отчетливей…
А там, за окном — густые пегие горбы лесов, и скоро ночь непроглядная, непролазная.
Дверь за моей спиной шумно отъехала в сторону.
— О! Пгошу-с!.. — лысоватый, рыжеватый, картавый, как Гримальди, но потрепанный господинчик услужливо-шутовски указал на металлический унитаз. Наносило «большим» только что сделанным им «свегшением».
Я тотчас узнал его. В каждой модной книжке — его портрет: бородка, усики, лысинка и лукавый прищур удачливого пройдохи.
Валек!.. Все эти его романы и повести: «Пером и кресалом», «Живи, не помня», «Слово задело», «Деньги для Суламифи», «Уроки исландского», «Любовник»… То лихие, то раздумчиво чувствительные — и на всех оттенок веселого, бойкого мистицизма, и модные идеи Ничче и Маркса (порой в понимании черносотенца), — все оптом и в розницу. Его называют «Оффенбахом в литературе и философии». Взасос читают все: от мальчишек посыльных до знатных дам. Гимназисты и офицеры изучают по ним отечественную историю, дантисты и адвокаты — кержацкий быт, профессоры — народный национальный характер. Пророчествам, содрогаясь, веруют и ждут каждый год новинку — и чтобы была еще причудливее, еще лукавей, еще жесточе! А он — живет себе на отшибе в парижской квартирке, с гулящей страшной женой, которую из борделя, кажется, выкупил. Тратит на себя не больше, чем сельский учитель — и строчит, строчит, строчит без конца.
Уж не морфинист ли он, господи?..
Я пытался расспрашивать Ромчу о знаменитом брате — но Ромашка в ответ лишь кнутом пощелкал. Т а й н а — как и мое грядущее…
*
Наутро в ресторане Валек махнул мне сесть к нему за столик. Сам аппетитно питался яичком всмятку.
— Ну-с, и каково ваше мнение, молодой человек?
— Я ваше последнее, «Любовника», еще не читал.
— Пги чем тут «Любовник»?! Я пго вчегашний манифест госудагя — пгочли уже?
Он покончил с яйцом и уставился на меня, подперев щеку рукой. Взгляд у него был остренький, психиатра:
— Сдается мне, вы агхилюбопытный экземпляг, молодой человек! Что ж, давайте знакомиться!..
Я представился.
— Меня можете Валентином Ефимычем называть, багон. Некотогые Ефимычем кличут, но это так, совсем пгостецы. У нашего отца было, как в сказке, тги сына и дочь, но и это сейчас неважно. С конституцией вас, догогой!
— Не понял, сударь?..
— Вчега, 17 октябгя, опуликовали манифест, в котогом цагь даговал нагоду г’гажданские свободы. Тепегь мы все г’гаждане, а не только подданные… Эх, багон, вы пгоспали свою свободу! Но то ли еще будет! Геволюция только ведь началась…
— Какой ужас! — выдохнул по-французски я.
Он откинулся в кресле и заливисто, детски захохотал:
— Экий вы экземплягец, багон! Для гомана если возьму — не обидитесь? Кстати, у меня бгат — тоже Гоман; та еще штучка, хоть и извозчик…
Кажется, я покраснел.
— Был у меня замысел написать о наших гусских великосветских гомосексуалистах. Темка-то знатная, публика любит пго них читать. Но вот ведь плохо с матегиалом пока знаком! Если обгащусь как-нибудь за помощью — детальки, типажи не подскажете?.. Да не смущайтесь, багон, кто же не без г’геха? Но сейчас бомонд в стогону — тепегь меня занимает сгеда геволюционных габочих и матгосни! А что я знаю пго тех и дгугих? Только мат из моего пастушьего полудетства, но по тону мат дегевенский — дгугой, мне кажется…
— Никогда не думал об этом, месье.
Он легонько дотронулся до моего рукава:
— Лучше все же: Валентин Ефимович. Entendu[36]? Или, как говогят в изучаемой мною нынче сгеде: «добазагились»?
Он был верткий и скользкий, как червячок. И при этом чертовски (его словечко ведь!) обаятельный.
Валек снова уперся щекой в ладонь:
— И все же: что вы думаете о г’гядущем, багон? Вы — молодой человек, вам, как говогится, и кагты в гуки. Лет чегез тгидцать нас всех, стагиков, не станет, а вы будете в самой силе, в самой поге. Пгедставьте себе тгидцать тгетий, тгидцать седьмой или согок пегвый хотя бы год. Ну-с, и что вы там видите?..
Я молчал, что довольно невежливо. Он же спрятал кулачки под мышки и весь закачался, закатался в кресле, щурясь, будто и впрямь видел то, о чем говорил. Был похож на котенка довольного, которого заботливо мастурбируют:
— А я вижу высокие, пгостогные здания из стекла, массу нагода молодого, счастливого, габотящего. Шигокими улицами идут они навстгечу солнцу, в цеха, полные умнейших механизмов и музыки (почему-то классической музыки!), и цветов…
— Это похоже отчасти на Herbert Wells «When the Sleeper Wakes». Только там они что-то не улыбаются, бунтуют все больше, Валентин Ефимович!
Он аж подпрыгнул:
— И пгавильно делают! Потому что там — капитализм! Я же вам говогю, батенька, о пгинципиально дгугой ог’ганизации общества! О газумной и спгаведливой, в конце концов! О том вгемени, когда миг эксплуатации гухнет, и начнется подлинная истогия человечества, освобожденного от пут габства, освобожденного именно для твогчества, для созидания… И ведь на каких газумных, главное, основаниях! Вот скажите, к пгимегу, сколько у вас любовников было уже, мой дгуг?
— Э-э… не считал-с, месье…
— Вот видите! Вы живете, как пагус, котогый подчиняется пгоизволу бездумного ветегка! А в обществе завтгашней Госсии все будет поставлено под учет и контголь… Да-с: под учет и контголь! И любовников вам выдадут стгого по гасписанию — но и согласно запгосу, ха-ха… Это я смеюсь.
— Я уже понял, что вы потешаетесь! Это ведь верховенщина какая-то, а?
— Ну уж нетушки! Агхисквегного, агхивгедного Достоевского мне, пожалуйста, не пгиписывайте. Этот мгачный генегат нафантазиговал массу гадостей о своих же бывших товагищах, в котогых, между пгочим, влюблен был спегва, как женщина, в некотогых. Тепегь же, изволите видеть, вся наша гнилая интеллигенция смотгит на геволюционегов сквозь его заплаканные очки — очки, по сути, отвегнутого угодца!
Валек хлопнул свернутой газетою по столу:
—Уж не обижайтесь на стагика! Мы свое отжили — вы гуляйте тепегь…
Он вздохнул, но тотчас вперил взгляд косо куда-то под потолок:
— И вот знаете ли, батенька, тгидцать седьмой или согок пегвый год станут, быть может, годами самых важных отгытий в истогии человечества — вполне возможно, секгет бессмегтья откгоют! Я уж не говогю, что научатся лечить все болезни. Хотите такой Госсии? А, молодой человек?
Он подмигнул очень свойски, со знанием дела — и снова мечтательно закатил глаза:
— Да что там Госсия: весь миг будет наш сад! Или как там это у Чехова?..
Валек раздражал своею развязностью — но притягивал искренностью и вполне, вполне очевидной сердечностью. Даже про любовников меня расспросил.
Он вдруг порывисто наклонился, протянул руку через стол, цепко ухватил меня за рукав:
— Вегьте стагику: и вы с нами будете, догогой, милый п о к а багон!
Он снова откинулся в кресле, наклонил голову набок, прищурился:
— У вас честное, хогошее, милое лицо. Вы — душка, почти что чеховская Душечка, мне показалось. Вы умеете гаствогяться и в собеседнике, и в том, кого — вот ведь счастливый он! — любите… Очень хочется вегить, что вам будет славно у нас. Да ведь и будет же: никуда нам с вами дгуг от дгуга тепегь не деться. А вы как, дгужок, полагаете?..
— Вы — светлый вроде бы человек, Валентин Ефимович, хотя опусы ваши порою такие мрачные… Хочется вам верить… довериться…
— По глазам вижу: не тегпится вам что-то сказать. Ну же, выкладывайте!
И я, порой стряхивая в кофе непрошенную слезу, рассказал про размолвку с Пыжиком и про кровавое воскресенье — оно и сейчас снится мне. Про ярлык, про Гримальди и другие-прочие страсти (про Теплицына и Ромчу!), естественно, умолчал.
— Хогоший, хогоший вы человечек, мсье багон! И, по глазам вижу, аккугатный все ж таки на пгизнания… И склонны, кажется, изучать сгеду — даже, пожалуй что, и габочую; даже, возможно, и матгосню… А пго цагских палачей вот что я вам скажу: э т и достукаются! Гасплата г’гядет! Пгавда, они для удегжания власти на любую подлость, на всякую пговокацию ведь гогазды — будьте и вы готовы, багон! Сдается мне, большущей кговью все это у нас в Госсии пгикончится…
— Но манифест…
— Оставьте! Пускай дугачки этот фантик тгеплют. Никаких уступок Николашке-цагю и его пговоговавшейся камагилье! — вскричал властно он.
В окне чадили трубы Нарвской заставы.
Незаметно, за разговором, подкрался Питер.
*
В купе меня ждал умытый, надушенный — наконец-то привычнейший, милый, но все еще непреклонно «гранитный» — Пыж.
Ага, ниспровергатель: деда боишься! Уже приготовился…
Не знаю, что со мной сталось: я схватил Пыжонка в охапку и повалил его на диван. Да плевать на все: на их революцию, на Расею и Азию, на ярлык, на Гримальди, на Маньку, на… даже на бабушку!..
— Пыжик, я с таким сейчас человеком знакомство свел!.. Вулкан ума! Он сказал: будет все хорошо! Мы увидим небо в алмазах, Пыжуха! Весь мир — наш сад!..
— А я думал: наше кладбище, — буркнул Пыж, слабо пытаясь вывернуться. Я поймал его губы в свои и с незнакомой себе еще нежной силою схватил за затылок…
До самого вокзала без передышки мы целовались как-то облегченно, словно с плеч слетела тяжесть — пускай, вместе и с головой. Эх, резво брыкаться в жеманном кекуоке или откалывать предерзостные коленца в лихом, развеселом матчише! Стать лукавым, беззаботным, как юнга-негритос в белых безразмерных штанах! Сидеть с Ромчей в баньке или с Пыжиком в кабаре! Плясать и петь, и хлестать шампанское! И убирать навоз, иногда — да: смиренно, подлизываясь к любому грядущему. И забыть, наконец, про страхи, про ужасы.
Вспомним про них — только когда-нибудь…
Глухой шум гигантской толпы пробился к нам сквозь стекло. Мы выглянули в окно и ахнули. Весь перрон был забит людьми. Мальчишки в картузах, курсистки в жалких тальмочках, мастеровые в высоких сапогах, интеллигенты в пенсне и продрогших шляпах… Шубки, военные и студенческие шинели, новомодные у простых телогрейки, явившиеся с русско-японской войны, элегантные «аглицкие» пальто… Толпа волновалась, над ней сотрясались плакаты и лозунги: «Свобода, равенство, братство!», «Валек, ты смог!», «Долой царя, даешь Валька!», «Слово задело» — теперь за дело!», «Деньги для Суламифи — в Зимнем дворце!», «Долой Григория — да здравствует Валентин!», «Гришка попутал — Валя, распутай!» и т. д., и т. п.
Истерично, как измученные животные, рвались под ветром в руках злой осенней раскраски цветы.
— Вот, Пыжик, с кем я сейчас разговаривал! — гордо открылся я.
Пыжик облизнулся:
— Губы мне все изгрыз, мудак…
— От такого и слышу! Ура Распутину!
— Но он же Пикуль по псевдониму…
— К черту литературщину! По сути-то он — Распутин! Это главное, Пыжик! Ура, ура!..
Пыж заинтересованно посмеялся:
— Сбрендил, Ушной?! Ну ладно, хрен с тобой: пускай будет ура… Только знаешь, Ушастый, не доверяю я твоему Вале Распутину, он же Пикуль, он же еще кто-нибудь — Онегин, Печорин, Невский-Разъем… Когда у человека столько фамилий, ему есть что скрывать. Скрывать что-то стыдное. Нечто в этом есть, знаешь, воровское или филерское…
Кажется, Пыжик к новому знакомцу меня взревновал?..
Пыж почувствовал, что я это понял, и себе в оправдание проворчал:
— Жуткий ты тип, Ушастик! Любвеобильный, точно щенок небитый, непуганый… Эх, и к чему это все?..
Из купе нас выпустили лишь после того, как толпа, клокоча, схлынула. Знаменитую речь Валька — «Долой цагя и его плутокгатию! Да здгавствует новая Госсия!» — мы прочли только в газетах.
Тем же вечером отправился я на нашу дачу к Ромашке. Я решил сделать ему сюрприз и отпустил кучера за квартал. Как же удивился я, увидев перед воротами желто-красный «Renault»[37] с шофером, что в полном смысле слова с к у к о ж и л с я за рулем в кожаной своей сбруе под порывами осеннего дождя и ветра, ибо застекленный салон в этой модели полагался лишь пассажирам!.. Да и авто похоже было на горбатого клоуна, выкинутого под дождь.
Однако мотор из царского гаража — значит, Гришка к братцу в гости пожаловал…
Я обогнул ограду и вошел в сад через заднюю калитку. Так и есть: в окошках домика сторожа горит свет! Скрытый царскими лохмотьями осени, я пробрался к крыльцу, бесшумно вошел в сенцы. Синего бархата поддевка Григория на красной «генеральской» подкладке — рядом с простецкой «одежей» Романа, с его колоссальным, до пят, тулупом.
Дверь была полуоткрыта. Братья чаевничали. Не желая испытывать судьбу, я укрылся под тулупом Романа. Через мохнатую его духоту голоса доходили неотчетливо, как сквозь полусон.
— Ты, Ромча, знашь, что их ждет всех, сердешных. Не хуже мово ведь знашь! А духу сказать это им нету — не могу я! С а м а давеча спрашивала: видишь ли? Я и брякнул: вижу, мол. А что видишь? А, грю, хорошо будет все, в конце-то концов. А что ей скажешь еще? Что их всех порешат, с дитЯтками заодно? Как такое матери скажешь, Ромушка, а?
— Терпи, Гришуха! Твой крест. А скажешь им, такое зачнут кровавое месиво в народе, сколь невинных душ погубят они со страху-то! Судьбу ведь не превозмочь, сам понимашь. Нехай уж, как оно есть. так и котится.
— Мучительно з н а т ь! — простонал Григорий. — Я с того и пить начал.
— Ну и дурак! Хуже себе ведь делашь.
— Знаю! Силов нету правду терпеть. А еще знашь ли, познакомился я тут с князьком одним, с Юсупом молоденьким. Сильно баский на рожу он да и на все! Прямо девица. Гляжу на его грядушее: вроде все там бы и ничего. А свово не вижу, не чую — вот же ведь што! Ты не подскажешь, с чего это не вижу свово? Ты-то што зришь про меня?
— Опасайся князенка, Гришух: нехороший он для тебя человек. А другого-иного ничего не открою те. Кровному ежель открою — дару лишусь, знашь ведь сам. Не проси, Гришух…
— Эх, выпить ба!.. Твой-то как, этот Ушастый? Потешный он, дурак дураком, разблядь, а ведь святой!..
— Да явится скоро мудилка мой. Ох, люблю я эту курьву ушастую! И чего, спрашиватся, люблю? А люблю! Тоже судьба, скажи…
— Вот и я с князьком…
— Слышь, Гришуха, близко не подпускай Юсупа! Богом прошу!
— Эка устроился ты: у самого парнишечка сахарный, а мне даже и не моги. Делить-то со мной свово не захошь?
— Сам его спрашивай… только чего-то он боится тебя. Сам-то тоже имет наш дар, да не знат про то. Скоро сам князем заделатся. А мне хоть пастух он будь — до чего же, гад, сладкой-то! Он мне и девка, и — грех ведь сказать! — сынок. Хочу его к жисти, Гришух, приучить, даже и к крестьянству штоб. А зачнет здеся кровяным ключом заваруха бить — удрать с им куда-нибудь. Хоть к нам вот в Покровское. А надежней и вовсе под Гельсинворсу, в Чухляндию. Там у них дачу мать его прикупила с молочной фермою.
— Хе, ты потягивашь его, а, гляжу, он сам те в кишки по самы яйца влетел и обжился там!
— Греха в радости нету, Гриша. Грех в злобе да ненависти, ведашь сам.
— Вот мы и поделили с тобой отцово наследство: тебе, значить, любовь, а мне, значить, лишь пьянка да ненависть.
— Не кручинься, Григорь! И смерть от любви свята.
— Эка — и ты про смерть со мной уже заговаривашь!..
— Не пей, Гришух, тогда про себя вернее узришь. Аккуратней будь с князиком-то…
— Что князик! Россия горит.
— Гляди, возродится еще!
— Хм — без нас?.. — хмыкнул Григорий мрачно. — Одначе поперся я. Неровен час из Царского позвонят. И когда телехвон етот в моторе делать научатся? Либо штоб в кармане всегда сидел? Доживем ли мы до этакой благодати? Молчишь, Ромаха… Всегда ты из нас хитрым был…
Трудно вздохнул:
— Чую: предел близок мой, Ромча, и горек будет тот час!..
Грохоча сапогами, братья вылезли в сенцы. Простились молча, сопя. Григорий ушел.
Снаружи встрекотал мотор.
— Ну, вылазь теперь, нечисть ушастая! — Ромча оттянул край тулупа. — А то не видал я, как ты крался, тать эдакой!
И он с каким-то жалобным всхлипом, горестно притянул к себе, вжал больно, всего — шаря жадными лапами, словно уходя в себе от чего-то страшного.
Больше в одежде оставаться нам было невмоготу.
Я остался на ночь — чего раньше не делал. Эту ночь я помню прекрасно. От фонаря за окном на стекле лежал странный какой-то, похожий на полупрозрачный язык пламени, рыжий блик; в нем корчились тени полуобглоданных ветром веток. Ветер выл в трубе, ворочаясь в ней то этак, то так, словно до нас норовил добраться.
Я забылся коротким сном. Просыпаюсь — Ромча не спит. Тут-то и состоялся у нас с ним памятный разговор.
Сперва он мне рассказал про их детство, про свое с Григорием. Обычное деревенское детство, они близнецы, а оба такие разные. Григорий беспокойным рос, во сне кричал, мог обмочиться. Все ему снилась лесная навь — стращала его, затягивала. Маялся Гриша и в юности. Крестьянский труд тяготил его. Пьянствовал, хулиганил с парнями, бит был не раз односельчанами, крепко, жестоко бит. Ушел странничать. Вернулся другим человеком — благостным, поучал.
— Мало ему себя, вот ведь что! Жаждет любви от людей, а сам никого не любит. Я-то спокойный был: та же вроде мне нечисть снилась, а не кричал, не ссался — как бы я с ней своим себя чувствовал.
— Ромча, а где твой крест, нательный?
Он хмыкнул:
— Цацка и есть.
— А ты видишь, что с Григорием будет?
— Вижу. Убьют его. Меня-то убили уже.
— Что?!
— Ну, считай, я вторую жись живу, Ушастик. Тонул ведь я — Гришка и вытянул. А хорошо было мне: такая тишь настала на душе, когда уходил!.. Вот с тех пор и спокойный я сделался. А он смерти страшится. Страшится и ждет. И зачем ждет, если в жись вечную верует?.. Чует: плохая будет смерть у него…
— Ромчик, а про меня не расскажешь ли?..
Он помолчал. Вдруг стал мне подмышкой своей по лицу водить, настойчиво, сильно, до моего задыхания. Я терпел и ничего больше не спрашивал.
*
Жизнь шла своим чередом — в те осень и зиму такая бурная. В течение ноября ушли и бабушка, и старший князь Муруков. Теперь на моих cartes de visite[38] значилось: «Князь Муруков принц Чингисхан барон фон Катценлебен». И я уже не вздрагивал, когда при Дворе объявляли все эти титулы.
Ольга Александровна со смехом как-то сказала:
— Каждый раз, когда я слышу «принц Чингисхан», думаю: сейчас войдет кто-то страшный и с колчаном. А входите вы — и я испытываю всякий раз облегчение, my darling[39]! Я еще слышала, есть какой-то такой я р л ы к у Муруковых. Не покажете?
— Это легенда, ваше высочество.
— En effet?[40] — удивился принц Петр. — Но я читал, ярлык существует, и только обладатель его получает все права на наследство Чингизидов. И…
— Петя, не мучай мальчика! — перебила Ольга Александровна. — Что не легенда в наши дни, так это, мой друг, граммофон! Чудесное средство рассеять скуку. Prince, put this record on, please[41].
Я поставил пластинку. В уютной гостиной, обшитой дубом, но несколько чинной, раздались звуки матчиша — словно зубы оскалил в настырной патоке какой-то портовый смуглый наглец.
— Это испанское нечто?.. — осведомился принц Петр. Если принц Петр морщился, значит, он был смущен тем, что э т о ему очень нравится.
— Нет, Петя, бразильское. И я по глазам мальчиков вижу: они э т о savent dancer[42]! Eh bien, montrez-nous ça, je vous prie, messieurs![43]
Мы с Пыжиком переглянулись.
— Ты будешь дамою! — безоговорочно велел Пыжик.
Снова грянул мотивчик, и мы пошли, все больше, все развязней вихляясь, навстречу друг другу. Эх, ну и выделывались мы, выкаблучивали, как матросики в кабаке — как бы один другому назло!..
В конце Пыжик подставил колено, и я триумфально брякнулся на него, как истая шлюшка.
— Formidable![44] — вскричала Ольга Александровна. — Вы оба — просто великолепны!
Она смеялась до слез.
— Это нечто между полькой и вальсом, но… хулиганское, — цедил сквозь зубы принц Петр, красный от удовольствия. — Et je regarderais ça encore une fois!..[45]
Разгульный этот мотив так и застрял навсегда в моей памяти. Ибо, как только мы, вдохновленные августейшим ободрением, ринулись навстречу друг другу, совсем уж забывши стыд, обнаглев до потери брюк (корпусной вариант оборотца «до положения риз»), и в глазах Пыжа я прочитал мужское желание, снисходительно пристальное, откровенное, и понял, что этот вечер для нас п р о с т о т а к не закончится, — в этот вот самый миг пол под ногами вздрогнул, а люстра со всем своим сверкающим блеском словно слетела со своей оси. Граммофон заикал испуганно.
— Что это, Пьер?!.. — воскликнула Ольга Александровна.
— Н-не знаю, ma chère[46]… Как будто… взрыв?.. — проблеял принц Петр.
Через минуту влетел адъютант принца и доложил: на Кирочной взорвался дом. Очевидно, бомбисты…
Пыжик, словно не видя никого перед собой, пошел, заплетаясь, к выходу.
— Дайте ему мотор! И поезжайте с ним! — велела мне и адъютанту Ольга Александровна. — И граммофон выключите, господи, наконец!..
Случилось то, что не могло, казалось, коснуться нас. Мы летели стремглав, я слышал, как у Пыжа зубы выстукивалют.
— Пыж, я не успел сказать тебе: о н а тут! Я видел ее, — пролепетал я, чтобы отвлечь его. Пыжик не слышал.
На подъезде к Кирочной какой-то брандмайор и полицейский чин чуть не кинулись нам под колеса:
— Нельзя! Нельзя, господа, сюда! — кричали оба, размахивая руками отчаянно и беспомощно.
Пыжик застонал глухо и выскочил из авто.
Он исчез тотчас в ночи, там, на смятенной Кирочной, за стеной огня.
— Нашли, о чем говорить в такую минуту! О дамочке… — упрекнул меня адъютант. Салон заполнился горько-кислым запахом гари.
Глава шестая
И я любил. И я изведал
Безумный хмель любовных мук,
И пораженья, и победы,
И имя: в р а г; и слово: д р у г.
А. Блок
Взрыв на Кирочной был только началом. В тот вечер на воздух взлетело пять домов в разных частях Санкт-Петербурга. Как по заказу, дома рухнули также в Сызрани и Нефтеюганске. В Нижневартовске, Йошкар-Оле и Актюбинске местные казаки обезвредили бомбистов и покрошили супостатов в капусту. В Самотлор, Кемерово и Уфу сторонников В. Распутина-Пикуля черносотенцы и жандармы просто не допустили — можно сказать, на рельсы легли.
— Поднялась Расеюшка! Дальше ехать нам некуда, — вздохнул адъютант, с которым мы сидели в авто. Это был Николай Куликовский, в будущем второй муж Ольги Александровны. Простой, добродушный лейб-кирасир с таким прямым взглядом честных, ясных и зорких глаз (и уже ее любовник), что я боялся в лицо ему заглянуть. Но тогда, на Кирочной, мне было не до него.
— Пыжик, Пыжик!.. — шептал я, как заклинанье. Завеса огня разделила нас навсегда: в пламени остатками сновидений пучились и рассыпались стены домов.
Прощай, милый Пыжик!
Прощай…
Ночью пришло известие, что в Москве взорван храм Христа Спасителя и дом генерал-губернатора, обнаружены подкопы под Спасскую и Боровицкую башни. Преступников обезвредили босяки, так не похожие на изображенных Максимом Горьким (он же Пешков и Алексей). Босяки оказались настоящими русскими патриотами, в то время, как мы, интеллигенция, — Родину предали. Во всяком случае, так утверждали мои родители и все во дворце у Ольги Александровны.
Мир словно вздрогнул — и стал раздваиваться, распадаться на глазах, обнаруживая внутри себя новые необычные, непривычные сущности.
Мир рушился, но наши свиданья с Теплицыным продолжались — с одним уточнением. Теперь он называл меня «кнэзем» — с ироническим удовольствием.
— Итак, кнэзь, я очень доволен, что вы познакомились с этим, как вы порой проговариваетесь, В а л ь к о м. Наверно, вы поняли: человек он очень опасный — и особенно сейчас, когда все, как будто бы, рушится. Да что там Пикуль-Распутин! Вот вам Горький Максим: «Когда правительство теряет доверие народа, но не уступает ему своей власти, — оно становится только политической партией». Мало? Вот и сам Лев Толстой, граф и, кажется, ваш тульский родственник: «Верно или неверно определяют революционеры те цели, к которым стремятся, они стремятся к какому-то новому устройству жизни; вы же желаете одного: удержаться в том выгодном положении, в котором вы находитесь. И потому вам не устоять против революции с вашим знаменем самодержавия, хотя бы и с конституционными поправками».
Поручик отбросил газету и потянулся на стуле, издав длинный, тоскливый, на скрип стула похожий стон. Взгляд его бесцветных глаз устремился в пустоту, словно он и сам бы хотел сейчас в этой пустоте раствориться.
— Я вот думаю, кнэзь: а если им это и в самом деле у д а с т с я? Что вы тогда поделывать будете, а?
— А вы, Дмитрий Анатольевич?
— Здесь вопросы задаю я, ваше сиятельство! Пока. Пардон, не избегнул штампованной речи.
— У вас даже нет плана на будущее! А они делают, что хотят, — заметил я.
Он рассеянно кивнул, не ответив. Но заглаживая грубость, начал мягко:
— А насчет ярлыка, кнэзь, — плюньте! Что за важность в начале двадцатого века какая-то средневековая блямба?! Пускай уж Гримальди этой бирюлькой тешится… Это же он вас мутузил всякими стрелами и прочими индейскими штучками. На вашем месте я бы сходил еще разок в штаб к Вальку. Кажется, он остановился у балерины Кшесинской. О н и ведь там офис арендовали, эти большевички? Вы ему очень понравились — Вальку-то этому окаянному — судя по вашему же рассказу. Вот и напомните о себе! Хорошо, если б меж вами возникла не просто симпатия…
— Он не по этому делу, поручик. У него жена из борделя.
— Вот и я про то ж.
Что за наглец этот Теплицын! Подчеркнуто холодно я откланялся.
Я что ему — проститутка?!..
Тот разговор состоялся еще до взрывов. Помнится, Теплицын бросил странную фразу: «Правительству ничего другого не остается, как поднять Россию на дыбы. На дыбу-с не можем: конституция-с».
Тогда я спустился во двор. Что-то заставило меня оглянуться, посмотреть на окно, за которым одиноко скрипел стулом Теплицын. Серая тень мелькнула у двери парадного. Девушка была одета, как работница в праздник: в пуховом белом платке и плюшевой шубейке, что подчеркивала ее талию и повадку. Маня!.. Я тотчас узнал ее. В руке Маня держала порядочных размеров баульчик — то ли съестное, то ли белье.
Она оглянулась — и нырнула в подъезд. Подождав немного, я вошел следом, но лишь услышал наверху Теплицыно: «Входи, милая». Дверь захлопнулась. Час я ждал. После вышел во двор: огня в окне не было. Значит, Теплицын и Маня в с в я з и? Этого еще не хватало! Однако не ночевать же мне, в самом деле, в этом дворе!
Вот про Маню и не успел я Пыжику поведать. Ромча же на мой рассказ лишь ухмыльнулся в усы, качнув головой:
— Бог даст, еще встретитесь как-нибудь…
Это «как-нибудь» произнес он уж слишком многозначительно.
*
Между тем, декабрь пятого года завернул метелями и морозами. С детства любил я это темное время года, время предвкушений Рождества и Нового года, елки, подарков.
Всероссийским «подарком» в том году стало восстание в Москве, которое как-то символически началось с подкопа под «Детский мир», под это волшебное царство оловянных солдатиков, плюшевых медвежат и миниатюрных кареток на батарейках. И хотя схваченные «подкопщики» не походили на рабочих и студентов и профессионально вытягивались в струнку при каждом окрике — их объявили революционерами, бросились отбивать у полиции. Случилась перестрелка, в разных местах возвели баррикады: на Краснопресненской, на Улице 1905 года. Судя по фотографиям в газетах, рабочие на баррикадах все подобрались молодые и ладные, по-лейб-гвардейски крепенькие — но страна-то ведь рушилась. Рушилась Россия, которую, быть может, мы все терпеть в душе не могли, но не могли терпеть так привычно уже, так за столетье намолено!..
— Русскай дух — он всякому духу дух! — поучал меня Ромча в баньке. — Потому шведа и хранцуза мы одолели, потому и немцу гузку порвем…
— Но япошкам продули же! — возразил я.
Хрясть — веник мстительно ошпарил меня так, что я на полкЕ подпрыгнул.
— И японска бога без яиц оставим, дай срок! — возгласил грозно Роман. — Жаль, может, не доживем… Слышь-ка, к этому к ерцогу-то подколодному седни можно сходить. Давеча я на воске гадал — надо б седни как раз, опаски не будет.
— Так ярлык, может, не у него! Я теперь на Теплицына вот грешу… Манька эта…
— У него — не у него, а сходить надобно! Ай, вместе пойдем, не то еще напортачишь, Ушастушка…
Ближе к полуночи Роман заложил сани, и мы поехали.
Что за волшебная ночь была! С вечера намело сугробов, мороз окреп, вызвездило. Зазевавшиеся снежинки кое-где мелькали в воздухе — и как же красиво, загадочно, всеми своими иголочками мерцали они в рыжем свете газовых фонарей!.. Пару раз останавливал нас патруль. Но мой passeport с княжеским титулом заставил казаков почтительно отдавать честь нагайкой и бодро, заботливо предупреждать об опасности.
Вот и дворец Гримальди. Электричество не работало, длинное здание все было погружено во мрак. Запасливый Ромча велел мне захватить с собою электрический фонарь на батарейках (la lampe de poche[47]). Тогдашние первые карманные фонари были страсть ведь как неудобны: приходилось постоянно держать палец на кнопке, иначе он потухал. Да и светил-то такой фонарик не ярче свечки.
Мы вошли в вестибюль. То, что при бодром блеске люстр и жирандолей казалось изящным или роскошным, при слабом лучике фонаря выглядело мрачно-многозначительным. Черные базальтовые фигуры египетских жрецов в вестибюле, эти стражи древних гробниц, показалось, вздрагивают и дышат. Бесстрастие их лиц было обманчиво — инкрустированные зрачки неотрывно следовали за нами.
Мы поднялись по лестнице в бельэтаж. Одна за другой открывались все новые гостиные. Пять столетий смотрели на нас с портретов. Какие жестокие лица! Какие ледяные глаза!
Ромча несколько ошалел от открывшейся тяжелой, торжественной роскоши.
— Эко! Эко ведь… — бормотал он под нос. Перед одним портретом схватил меня за рукав:
— Посвети-ка, Ушан!
С огромного полотна, ощетинившись усами и клинышком бороды, глядел на нас он — Гримальди. Голова на блюде гофрированного воротника казалась отрезанной. В лице было что-то и мертвенное, и яростное одновременно.
— Боек был, дядя… — пробормотал Роман, смутившись слегка. — Эта вся злоба-то у твово и пошла вот от этого… Людишек собакам скармливал, вот ведь что!
— Мои не лучше…
— Ты, дурной, не понимашь. Ты-то святой, а вот что дитев не будешь иметь — это славненько!
— Так все перемешано в жизни…
— А то ж!
В зале наряжена была елка.
— Еще посвети! — велел Ромча. — Эко его разбирало-то!..
Елка была изобильно обвешена игрушками и свечками в виде уродцев, чертиков, фаллосов, черепов. Рогатая голова Люцифера венчала весь этот выморочный мирок — вместо рождественской звезды.
— Чистый ад… — проворчал Ромча. Он снял с ветки большой резиновый черный фаллос в ядовито-алых пупырышках и спрятал в карман. Усмехнулся:
— На память, Ушан…
Мы прошли еще несколько комнат.
— Тута! — Роман толкнул створки двери.
Эта комната была светлее прочих. Высокие окна, почти без штор, пропускали оранжевый отсвет уличных газовых фонарей. Рыжеватые блики ровно, как аккуратно нарезанные листы, лежали на письменном столе, на сейфе в углу, на широком турецком диване.
Гримальди как раз на нем и покоился. Именно покоился: так безмятежно, уютно возлежал он под клетчатым черным пледом. На кончике носа и над верхней губой светлели крупинки кокаина.
— Он спит? — шепотом спросил я.
Ромча покачал головой. Вздохнул:
— Одначе спешить надобно! Вон он, твой ярлык, в шкафике.
Сейф был не заперт. Ярлык лежал на средней полке буднично, словно тарелка в буфете.
— Бери, чего ж… А это што? Примус, што ль?
— Лампа — та самая, я тебе рассказывал… Ой, посмотри, Ромча! О-ой!..
Мы замерли над столом.
На нем в каком-то особенно строгом порядке, как карты в пасьянсе, разложены были фотокарточки. Я поднес фонарик. На всех фотографиях была Маня. Лицо бесстрастное, отрешенное, а тело изогнуто в самых немыслимых, неприличных позах.
— Значить, она и его была полюбовница! — заключил Ромча. — Только не видать, чтобы сладко ей было вот эдак кобениться… Бедная, бедная!.. Жертва вечерняя…
— Что?..
— В Писании сказано: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя». Неужли не знашь? Одначе пора, Ушан! Здеся делать нам боле нечего…
*
В санях Роман оглянулся несколько раз. Улица казалась пустынной. Цепочка рыжих огней вдоль черных домов выглядела зловеще.
— Значить, т а м! — кивнул Ромча вперед.
— Что т а м?
Он не ответил. Полозья зашуршали по рассыпчатому снежку.
Я трогал ярлык под дохой у себя на коленях, проводил по нему ладонью. Ярлык казался теплым, живым — на прикосновенья он откликался. Почудилось даже: черты рожи на нем разгладились; рожа, довольная, ухмыляется. Нет, что ни говори Теплицын, а ярлык обладает какой-то притягательной силой. Поручик — бескрылая личность; прозаичен, как венский стул. Но что, если ярлык несет с собой гибель владельцу? Вот и Гримальди… Однако Ромча не испугался — Ромча так уверен, что ничего нам с ним пока не грозит…
И вновь разъезды чубастых казаков, молодцевато отдававших честь моему паспорту, пустые темные улицы притихшего, испуганного города. Maman с papa думают: я на даче — и возможно, к у ч у, но молодой человек должен пройти и такие искусы. Ах, знали б они, ах, знали бы!..
Гордость за себя — за то, что я уже взрослый и замешан в дела, которые родителям и не снились — переполняла меня.
На подъезде к даче оборвались уличные огни. Смутная белизна заснеженных крыш, чернота заборов…
— Что это, Ромча? Кажется, у нас свет в окнах мигает?..
— Похоже на то… Ну-тко посиди в санях — я гляну кто там… Нет, лучше вылазь: ты хозяин! Вдруг родителей черт принес…
Мы прошли к главному дому. Кому и что там занадобилось в промерзших-то комнатах?.. Дверь на террасу была замкнута на щеколду со стороны сеней.
Мы завернули за угол, открыли ключом заднюю дверь. Вошли крадучись. Старые доски пола поскрипывали, заставляя меня замирать при каждом звуке.
Нет, не были это мои родители. Maman терпеть не может темноты. Явись она сюда, свечкой бы точно не ограничилась.
— Осторожней, Ромча! Тут всякой ерунды навалил садовник… — шепнул я.
Луч фонарика пролетел по корзинам, по плетеным садовым креслам и огромным, как чаны, глиняным горшкам для цветов. Сейчас они казались фантастическими остатками какой-то погибшей цивилизации.
— Тута черт ногу сломит!.. — ворчал Ромча. — Бурелом чисто…
Рослому Роману в его синей долгополой поддевке на меху было особенно трудно передвигаться здесь.
— Может, воры? — предположил я.
— Воры?!.. — вроде с насмешкой хмыкнул Роман. Но прихватил из угла ломик.
— Сюда, налево! Они в зале, кажется…
— Тихо! Слышь?..
Через закрытую дверь доносились звук голоса.
Затаив дыхание, я потянул дверь из коридора в гостиную. Между гостиной и залом была только арка, густо завешенная драпировкой во вкусе Второй империи[48]. В детстве меня эта завеса страшно интриговала своей театральной «таинственностью», потом — когда я повзрослел — раздражала претенциозностью. Но сейчас это золотисто-пурпурное душное безобразие было превосходной ширмой для нас!..
Вот он, голос — е г о голос!
— Ясно? Мне терять нечего! Все, что мне осталось — поджечь здесь эту рухлядь вместе с тобой. Итак, где ярлык?
Тяжелое дыхание. Потом вскрик — почти всписк испуганный.
— Я тебе всю морду, как свинье, опалю сейчас — последний сифилитик побрезгует. Отвечай, где ярлык?! Куда подевала?..
Пыжик длинно, витиевато выругался.
— За… зачем вы такой со мной, барин? Не я ваш дом взорвала, вот вам крест — не я! Сама боюсь; всю мою жизнь боюся его…
— Чего ты боишься, гадина? К о г о?!..
— Этого… герцога…
— У него ярлык?.. Зачем выкрала у Муруковых? Гримальди тебе заплатил?..
— Застращал, барин, миленький…
— Чем он мог тебя застращать? Будешь врать — глаза выжгу к чертовой матери!
— Я как с деревни пришла, в заведение поступила. Он меня выкупил, на квартиру поселил. Жила, совеем как я содержаночка… А потом, что ли, надоела ему. Да и не очень он интересничал насчет женского полу. Он назад меня хотел сдать в заведение, и в такое плохое, ой!.. Или сказал — ярлык ему принеси…
— Что ж ты не сбежала, дура? Русь велика!
Маня трудно вздохнула:
— Куда мне бежать? В деревню? Или на фабрику, чтоб все легкие через три года выхаркать? А в прислугу без рекомендации да с желтым билетом кто ж и возьмет… Оой!..
— Говорил он тебе, зачем ему этот ярлык?
— Говорил-с… Говорил, что там какая-то тайна в нем скрытая. Что без него неполная будет власть. А что за власть… У него итак этой власти, что в лесу травы. Ох, не томи! Убей лучше уже…
— Так ты, значит, жить не хочешь? Ох, врешь ты! Ох врешь ведь ты, девушка!..
Вскрик — длинный, неистовый. И пахнет как мерзкенько…
— Не мучь, барин — убей! Мне такой жить-то незачем…
Снова вскрик.
Больше терпеть это было невозможно. Мы с Ромчей шагнули в зал.
Маня сидела к стулу привязанная. Космы прикрывали изуродованное лицо, голова свесилась на сторону. Кажется, она была без чувств.
Огонь свечи метнулся, Пыжик оглянулся на нас. За три недели, что я не видел его, лицо Пыжика изменилось: осунулось, обросло бородкой. Жесткая вертикальная морщина разрезала лоб пополам, как трещина. Нет, Пыжик не просто осунулся: лицо его словно осело все, и кости черепа выдвинулись беспощадно. Другой, незнакомый н е к т о открылся в друге моем…
— Пыж, брось ее! Ярлык у меня, — сказал я удивительно для себя спокойно. — И тебе он незачем. Ты ведь не Чингизид…
— Мне по хер, кто из нас Тимур, кто Чингизид! — прошипел Пыжик, дернувшись всем лицом. — Я теперь никто, и звать меня никак! Я Немо, понял, Ушан?! И я буду мстить вам всем! Я убью и тебя, и Гримальди, и эту вот гадину, а ваш сраный ярлык утоплю в сортире, чтобы никогда — ни один больше дурак! — не поперся за ним охотиться!
Он метнул свечку на занавес и потянул что-то из кармана, приговаривая, как заклинание:
— А сейчас… сейчас…
Что-то просвистело мимо меня, и Пыжик с ломком во лбу повалился на пол.
— Стрельнул бы а то… — выдохнул Роман виновато.
И пояснил:
— Он уж зверь был, не человек…
Треща, на парчовой ткани расцветал, ширился острый огненный цветок лилии.
*
— Н-да-с, Манечка… — Теплицын грубо, словно терзая, потер лицо.
— Что с ней будет теперь?
— Полагаю, отравится. Или утопится. У таких один конец, ваше сиятельство. Кстати, ярлык-то вы принесли, как давеча я просил?
Из внутреннего кармана пальто я достал портмоне.
— Н-да-с… — Теплицын взял в руки ярлык, повертел. Щелкнул рожу в нос. — Священная-с реликвия-с! И преотлично ведь сделано! Умеют…
— Что вы имеете в виду, Дмитрий Анатольевич?
— То и имею, ваше сиятельство, что штучку эту сделали умельцы фирмы Фаберже-с. Гримальди заказал у них, а там у нас глаза и уши.
— Так это подделка?! Зачем ему?..
— Тщеславие, кнэзь! Нетерпение… У морфинистов мозги всегда набекрень… Вот и наш герцог сбрендил. К тому же он тоже верил, что существует некое тайное общество — хотел его обмануть. А вот на это теперь изволите ли взглянуть?..
Он достал из ящика стола и положил рядом с моим ярлыком точно такой же, но потемней:
— Вот он, древний-то подлинник! Он у вас и был, кнэзь! Манечка мне подлинник принесла.
— Так это вы ее подослали?!
Теплицын снова беспощадно потер лицо:
— Мы с ней давно знакомы. Она в горничных у моей тетки служила. Ну так и дело-то молодое, кнэзь… Потом похоронила ребеночка, тетка ее выставила за безнравственность. Мне не по средствам была тогда содержаночка. Корнет-с… К тому же, ваше сиятельство: влюбилась Маняша в меня! В мое душевное, прости господи, пение. «Первая любовь — снег на проводах», как поэт Яков Полонский справедливо заметил в каком-то романсике. Роковое чувство-с для девушки — часто и пагубное! Пришлось ее в заведенье отдать, но я постарался, я озаботился, чтобы в хорошее… Посещал ее — ну, и как агент она проходила у нас, а деньги на книжку складывала. Да какие уж наши денежки, кнэзь, у низшего-то звена?!.. Сплошной Диккенс, «Униженные и оскорбленные»…
— Это Достоевского сочинение.
— Эх, да все они мелят одно и то ж! Жмут слезу и денежки из читателя. Выжимай не выжимай, кнэзь, а по сути-то трепыхаться любому из нас в жизни бессмысленно-с… Тут на нее Гримальди этот свалился, черт бы его задрал… Круг и замкнулся.
— Но тайна ярлыка — она все-таки существует, Дмитрий Анатольевич?
— Тайна? — Теплицын взял в руки по ярлыку, взвесил их. — Тайна-с всегда имеется, ваше сиятельство: что в вещи, ежели вещица древняя, что в человеке. Тайна в человеке, доложу я вам — самое страшное!
— Но вам-то к чему этот ярлык?!
— А хоть и в коллекцию-с! Взгляните, что за окошком творится. Я не про метель сегодняшнюю. Взрывы: студентики бесятся, рабочие, голытьба. Даже во флоте и среди солдат волнения. Именьишки по всей Руси красными петухами цветут. Ваши-то целы еще?.. Опять же инородцы на окраинах сильно, сердито шевелятся. Не ровен час, сгибнет наша э т а империя. А русский человек без империи — он куда ж? Душой начнет маяться, себя и других всячески убивать. Он же пространства своего страшится, мужик-то наш, вот и бесится. Ему просторы эти чумазые покрыть надобно — и не только по матушке. Нужно будет другую, новую, империю тотчас ему сочинить, чтоб до конца, весь, не убился бы. Тут уж разные знаки-мифы, глядишь, и занадобятся. Греки, татары, монголы, немцы, евреи — а идейку авось и подбросят. Главное ведь в империи-то — и д е я, чтобы душой над простором летать! Вы-то, кнэзь — хоть во сне — а летаете?
— Я? Н-нет…
— Вот и улетайте тогда наяву, мой друг! Я вам это настоятельно, как бывший ваш педагог, о ч е н ь советую. Матушка ваша мудро-с во Франции да в Финляндии землицы прикупила. Можно бы и в Австралии… А в Канаде, говорят, и березки растут. Вышел в лес, обнял березку-то, вспомнил родину беспокойную, — всплакнул и об Манечке…
Он откинулся на спинку стула и тихо, душевно запел глуховатым голосом, чуть покачиваясь и блестя глазами:
— Метель слепая да жизнь немая,
Судьбина злая — Расеюшка…
Он вздохнул:
— Кнэзь, вам напиться не хочется?..
— Vous dites?..[49] — растерялся я.
— Счастливец вы, кнэзь, ей-богу, что нерусский такой! Не с русскою душой… Забирайте ярлык ваш — и на сегодня адье!
*
Метель и в самом деле сбивала с ног. Ромча дремал на облучке, обратившись чуть не в снежную бабу. Нет: в огромного белого медведя. Я потянул его за кушак. Ромча тотчас встрепенулся, мокрые веки тяжело поднялись:
— Домой?..
Рассказ мой странным образом не взволновал его. Мы продвигались сквозь хлеставшие полосы снега почти на ощупь. Здания зыбились в полумгле, казались недостоверными. Чудилось: еще миг — и они растворятся, растают, как сон. «Я лечу?..» — подумалось. И тотчас другая мысль: «Кто мутит все это? Зачем?..»
— Затем и мутит, Ушан, что вовсе и незачем! — сказал вдруг Роман, резко повернувшись боком на облучке.
Мы проезжали мимо афиши Маши Распутиной. Маша на ней была голая, весело-алчная и отчаянно загорелая среди золотых и розово-приторных перьев.
Возвращаться на дачу не тянуло. Хотя Теплицын и помог уладить дело с трупом Пыжика, отправить Маню в больницу — для нас идиллия на заснеженной даче прикончилась навсегда. И на квартире у Гришки совсем плохо сделалось. По словам Ромчи. Бесстыжий Феликс чуть не голяком по кабинету Распутина расхаживал, романсы пел, нагло, декадентски коверкая любимую лирику Гришкиных богомолок — да и самого Григория:
Я в весеннем лесу
Пил березовый сок,
Рыбу ел путассу,
Чтобы выжить не смог.
Ах — и никто, никто не хотел уже жить там — все, однако же, грустно и честно мучились.
— Круть-верть, а шабаш наше дело-то, — ворчнул Роман.
Я схватил его за кушак:
— Ромчик! Мы одни друг другу на белом свете остались…
Он стегнул лошадей, стряхнув лапы метельного сна со всех.
В густых синих сумерках добирались до дачи.
— И щас баньку, Ушан! Щас — ух! — попаримся… — гудел сквозь белую от снега бороду (обещал, отгоняя волков тоски) Роман.
Город волшебно исчезал в снегопаде и сумерках.
В оконцах его домика желтел свет.
— Кого еще черт нанес?.. — Ромча полез прямо в сугроб, к окну. Но дверь распахнулась, и огромный хмельной матрос шатаясь, выпал за дверь.
— Это ты че, служивый — в нашу берлогу залез?!!.. — крикнул Роман, поднявши кнут. И косолапо пошел к матросу.
— А то, дядя! Сходка у нас. Ты, мать твою, не чуешь, что ль: революция! Завтра нахер по Зимнему вдарим со всех, сука, стволов, всеми калибрами! Эх, вовсе несознательный ты, братишечка, елемент! Темней хвоста лошадиного! Дай-кось, хоть поцалую, хоть засосу тебя, дурака кнутобойного…
— Ходи давай! Тоже — шалаву выискал… — Ромча опустил кнут, отпихнул матроса. Тот схватился шатко за столбик крыльца, столбик крякнул испуганно.
— Не серчай, хозяин! Другого места нам не нашлось, чтоб надежное. Ты ж братан дорогому товарищу Пикулю! Щас со всеми и поручкаешься: тут и Сталин, и Грыжановский который, и Бонч который обратно Бруевич туда ж. Я — Дыбенко, Павлом звать; Павкой можешь, дядя, я не обидюсь. А это что у тебя в санях?..
— Не замай! Мой елемент это, Павка!
— Да я чего ж? Я ж не против… Кажному, значить, свое! Я с бородой которых люблю, а этот на харю совсем босой, глядеть не на что. Я ж деревенский сам, а на деревне нынче все мужики бородатые.
Он горько вздохнул, доверительно:
— Эх, и маюсь я, дяденька, вот ведь че! Пол поменяли они все — все наше политбуро распутинское — для конспирации. И товарищ Пикуль теперь — товарищ Инбер по паспорту, и бороды на ней ни хера ведь теперь не растет; щека, как и маковка, голая! Работаю с ей — не поверишь — зажмуримшись… А которые с усами — тех только в рот деру. И один я, понимаешь, дядя, на всех! Только еще вот товарищ Крупский… Эй, поступай к нам тоже в политбуро! Большевиком тя заделаем. Мне помога, а тебе удовольствие. Да и Россия, мать ее в пятку — не седни-завтра — наша вся. Ух, мужичье, держись мне тогда!..
Он потряс кулаком и повернулся ко мне:
— Не все коту масленица! А, баринок?..
Я кивнул, не скрыв восхищения. Я тоже стал сразу большевиком. И я готов был отдать им ярлык как вступительный взнос, навсегда.
Не стану дальше мучить читателя. Я хотел остаться в той эпохе и чтоб именно «по партийной линии». Но Ромча сгреб меня в охапку и оттащил в главный дом. Туда же принес нечто под зипуном. То была лампа Гримальди.
— Ромча! Заче-ем?..
— Молчи! — прикрикнул Ромча. — Я лучше знаю, чаво и куда…
Закрутилась, заработала лампа; стало теплеть; исказилось пространство истории — и куда-то ушло.
И мы с Ромчей — с вами теперь…
11.09 — 20.10.2019
[1] Дословно: как надо — франц.
[2] Ах, милый друг, это такая жалость, все это дело — франц
[3] Какое дело? Скажи мне все, Мишенька! Ты же знаешь, я не лопух! Я могу понять все, я хочу помочь тебе! Ах, черт! — франц.
[4] Здесь — франц.
[5] Раз, два, три — франц., нем., англ.
[6] Дословно: синий час, сумерки — франц.
[7] Низший офицерский чин.
[8] Несомненно я заболел — франц.
[9] Подлинные стихи того времени. Бугр, бардаш — гей.
[10] «Пежо» — франц.
[11] Песенка Маши де Распутинъ.
[12] Положение обязывает — франц.
[13] Этот брак втроем — франц.
[14] Добрый вечер, господа! Знакомьтесь: это моя французская девушка. И французская любовь тоже. Добро пожаловать в двадцатый век! — англ., франц., нем.
[15] Пошли! — франц.
[16] Вот, господа! — франц.
[17] Около 400 млн по курсу 2017 г.
[18] Кино — франц.
[19] Ах, я знаю все, что вы мне скажете! — франц.
[20] И болезнь прошла! — франц.
[21] Легкодоступная женщина — франц.
[22] Сумасшедшие — франц.
[23] Стефан Малларме сказал… — франц.
[24] Ее высочества — франц.
[25] Людовика Справедливого (Людовика XIII) — франц.
[26] Здесь: простите?.. — франц.
[27] Но это низко, сударь… — франц.
[28] Поверьте на слово — франц.
[29] Я согласен — франц.
[30] Герберт Уэллс, «Когда спящий проснется» — англ.
[31] Здесь очень опасно? — франц.
[32] Но это черт знает что!.. (фигуральное выражение) — франц.
[33] Да — франц.
[34] Ярлык вот что волнует меня! В порядке ли он?.. — франц.
[35] Не так ли? — франц.
[36] Договорились? — франц.
[37] «Рено» — франц.
[38] Визитных карточках — франц.
[39] Мой дорогой — англ.
[40] В самом деле? — франц.
[41] Князь, поставьте, пожалуйста, эту пластинку — англ.
[42] Умеете танцевать — франц.
[43] Ну же, покажите нам это, господа, прошу вас! — франц.
[44] Потрясающе! — франц.
[45] Я бы посмотрел это еще разок! — франц.
[46] Дорогая — франц.
[47] Карманный фонарик — франц.
[48] Помпезный стиль Наполеона III.
[49] Здесь: простите? — франц.


