Карим Даламанов
Пацифист
Он бежит в душ и, стоя под горячими струями, припоминает то сладостное и страшное ощущение стыда, вызванное однажды в юности фотографией деда. Если бы об этом только узнала мать, если бы об этом узнала бабка! Но стыд как бы говорил ему: “Я с тобой, и я тебя не предам, если ты меня не предашь! Я никому не скажу, какой ты отвратительный мальчик, позволяющий себе это кощунство! Ведь ты не виноват, если таким родился…"
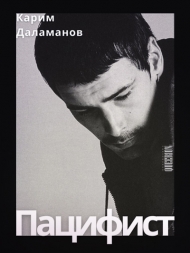 В юности дед был как с киноафиши: брюнет с правильными чертами лица, к которым очень шла гимнастёрка с погонами. С фронта он вернулся старшим сержантом. Неудивительно, что бабка, едва наткнувшись на него, сразу взяла его в оборот. Несмотря на отсутствие правой руки: дед потерял её где-то под Харьковом. И года не прошло, как родилась мать… Всё это Женя повторяет про себя почти каждый раз, как вынимает из альбома фотографию деда. Вся эта история крутится у него в башке, будто записанная на жёсткий диск… нет, на старую шипящую пластинку, какие слушали в Женином детстве на проигрывателе между диваном и секретером.
В юности дед был как с киноафиши: брюнет с правильными чертами лица, к которым очень шла гимнастёрка с погонами. С фронта он вернулся старшим сержантом. Неудивительно, что бабка, едва наткнувшись на него, сразу взяла его в оборот. Несмотря на отсутствие правой руки: дед потерял её где-то под Харьковом. И года не прошло, как родилась мать… Всё это Женя повторяет про себя почти каждый раз, как вынимает из альбома фотографию деда. Вся эта история крутится у него в башке, будто записанная на жёсткий диск… нет, на старую шипящую пластинку, какие слушали в Женином детстве на проигрывателе между диваном и секретером.
В жизни он деда почти не помнил: тот умер, когда Жене исполнилось пять. Так, какие-то обрывки: ходили в парк, катались на каруселях и даже вроде бы по детской железной дороге. Но это Женя знает уже только по фотографиям. Вот и они: дед - в пиджаке с орденами, правый рукав аккуратно заправлен в карман, Женя - с леденцом-петушком в руке, на фоне маленького вагончика, пригнанного с какой-то узкоколейки.
С той первой, ещё фронтовой, фотографией, связан и первый Женин стыд: когда ему было тринадцать, он вдруг понял, что часто представляет себе фотографию юного деда в гимнастёрке, и от этого становится до безумия приятно. Потом стыд пустил корни и пророс в самые потаённые уголки Жениного взрослеющего и смелеющего сознания: Женя думал о том, был ли дед девственником до того, как встретил бабку, и если да, то как прошла их первая ночь, и в какой позе он стал мужчиной… Он воображал это, лаская себя сначала под одеялом, а однажды осмелел до того, что вынул из альбома злополучную карточку и едва не забрызгал в самый ответственный момент. Сказать, что ему было стыдно, - значит, ничего не сказать. Уши и щёки горели так, что ими, пожалуй, можно было вскипятить чай. Он утешал себя только тем, что о таком позоре никто никогда не узнает. Никто и не узнал. Ну или… почти никто.
Последний год дед вспоминался часто. Чёрт его знает, почему. Но сегодня, в годовщину, Женя снова достал из альбома дедово фото и уже начал было… но вовремя остановился. Даже когда тебе уже сорок пять, иногда чувствуешь себя на тринадцать. Особенно если за последний год тебя швыряло и туда, и сюда, как выброшенную посудину, но так никуда и не прибило.
Женя часто развлекался воспоминаниями о том, что он делал год назад, благо отменная память в этом всегда ему помогала. Ровно год назад Витёк выкатил свой красный с отливом чумадан в прихожую и, коротко обняв Женю, выпорхнул в другую прекрасную жизнь. Даже с женой в своё время Женя расстался легче, несмотря на двоих детей на плечах. “Не сошлись в планах на будущее”, - нужно было написать в какой-нибудь (вообразим себе) анкете, если бы там был вопрос “почему вы расстались?”
“Ну чего тебе не сидится-то?” - как можно спокойнее спрашивал Женя, “Там что, мёдом намазано?”
“А если призовут?” - с деланным испугом на лице отвечал Витёк.
“Да никуда тебя не призовут!”, - картинно махал рукой Женя, - “Тебе уже больше тридцати пяти”.
Он говорил, что пацифист и что ни один нормальный человек не будет хотеть воевать. Он был младше на семь лет, и его мировоззрение целиком укладывалось в мировоззрение типичного гея, в формулу, которой в общественном сознании должны соответствовать все человеческие особи его вида. Он проклинал режим и работал то официантом, то курьером с жёлтым рюкзаком на спине, то пытался быть фрилансером и, чуть-чуть освоив соответствующую компьютерную программу, рисовал дизайн чужих квартир, потом снова надевал жёлтый рюкзак, неизменно считая себя диссидентом нашего времени. Когда случилось двадцать четвёртое февраля, он повесил у себя в Фейсбуке жовто-блакитный флаг, валялся на кровати, отвернувшись к стене, и стонал, как же ему, блядь, стыдно.
“А восемь лет назад тебе не было стыдно?” - спокойно спрашивал Женя.
“А что было восемь лет назад?”
“Донбасс бомбить начали”, - сдерживал себя Женя, уверенный в том, что Витёк над ним издевается.
В общем, они протянули ещё почти целый год. Витёк говорил о том, что “мы всё проебали” и что теперь нам светят застенки, как в ебучие сталинские времена, что весь мир снова считает нас дикарями, да мы ведь всегда ими были, мы так и не стали цивилизованным народом. У нас винтят за радугу на лацкане и травят Навального, от нас уходят ведущие мировые бренды, нам закрывают небо и границы, мы стремительно скатываемся в тот же совок, откуда выкарабкивались все эти тридцать с лишним лет.
“Только не начинай мне опять про Югославию, Ирак, Афганистан, Вьетнам и прочую херню!” - закрывался он рукой.
“Не в том порядке”, - усмехался в ответ Женя.
Витёк даже запретил себя так называть.
“Я тебе что, гопник какой-то?”
Он пересылал видео с бомбардировками Киева, Харькова, трупы на улицах Бучи, а когда Женя в ответ кидал кадры разбомбленного рынка в Донецке и танки с жовто-блакитным флагом и свастикой, слал в ответ блюющие смайлики. А той самой тяжёлой и кровавой осенью начал буквально выпрыгивать из штанов.
“Вот куда я поеду-то в свои сорок четыре года?” - спокойно спрашивал Женя.
“Для начала в Ереван”, - горячо убеждал Витёк, - “Дальше надо, конечно, на Запад, убежища просить. Нам как представителям ЛГБТ и жертвам режима должны дать!”
Женя едва сдерживал смех. Он вдруг понял, что Витёк не столь умён, как казалось, хотя, безусловно, начитан и может процитировать что-нибудь из “Доктора Живаго” и Цветаевой. Но стержень их жизни всё ещё вроде бы не был разрушен.
“Я тебя что, трахаю плохо? Мы как еблись, когда захотим, так и ебёмся!”
“Соседи могут в любой момент донести, ты об этом не думал?”
“Ты хоть знаешь, как их зовут? Им вообще по хуй. Главное - не шуметь сильно и бычки не швырять им на балкон”.
“Жень, блядь, ну ты как баран! Я думал, ты умнее, честное слово!..”
“С какого хера я должен уезжать из своей страны? Меня и здесь неплохо кормят!”
“Такими темпами, тебя скоро будут кормить лагерной баландой!”
“Ну чего тебе не сидится? Тебя хватают на улице и нашивают жёлтую звезду?”
“Могут в любой момент…”
За что его всё-таки было любить? И почему так ему доверять? А хрен его знает! Если бы Женя попытался это объяснить, то ничего очень уж убедительного не нашёл бы. Так, привык, и привык крепко. Но, в конце, концов, Витёк таки подался в Ереван со своим чумаданом. Несколько месяцев копил на билет, который стоил, как половина почки, и почти сразу оборвал все контакты, давая понять, что человек, с которым он провёл семь лет под одной крышей, больше не вписывается в “формулу приличного человека”.
Женя открывает их совместную фотографию: они с компанией на шашлыках у друзей на даче. И все, конечно, знают про них всё или почти всё, и никому нет до этого дела. Главное - шашлыки удались: вот Женя держит в руке сочную шпажку, а Витёк пытается укусить снизу с выпученными глазами…
За этот год Женя перепробовал нескольких, но ни с одним из них не хотелось оставаться под одной крышей. Он даже вспомнил молодые годы и обновил анкеты, открывая их через ВПН. Откуда ему только не писали: и из Москвы, и из Сибири, и даже из-за границы! Ну да, Женя ходит в качалку, и это сразу заметно по фотографиям. Как-то написал парень из Донецка.
“Ё-моё, и там продолжается жизнь”, - подумал было Женя, совершенно не желая заводить заведомо пустую переписку.
Но Макс, кажется, вцепился накрепко, как в своё время бабка в деда. Не то чтобы навязчиво, но чувствовалось, что Женя для него - вроде как не просто страница на сайте знакомств. Потом вдруг оказалось, что у Макса какие-то родственники - и не где-нибудь, а в Арзамасе. И вот вскоре после Нового года он написал, что приедет в феврале.
“Если будет желание, с удовольствием заеду к тебе в Нижний”, - написал Макс и поставил в конце подмигивающий смайлик.
Желания, честно сказать, не было. Не то чтобы совсем, но если он поедет из Арзамаса, дальше в Москву и уже оттуда в свой Донецк, то это как минимум на ночь, а после ухода Витька Женя ни с кем не ночевал. Но, оказалось, Макс и не думал проситься на ночлег. Из Арзамаса он приехал утренней электричкой и собирался вечерней “Ласточкой” в Москву. Щупленький, с волосами до плеч, он появляется в Жениной прихожей с неизменным чумаданом, только не таким пригламуренным, как у Витька. Ему около сорока, но если что и выдаёт возраст, так это довольно глубокие морщины вокруг глаз. Тело у него почти мальчиковое и, трахая его, Женя почему-то продолжает выуживать из памяти свои диалоги с Витьком:
“Ну любишь ты трахаться с мужиками - трахайся, но нахер это напоказ выставлять?”
“А нахер всю жизнь прятаться?”
“Ты прячешься, что ли?”
“Может, я хочу надеть юбку и туфли на каблуках и пройтись по Покровке? И чтобы на меня при этом не смотрели как на уёбище!”
“По-моему, это уже патология!”
“Патология - это дрочить на фронтовое фото деда!”
Потом Женя вдруг представляет Макса в юбке и на каблуках, и ему становится не по себе. Поскорее кончив, он бежит в душ и, стоя под горячими струями, припоминает то сладостное и страшное ощущение стыда, вызванное однажды в юности фотографией деда. Если бы об этом только узнала мать, если бы об этом узнала бабка! Но стыд как бы говорил ему: “Я с тобой, и я тебя не предам, если ты меня не предашь! Я никому не скажу, какой ты отвратительный мальчик, позволяющий себе это кощунство! Ведь ты не виноват, если таким родился …” И, слушая свой стыд, Женя продолжал наслаждаться собой, ещё больше заводясь от того, что произошёл (хоть и через поколение) от такого красавца и воина, несущего в себе настоящую мужскую породу.
Из Жениной кухни-гостиной видна Волга. В феврале дни уже не такие короткие и тусклые, яркая синь за окном напоминает о приближении очередной весны, хотя река ещё подо льдом, и по утрам на белое полотно выходят рыбаки.
От коньяка Макс отказывается:
- Крепкое не пью…
- Красное полусладкое, - немного извиняющимся тоном говорит Жена, - Сухое не пью я, извиняй!
Они сначала молчат, потом Макс начинает рассказывать, что его двоюродный дед - там, в Донбассе, раньше делал отличное домашнее вино, только давно это было.
- Жив дед? - спрашивает Женя, смелея.
- Неа, - машет рукой Макс, - Умер незадолго до войны, в тринадцатом. И слава богу.
- А ты в Авдеевке был? - окончательно смелеет Женя.
- Конечно! - усмехается Макс, - У меня там любовник жил.
- Хороший был город?
- Тихий, провинциальный.
- А с любовником… что? - Женя удивляется собственной наглости.
- Не знаю, потерялись давно.
- Давай, за ваше освобождение! - говорит Женя, и они чокаются едва слышно, - Авдеевку освободили - освободим и всё остальное!
Макс рассказывает о том, что в Донецке есть река Кальмиус, в центре она перегорожена плотинами, поэтому тоже широкая, хоть, конечно, и не такая, как Волга. Но там можно ловить рыбу на набережной - и летом, и зимой, можно прыгать в воду с причала, а раньше устраивали регаты на парусниках, как где-нибудь на море. А ещё по берегу проходит детская железная дорога… А Женя ни с того ни с сего вдруг рассказывает про Витька, про его метания по клетке, в которую сам себя посадил, про его жёлтый рюкзак, про жовто-блакитные флаги в Фейсбуке, про то, с каким упоением он говорил о том, что в Киеве уже разрешают проводить гей-парады.
- Тебе никогда не хотелось в Киев? - в конец раскочегаривается Женя.
- Хотелось, - усмехается Макс, - Но потом перехотелось, как война началась. Почему я должен из своей страны уезжать?
- Ну, тут же застенки, а там - гей-парады! - хохочет Женя немного быдловато.
- Лучше я буду в застенках, но говорить на своём языке, - оставляет бокал Макс, произнося “х” вместо “г”.
“Лучше я буду мыть полы в Берлине, чем пойду по этапу или встану под автомат,” - когда-то говорил Витёк.
- А под автомат встал бы? - спокойно спрашивает Женя.
- Вставал, в четырнадцатом, - вздыхает Макс, - Но вообще, я пацифист.





7 комментариев