Александр Хоц
Под песком
 Всегда ли нужно себя понимать? Или можно позволить себе совершать необъяснимые поступки, если телу по каким-то причинам этого хочется?
Всегда ли нужно себя понимать? Или можно позволить себе совершать необъяснимые поступки, если телу по каким-то причинам этого хочется?Сон разума не всегда рождает чудовищ, но я помню в прошлом несколько поступков, которые сейчас не могу объяснить рационально…
Мне, наверное, лет 17-18, мы отдыхаем в Велегоже на Оке, куда любим ездить летом и где целый островок- это чудесный пляж. Я только что познакомился с мальчиком, сыном маминой коллеги, вдумчивым очкариком с вьющимися волосами и обаятельной улыбкой. На пляже я любуюсь его загорелой фигурой, дорожкой волос, ускользающей в плавки, узкой талией и сильными ногами. Мы гуляем по хвойному лесу, говорим о чём-то философском и я стараюсь в меру сил обаять его воображаемым интеллектом.
Каким-то удивительным образом я ещё не знаю, что я гей (как и самого слова, разумеется), но уже не сомневаюсь, что влюбляюсь именно в парней, и мечты об “alter ego” – это главный и таинственный сюжет, если я думаю о счастье. У меня нет брата, но я ищу его (себя) в других парнях, подсознательно отсеивая тех, кто “не я” и сладко замирая от возможного сходства (“неужели это он”?). В этом идеальном мире его тело является моим, а прикосновение к нему равно прикосновению к себе.
Иллюзии интереса друг к другу помогает гиперсексуальность и гормональный хаос в нас обоих: он, конечно, девственник, и в наших отношениях много ранней чувственности, которую ещё не приходится делить между девушкой и другом. Прощаясь, мы задерживаем ладони в рукопожатии и мне хочется продлить этот миг до бесконечности, – он кажется мне смыслом наших отношений (не разговор, а именно касание в конце).
Его отец (высокий, лысый тип, довольно неприятный, из советских управленцев средней руки) застав однажды нас в прихожей в минуту “долгих проводов”, язвительно острит: “Вы тут целуетесь что ли?” Я фыркаю и гневно скатываюсь с лестницы. “Идиот, пошляк, как он мог подумать?” – думаю я, ещё не понимая природу собственного гнева, почему меня так ранит эта шутка.
Хочу ли я его поцеловать? – я искренне не знаю. Мне хочется сидеть с ним на диване, прижавшись горячим плечом, хочется болтать о чём-нибудь интимном, любоваться пластикой его мужских повадок, но откровенный сексуальный интерес спрятан в подсознании. Я не мастурбирую, думая о нём, потому что это “унижает наши отношения” и вредит “духовной близости”.
Как-то раз его мать приглашает меня в ванную, где он стоит под душем (“Саня в душе, хочешь заглянуть?”), я в смятении отнекиваюсь и быстро ухожу. Как я понимаю, умные родители кидали эти “тесты” на криминальность нашей связи, но я их проходил, потому что был порядочным советским пареньком, и даже комсомольцем, который “ничего такого” не хотел.
Впрочем, это не имеет отношения к тому, с чего я начал. Песчаный островок постепенно расширялся, – речная драга намывала целые поляны мокрого песка. Как-то я залюбовался этим зрелищем, подходя всё ближе. Никакого ограждения там не полагалось. Это было утром. Безлюдный пляж перетекал в сырую зону, – тёмный корпус баржи тарахтел какой-то внутренней механикой. И я, как зачарованный, шёл прямо на него.
До баржи оставалось метров триста. Каждый шаг образовывал тёмное пятно вокруг ступни, песок упруго проседал, а в следах всплывала мутная вода. Метров десять я прошёл по зыбкому песку с ощущением нарушенной границы : “а если ещё дальше?”
Мысль о том, что можно ухнуть в эту хлябь и никто меня не вытащит, мерцала в подсознании, но телу, видимо, хотелось острых ощущений. Я любил Конан-Дойля, но судьба несчастной лошади, медленно тонувшей в гринписской трясине, ничему меня не научила.
Я вздрогнул только в тот момент, когда песок поплыл и разошёлся под ступнёй, а нога потеряла твёрдую опору. Дернувшись всем телом, я в панике помчался назад. Страх накрыл меня позже, когда я оглянулся и увидел, как близко я подошёл к работающей драге. Она всё так же тарахтела, шлёпала и булькала, пуская серый дым. Ещё пара метров и это последнее, что я бы увидел в жизни. “Ушёл и не вернулся”.. “Под песком” Озона.. – что-то в этом роде. Альтернативная судьба, вариант короткой жизни, смерть “по глупости”. Возможно, тяга к саморазрушению заложена в природе, да и сама жизнь – история саморазрушений (“от жизни умирают”).
Враждебность друга юности, ставшего банальным патриотом, или той страны, которой я когда-то дорожил, – это тоже форма саморазрушения. Такое впечатление, что всё ушло в песок, куда-то провалилось, вместе с жизнью. Целая страна ушла под воду, вместе с судьбами и прошлым. Какая разница когда – раньше или позже.
В начале “Одинокого мужчины” я вижу этот образ: погружение на дно, медленный, отложенный финал (кем и зачем – непонятно).


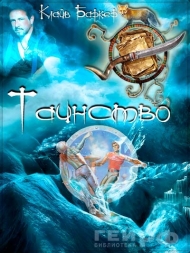
1 комментарий