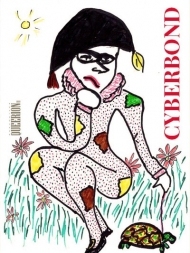Марк Эльберг
Случайность
26-12-2024, 07:31
Аннотация
Студенты Петербургской консерватории славятся своей отбитостью и полнейшей непредсказуемостью, и неспроста. "Случайность" предлагает читателю возможность окунуться в типичный новогодний балаган консерваторского общежитися и познакомиться с людьми, что скрываются под суровыми масками академических музыкантов. Но самая загадочная личность из них — Слава, последний романтик и авангардист, кто умеет играть на рояле в наручниках, писать стихи на черных манжетах и читать их с заклеенным ртом.
Студенты Петербургской консерватории славятся своей отбитостью и полнейшей непредсказуемостью, и неспроста. "Случайность" предлагает читателю возможность окунуться в типичный новогодний балаган консерваторского общежитися и познакомиться с людьми, что скрываются под суровыми масками академических музыкантов. Но самая загадочная личность из них — Слава, последний романтик и авангардист, кто умеет играть на рояле в наручниках, писать стихи на черных манжетах и читать их с заклеенным ртом.
 Глава 0. Памятка читателю
Глава 0. Памятка читателю
Внимание!Данное произведение не является объектом культурного наследия, поскольку не имеет ни малейшей художественной ценности, впрочем, оно может быть полезно в бесцельной растрате бесценного времени чьей-то жизни, а также допускается к использованию во время длительных авиаперелетов и очередей в госинстанциях, когда все шедевры бульварного чтива уже освоены.
Книга не рекомендуется к прочтению:
• лицам младше 18 лет;
• натурам, романтизирующим богемный образ жизни;
• лицам, страдающим ксенофобией, в том числе гомофобией, сексизмом, расизмом, эйджизмом, лукизмом, эйблизмом, религиозным или политическим фанатизмом и т. д.
В следствие определенного психиатрического диагноза автор не несет ответственности за оскорбление моральных устоев, нравственных идеалов и духовных ценностей читателей.
Автор категорически отказывается приносить извинения за некоторое наличие обсценной лексики, заявляя, что большая часть описанных историй основана на реальных событиях, а диалоги приведены практически в неизменном виде, следовательно, осквернять подлинный язык своего народа эвфемизмами было бы неуважительным лицемерием.
Повесть выстроена по алгоритмическому принципу, а потому читать ее линейно, страница за страницей, не рекомендуется. В конце глав читателю предоставляется выбор, в зависимости от которого осуществляется переход к новой главе. Данная онлайн-версия книги является экспериментальной: здесь в целях сохранения структуры произведения и для удобства читателей все главы будут спрятаны в "спойлеры". В тех же целях облегчения навигации поместим оглавление прямо здесь.
Оглавление
Глава 1. Похмелье (=> Глава 2 / Глава 2а)
Глава 2. Вероятная случайность (=> Глава 3 / Глава 3а)
Глава 2а. Рандомная случайность (=> Глава 3 / Глава 3а)
Глава 3. Немного об олбанской поезии (=> Глава 4 / Глава 4а)
Глава 3а. Томатный суп имени Энди Уорхола (=> Глава 4 / Глава 4а)
Глава 4. Предпраздничный ужин (=> Глава 5)
Глава 4а. Невероятная случайность (=> Глава 4b / Глава 4c)
Глава 4b. Хомячьи бега (=> Глава 5а)
Глава 4с. Преступление (=> Глава 5b)
Глава 5. Дела житейские (=> Глава 6 / Глава 6а)
Глава 5a. Наказание (=> Глава 6b / Глава 6c)
Глава 5b. Симулякры (=> Глава 6d / Глава 6e)
Глава 6. «Бесы» (=> Глава 7 / Глава 7а)
Глава 6a. «Сарай» (=> Глава 7b / Глава 7c)
Глава 6b. Девушка в красном и девушка в синем (=> Глава 7d / Глава 7e)
Глава 6c. Спонтанность (=> Глава 7f)
Глава 6d. И снова спонтанность (=> Глава 7g)
Глава 6e. Черная лестница (=> Глава 7h / Глава 7i)
Глава 7. Поездка на море
Глава 7а. Привет Кейджу
Глава 7b. Искусство и красота в современной эстетике
Глава 7с. Время жить и время паковать чемоданы
Глава 7d. Закон падлости
Глава 7е. Неизгладимый след в истории
Глава 7f. Память
Глава 7g. Приключение
Глава 7h. Эффект шланга
Глава 7i. Когда никто не ждет
Глава 1. Похмелье
Шестнадцатиэтажное здание консерваторского общежития расположено, в отличие от самой консерватории, отнюдь не на Театральной площади, а на далеком юго-западном отшибе города, почти на берегу Финского залива. Замечательная жилищная система, разработанная архитекторами 70-х годов прошлого столетия, предполагает, что комнаты кучкуются группами: блок представляет собой миниатюрную прихожую, ванную, уборную и несколько комнат, двушку и трешку или однушку, двушку и трешку. В трешках живут студенты младших курсов, в двушках — старшекурсники, а в однушках — счастливые аспиранты. На каждом этаже расположено десять блоков, две кухни и один репетиторий — большая пустая комната с роялем-инвалидом, где музыканты могут практиковаться в боевом искусстве разбивания пальцами инструментов, не раздражая окружающих. На первом этаже располагается администрация и прочие блюстители беспорядка, а так же имеется загадочная комната под названием «изолятор», куда изредка отправляют болеть самых хитрых студентов, которые, подхватив грипп, используют свой недуг, чтобы отдохнуть от бесконечного балагана. Именно этот дом призрения, скорби и надежд станет основной зоной бедствия последующего повествования, хотя и в другие замечательные места Города-на-Неве мы тоже заглянем.
Итак, свалив с тумбочки истошно звонящий телефон и очки, Слава, чертыхаясь, выползает из-под одеяла, попутно скидывая с себя недовольного белого кота Дракулу. И какая муха укусила Германа, заставив поставить зачет на 31 число? Дал бы людям спокойно нажраться и проспать до самого нового года, так нет же... Пошатываясь с похмелья, Слава выходит в блок и извлекает рассол из почти пустого холодильника, в котором обитает компьютерная мышь, повешенная, судя по шариковому пузику, еще в конце 90-х, затем закуривает сигарету прямо в комнате, благо, в аспирантской однушке никто на мозги не капает. Собираясь с мыслями, Слава находит на полу одинокую китайскую палочку, возведенную графом Дракулой в ранг своих игрушек, и с ее помощью собирает волосы в лохматый пучок, потом сгребает грязную посуду в угол, вытирает стол, водружает на него ноут, библиотечную книжку и нарезает пару тетрадных листов для шпор. Но нельзя же прямо с утра встать и сразу же сесть готовиться к зачету? Это просто героизм какой-то, причем никому не нужный. А героям, даже таким бесславым, как Слава, непременно полагается кофе. Поэтому, засыпав в турку три ложки дешевого, но все-таки молотого, а не растворимого, кофе, Слава включает кипятильник и снова закуривает, попутно осознавая, что дао куда лучше постструктурализма. Можно просто сидеть и наблюдать за медленно закипающим кофе, а не размышлять о собственном безумии.
В конце концов, осилив первый билет, Слава испытывает даже некое подобие энтузиазма перейти ко второму, но тут выясняется, что сигареты кончились. Решается такая проблема, как правило, двумя способами:
а) пойти в курилку => Глава 2. Вероятная случайность
б) постучаться к кому-нибудь из соседей => Глава 2а. Рандомная случайность
Итак, свалив с тумбочки истошно звонящий телефон и очки, Слава, чертыхаясь, выползает из-под одеяла, попутно скидывая с себя недовольного белого кота Дракулу. И какая муха укусила Германа, заставив поставить зачет на 31 число? Дал бы людям спокойно нажраться и проспать до самого нового года, так нет же... Пошатываясь с похмелья, Слава выходит в блок и извлекает рассол из почти пустого холодильника, в котором обитает компьютерная мышь, повешенная, судя по шариковому пузику, еще в конце 90-х, затем закуривает сигарету прямо в комнате, благо, в аспирантской однушке никто на мозги не капает. Собираясь с мыслями, Слава находит на полу одинокую китайскую палочку, возведенную графом Дракулой в ранг своих игрушек, и с ее помощью собирает волосы в лохматый пучок, потом сгребает грязную посуду в угол, вытирает стол, водружает на него ноут, библиотечную книжку и нарезает пару тетрадных листов для шпор. Но нельзя же прямо с утра встать и сразу же сесть готовиться к зачету? Это просто героизм какой-то, причем никому не нужный. А героям, даже таким бесславым, как Слава, непременно полагается кофе. Поэтому, засыпав в турку три ложки дешевого, но все-таки молотого, а не растворимого, кофе, Слава включает кипятильник и снова закуривает, попутно осознавая, что дао куда лучше постструктурализма. Можно просто сидеть и наблюдать за медленно закипающим кофе, а не размышлять о собственном безумии.
В конце концов, осилив первый билет, Слава испытывает даже некое подобие энтузиазма перейти ко второму, но тут выясняется, что сигареты кончились. Решается такая проблема, как правило, двумя способами:
а) пойти в курилку => Глава 2. Вероятная случайность
б) постучаться к кому-нибудь из соседей => Глава 2а. Рандомная случайность
Глава 2. Вероятная случайность
Захватив кружку с остатками кофе, Слава отправляется в курилку, поскольку вероятность того, что там есть кто-нибудь с сигаретами, весьма велика. И действительно, в курилке стоит контрабасист Вадик, который охотно делится сигаретой, а поскольку ему завтра философия не грозит, то он философствует по-своему, ни на каких Фуков и Деридов не взирая.
— Вот смотри, это, вроде как, случайность, что мы сейчас тут встретились. Но не совсем случайность. Ведь мы никотинозависимые, и к тому же живем в одном блоке, а еще у нас сегодня выходной, а значит, вероятность случайности увеличивается. То есть это не рандомная случайность, а вероятная случайность. А рандомную случайность никак нельзя предвидеть. Вот, например, вероятность того, что сейчас в курилку зайдет Пашка в костюме единорога минимальна. А если это произойдет, то для нас это будет рандомной случайностью, потому что такого мы не ожидаем, но в теории оно может и случиться. А для него это вовсе не будет случайностью. Он намеренно купит и наденет этот дурацкий костюм, чтобы этим вот своим видом что-то всем окружающим сказать. Но встретить здесь нас для него будет вероятной случайностью, так как наше появление в курилке весьма вероятно, хоть и случайно, потому что мы не ходим курить по расписанию, а вот если бы мы это делали по графику, то это вовсе не была бы случайность. Позже все эти случайности в нашей жизни мы будем расценивать, как случаи, то есть уже по факту свершившиеся случайности, приведшие нас к той или иной точке будущего. Но случайны ли случайности вообще?..
И по той же вероятной случайности у Вадика тоже заканчиваются сигареты, что вынуждает товарищей по несчастью отправиться в магазин, точнее, на ближайшую заправку.
— У вас какой бензин? — спрашивает сонная продавщица.
— Тот, которым воскрешают котов-бегемотов, — шутит Слава, но шутка остается без внимания. — Мы не за бензином. Мы за сигаретами. Винстон есть?
— Нет, — мрачно отвечает сонная продавщица.
а) — Ладно, пусть будет Честерфилд, — соглашается Слава. => Глава 3. Немного об олбанской поезии
б) — А жаль, — вздыхает Слава. => Глава 3а. Томатный суп имени Энди Уорхола
— Вот смотри, это, вроде как, случайность, что мы сейчас тут встретились. Но не совсем случайность. Ведь мы никотинозависимые, и к тому же живем в одном блоке, а еще у нас сегодня выходной, а значит, вероятность случайности увеличивается. То есть это не рандомная случайность, а вероятная случайность. А рандомную случайность никак нельзя предвидеть. Вот, например, вероятность того, что сейчас в курилку зайдет Пашка в костюме единорога минимальна. А если это произойдет, то для нас это будет рандомной случайностью, потому что такого мы не ожидаем, но в теории оно может и случиться. А для него это вовсе не будет случайностью. Он намеренно купит и наденет этот дурацкий костюм, чтобы этим вот своим видом что-то всем окружающим сказать. Но встретить здесь нас для него будет вероятной случайностью, так как наше появление в курилке весьма вероятно, хоть и случайно, потому что мы не ходим курить по расписанию, а вот если бы мы это делали по графику, то это вовсе не была бы случайность. Позже все эти случайности в нашей жизни мы будем расценивать, как случаи, то есть уже по факту свершившиеся случайности, приведшие нас к той или иной точке будущего. Но случайны ли случайности вообще?..
И по той же вероятной случайности у Вадика тоже заканчиваются сигареты, что вынуждает товарищей по несчастью отправиться в магазин, точнее, на ближайшую заправку.
— У вас какой бензин? — спрашивает сонная продавщица.
— Тот, которым воскрешают котов-бегемотов, — шутит Слава, но шутка остается без внимания. — Мы не за бензином. Мы за сигаретами. Винстон есть?
— Нет, — мрачно отвечает сонная продавщица.
а) — Ладно, пусть будет Честерфилд, — соглашается Слава. => Глава 3. Немного об олбанской поезии
б) — А жаль, — вздыхает Слава. => Глава 3а. Томатный суп имени Энди Уорхола
Глава 2а. Рандомная случайность
Постучав в двушку, но не дождавшись ответа, Слава выходит в коридор и отправляется в соседний блок к скрипачке Насте, у которой наверняка можно чего-нибудь стрельнуть.
— Настя, есть сигаре... — не оканчивает фразу Слава, открывая дверь, поскольку обнаруживает обнаженную мужскую натуру, картинно возлежащую на кровати в комнате девушек.
— Привет, я Саша, парень Саши,— непринужденно приветствует натура незваного гостя и лениво прикрывает наготу одеялом на манер античных аполлонов.
— А где Настя? — оторопело спрашивает Слава.
— Настя ушла ночевать куда-то на одиннадцатый этаж. Тебе сигарета нужна?
— Ага...
— Возьми на столе, — театрально машет рукой Саша в строну окна.
Слава идет в указанном направлении и, добыв сигарету, спешно благодарит нового знакомого и покидает блок.
— Заходи, если что, — кидает Саша вслед.
Вернувшись в свою комнату и покурив, Слава осиливает еще один билет, после чего все-таки решает спуститься в магазин, точнее, на ближайшую заправку, и обзавестись собственными сигаретами во избежание. В коридоре блока обнаруживается контрабасист Вадик, покидающий домашний очаг по тем же скорбным причинам.
— Вот смотри, это, вроде как, случайность, что мы сейчас тут встретились, — рассуждает Вадик по дороге. — Но не совсем случайность. Ведь мы никотинозависимые, и к тому же живем в одном блоке, а еще у нас сегодня выходной, а значит, вероятность случайности увеличивается. То есть это не рандомная случайность, а вероятная случайность. А рандомную случайность никак нельзя предвидеть. Например, вероятность того, что сейчас мы встретим Пашку в костюме единорога, минимальна. А если это произойдет, то для нас это будет рандомной случайностью, потому что такого мы не ожидаем, но в теории оно может и случиться. Собственно, встретить Сашу вместо Саши тоже было рандомной случайностью. Для тебя. И для него тоже, поскольку он не подумал о том, что кто-нибудь ворвется в их райский уголок в поисках сигарет.
— У вас какой бензин? — спрашивает сонная продавщица.
— Тот, которым воскрешают котов-бегемотов, — шутит Слава, но шутка остается без должного внимания. — У нас и машины-то нет. Мы за сигаретами. Винстон есть?
— Нет, — мрачно отвечает сонная продавщица.
а) — Ладно, пусть будет Честерфилд, — соглашается Слава. => Глава 3. Немного об олбанской поезии
б) — А жаль, — вздыхает Слава. => Глава 3а. Томатный суп имени Энди Уорхола
— Настя, есть сигаре... — не оканчивает фразу Слава, открывая дверь, поскольку обнаруживает обнаженную мужскую натуру, картинно возлежащую на кровати в комнате девушек.
— Привет, я Саша, парень Саши,— непринужденно приветствует натура незваного гостя и лениво прикрывает наготу одеялом на манер античных аполлонов.
— А где Настя? — оторопело спрашивает Слава.
— Настя ушла ночевать куда-то на одиннадцатый этаж. Тебе сигарета нужна?
— Ага...
— Возьми на столе, — театрально машет рукой Саша в строну окна.
Слава идет в указанном направлении и, добыв сигарету, спешно благодарит нового знакомого и покидает блок.
— Заходи, если что, — кидает Саша вслед.
Вернувшись в свою комнату и покурив, Слава осиливает еще один билет, после чего все-таки решает спуститься в магазин, точнее, на ближайшую заправку, и обзавестись собственными сигаретами во избежание. В коридоре блока обнаруживается контрабасист Вадик, покидающий домашний очаг по тем же скорбным причинам.
— Вот смотри, это, вроде как, случайность, что мы сейчас тут встретились, — рассуждает Вадик по дороге. — Но не совсем случайность. Ведь мы никотинозависимые, и к тому же живем в одном блоке, а еще у нас сегодня выходной, а значит, вероятность случайности увеличивается. То есть это не рандомная случайность, а вероятная случайность. А рандомную случайность никак нельзя предвидеть. Например, вероятность того, что сейчас мы встретим Пашку в костюме единорога, минимальна. А если это произойдет, то для нас это будет рандомной случайностью, потому что такого мы не ожидаем, но в теории оно может и случиться. Собственно, встретить Сашу вместо Саши тоже было рандомной случайностью. Для тебя. И для него тоже, поскольку он не подумал о том, что кто-нибудь ворвется в их райский уголок в поисках сигарет.
— У вас какой бензин? — спрашивает сонная продавщица.
— Тот, которым воскрешают котов-бегемотов, — шутит Слава, но шутка остается без должного внимания. — У нас и машины-то нет. Мы за сигаретами. Винстон есть?
— Нет, — мрачно отвечает сонная продавщица.
а) — Ладно, пусть будет Честерфилд, — соглашается Слава. => Глава 3. Немного об олбанской поезии
б) — А жаль, — вздыхает Слава. => Глава 3а. Томатный суп имени Энди Уорхола
Глава 3. Немного об олбанской поезии
— Ладно, пусть будет «Честерфилд», — соглашается Слава.
— Синий?
— Синий. И шоколадку для работы мозга. С орехами.
Вадик, которому мозг сегодня не нужен, берет к сигаретам чипсы и пиво. Слава только горестно вздыхает вслед уходящей перспективе забить на все и предаться блаженному ничегонеделанию в компании Вадика, пива и глупых сериалов. А потому, дабы не впасть во искушение, Слава наскоро прощается с лукавым и снова отправляется штурмовать философию. Но уже через три билета приходит осознание, что духовная пища никак не спасает от физиологического голода, и даже более того, усугубляет его. Живот принимается исполнять знаменитый «Голос кита» Джорджа Крама, но снова выходить из общаги нет никакого желания. Выглянув из блока, Слава замечает Машку, шествующую по коридору с кастрюлей чего-то горячего и ароматно пахнущего.
— Подай, хозяйка, хлеба корку!
Ведь жизнь поэта голодна!
Мне горько жить, Маруся, горько...
Так принеси ж скорей вина... — жалобно декламирует Слава.
— Вот так всегда, только плов приготовишь — сразу поэты материализуются, — ворчит Машка. — Где тебя раньше носило-то?
— И носило меня, как осенний листок,
От Парижа до Белого моря,
Я страдал от тоски, я промок до носок,
Но вернулся к тебе, Терпсихора... — уплетается Слава за Машкой.
— До носков, — поправляет та. — Тоже мне русский поэт.
— Че это русский? — пожимает плечами Слава. — Всем известно, что мой родной язык — олбанский. Аффтар жжот. Гыгы. Лол. Адынадынадын.
— Убейся апстену, — отвечает Машка. — И вообще, чего ты опять с утра стихами разговариваешь? Похмелье что ли?
В ответ Слава начинает импровизацию на йезыге падонкафф:
— О, это аццкое похмелье,
О, этот ужос и ацтой.
Налей мне, Машко, кружку зелья!
Йа выпью йаду!
— Дверь открой, — присоединяется к экспромту Машка.
Слава покорно пропускает кастрюлю с Машкой в блок и следует за ними.
В отличие от других студентов, Машка готовить умеет и любит, а еще, подобно Юлию Цезарю, умудряется совмещать этот долгий и весьма мучительный процесс с не менее мучительной для окружающих игрой на тромбоне, хотя, Цезарь до такого не додумывался, но, вероятно, только по причине того, что в его времена тромбон еще успели изобрести. А Машка любит рушить стереотипы. Много ль девушек играет на меди, тем более, на тяжелой? А Машка играет. И вообще, никакая она не Машка, то есть не Мария, а Марджания, и вообще татарка, только не все об этом догадываются, любуясь ее пшеничными косами и голубыми глазами. Плов Машка заправляет соевым соусом и байками про оркестр. А философию, тем более аспирантского уровня, Машка не любит. Не факт, что она вообще буквы читать умеет, главное — в ноты попадать.
— Прикинь, что Анька учудила, — смеется Машка. — Короче, где-то неделю назад звонит ей ночью, около часу, Лешка Савельев, тубист, грит «люблю, трамвай куплю, мы тут с другом около вашей общаги, да так голодно, что переночевать негде». Ну, делать нечего. Она пошла, взяла пару пропусков на мужские имена, положила их в пакет, а чтобы ветром не унесло, утяжелила пакет гантелей. Выходим на балкон — стоят родненькие, качаются как тростник в японском саду. Она им кричит: «Пакет не ловите!» Они: «Ловим! Ловим!» Анька: «Да не ловите!» Они: «Ловим! Ловим!» Короче, кинула Анька пакет, благо руки у чуваков дырявые, так что пакет упал в сугроб. Откопали они его, удивились, проматерились, зашли в общагу. Мы им приказали заткнуться, Анька стянула второй матрас с кровати, уложила лешкиного друга на пол, а Лешку к себе. Утром надо было на оркестр. Эти двое спят себе без задних ног, только пузыри пускают. Ну, мы с Анькой решили их не будить и убежали Чайковского играть. А в десять Ирка проснулась и офигела: вроде, засыпала в комнате с двумя девушками, а проснулась с двумя парнями. Давай Аньке звонить. Анька, естественно, телефон не слышит: ей Дрозд в ухо барабанит. Я тоже ничего не слышу, я в тромбон дудю. Короче, на перекуре мы обнаружили по десять пропущенных от Ирки. Анька перезванивает. Ирка чуть не в истерике: «И что мне с этими мужиками делать?» А Анька ей: «Что-что? Разбудить и нахуй послать». Ну, нахуй, вероятно, она их все-таки не послала, потому что никто претензий не предъявлял, а может, и послала, так как больше от Лешки с его товарищем никаких известий не было. Кстати, хотела спросить. Как ты думаешь, я Роялю нравлюсь?
— Нравишься, — отвечает Слава. — Слушай, вы оба меня уже достали. Идите уже потрахайтесь и перестаньте исполнять Брехта на моих мозгах.
— Какого Брехта?
— Джорджа. Дриппинг. Есть у него такое произведение. Состоит из одного слова. Дриппинг. Капание. Короче, надо капать. Чем капать, куда капать и как долго капать — по усмотрению исполнителя. А вы капаете мне на мозги со своей любовью. Достали уже.
— Ну, Слав, честно. Ты же лучше его знаешь... Я не хочу, чтобы как всегда: поебались и разбежались. Почему меня никогда не ценят, как личность? Я же вам не вокалистка! У меня есть мозг!
— И сиськи, — оканчивает спонтанно сложившийся стих Слава и получает подзатыльник.
— Достань елку с антресоли, — резко переключается Машка.
— Вот иди и Рояля попроси.
— Ага! Щаз. Он же Рояль. Сначала стул сломает, а потом антресоль уронит. Нафиг надо. Слав, ну достань, пожалуйста.
— Ах, когда же, когда же меня перестанут использовать как стремянку? — причитает Слава.
— Любишь халявный плов — люби и елку наряжать.
— Не, достать достану, а наряжай сама. Мне надо философию учить, да и вообще, не люблю я все эти новогодние праздники, пьяных этников с народниками...
— Ой, тоже мне. Проще надо быть, Слава, проще. Жизни иногда радоваться, а то сидишь в комнате, как Бродский.
— Джованни.
— Кто?
— Джованни. «Комната Джованни» — роман Джеймса Болдуина. Тоже об одном затворнике.
Джованни, выйди из комнаты,
Иди, соверши ошибку.
Не набил ли тебе оскомину
Надтреснутый голос скрипки? — снова переходит на стихотворную форму Слава, доставая елку с антресоли.
Вернувшись к себе и осилив под кофе пару билетов, Слава понимает, что больше никакие Делёзы в голову не полезут, и вырубается. А врубается через несколько часов от громкого стука в дверь.
— Ты дрыхнешь, что ли? — удивляется Рояль заспанной роже Славы. — Давай поднимайся. Тихий час в младшей группе окончен. Пора пиво пить.
а) — Не, мне завтра философию сдавать, — стонет Слава. => Глава 4. Предпраздничный ужин
б) — Пиво, говоришь? — расплывается в улыбке Слава. => Глава 4а. Невероятная случайность
— Синий?
— Синий. И шоколадку для работы мозга. С орехами.
Вадик, которому мозг сегодня не нужен, берет к сигаретам чипсы и пиво. Слава только горестно вздыхает вслед уходящей перспективе забить на все и предаться блаженному ничегонеделанию в компании Вадика, пива и глупых сериалов. А потому, дабы не впасть во искушение, Слава наскоро прощается с лукавым и снова отправляется штурмовать философию. Но уже через три билета приходит осознание, что духовная пища никак не спасает от физиологического голода, и даже более того, усугубляет его. Живот принимается исполнять знаменитый «Голос кита» Джорджа Крама, но снова выходить из общаги нет никакого желания. Выглянув из блока, Слава замечает Машку, шествующую по коридору с кастрюлей чего-то горячего и ароматно пахнущего.
— Подай, хозяйка, хлеба корку!
Ведь жизнь поэта голодна!
Мне горько жить, Маруся, горько...
Так принеси ж скорей вина... — жалобно декламирует Слава.
— Вот так всегда, только плов приготовишь — сразу поэты материализуются, — ворчит Машка. — Где тебя раньше носило-то?
— И носило меня, как осенний листок,
От Парижа до Белого моря,
Я страдал от тоски, я промок до носок,
Но вернулся к тебе, Терпсихора... — уплетается Слава за Машкой.
— До носков, — поправляет та. — Тоже мне русский поэт.
— Че это русский? — пожимает плечами Слава. — Всем известно, что мой родной язык — олбанский. Аффтар жжот. Гыгы. Лол. Адынадынадын.
— Убейся апстену, — отвечает Машка. — И вообще, чего ты опять с утра стихами разговариваешь? Похмелье что ли?
В ответ Слава начинает импровизацию на йезыге падонкафф:
— О, это аццкое похмелье,
О, этот ужос и ацтой.
Налей мне, Машко, кружку зелья!
Йа выпью йаду!
— Дверь открой, — присоединяется к экспромту Машка.
Слава покорно пропускает кастрюлю с Машкой в блок и следует за ними.
В отличие от других студентов, Машка готовить умеет и любит, а еще, подобно Юлию Цезарю, умудряется совмещать этот долгий и весьма мучительный процесс с не менее мучительной для окружающих игрой на тромбоне, хотя, Цезарь до такого не додумывался, но, вероятно, только по причине того, что в его времена тромбон еще успели изобрести. А Машка любит рушить стереотипы. Много ль девушек играет на меди, тем более, на тяжелой? А Машка играет. И вообще, никакая она не Машка, то есть не Мария, а Марджания, и вообще татарка, только не все об этом догадываются, любуясь ее пшеничными косами и голубыми глазами. Плов Машка заправляет соевым соусом и байками про оркестр. А философию, тем более аспирантского уровня, Машка не любит. Не факт, что она вообще буквы читать умеет, главное — в ноты попадать.
— Прикинь, что Анька учудила, — смеется Машка. — Короче, где-то неделю назад звонит ей ночью, около часу, Лешка Савельев, тубист, грит «люблю, трамвай куплю, мы тут с другом около вашей общаги, да так голодно, что переночевать негде». Ну, делать нечего. Она пошла, взяла пару пропусков на мужские имена, положила их в пакет, а чтобы ветром не унесло, утяжелила пакет гантелей. Выходим на балкон — стоят родненькие, качаются как тростник в японском саду. Она им кричит: «Пакет не ловите!» Они: «Ловим! Ловим!» Анька: «Да не ловите!» Они: «Ловим! Ловим!» Короче, кинула Анька пакет, благо руки у чуваков дырявые, так что пакет упал в сугроб. Откопали они его, удивились, проматерились, зашли в общагу. Мы им приказали заткнуться, Анька стянула второй матрас с кровати, уложила лешкиного друга на пол, а Лешку к себе. Утром надо было на оркестр. Эти двое спят себе без задних ног, только пузыри пускают. Ну, мы с Анькой решили их не будить и убежали Чайковского играть. А в десять Ирка проснулась и офигела: вроде, засыпала в комнате с двумя девушками, а проснулась с двумя парнями. Давай Аньке звонить. Анька, естественно, телефон не слышит: ей Дрозд в ухо барабанит. Я тоже ничего не слышу, я в тромбон дудю. Короче, на перекуре мы обнаружили по десять пропущенных от Ирки. Анька перезванивает. Ирка чуть не в истерике: «И что мне с этими мужиками делать?» А Анька ей: «Что-что? Разбудить и нахуй послать». Ну, нахуй, вероятно, она их все-таки не послала, потому что никто претензий не предъявлял, а может, и послала, так как больше от Лешки с его товарищем никаких известий не было. Кстати, хотела спросить. Как ты думаешь, я Роялю нравлюсь?
— Нравишься, — отвечает Слава. — Слушай, вы оба меня уже достали. Идите уже потрахайтесь и перестаньте исполнять Брехта на моих мозгах.
— Какого Брехта?
— Джорджа. Дриппинг. Есть у него такое произведение. Состоит из одного слова. Дриппинг. Капание. Короче, надо капать. Чем капать, куда капать и как долго капать — по усмотрению исполнителя. А вы капаете мне на мозги со своей любовью. Достали уже.
— Ну, Слав, честно. Ты же лучше его знаешь... Я не хочу, чтобы как всегда: поебались и разбежались. Почему меня никогда не ценят, как личность? Я же вам не вокалистка! У меня есть мозг!
— И сиськи, — оканчивает спонтанно сложившийся стих Слава и получает подзатыльник.
— Достань елку с антресоли, — резко переключается Машка.
— Вот иди и Рояля попроси.
— Ага! Щаз. Он же Рояль. Сначала стул сломает, а потом антресоль уронит. Нафиг надо. Слав, ну достань, пожалуйста.
— Ах, когда же, когда же меня перестанут использовать как стремянку? — причитает Слава.
— Любишь халявный плов — люби и елку наряжать.
— Не, достать достану, а наряжай сама. Мне надо философию учить, да и вообще, не люблю я все эти новогодние праздники, пьяных этников с народниками...
— Ой, тоже мне. Проще надо быть, Слава, проще. Жизни иногда радоваться, а то сидишь в комнате, как Бродский.
— Джованни.
— Кто?
— Джованни. «Комната Джованни» — роман Джеймса Болдуина. Тоже об одном затворнике.
Джованни, выйди из комнаты,
Иди, соверши ошибку.
Не набил ли тебе оскомину
Надтреснутый голос скрипки? — снова переходит на стихотворную форму Слава, доставая елку с антресоли.
Вернувшись к себе и осилив под кофе пару билетов, Слава понимает, что больше никакие Делёзы в голову не полезут, и вырубается. А врубается через несколько часов от громкого стука в дверь.
— Ты дрыхнешь, что ли? — удивляется Рояль заспанной роже Славы. — Давай поднимайся. Тихий час в младшей группе окончен. Пора пиво пить.
а) — Не, мне завтра философию сдавать, — стонет Слава. => Глава 4. Предпраздничный ужин
б) — Пиво, говоришь? — расплывается в улыбке Слава. => Глава 4а. Невероятная случайность
Глава 3а. Томатный суп имени Энди Уорхола
— А жаль, — вздыхает Слава.
Приходится отправиться в «Семерочку». А раз уж кривая повела в бюджетный супермаркет для пенсионеров, студентов и прочих жертв суровых обстоятельств, то это нужно расценивать как повод заполнить пустоту холодильника. Набрав полные корзины полуфабрикатов и пива, Слава и Вадик сталкиваются с неприятной случайностью.
— Паспорт, — строго требует кассирша.
Слава только вскидывает бровь:
— Сударыня, мне 27. Я в вашем магазине с детства сигареты покупаю.
Продавщица презрительно склоняет голову набок.
— Предъявите паспорт.
— У меня есть паспорт, — вклинивается Вадик, доставая волшебную книжечку из внутреннего кармана куртки.
— Тогда вы и покупайте.
Слава перекладывает пиво к Вадику и пробивает в свой чек его еду в качестве компенсации.
— Ха-ха, малявка, — насмехается Вадик, выходя из магазина.
— Сам ты малявка. Сколько тебе? 21?
— Скоро 28, а пока 22, — гордо заявляет Вадик. — А ты малявка.
Поскольку чистых кастрюлек у них в комнатах не обнаруживается, Слава и Вадик выливают две банки томатного супа на сковородку, вытаскивают на кухню стулья и открывают пиво. На пороге материализуется Машка с кастрюлей.
— Что, алкоголики-тунеядцы? С утра уже пиво пьем?
— Мы не пьем, мы лечимся, — поправляет ее Вадик.
Машка качает головой, водружает кастрюлю на плиту и уходит снова, а возвращается уже с тромбоном и нотами.
— Бля, Маш, а без тромбона готовить никак нельзя? — жалобно стонет Вадик.
— Нельзя, — отрезает Машка. — А то невкусно будет.
И, не взирая на больные головы присутствующих, Машка кладет ноты на кухонный стол и начинает играть. Вадик, Слава и пиво ретируются в курилку. Видимо, учуяв запах свежего солода, из ближайшего блока выплывает в майке-алкоголичке тело Рояля, с перегаром и сосиской, наколотой на вилку. Вообще-то он Тимур, но кличка Рояль к нему почему-то прилипла.
— Салют, жаворонки, — басит он. — Че делаете?
— Томатный суп варим, — отвечает Слава.
— Че? Энди Уорхол в гости приедет? — подкалывает Рояль.
— Ага, обещал мой портрет дописать, — подыгрывает Слава.
— В образе Мерлин Монро, — прыскает Вадик.
— А то. Конечно, в образе Монро. А как иначе? — жеманно поправляет волосы Слава.
— В образе Владика Монро! — смеется Рояль.
— Прям в точку, — одобряет шутку Слава.
— А я тут при чем? — не врубается Вадик.
— Не Вадик, а Владик, — поясняет Рояль. — Художник такой был. Владик Монро, он же Владислав Мамышев. Тоже в платьях бегал.
— Я в платьях не бегаю, — хмурится Слава.
— Конечно не бегаешь. Ты в них элегантно ходишь походкой от бедра, — продолжает прикалываться Рояль.
— Иди ты... сосиски жуй, — обижается Слава.
— Я и жую. Потому что, кроме сосисок, мне ничего и не остается. У меня вчера курицу сперли. Причем, знаете как? Короче, поставил я ее в духовку и пошел Рахманинова учить. Возвращаюсь — а куры и след простыл. А знаете, что я обнаружил в своем холодильнике сегодня? Кочан капусты! Прикиньте?! Кочан капусты! То есть этот кто-то, кто спер куру, знал, чью куру он прет, и подсунул мне капусту в качестве моральной компенсации. Вот как так вообще? Ни стыда, ни совести. Что мне теперь с той капустой делать?
— Ну, потуши, что ли, — пожимает плечами Вадик.
— Я не люблю капусту. Я люблю мясо, — гневно кусает сосиску Рояль.
— Сосиски — не мясо, — констатирует Слава.
— А томатный суп — не суп. В нем тоже нет мяса. Фигня веганская.
— Томатный суп — не фигня, — вступается за блюдо Слава. — Томатный суп — это натюрморт! Вот смотри, у всяких там старых реалистов и импрессионистов были свои дома, усадьбы, естественно, с садами и огородами. И вот пойдет художник, нарвет яблок с дерева, домой принесет, по скатерти раскидает и пишет, пока домочадцы эти самые яблоки не сгрызут. А у Энди Уорхола огорода не было. У него был супермаркет в соседнем доме. Вот он отправился в супермаркет, купил кучу банок с супом и написал. Другое время — другие натюрморты. Так что не надо мне...
Внезапно нежные звуки тромбона умолкают, и в курилке материализуется Машка.
— Кажется, у вас молоко убежало, — произносит она и уходит обратно на кухню.
Роняя тапки, Слава и Вадик бегут спасать суп, который Машка, естественно, уже выключила. Наскоро пообедав в комнате Вадика под аккомпанемент какого-то мутного американского сериала, Слава возвращается к граниту философских наук. Разбавленный пивом, Делёз, кажется, даже обретает подобие смысла, хотя, может, это просто кажется. Однако вскоре Славу одолевает неистовая скука и, как следствие, сон, который прерывается только через несколько часов мощным стуком в дверь.
— Ты дрыхнешь, что ли? — удивляется Рояль заспанной роже Славы. — Давай поднимайся. Тихий час в младшей группе окончен. Пора пиво пить.
а) — Не, мне завтра философию сдавать, — стонет Слава. => Глава 4. Предпраздничный ужин
б) — Пиво, говоришь? — расплывается в улыбке Слава. => Глава 4а. Невероятная случайность
Приходится отправиться в «Семерочку». А раз уж кривая повела в бюджетный супермаркет для пенсионеров, студентов и прочих жертв суровых обстоятельств, то это нужно расценивать как повод заполнить пустоту холодильника. Набрав полные корзины полуфабрикатов и пива, Слава и Вадик сталкиваются с неприятной случайностью.
— Паспорт, — строго требует кассирша.
Слава только вскидывает бровь:
— Сударыня, мне 27. Я в вашем магазине с детства сигареты покупаю.
Продавщица презрительно склоняет голову набок.
— Предъявите паспорт.
— У меня есть паспорт, — вклинивается Вадик, доставая волшебную книжечку из внутреннего кармана куртки.
— Тогда вы и покупайте.
Слава перекладывает пиво к Вадику и пробивает в свой чек его еду в качестве компенсации.
— Ха-ха, малявка, — насмехается Вадик, выходя из магазина.
— Сам ты малявка. Сколько тебе? 21?
— Скоро 28, а пока 22, — гордо заявляет Вадик. — А ты малявка.
Поскольку чистых кастрюлек у них в комнатах не обнаруживается, Слава и Вадик выливают две банки томатного супа на сковородку, вытаскивают на кухню стулья и открывают пиво. На пороге материализуется Машка с кастрюлей.
— Что, алкоголики-тунеядцы? С утра уже пиво пьем?
— Мы не пьем, мы лечимся, — поправляет ее Вадик.
Машка качает головой, водружает кастрюлю на плиту и уходит снова, а возвращается уже с тромбоном и нотами.
— Бля, Маш, а без тромбона готовить никак нельзя? — жалобно стонет Вадик.
— Нельзя, — отрезает Машка. — А то невкусно будет.
И, не взирая на больные головы присутствующих, Машка кладет ноты на кухонный стол и начинает играть. Вадик, Слава и пиво ретируются в курилку. Видимо, учуяв запах свежего солода, из ближайшего блока выплывает в майке-алкоголичке тело Рояля, с перегаром и сосиской, наколотой на вилку. Вообще-то он Тимур, но кличка Рояль к нему почему-то прилипла.
— Салют, жаворонки, — басит он. — Че делаете?
— Томатный суп варим, — отвечает Слава.
— Че? Энди Уорхол в гости приедет? — подкалывает Рояль.
— Ага, обещал мой портрет дописать, — подыгрывает Слава.
— В образе Мерлин Монро, — прыскает Вадик.
— А то. Конечно, в образе Монро. А как иначе? — жеманно поправляет волосы Слава.
— В образе Владика Монро! — смеется Рояль.
— Прям в точку, — одобряет шутку Слава.
— А я тут при чем? — не врубается Вадик.
— Не Вадик, а Владик, — поясняет Рояль. — Художник такой был. Владик Монро, он же Владислав Мамышев. Тоже в платьях бегал.
— Я в платьях не бегаю, — хмурится Слава.
— Конечно не бегаешь. Ты в них элегантно ходишь походкой от бедра, — продолжает прикалываться Рояль.
— Иди ты... сосиски жуй, — обижается Слава.
— Я и жую. Потому что, кроме сосисок, мне ничего и не остается. У меня вчера курицу сперли. Причем, знаете как? Короче, поставил я ее в духовку и пошел Рахманинова учить. Возвращаюсь — а куры и след простыл. А знаете, что я обнаружил в своем холодильнике сегодня? Кочан капусты! Прикиньте?! Кочан капусты! То есть этот кто-то, кто спер куру, знал, чью куру он прет, и подсунул мне капусту в качестве моральной компенсации. Вот как так вообще? Ни стыда, ни совести. Что мне теперь с той капустой делать?
— Ну, потуши, что ли, — пожимает плечами Вадик.
— Я не люблю капусту. Я люблю мясо, — гневно кусает сосиску Рояль.
— Сосиски — не мясо, — констатирует Слава.
— А томатный суп — не суп. В нем тоже нет мяса. Фигня веганская.
— Томатный суп — не фигня, — вступается за блюдо Слава. — Томатный суп — это натюрморт! Вот смотри, у всяких там старых реалистов и импрессионистов были свои дома, усадьбы, естественно, с садами и огородами. И вот пойдет художник, нарвет яблок с дерева, домой принесет, по скатерти раскидает и пишет, пока домочадцы эти самые яблоки не сгрызут. А у Энди Уорхола огорода не было. У него был супермаркет в соседнем доме. Вот он отправился в супермаркет, купил кучу банок с супом и написал. Другое время — другие натюрморты. Так что не надо мне...
Внезапно нежные звуки тромбона умолкают, и в курилке материализуется Машка.
— Кажется, у вас молоко убежало, — произносит она и уходит обратно на кухню.
Роняя тапки, Слава и Вадик бегут спасать суп, который Машка, естественно, уже выключила. Наскоро пообедав в комнате Вадика под аккомпанемент какого-то мутного американского сериала, Слава возвращается к граниту философских наук. Разбавленный пивом, Делёз, кажется, даже обретает подобие смысла, хотя, может, это просто кажется. Однако вскоре Славу одолевает неистовая скука и, как следствие, сон, который прерывается только через несколько часов мощным стуком в дверь.
— Ты дрыхнешь, что ли? — удивляется Рояль заспанной роже Славы. — Давай поднимайся. Тихий час в младшей группе окончен. Пора пиво пить.
а) — Не, мне завтра философию сдавать, — стонет Слава. => Глава 4. Предпраздничный ужин
б) — Пиво, говоришь? — расплывается в улыбке Слава. => Глава 4а. Невероятная случайность
Глава 4. Предпраздничный ужин
— Не, мне завтра философию сдавать, — стонет Слава.
— Ну ты же профессионал! Ты можешь работать в любом состоянии! — цитирует Рояль известный фильм, а может, действиельно так считает.
— Тогда зачем себя искусственно ограничивать? — подхватывает Слава.
Рояль, к слову сказать, пришел не с пустыми руками, а с пакетом еды. Оценив его содержимое, Слава берет коробку с приправами, и они отправляются на кухню тушить мясо в вине, к ним присоединяется гитара с Вадиком. Не многие в курсе темного прошлого Вадика, точнее, что до контрабаса Вадик учился на гитаре, впрочем, классическому репертуару Вадик предпочитает песни, а их набор простирается от джазовых стандартов до рока, впрочем, слова Вадик вечно забывает. Не многие в курсе и темного прошлого Славы. В детстве Славе нравилось сочинять стихи и переделывать слова песен. С годами любовь к этому занятию прошла, но привычка осталась. Теперь она стала почти проклятием. Поэтому, когда Вадик забывает слова, Слава, если находится в акустически досягаемой близости, тут же начинает сочинять что-нибудь на ходу, поскольку спеть что-либо в оригинале просто органически не получается. Случается порой, что эти сочинения кто-нибудь записывает, и песни с новыми текстами начинают жить своей жизнью. И вот, Вадик начинает наигрывать что-то фа-мажорное.
— I see trees are green, — завывает Слава в духе Армстронга, и Вадик, врубившись, что к чему, тут же подстраивается, хотя он, вероятно, хотел сыграть что-то иное, — red roses too. I see them blue as me and you… And I say to myself what a wonderful world1...
1
— Это каминг-аут? — интересуется Вадик в проигрыше.
— No, I've lost the words and joking jokes,
They are so gay or maybe blue2.
2
— And I say to myself what a wonderful world... — подхватывает вокалистка Ирка, появляясь в дверях кухни.
Мало-помалу на звуки гитары стягивается чуть ли не весь этаж, образуя спонтанный хор. А в 23:20 возникает тема «вторжения» в лице двух бабулек-дежурных-администраторов.
— Что вы тут расшумелись? Еще и пьянствуете?! — свирепо рычит одна из них. — А ну быстро все по комнатам! Быстро! Встали и разошлись! Мы ждем!
— Мы еду готовим, — огрызается Слава.
— Это ты еду готовишь! А все остальные что? Или ты без хора готовить не умеешь? А ну быстро все ушли!
Толпа нехотя поднимается и начинает расходиться.
— И стулья заберите! — подхватывает вторая бабулька.
Удостоверившись, что на кухне, кроме Славы, никого не осталось, дежурные с чувством выполненного долга покидают этаж, а студенты, выждав положенные пять минут, возвращаются обратно вместе со стульями и гитарой. Кто-то приносит раскладушку, правда, этот кто-то не рассчитал, что главными претендентами на вип-места окажутся Машка 80 килограмм чистой тромбонистки и Рояль 130 килограмм не очень чистого пианиста. Раскладушка издает душераздирающий треск, и Машка с Роялем застревают меж ножек и рожек бывшей кровати. Борясь со смехом и алюминием, оставшиеся студенты все-таки извлекают пострадавших из-под обломков советской инженерной мысли. Дождавшись относительной тишины, Вадик снова начинает чего-то наигрывать.
— Давай про кол леньо, — прерывает его скрипачка Настя.
— Какие кол леньо? — не врубается Вадик.
— Ну, Земфиру. «Мои кол леньо замерзли, ты был счастливый и в приму…» — напевает она очередной Славин бред.
— А, ну, давай. Только я слов не помню, — пожимает плечами Вадик.
— А что такое кол леньо? — интересуется Ирка, явно плохо знакомая с тонкостями игры на струнных.
— Это когда играешь не волосом смычка, а древком, — объясняет Настя, как бы переворачивая смычок в руке. — Типа расширенные техники игры. Слава вот такое любит, правда Слава?
Слава рассеянно пожимает плечами:
— А что, у Земфиры не про кол леньо было?
— У Земфиры колени замерзли, а ты только о смычках и думаешь, — язвит Настя.
— Но хорошо же думаю, можно сказать, гениально, — не дает никому усомниться в своем ЧСВ Слава.
— Начинай, — командует Настя к Вадику. — Я держу свою партию, но все рассыпается,
С цифры Це играй заново, мне ужасно не нравится,
Как играешь ты эти синкопы и паузы...
— Мои кол леньо замерзли!
Ты был счастливый и в приму!
И что-то важное между! — подхватывает спонтанный хор.
— Шухер! Бабки возвращаются! — прерывает пение Рояль.
Все подскакивают и, увлекая за собой стулья, останки раскладушки и Славу со сковородкой, рассыпаются по незапертым блокам, оккупируя преимущественно санузлы, куда бабки забраться не смогут. Так Слава обнаруживает себя в компании Рояля, Вадика, Машки, гитары, бутылки вина и сковородки с мясом в замкнутом пространстве крохотного туалета чужого блока.
— Эх, — вздыхает Рояль, закуривая. — Моя младшая сестра уже взрослый человек. Приличная работа, семья, своя квартира. Скоро мамой станет. А я по-прежнему бегаю с вами от вожатых в лагере для больных детей-переростков и прячусь по толчкам…
— Хочешь, песенку спою? — спрашивает его Вадик, пытаясь взгромоздиться с гитарой на бачок унитаза.
— Долбоеб, — только и отвечает Рояль.
Переждав цунами, все четверо выбираются из туалета и, решив не собирать всех голодных с этажа, перебежками, достойными лучших ниндзя, отправляются ужинать в комнату Славы. Сидя посреди комнаты, кот Дракула, будучи альбиносом, причем совершенно глухим и к тому же страдающим чем-то сродни шизофрении, неистово и самозабвенно воет куда-то в подкроватную темноту. Машка, материализовавшаяся в комнате, по мнению Дракулы, совершенно внезапно, умилившись, решает кота погладить. От столь грубого вторжения реальности в его прекрасный мир галлюцинаций кот подпрыгивает и делает сальто, за что ему, по мнению Джерома Джерома, полагалось бы золото в соревнованиях по прыжкам в высоту из положения сидя. Пометавшись по комнате с выпученными красными глазами и истошными воплями, Дракула тормозит у двери, вперившись в нее невидящим взором. Приступая к еде, Рояль подключается к Славиным колонкам и врубает что-то, судя по инфернальному скрежету, из творчества Лебедева-Фронтова3. И тут распахивается дверь. На пороге возникают грозные фигуры бабок. Они кричат что-то невразумительное, пока Слава не вырубает колонки, впрочем, более вразумительными вопли бабок не становятся. В общем и целом смысл их нестройного дуэта сводится к тому, что все тут охренели, людям ночью надо спать, и ваще они на всех тут присутствующих заяву коменданту донесут, чтобы он их из общаги выписал. Вдоволь наоравшись, бабки хлопают дверью и гордо удаляются с чувством выполненного долга. В течение всей этой тирады Слава, Рояль, Вадик и Маша смотрят только на кота. Держать животных в общаге строго запрещено, поэтому в большинстве комнат водятся хомячки, попугаи, черепашки и коты. Но, учитывая обстоятельства данного вечера, внезапное обнаружение Дракулы в комнате Славы могло бы конкретно усугубить ситуацию. К счастью, совершенно глухой кот никак не реагирует на то, что дверь на время превращается в две пары ног, а потом снова становится дверью. Поэтому, когда бабки дематериализуются, компанию накрывает дикий ржач облегчения.
3
В продолжение вечера Слава, ломая язык, пытается объяснить Вадику, что такое территоризация и детерриторизация, и чем это отличается от экзистенциального кризиса и тошноты, а Рояль решается подкатить к Машке.
— Ребят, а чьи это сиськи у вас в туалете висят? — спрашивает он, в очередной раз возвращаясь из уборной.
— Мои, — отвечает Слава. — Делать было нечего, захотелось заняться поп-артом. А поп-арту, как водится, место в туалете.
— Эт ты зря. Хорошая картина получилась.
— Забирай, — щедро машет рукой Слава.
— Правда? — оживляется Рояль.
— Правда, — отвечает за Славу Машка. — Избавь нас, пожалуйста, от этого произведения современного искусства!
Воодушевленный Рояль тут же бежит в туалет.
— Да чем тебе так не нравятся мои сиськи? — изумленно обращается Слава к Машке.
— Да вот не нравятся!
Довольный Рояль приносит картину, где в стиле Лихтенштейна4 изображена обнаженная блондинка от кончика носа до пупка, судя по разметавшимся желтым волосам, лежащая на кровати и слегка прикрытая синим одеялом, с красной телефонной трубкой в руках. Из открытого красного рта выплывает баббл со словами: «Coupe! Coupe vite, je t'aime, je t'aime, je t'aime, t'aime...».5
4,5
— Ладно-ладно, — успокаивает ее Рояль. — Избавлю я вас от поп-арта. Не переживай. А название у этой композиции есть?
— «Человеческий голос». По моноопре Пуленка, разумеется, — поясняет Слава. — С новым годом, дорогие. Это мой подарок вам обоим. Пис энд лав.
— Это та опера, где героиня умирает после телефонного разговора? — уточняет Рояль.
— Она самая, — кивает Слава.
— То есть эта чернуха полгода провисела у нас в толчке?! — подпрыгивает от возмущения Машка.
— Да угомонись ты, — отмахивается Слава. — Это просто картина по опере Пуленка в стиле Лихтенштейна. Ничего более. Вон Теффи вспомни. В начале XX века все вешали на стены «Остров мертвых» Бёклина и ничего зазорного в том не видели.
Ближе к четырем утра, когда вино кончается не только у Рояля, но и у Машки, Славе все-таки удается освободить комнату от гостей и запротоколировать еще пару билетов прежде, чем царство Морфея накрывает мир.
=> Глава 5. Дела житейские
— Ну ты же профессионал! Ты можешь работать в любом состоянии! — цитирует Рояль известный фильм, а может, действиельно так считает.
— Тогда зачем себя искусственно ограничивать? — подхватывает Слава.
Рояль, к слову сказать, пришел не с пустыми руками, а с пакетом еды. Оценив его содержимое, Слава берет коробку с приправами, и они отправляются на кухню тушить мясо в вине, к ним присоединяется гитара с Вадиком. Не многие в курсе темного прошлого Вадика, точнее, что до контрабаса Вадик учился на гитаре, впрочем, классическому репертуару Вадик предпочитает песни, а их набор простирается от джазовых стандартов до рока, впрочем, слова Вадик вечно забывает. Не многие в курсе и темного прошлого Славы. В детстве Славе нравилось сочинять стихи и переделывать слова песен. С годами любовь к этому занятию прошла, но привычка осталась. Теперь она стала почти проклятием. Поэтому, когда Вадик забывает слова, Слава, если находится в акустически досягаемой близости, тут же начинает сочинять что-нибудь на ходу, поскольку спеть что-либо в оригинале просто органически не получается. Случается порой, что эти сочинения кто-нибудь записывает, и песни с новыми текстами начинают жить своей жизнью. И вот, Вадик начинает наигрывать что-то фа-мажорное.
— I see trees are green, — завывает Слава в духе Армстронга, и Вадик, врубившись, что к чему, тут же подстраивается, хотя он, вероятно, хотел сыграть что-то иное, — red roses too. I see them blue as me and you… And I say to myself what a wonderful world1...
1
Я вижу, что деревья зеленые, и красные розы тоже,
Они видятся мне голубыми, как я и ты...
И я говорю себе: какой чудесный мир (англ. — здесь и далее прим. автора).
Они видятся мне голубыми, как я и ты...
И я говорю себе: какой чудесный мир (англ. — здесь и далее прим. автора).
— Это каминг-аут? — интересуется Вадик в проигрыше.
— No, I've lost the words and joking jokes,
They are so gay or maybe blue2.
2
Нет, я забыл слова и шутки шучу,
Они такие гейские или, может быть, голубые /
Они такие веселые или, может быть, грустные (англ. игра слов).
Они такие гейские или, может быть, голубые /
Они такие веселые или, может быть, грустные (англ. игра слов).
— And I say to myself what a wonderful world... — подхватывает вокалистка Ирка, появляясь в дверях кухни.
Мало-помалу на звуки гитары стягивается чуть ли не весь этаж, образуя спонтанный хор. А в 23:20 возникает тема «вторжения» в лице двух бабулек-дежурных-администраторов.
— Что вы тут расшумелись? Еще и пьянствуете?! — свирепо рычит одна из них. — А ну быстро все по комнатам! Быстро! Встали и разошлись! Мы ждем!
— Мы еду готовим, — огрызается Слава.
— Это ты еду готовишь! А все остальные что? Или ты без хора готовить не умеешь? А ну быстро все ушли!
Толпа нехотя поднимается и начинает расходиться.
— И стулья заберите! — подхватывает вторая бабулька.
Удостоверившись, что на кухне, кроме Славы, никого не осталось, дежурные с чувством выполненного долга покидают этаж, а студенты, выждав положенные пять минут, возвращаются обратно вместе со стульями и гитарой. Кто-то приносит раскладушку, правда, этот кто-то не рассчитал, что главными претендентами на вип-места окажутся Машка 80 килограмм чистой тромбонистки и Рояль 130 килограмм не очень чистого пианиста. Раскладушка издает душераздирающий треск, и Машка с Роялем застревают меж ножек и рожек бывшей кровати. Борясь со смехом и алюминием, оставшиеся студенты все-таки извлекают пострадавших из-под обломков советской инженерной мысли. Дождавшись относительной тишины, Вадик снова начинает чего-то наигрывать.
— Давай про кол леньо, — прерывает его скрипачка Настя.
— Какие кол леньо? — не врубается Вадик.
— Ну, Земфиру. «Мои кол леньо замерзли, ты был счастливый и в приму…» — напевает она очередной Славин бред.
— А, ну, давай. Только я слов не помню, — пожимает плечами Вадик.
— А что такое кол леньо? — интересуется Ирка, явно плохо знакомая с тонкостями игры на струнных.
— Это когда играешь не волосом смычка, а древком, — объясняет Настя, как бы переворачивая смычок в руке. — Типа расширенные техники игры. Слава вот такое любит, правда Слава?
Слава рассеянно пожимает плечами:
— А что, у Земфиры не про кол леньо было?
— У Земфиры колени замерзли, а ты только о смычках и думаешь, — язвит Настя.
— Но хорошо же думаю, можно сказать, гениально, — не дает никому усомниться в своем ЧСВ Слава.
— Начинай, — командует Настя к Вадику. — Я держу свою партию, но все рассыпается,
С цифры Це играй заново, мне ужасно не нравится,
Как играешь ты эти синкопы и паузы...
— Мои кол леньо замерзли!
Ты был счастливый и в приму!
И что-то важное между! — подхватывает спонтанный хор.
— Шухер! Бабки возвращаются! — прерывает пение Рояль.
Все подскакивают и, увлекая за собой стулья, останки раскладушки и Славу со сковородкой, рассыпаются по незапертым блокам, оккупируя преимущественно санузлы, куда бабки забраться не смогут. Так Слава обнаруживает себя в компании Рояля, Вадика, Машки, гитары, бутылки вина и сковородки с мясом в замкнутом пространстве крохотного туалета чужого блока.
— Эх, — вздыхает Рояль, закуривая. — Моя младшая сестра уже взрослый человек. Приличная работа, семья, своя квартира. Скоро мамой станет. А я по-прежнему бегаю с вами от вожатых в лагере для больных детей-переростков и прячусь по толчкам…
— Хочешь, песенку спою? — спрашивает его Вадик, пытаясь взгромоздиться с гитарой на бачок унитаза.
— Долбоеб, — только и отвечает Рояль.
Переждав цунами, все четверо выбираются из туалета и, решив не собирать всех голодных с этажа, перебежками, достойными лучших ниндзя, отправляются ужинать в комнату Славы. Сидя посреди комнаты, кот Дракула, будучи альбиносом, причем совершенно глухим и к тому же страдающим чем-то сродни шизофрении, неистово и самозабвенно воет куда-то в подкроватную темноту. Машка, материализовавшаяся в комнате, по мнению Дракулы, совершенно внезапно, умилившись, решает кота погладить. От столь грубого вторжения реальности в его прекрасный мир галлюцинаций кот подпрыгивает и делает сальто, за что ему, по мнению Джерома Джерома, полагалось бы золото в соревнованиях по прыжкам в высоту из положения сидя. Пометавшись по комнате с выпученными красными глазами и истошными воплями, Дракула тормозит у двери, вперившись в нее невидящим взором. Приступая к еде, Рояль подключается к Славиным колонкам и врубает что-то, судя по инфернальному скрежету, из творчества Лебедева-Фронтова3. И тут распахивается дверь. На пороге возникают грозные фигуры бабок. Они кричат что-то невразумительное, пока Слава не вырубает колонки, впрочем, более вразумительными вопли бабок не становятся. В общем и целом смысл их нестройного дуэта сводится к тому, что все тут охренели, людям ночью надо спать, и ваще они на всех тут присутствующих заяву коменданту донесут, чтобы он их из общаги выписал. Вдоволь наоравшись, бабки хлопают дверью и гордо удаляются с чувством выполненного долга. В течение всей этой тирады Слава, Рояль, Вадик и Маша смотрят только на кота. Держать животных в общаге строго запрещено, поэтому в большинстве комнат водятся хомячки, попугаи, черепашки и коты. Но, учитывая обстоятельства данного вечера, внезапное обнаружение Дракулы в комнате Славы могло бы конкретно усугубить ситуацию. К счастью, совершенно глухой кот никак не реагирует на то, что дверь на время превращается в две пары ног, а потом снова становится дверью. Поэтому, когда бабки дематериализуются, компанию накрывает дикий ржач облегчения.
3
Александр Лебедев-Фронтов (1960 — 2022) — петербургский художник-график, музыкант, один из пионеров российского нойза.
В продолжение вечера Слава, ломая язык, пытается объяснить Вадику, что такое территоризация и детерриторизация, и чем это отличается от экзистенциального кризиса и тошноты, а Рояль решается подкатить к Машке.
— Ребят, а чьи это сиськи у вас в туалете висят? — спрашивает он, в очередной раз возвращаясь из уборной.
— Мои, — отвечает Слава. — Делать было нечего, захотелось заняться поп-артом. А поп-арту, как водится, место в туалете.
— Эт ты зря. Хорошая картина получилась.
— Забирай, — щедро машет рукой Слава.
— Правда? — оживляется Рояль.
— Правда, — отвечает за Славу Машка. — Избавь нас, пожалуйста, от этого произведения современного искусства!
Воодушевленный Рояль тут же бежит в туалет.
— Да чем тебе так не нравятся мои сиськи? — изумленно обращается Слава к Машке.
— Да вот не нравятся!
Довольный Рояль приносит картину, где в стиле Лихтенштейна4 изображена обнаженная блондинка от кончика носа до пупка, судя по разметавшимся желтым волосам, лежащая на кровати и слегка прикрытая синим одеялом, с красной телефонной трубкой в руках. Из открытого красного рта выплывает баббл со словами: «Coupe! Coupe vite, je t'aime, je t'aime, je t'aime, t'aime...».5
4,5
4. Рой Лихтенштейн (1923 — 1997) — американский художник, один из основоположников поп-арта.
5. Рви всё! Рви скорее, любимый, любимый, любимый, люблю... (фр.).
5. Рви всё! Рви скорее, любимый, любимый, любимый, люблю... (фр.).
— Ладно-ладно, — успокаивает ее Рояль. — Избавлю я вас от поп-арта. Не переживай. А название у этой композиции есть?
— «Человеческий голос». По моноопре Пуленка, разумеется, — поясняет Слава. — С новым годом, дорогие. Это мой подарок вам обоим. Пис энд лав.
— Это та опера, где героиня умирает после телефонного разговора? — уточняет Рояль.
— Она самая, — кивает Слава.
— То есть эта чернуха полгода провисела у нас в толчке?! — подпрыгивает от возмущения Машка.
— Да угомонись ты, — отмахивается Слава. — Это просто картина по опере Пуленка в стиле Лихтенштейна. Ничего более. Вон Теффи вспомни. В начале XX века все вешали на стены «Остров мертвых» Бёклина и ничего зазорного в том не видели.
Ближе к четырем утра, когда вино кончается не только у Рояля, но и у Машки, Славе все-таки удается освободить комнату от гостей и запротоколировать еще пару билетов прежде, чем царство Морфея накрывает мир.
=> Глава 5. Дела житейские
Глава 4а. Невероятная случайность
— Пиво, говоришь? — расплывается в улыбке Слава.
— Оно самое, — откликается Рояль.
— Ну, ок. Давай кружечку, и буду я дальше философией страдать.
— А я мясо купил, думал, ты приготовишь свое фирменное фу, — заискивающе начинает Рояль.
— Прости, бро. Сегодня сам готовь. Реально учить надо, а меня вырубило от де-тер-ри-то-ри-за-ции. С-с-сука блядь! Надо ж так язык людям ломать!
— Чего? — не втупляет Рояль.
— Делёз, блядь. Территоризация и де... детерриторизация. Понимаешь?
— Нет, не понимаю, — отчаянно складывает бровки домиком Рояль.
— Вот заходи — расскажу. Может, и мне понятней станет, что это такое, пока тебе буду объяснять...
Выразив свой ужас невнятным восклицанием и округлившимися глазами, Рояль спешит ретироваться из комнаты, сбивая по дороге Вадика.
— Славка, ты не поверишь! — восклицает Вадик, врываясь в комнату. — Нет, оторвись от своей философии! Пойдем!
С этими словами он тащит Славу в свою комнату. Рояль заинтересовано следует за ними. Там они обнаруживают единорога, сосредоточенно пилящего ногти.
— Так ты знал... — с досадой вздыхает Слава. — Значит, рандомной случайностью это могло быть только для меня, а ты, сволочь, знал!
— Да нет же! — уворачивается от Славиного подзатыльника Вадик. — Я не знал! Я предсказал! И теперь это уже не вероятная, а невероятная случайность!!!
— Эй, вам тут не зоопарк, — отзывается единорог Пашка. — Прошу не мешать и очистить помещение от ваших невероятных тел. До-ре-ми-до-ре-до6.
6
— Да пошел ты сам, — примирительно отвечает Вадик, и все трое покидают пристанище единорога.
— А дело было так, — поясняет Вадик по дороге в курилку. — Искал я себе пижаму на зиму у китайцев. И тут выпадают эти кенгуруми, или как их там... Короче, я залип. Там и пикачу, и панды, и драконы и прочая живность. И тут пришли Артем с Пашкой и тоже залипли. А потом они поспорили, что, если Пашка останется с хвостом с прошлого семестра, то купит себе единорога. Хвост у Пашки, естественно, остался. Из Китая костюм шел, ясное дело, пешком, так что, когда он его получил, я не знаю. Но с утра — честное пионерское! — я ничего еще не знал. А тут, блин, реально невероятная случайность получается!
— Ебаный ты в рот, — материализуется в курилке раздосадованный единорог, гневно взирающий на свою правую руку.
— Че, опять ноготь сломал? — сочувствующе интересуется Вадик.
— Ага, — мрачно вздыхает Пашка. — Придется идти наращивать. Экзамен уже одиннадцатого, а у меня программа еще совсем сырая. Эх. А хочется чего-то неземного. Дайте сигарету, что ли...
Вадик протягивает несчастному гитаристу пачку, и тот, закурив и блаженно выпустив дым в мрачной тишине, внезапно выдает:
— Че, народ, пойдемте коньяк пить?
— А откуда коньяк? — интересуется Рояль.
— А мы с Темычем поспорили, что я в таком виде в консу приду. Я и пришел. Правда, мне сдавать ничего не надо было. Прошелся по коридорам, сделал несколько селфи, посидел в буфете и поехал домой. Короче, идемте к Темычу отнимать обещанный коньяк.
а) — А спорим, я завтра в костюме единорога философию сдам? — внезапно даже для себя выпаливает Слава. => Глава 4b. Хомячьи бега26
б) — Коньяк — это, конечно, хорошо, но сегодня без меня, — мрачно тушит бычок Слава. => Глава 4с. Преступление
— Оно самое, — откликается Рояль.
— Ну, ок. Давай кружечку, и буду я дальше философией страдать.
— А я мясо купил, думал, ты приготовишь свое фирменное фу, — заискивающе начинает Рояль.
— Прости, бро. Сегодня сам готовь. Реально учить надо, а меня вырубило от де-тер-ри-то-ри-за-ции. С-с-сука блядь! Надо ж так язык людям ломать!
— Чего? — не втупляет Рояль.
— Делёз, блядь. Территоризация и де... детерриторизация. Понимаешь?
— Нет, не понимаю, — отчаянно складывает бровки домиком Рояль.
— Вот заходи — расскажу. Может, и мне понятней станет, что это такое, пока тебе буду объяснять...
Выразив свой ужас невнятным восклицанием и округлившимися глазами, Рояль спешит ретироваться из комнаты, сбивая по дороге Вадика.
— Славка, ты не поверишь! — восклицает Вадик, врываясь в комнату. — Нет, оторвись от своей философии! Пойдем!
С этими словами он тащит Славу в свою комнату. Рояль заинтересовано следует за ними. Там они обнаруживают единорога, сосредоточенно пилящего ногти.
— Так ты знал... — с досадой вздыхает Слава. — Значит, рандомной случайностью это могло быть только для меня, а ты, сволочь, знал!
— Да нет же! — уворачивается от Славиного подзатыльника Вадик. — Я не знал! Я предсказал! И теперь это уже не вероятная, а невероятная случайность!!!
— Эй, вам тут не зоопарк, — отзывается единорог Пашка. — Прошу не мешать и очистить помещение от ваших невероятных тел. До-ре-ми-до-ре-до6.
6
До-ре-ми-до-ре-до — музыкальный мотив, в самой грубой форме сообщающий
собеседнику о том, что ему следует отправиться на известные три буквы.
собеседнику о том, что ему следует отправиться на известные три буквы.
— Да пошел ты сам, — примирительно отвечает Вадик, и все трое покидают пристанище единорога.
— А дело было так, — поясняет Вадик по дороге в курилку. — Искал я себе пижаму на зиму у китайцев. И тут выпадают эти кенгуруми, или как их там... Короче, я залип. Там и пикачу, и панды, и драконы и прочая живность. И тут пришли Артем с Пашкой и тоже залипли. А потом они поспорили, что, если Пашка останется с хвостом с прошлого семестра, то купит себе единорога. Хвост у Пашки, естественно, остался. Из Китая костюм шел, ясное дело, пешком, так что, когда он его получил, я не знаю. Но с утра — честное пионерское! — я ничего еще не знал. А тут, блин, реально невероятная случайность получается!
— Ебаный ты в рот, — материализуется в курилке раздосадованный единорог, гневно взирающий на свою правую руку.
— Че, опять ноготь сломал? — сочувствующе интересуется Вадик.
— Ага, — мрачно вздыхает Пашка. — Придется идти наращивать. Экзамен уже одиннадцатого, а у меня программа еще совсем сырая. Эх. А хочется чего-то неземного. Дайте сигарету, что ли...
Вадик протягивает несчастному гитаристу пачку, и тот, закурив и блаженно выпустив дым в мрачной тишине, внезапно выдает:
— Че, народ, пойдемте коньяк пить?
— А откуда коньяк? — интересуется Рояль.
— А мы с Темычем поспорили, что я в таком виде в консу приду. Я и пришел. Правда, мне сдавать ничего не надо было. Прошелся по коридорам, сделал несколько селфи, посидел в буфете и поехал домой. Короче, идемте к Темычу отнимать обещанный коньяк.
а) — А спорим, я завтра в костюме единорога философию сдам? — внезапно даже для себя выпаливает Слава. => Глава 4b. Хомячьи бега26
б) — Коньяк — это, конечно, хорошо, но сегодня без меня, — мрачно тушит бычок Слава. => Глава 4с. Преступление
Глава 4b. Хомячьи бега
— А спорим, я завтра в костюме единорога философию сдам? — внезапно даже для себя выпаливает Слава.
— А вот спорим! — оживляется Пашка.
— На что? — спрашивает Слава.
— Проигравший будет завтра всю ночь колядовать с этниками и народниками! — предлагает Вадик.
— Не-не! Уволь! Нахуй! — наперебой протестуют спорящие.
— Окей. Проигравший встречает новый год в образе Мерлин Монро! — предлагает Рояль.
— Так нечестно, — начинает спорить Слава. — У Пашки родной блонд, а меня что, красить будете?
— Сначала завали философию, потом поговорим, — машет рукой Рояль.
Пашку почему-то эта затея вообще никак не смущает, и он протягивает Славе свою когтистую руку для пожатия. Рояль разбивает спор весьма болезненным ударом ребра ладони. Наскоро переодевшись, Слава с Пашкой подбирают остальных курильщиков, и вся честная компания отправляется на четырнадцатый этаж к контрабасисту Артему. А у него, как водится, уже толпа и дым коромыслом, причем, явно не простым коромыслом, а зелененьким. Народ режется в шарады, и, судя по всему, не особо успешно.
— Да какая, нахуй, тупая девочка?! С какими, нахуй, волосатыми сиськами?! — неистовствует виолончелистка Анька в персиковой майке с глубоким вырезом и стикером на лбу, гласящим: «Девочка с персиками».
— Да не знаю я этих современных композиторов! Что за хуй с горы?! — возмущается альтист Гоша, у которого со лба отлипает стикер «Цибин», а обладатель сей хоть и явно не кавказской фамилии, но в прошлом дитя Эльбруса, завывает в фейспалме:
— Ты даже не представляешь, с какой высокой горы-ы-ы-ы...
— Кажется, у кого-то появятся новые прозвища, — тихо хихикает Вадик, созерцая картину.
Артем, видимо, уже избавившийся от стикера, идет к клетке с хомяком, и, вытащив крохотного джунгарика, гордо представляет его новоприбывшим:
— Знакомьтесь. Комиссар Рекс.
Передав Рекса Славе, он открывает нижнюю крышку пианино, достает из своего «бара» коньяк и вручает его Пашке. Новоприбывшие, расталкивая играющих, распределяют свои тела по комнате и самостоятельно находят тару. В конце концов, все единодушно решают окончить игру в шарады, поскольку уже несколько кругов подряд двое проигрывающих никак не могут сообразить, что им понаписали. И тут кто-то весьма умный предлагает устроить хомячьи бега. С недавних пор все хомяководы обзавелись новомодными полупрозрачными пластиковыми шарами, в которых можно было отправлять зверей на прогулку без риска потерять их под ногами, предметами мебели и прочими атрибутами человеческой жизни. Поэтому все переползают в коридор, хомяководы притаскивают еще двух зверей в шарах и опускают их на стартовой линии, отмеченной стыком линолеума. Финиш — порог кухни. Хомяки медленно и вдумчиво разбредаются по коридору, не особо заботясь о том, в какой стороне кухня. Все собравшиеся человеки с энтузиазмом хлопают в ладоши и выкрикивают имена фаворитов. Вадик берет на себя роль спортивного комментатора:
— Мюмзик в розовом шаре стремительно меняет направление и втыкается в угол между стеной и мусоркой! Ох, как непросто, как непросто будет ему выбраться из столь затруднительного положения! О, что это? Александра, хозяйка Мюмзика, передвигает мусорку! Какое грубое нарушение! Это грозит им дисквалификацией! Желтый билет! Дайте желтый билет! Да! Спасибо, Руслан! Руслан машет желтым носком! Положите Мюмзика на стартовую черту! Но вы посмотрите на Рекса! Комиссар Рекс бежит, бежит, он просто летит, как мангеймская ракета7, к финишу и... сталкивается на полном ходу с плинтусом, от чего его шар разворачивается на все 180, нет, 240 градусов, и теперь Рекс летит совсем не ту сторону... Но погодите! Смотрите! Открывается дверь 141-го блока и выходит... К нам выходит Фая! Фая! Fire! — ревет Вадик гроулом. — Что ты стоишь?! Выпускай кота! Нам нужен кот! И... О, да! Прекрасная Фая выпускает кота и идет на кухню с кастрюлей! Как его зовут? Да-да, мне подсказывают, что кота зовут Брамс! Иоганнес Брамс входит в игру и помогает Рексу откатиться от финишной черты еще на метр! А где Рыжик? Где же Рыжик, мать его хомячиху, в зеленом шаре? А! Рыжик решил побежать на противоположную кухню! Что ж, может, он добежит до нее быстрее, чем Мюмзик с Рексом доберутся до своего финиша, но нет, нет, Рыжик утыкается в угол, и, кажется, он застрял...
7
— Шухер! Бабки! — кричит Рояль, и вся толпа, схватив хомяков и Брамса, запирается в артемовском блоке, оставив Фаю готовить борщ в одиночестве. Слава, впрочем, смекает следующее.
— Фай, а ты философию сдала? — хитро спрашивает Слава, заглядывая на кухню.
— Сдала. А что? — невозмутимо отвечает аспирантка-пианистка.
— А я завтра сдаю. Или не сдаю.
— Конспекты дать?
— А у тебя есть конспекты?
Вздохнув, Фая уходит в свою комнату. На кухню входят бабульки, эдакие двое из ларца одинаковых с лица, впрочем, больше похожие на овечек со своими седыми кудряшками, однако не стоит обманываться: в душе они по-прежнему советские комсомолки и пионервожатые, хоть позднепенсионного возраста. Бабульки настороженно осматриваются по сторонам и прислушиваются.
— У вас тут все тихо? — спрашивает первая.
— Да, тишь и благодать, прям «4:33», — отвечает Слава, помешивая Фаин суп.
— Что такое «4:33»? — спрашивает вторая.
— Это произведение композитора Джона Кейджа, — терпеливо разъясняет Слава. — «4:33» — это 4 минуты и 33 секунды тишины. Исполняется любым составом.
— О, вот оно как! — удивляется бабулька. — Надо бы запомнить. «4:33»...
— Слава, а ты чего тут делаешь? — смекает первая. — Ты же на тринадцатом живешь!
— Да вот за конспектами к Фае...
На кухню заходит Фая и выносит стопку отпечатанных листов.
— Добрый вечер, — здоровается она с бабульками и вручает конспекты Славе. — Их из поколения в поколение по почте рассылают. Где ты вечно витаешь?
— Я витал в облаках, я бродил по углям,
Изливался дождем на пустыни,
И в моих сапогах бушевал океан,
И мне пели с Олимпа богини... — как всегда в затруднительных ситуациях, переходит на стихи Слава.
— Стихи будешь завтра Герману читать.
— А что? Хорошие стихи, — встревает вторая бабулька. — А кто автор?
— Бродский, — небрежно врет Слава.
— А-а-а... — соображает бабулька, — Да, хороший поэт, хотя я его не очень люблю. Уж больно мрачный. Зато мой муж, царство ему небесное, он им прям восхищался. В молодости, когда мы только еще на свиданки бегали, он мне его чуть ли не каждый вечер читал. Вот бывало сядем с ним на скамейке в парке, а он как зальется соловьем...
— Ну, ладно, хватит, Зин, — прерывает ее ностальгические воспоминания вторя бабулька, хмуро поглядывая в окно. — Пойдем. Там на шестнадцатом, кажется, опять галдят.
Синхронно вздохнув, старушки покидают кухню, тихонько ворча.
— Да ладно тебе, — ухмыляется Фая. — Философию не знаешь, так хоть стихи почитай. Авось смилостивится.
— Хватит того, что я завтра явлюсь за зачет в этом костюме, — вздыхает Слава.
— А если придешь как нормальный человек?
— Где ты здесь нормального человека видела?
— Тут нормальных вообще не водится. Просто некоторые умеют притворяться. Ладно. У меня нет настроения общаться. Иди уже учи. Только сначала отбери у этих раздолбаев Брамса. А то опять колбасой накормят, и он мне весь блок от радости задрищет.
Достучавшись до артемовской толпы, Слава отправляется на поиски Брамса. Толстый Брамс обнаруживается за холодильником, жадно уминающим кусок жирной колбасы. Решив погеройствовать в благодарность за конспекты, Слава намеревается отнять у зверя некошерную еду. Весьма спокойный и толерантный к бесконечным объятиям и перманентной какофонии музыкальной общаги кот Брамс, обретя бесценное сокровище в виде куска колбасы, превращается в разъяренного тигра, если попытаться отобрать у него добычу. Слава узнает об этом обстоятельстве на собственном опыте, и потому за холодильником разворачивается кровавая битва. Матерясь и чертыхаясь, Слава приносит в окровавленных руках дергающийся и рычащий сверток казенного покрывала и, отказавшись от помощи, гордо уходит залечивать боевые ранения и грызть гранит философской науки.
=> Глава 5a. Наказание
— А вот спорим! — оживляется Пашка.
— На что? — спрашивает Слава.
— Проигравший будет завтра всю ночь колядовать с этниками и народниками! — предлагает Вадик.
— Не-не! Уволь! Нахуй! — наперебой протестуют спорящие.
— Окей. Проигравший встречает новый год в образе Мерлин Монро! — предлагает Рояль.
— Так нечестно, — начинает спорить Слава. — У Пашки родной блонд, а меня что, красить будете?
— Сначала завали философию, потом поговорим, — машет рукой Рояль.
Пашку почему-то эта затея вообще никак не смущает, и он протягивает Славе свою когтистую руку для пожатия. Рояль разбивает спор весьма болезненным ударом ребра ладони. Наскоро переодевшись, Слава с Пашкой подбирают остальных курильщиков, и вся честная компания отправляется на четырнадцатый этаж к контрабасисту Артему. А у него, как водится, уже толпа и дым коромыслом, причем, явно не простым коромыслом, а зелененьким. Народ режется в шарады, и, судя по всему, не особо успешно.
— Да какая, нахуй, тупая девочка?! С какими, нахуй, волосатыми сиськами?! — неистовствует виолончелистка Анька в персиковой майке с глубоким вырезом и стикером на лбу, гласящим: «Девочка с персиками».
— Да не знаю я этих современных композиторов! Что за хуй с горы?! — возмущается альтист Гоша, у которого со лба отлипает стикер «Цибин», а обладатель сей хоть и явно не кавказской фамилии, но в прошлом дитя Эльбруса, завывает в фейспалме:
— Ты даже не представляешь, с какой высокой горы-ы-ы-ы...
— Кажется, у кого-то появятся новые прозвища, — тихо хихикает Вадик, созерцая картину.
Артем, видимо, уже избавившийся от стикера, идет к клетке с хомяком, и, вытащив крохотного джунгарика, гордо представляет его новоприбывшим:
— Знакомьтесь. Комиссар Рекс.
Передав Рекса Славе, он открывает нижнюю крышку пианино, достает из своего «бара» коньяк и вручает его Пашке. Новоприбывшие, расталкивая играющих, распределяют свои тела по комнате и самостоятельно находят тару. В конце концов, все единодушно решают окончить игру в шарады, поскольку уже несколько кругов подряд двое проигрывающих никак не могут сообразить, что им понаписали. И тут кто-то весьма умный предлагает устроить хомячьи бега. С недавних пор все хомяководы обзавелись новомодными полупрозрачными пластиковыми шарами, в которых можно было отправлять зверей на прогулку без риска потерять их под ногами, предметами мебели и прочими атрибутами человеческой жизни. Поэтому все переползают в коридор, хомяководы притаскивают еще двух зверей в шарах и опускают их на стартовой линии, отмеченной стыком линолеума. Финиш — порог кухни. Хомяки медленно и вдумчиво разбредаются по коридору, не особо заботясь о том, в какой стороне кухня. Все собравшиеся человеки с энтузиазмом хлопают в ладоши и выкрикивают имена фаворитов. Вадик берет на себя роль спортивного комментатора:
— Мюмзик в розовом шаре стремительно меняет направление и втыкается в угол между стеной и мусоркой! Ох, как непросто, как непросто будет ему выбраться из столь затруднительного положения! О, что это? Александра, хозяйка Мюмзика, передвигает мусорку! Какое грубое нарушение! Это грозит им дисквалификацией! Желтый билет! Дайте желтый билет! Да! Спасибо, Руслан! Руслан машет желтым носком! Положите Мюмзика на стартовую черту! Но вы посмотрите на Рекса! Комиссар Рекс бежит, бежит, он просто летит, как мангеймская ракета7, к финишу и... сталкивается на полном ходу с плинтусом, от чего его шар разворачивается на все 180, нет, 240 градусов, и теперь Рекс летит совсем не ту сторону... Но погодите! Смотрите! Открывается дверь 141-го блока и выходит... К нам выходит Фая! Фая! Fire! — ревет Вадик гроулом. — Что ты стоишь?! Выпускай кота! Нам нужен кот! И... О, да! Прекрасная Фая выпускает кота и идет на кухню с кастрюлей! Как его зовут? Да-да, мне подсказывают, что кота зовут Брамс! Иоганнес Брамс входит в игру и помогает Рексу откатиться от финишной черты еще на метр! А где Рыжик? Где же Рыжик, мать его хомячиху, в зеленом шаре? А! Рыжик решил побежать на противоположную кухню! Что ж, может, он добежит до нее быстрее, чем Мюмзик с Рексом доберутся до своего финиша, но нет, нет, Рыжик утыкается в угол, и, кажется, он застрял...
7
Стремительное мелодическое движение по звукам тонического трезвучия, характерное для первых тактов симфоний и сонат композиторов Мангеймской школы (Ян Стамиц, Ф.К. Рихтер и др.) и последовавших за ними венских классиков (Гайдн, Моцарт, Бетховен).
— Шухер! Бабки! — кричит Рояль, и вся толпа, схватив хомяков и Брамса, запирается в артемовском блоке, оставив Фаю готовить борщ в одиночестве. Слава, впрочем, смекает следующее.
— Фай, а ты философию сдала? — хитро спрашивает Слава, заглядывая на кухню.
— Сдала. А что? — невозмутимо отвечает аспирантка-пианистка.
— А я завтра сдаю. Или не сдаю.
— Конспекты дать?
— А у тебя есть конспекты?
Вздохнув, Фая уходит в свою комнату. На кухню входят бабульки, эдакие двое из ларца одинаковых с лица, впрочем, больше похожие на овечек со своими седыми кудряшками, однако не стоит обманываться: в душе они по-прежнему советские комсомолки и пионервожатые, хоть позднепенсионного возраста. Бабульки настороженно осматриваются по сторонам и прислушиваются.
— У вас тут все тихо? — спрашивает первая.
— Да, тишь и благодать, прям «4:33», — отвечает Слава, помешивая Фаин суп.
— Что такое «4:33»? — спрашивает вторая.
— Это произведение композитора Джона Кейджа, — терпеливо разъясняет Слава. — «4:33» — это 4 минуты и 33 секунды тишины. Исполняется любым составом.
— О, вот оно как! — удивляется бабулька. — Надо бы запомнить. «4:33»...
— Слава, а ты чего тут делаешь? — смекает первая. — Ты же на тринадцатом живешь!
— Да вот за конспектами к Фае...
На кухню заходит Фая и выносит стопку отпечатанных листов.
— Добрый вечер, — здоровается она с бабульками и вручает конспекты Славе. — Их из поколения в поколение по почте рассылают. Где ты вечно витаешь?
— Я витал в облаках, я бродил по углям,
Изливался дождем на пустыни,
И в моих сапогах бушевал океан,
И мне пели с Олимпа богини... — как всегда в затруднительных ситуациях, переходит на стихи Слава.
— Стихи будешь завтра Герману читать.
— А что? Хорошие стихи, — встревает вторая бабулька. — А кто автор?
— Бродский, — небрежно врет Слава.
— А-а-а... — соображает бабулька, — Да, хороший поэт, хотя я его не очень люблю. Уж больно мрачный. Зато мой муж, царство ему небесное, он им прям восхищался. В молодости, когда мы только еще на свиданки бегали, он мне его чуть ли не каждый вечер читал. Вот бывало сядем с ним на скамейке в парке, а он как зальется соловьем...
— Ну, ладно, хватит, Зин, — прерывает ее ностальгические воспоминания вторя бабулька, хмуро поглядывая в окно. — Пойдем. Там на шестнадцатом, кажется, опять галдят.
Синхронно вздохнув, старушки покидают кухню, тихонько ворча.
— Да ладно тебе, — ухмыляется Фая. — Философию не знаешь, так хоть стихи почитай. Авось смилостивится.
— Хватит того, что я завтра явлюсь за зачет в этом костюме, — вздыхает Слава.
— А если придешь как нормальный человек?
— Где ты здесь нормального человека видела?
— Тут нормальных вообще не водится. Просто некоторые умеют притворяться. Ладно. У меня нет настроения общаться. Иди уже учи. Только сначала отбери у этих раздолбаев Брамса. А то опять колбасой накормят, и он мне весь блок от радости задрищет.
Достучавшись до артемовской толпы, Слава отправляется на поиски Брамса. Толстый Брамс обнаруживается за холодильником, жадно уминающим кусок жирной колбасы. Решив погеройствовать в благодарность за конспекты, Слава намеревается отнять у зверя некошерную еду. Весьма спокойный и толерантный к бесконечным объятиям и перманентной какофонии музыкальной общаги кот Брамс, обретя бесценное сокровище в виде куска колбасы, превращается в разъяренного тигра, если попытаться отобрать у него добычу. Слава узнает об этом обстоятельстве на собственном опыте, и потому за холодильником разворачивается кровавая битва. Матерясь и чертыхаясь, Слава приносит в окровавленных руках дергающийся и рычащий сверток казенного покрывала и, отказавшись от помощи, гордо уходит залечивать боевые ранения и грызть гранит философской науки.
=> Глава 5a. Наказание
Глава 4с. Преступление
— Коньяк — это, конечно, хорошо, но сегодня без меня, — мрачно тушит бычок Слава.
Проклиная мироздание, Слава снова возвращается в свою комнату, ставит кофе и садится за билеты. Через один билет желудок снова напоминает о себе и требует выйти из комнаты, чтобы порыться в холодильнике, но на поверку оказывается, что для того, чтобы встретить некую незнакомку с напрочь перепуганными глазами, в одних трусах, скромно прикрывающую грудь ладонями.
— Ой! — вскрикивает она.
— И вам добрый вечер, сударыня. Какими судьбами?
— Можно я дверь закрою? — почему-то спрашивает она, поворачивая ключ, торчащий из двери блока. — Там тамары-санитары.
— Бабульки, что ли? — догадывается Слава.
— Ага.
— А чего вы, сударыня, в таком негляже разгуливаете, стесняюсь спросить?
— Это... прости...те. Мы в карты на раздевание играли. В общем, у меня был выбор: либо снимать трусы, либо пробежать от левой кухни до правой и обратно в трусах. И тут как назло тамары-санитары на этаж приехали. Я не придумала ничего лучше, чем забежать в первый незапертый блок.
— Мда, — задумчиво чешет в затылке Слава. — Может, тебе хоть полотенце дать?
— Нет, не надо. Я ж проиграла. А карточный долг — дело святое. Значит, придется в трусах бежать, а не в полотенце.
— Ладно, — соглашается Слава, и, открыв дверь в уборную, снимает с нее картину и вручает девушке. — Дарю. Картина — не одежда, но прикрыться ей можно.
Девушка снова ойкает и, кажется, забыв о том, для чего ей в данный момент нужны руки, берет картину. На ней в стиле Лихтенштейна изображена обнаженная блондинка от губ до пупка, судя по разметавшимся желтым волосам, лежащая на кровати, слегка прикрытая синим одеялом, с красной телефонной трубкой в руках. Из открытого красного рта выплывает баббл со словами: «Coupe! Coupe vite, je t'aime, je t'aime, je t'aime, t'aime».
— Это что, «Человеческий голос»? — спрашивает девушка.
— Вау! — изумляется Слава. — Ты первый человек, кто догадался.
Девушка поспешно прижимает картину к груди.
— Спасибо, — тихо произносит она. Слушай, а ты можешь в коридор выглянуть, санитарки еще там?
Слава отпирает дверь, выходит в коридор, осматривается.
— Все чисто. А на противоположной кухне уже толпа стоит. Видимо, тебя ждут.
— Я тогда пойду и закончу начатое. Холодно все-таки, — сообщает девушка и покидает блок.
Вздохнув, Слава возвращается в комнату, и, позабыв о своих первоначальных намерениях, снова принимается за билеты. Но уже через 20 минут раздается стук в дверь. «Блядь!», — выпаливает Слава, со злостью швыряя ручку об стену, и открывает дверь.
— Прости, это опять я, — говорит новая знакомая, но уже одетая. — Я хотела картину вернуть.
— Не нужна она мне. И соседка мне уже который месяц угрожает ее выкинуть. Так что забирай. Пусть будет у тебя. Или выкини нахуй, — угрюмо отвечает Слава.
— Нет, это хорошая картина, — говорит девушка. — Я ее не выкину.
Она шмыгает носом и вытирает слезу со щеки.
— Ты чего? — испуганно спрашивает Слава.
— Они меня на видео заняли, — всхлипывает девушка и внезапно начинает реветь. Слава снова заглядывает в уборную и выдает девушке рулон туалетной бумаги. Отмотав добротный кусок, девушка громко сморкается.
— Какая комната? — спрашивает Слава.
— 138-я, — вздыхает девушка.
— Так, и еще одно уточнение. Как тебя зовут?
— Ника, — немного успокаивается гостья, стирая потекшую тушь бумагой.
— А я Слава. Оч приятно. А теперь ты, Ника, сейчас пойдешь и умоешься, а потом зайдешь в мою комнату и сваришь в турке кофе. Все необходимое найдешь на пианине. Я сейчас вернусь.
Вообще, разборки никогда Славе особо не удавались, но делать нечего. Назвался Горшком — пой русский рок. Отворив 138-й блок, Слава по шуму понимает, в какой комнате пьянка, и, заходя, громко хлопает дверью. Веселье становится немного тише. Лица, как назло, сплошь незнакомые. Скрестив руки на груди и расставив ноги на ширину плеч в попытке придать себе более внушительный вид, Слава включает свой слабый голос на полную мощность, стараясь не срываться на крик:
— Так! Господа. И дамы. Какая падла сейчас Нику на телефон снимала?
Вот теперь все замолкают.
— А тебе чего? — огрызается какой-то молоденький паренек. — Ты ей кто ваще?
— А тебе какое дело, кто я ей? Взял телефон и удалил!
— Ща! — смеется наглец.
— Не «ща», а взял и удалил. А то я с тобой видео сниму, и вряд ли тебе понравятся плоды моей фантазии.
— Да, Вань, ты со Славой поаккуратнее. Этот человек хуи в рояль кидает, — внезапно слышит Слава знакомый голос, но в упор не может вспомнить имя его обладателя.
Несмотря на то, что никаких хуев в рояль Славе кидать не приходилось, сейчас слухи оказываются как нельзя более кстати.
— И цепи тоже, — подхватывает Слава. — И в смирительную рубашку исполнителей завязываю, и в наручники заковываю, и рты скотчем залепляю. И это только на академической сцене.
— Ладно-ладно, допустим, боюсь, — откликается доморощенный киношник. — А что мне за это будет?
— А за это тебе не придется растягивать глотку и бороться с рвотным рефлексом. Удаляй видео.
— Удаляй, — повторяет внезапно образовавшийся помощник, подсаживаясь к наглецу.
— Будь добр, проконтролируй, пожалуйста, чтобы все было чисто, — распоряжается Слава. — Что ж, больше не смею прерывать ваше веселье. Доброй ночи, дамы и господа.
Вместо того, чтобы сварить кофе, Ника просто залила его в чашках горячей водой. «Ладно, — немного удивляется Слава про себя. — Допустим, не все понимают, как пользоваться кипятильником». Ника растерянно мешает сахар с кофейной гущей в своей кружке.
— Итак, думаю, мы разобрались, — сообщает Слава, усаживаясь за стол. — Но стопроцентной гарантии дать не могу. Опять же, если где всплывет, то всплывет, ничего не попишешь. Остается только смириться с тем, что черного пиара не бывает. Ну, подумаешь, бегала в трусах по общаге. Шарлотта Мурмэн, виолончелистка, однажды даже в обезьянник попала за то, что играла сонату Брамса голой на каком-то концерте. И ничего. Она вообще, кажется, половину концертов в своей жизни сыграла без трусов. И ничего ее не смущало.
— Со мной впервые такое, ты не думай, — тупит взор Ника. — Что-то как-то я не рассчитала. Видимо, настойка была крепче, чем казалась.
— Забей и не бери в голову. С такой фигурой грех в трусах по общаге не пробежаться. Потом еще ученикам рассказывать будешь, как ты в молодости зажигала.
Ника печально вздыхает и, кажется, снова готовится зареветь.
— Прости, из меня некудышный психолог, — закуривает Слава, стараясь не выказывать раздражения. — Но сейчас ты допьешь кофе, успокоишься и пойдешь к себе. А у меня завтра зачет по философии, и кровь из носу надо готовиться.
— Ой, прости, — пугается Ника. — Хочешь, я могу помочь... Ну, не знаю, вслух почитать... или помочь шпоры написать...
— Я справлюсь, благодарю.
— Могу я хоть что-то сделать? — не угоманивается Ника.
— Можешь забрать картину, пока ее кто-нибудь не выкинул.
— Да-да, конечно, заберу. Спасибо. Я ее над кроватью повешу, — тараторит девушка.
«Да хоть в Эрмитаж», — раздраженно думает Слава, утыкаясь в экран ноутбука.
Ника, поняв, что больше с ней разговаривать не намерены, встает и удаляется, прихватив картину. Удостоверившись, что она ушла, Слава запирает блок на замок (кто не взял ключ, тот долбоеб) и, порывшись в холодильнике, извлекает из него недоеденный винегрет и зачерствевший хлеб.
Ближе к четырем часам утра в распухший мозг Славы врывается душераздирающий дверной звонок. «Вот и долбоеб обнаружился, или долбоебка», — констатирует про себя Слава, открывая дверь, а вслух произносит только «майка Босха!», потому что перед ним стоит незнакомый окровавленный парень.
— Ой, извините, я не туда попал, — заплетающимся языком произносит он, придерживая здоровой рукой безвольную окровавленную кисть.
— Ёб твоих дивизи8, — по-прежнему не может найти приличных слов Слава. — Иди сюда, долбоеб.
8
Бесцеремонно втащив пьяного путника в блок, Слава снова чертыхается, обнаружив кровавый след, идущий по коридору в сторону лифтов. Пришелец, истекая кровью на коврик в прихожей, тупит.
— Иди промой руку, — говорит Слава, заталкивая его в ванную.
— Что случилось? — на пороге своей комнаты появляется сонная Ирка.
— Не знаю, даже спрашивать не хочу, — раздраженно отвечает Слава, уходя в свою комнату за чистым полотенцем и аптечкой.
Ирка, заглянув в ванную, вскрикивает.
— Сережа, что случилось? — несколько театрально восклицает она.
Сережа мычит что-то невнятное.
— Крови не боишься? — спрашивает Ирку Слава, пробираясь в ванную комнату и водружая аптечку на стиральную машинку.
— Нет, — стоически отвечает она.
— Вот и молодец, — удостаивает ее похвалы Слава. — Раз ты его знаешь, ты им и займись, будь добра. А я пойду смою следы преступления, пока гарпии не слетелись.
На этих словах Слава достает швабру и ведро и переключает воду на душ, чтобы набрать воды.
— Я сам... — начинает что-то бубнить несчастный Сережа.
— Shut up and fuck off9, — разбавляет Слава русский мат английским.
9
Кровавый след идет по коридору мимо лифтов к лестнице, и дальше, и выше, и приводит к разбитому стеклу балконной двери на последнем шестнадцатом этаже. Слава заглядывает в ближайший к кухне блок, смывает грязную воду в унитаз и снова наполняет ведро. Удостоверившись, что кровь достаточно замыта для того, чтобы не сильно выделяться на фоне истерто-серого линолеума, Слава по-быстрому подметает стекло подвернувшимся в том же блоке веником, попутно размышляя: «И почему я вечно ввязываюсь в чужие проблемы? Вот стекло можно было бы и оставить. Все равно ж заметят его отсутствие и устроят разборки на всю общагу...» Избавившись от следов чужого преступления с помощью Фортуны и такой-то матери, ибо на этот раз никто не подумал мешаться под ногами, Слава возвращается к себе, а злополучный Сережа с Иркой уже пьют чай в угадайте-чьей комнате.
— Слав, прости, мы тут чай заварили. Просто девчонки спят уже. Я не хотела их будить, — начинает скороговоркой оправдываться Ирка.
Слава только громко вздыхает в ответ.
— Спасибо тебе, Слава, — внезапно прорезавшимся звучным баритоном произносит жертва собственной глупости. — Я Сергей.
И он протягивает Славе свою большую левую ладонь, поскольку правая рука капитально перемотана заботливой Иркой.
Слава жмет протянутую конечность левой рукой.
— Сережа на двенадцатом живет, прямо под нами, — продолжает объяснять Ирка. — Он этажи перепутал.
— Ах, вот кто по утрам заливается адским смехом, — хмыкает Слава. — Кто ты там? Воланд?
— Мефистофель, — виновато опускает глаза Сережа.
— Ладно, дорогое исчадье ада, — продолжает Слава, — я все могу понять, если захочу простить, но бал окончен, и тебе пора баиньки, а мне надо готовиться к зачету. О происшедшем мы будем молчать. Если другие свидетели выдадут — мы не виноваты. Всё. Ноги в руки, хвост на шею и кыш отсюда!
Незваные гости поспешно встают, Сережа пытается еще раз поблагодарить Славу, пожать руку и обнять, но Ира его оттаскивает и уводит из комнаты.
— Как же меня всё заебало! — стонет Слава падает на кровать.
=> Глава 5b. Симулякры
Проклиная мироздание, Слава снова возвращается в свою комнату, ставит кофе и садится за билеты. Через один билет желудок снова напоминает о себе и требует выйти из комнаты, чтобы порыться в холодильнике, но на поверку оказывается, что для того, чтобы встретить некую незнакомку с напрочь перепуганными глазами, в одних трусах, скромно прикрывающую грудь ладонями.
— Ой! — вскрикивает она.
— И вам добрый вечер, сударыня. Какими судьбами?
— Можно я дверь закрою? — почему-то спрашивает она, поворачивая ключ, торчащий из двери блока. — Там тамары-санитары.
— Бабульки, что ли? — догадывается Слава.
— Ага.
— А чего вы, сударыня, в таком негляже разгуливаете, стесняюсь спросить?
— Это... прости...те. Мы в карты на раздевание играли. В общем, у меня был выбор: либо снимать трусы, либо пробежать от левой кухни до правой и обратно в трусах. И тут как назло тамары-санитары на этаж приехали. Я не придумала ничего лучше, чем забежать в первый незапертый блок.
— Мда, — задумчиво чешет в затылке Слава. — Может, тебе хоть полотенце дать?
— Нет, не надо. Я ж проиграла. А карточный долг — дело святое. Значит, придется в трусах бежать, а не в полотенце.
— Ладно, — соглашается Слава, и, открыв дверь в уборную, снимает с нее картину и вручает девушке. — Дарю. Картина — не одежда, но прикрыться ей можно.
Девушка снова ойкает и, кажется, забыв о том, для чего ей в данный момент нужны руки, берет картину. На ней в стиле Лихтенштейна изображена обнаженная блондинка от губ до пупка, судя по разметавшимся желтым волосам, лежащая на кровати, слегка прикрытая синим одеялом, с красной телефонной трубкой в руках. Из открытого красного рта выплывает баббл со словами: «Coupe! Coupe vite, je t'aime, je t'aime, je t'aime, t'aime».
— Это что, «Человеческий голос»? — спрашивает девушка.
— Вау! — изумляется Слава. — Ты первый человек, кто догадался.
Девушка поспешно прижимает картину к груди.
— Спасибо, — тихо произносит она. Слушай, а ты можешь в коридор выглянуть, санитарки еще там?
Слава отпирает дверь, выходит в коридор, осматривается.
— Все чисто. А на противоположной кухне уже толпа стоит. Видимо, тебя ждут.
— Я тогда пойду и закончу начатое. Холодно все-таки, — сообщает девушка и покидает блок.
Вздохнув, Слава возвращается в комнату, и, позабыв о своих первоначальных намерениях, снова принимается за билеты. Но уже через 20 минут раздается стук в дверь. «Блядь!», — выпаливает Слава, со злостью швыряя ручку об стену, и открывает дверь.
— Прости, это опять я, — говорит новая знакомая, но уже одетая. — Я хотела картину вернуть.
— Не нужна она мне. И соседка мне уже который месяц угрожает ее выкинуть. Так что забирай. Пусть будет у тебя. Или выкини нахуй, — угрюмо отвечает Слава.
— Нет, это хорошая картина, — говорит девушка. — Я ее не выкину.
Она шмыгает носом и вытирает слезу со щеки.
— Ты чего? — испуганно спрашивает Слава.
— Они меня на видео заняли, — всхлипывает девушка и внезапно начинает реветь. Слава снова заглядывает в уборную и выдает девушке рулон туалетной бумаги. Отмотав добротный кусок, девушка громко сморкается.
— Какая комната? — спрашивает Слава.
— 138-я, — вздыхает девушка.
— Так, и еще одно уточнение. Как тебя зовут?
— Ника, — немного успокаивается гостья, стирая потекшую тушь бумагой.
— А я Слава. Оч приятно. А теперь ты, Ника, сейчас пойдешь и умоешься, а потом зайдешь в мою комнату и сваришь в турке кофе. Все необходимое найдешь на пианине. Я сейчас вернусь.
Вообще, разборки никогда Славе особо не удавались, но делать нечего. Назвался Горшком — пой русский рок. Отворив 138-й блок, Слава по шуму понимает, в какой комнате пьянка, и, заходя, громко хлопает дверью. Веселье становится немного тише. Лица, как назло, сплошь незнакомые. Скрестив руки на груди и расставив ноги на ширину плеч в попытке придать себе более внушительный вид, Слава включает свой слабый голос на полную мощность, стараясь не срываться на крик:
— Так! Господа. И дамы. Какая падла сейчас Нику на телефон снимала?
Вот теперь все замолкают.
— А тебе чего? — огрызается какой-то молоденький паренек. — Ты ей кто ваще?
— А тебе какое дело, кто я ей? Взял телефон и удалил!
— Ща! — смеется наглец.
— Не «ща», а взял и удалил. А то я с тобой видео сниму, и вряд ли тебе понравятся плоды моей фантазии.
— Да, Вань, ты со Славой поаккуратнее. Этот человек хуи в рояль кидает, — внезапно слышит Слава знакомый голос, но в упор не может вспомнить имя его обладателя.
Несмотря на то, что никаких хуев в рояль Славе кидать не приходилось, сейчас слухи оказываются как нельзя более кстати.
— И цепи тоже, — подхватывает Слава. — И в смирительную рубашку исполнителей завязываю, и в наручники заковываю, и рты скотчем залепляю. И это только на академической сцене.
— Ладно-ладно, допустим, боюсь, — откликается доморощенный киношник. — А что мне за это будет?
— А за это тебе не придется растягивать глотку и бороться с рвотным рефлексом. Удаляй видео.
— Удаляй, — повторяет внезапно образовавшийся помощник, подсаживаясь к наглецу.
— Будь добр, проконтролируй, пожалуйста, чтобы все было чисто, — распоряжается Слава. — Что ж, больше не смею прерывать ваше веселье. Доброй ночи, дамы и господа.
Вместо того, чтобы сварить кофе, Ника просто залила его в чашках горячей водой. «Ладно, — немного удивляется Слава про себя. — Допустим, не все понимают, как пользоваться кипятильником». Ника растерянно мешает сахар с кофейной гущей в своей кружке.
— Итак, думаю, мы разобрались, — сообщает Слава, усаживаясь за стол. — Но стопроцентной гарантии дать не могу. Опять же, если где всплывет, то всплывет, ничего не попишешь. Остается только смириться с тем, что черного пиара не бывает. Ну, подумаешь, бегала в трусах по общаге. Шарлотта Мурмэн, виолончелистка, однажды даже в обезьянник попала за то, что играла сонату Брамса голой на каком-то концерте. И ничего. Она вообще, кажется, половину концертов в своей жизни сыграла без трусов. И ничего ее не смущало.
— Со мной впервые такое, ты не думай, — тупит взор Ника. — Что-то как-то я не рассчитала. Видимо, настойка была крепче, чем казалась.
— Забей и не бери в голову. С такой фигурой грех в трусах по общаге не пробежаться. Потом еще ученикам рассказывать будешь, как ты в молодости зажигала.
Ника печально вздыхает и, кажется, снова готовится зареветь.
— Прости, из меня некудышный психолог, — закуривает Слава, стараясь не выказывать раздражения. — Но сейчас ты допьешь кофе, успокоишься и пойдешь к себе. А у меня завтра зачет по философии, и кровь из носу надо готовиться.
— Ой, прости, — пугается Ника. — Хочешь, я могу помочь... Ну, не знаю, вслух почитать... или помочь шпоры написать...
— Я справлюсь, благодарю.
— Могу я хоть что-то сделать? — не угоманивается Ника.
— Можешь забрать картину, пока ее кто-нибудь не выкинул.
— Да-да, конечно, заберу. Спасибо. Я ее над кроватью повешу, — тараторит девушка.
«Да хоть в Эрмитаж», — раздраженно думает Слава, утыкаясь в экран ноутбука.
Ника, поняв, что больше с ней разговаривать не намерены, встает и удаляется, прихватив картину. Удостоверившись, что она ушла, Слава запирает блок на замок (кто не взял ключ, тот долбоеб) и, порывшись в холодильнике, извлекает из него недоеденный винегрет и зачерствевший хлеб.
Ближе к четырем часам утра в распухший мозг Славы врывается душераздирающий дверной звонок. «Вот и долбоеб обнаружился, или долбоебка», — констатирует про себя Слава, открывая дверь, а вслух произносит только «майка Босха!», потому что перед ним стоит незнакомый окровавленный парень.
— Ой, извините, я не туда попал, — заплетающимся языком произносит он, придерживая здоровой рукой безвольную окровавленную кисть.
— Ёб твоих дивизи8, — по-прежнему не может найти приличных слов Слава. — Иди сюда, долбоеб.
8
Divisi (ит. «разделть») — термин, применяющийся в оркестре или хоре, когда партия делится надвое или натрое.
Бесцеремонно втащив пьяного путника в блок, Слава снова чертыхается, обнаружив кровавый след, идущий по коридору в сторону лифтов. Пришелец, истекая кровью на коврик в прихожей, тупит.
— Иди промой руку, — говорит Слава, заталкивая его в ванную.
— Что случилось? — на пороге своей комнаты появляется сонная Ирка.
— Не знаю, даже спрашивать не хочу, — раздраженно отвечает Слава, уходя в свою комнату за чистым полотенцем и аптечкой.
Ирка, заглянув в ванную, вскрикивает.
— Сережа, что случилось? — несколько театрально восклицает она.
Сережа мычит что-то невнятное.
— Крови не боишься? — спрашивает Ирку Слава, пробираясь в ванную комнату и водружая аптечку на стиральную машинку.
— Нет, — стоически отвечает она.
— Вот и молодец, — удостаивает ее похвалы Слава. — Раз ты его знаешь, ты им и займись, будь добра. А я пойду смою следы преступления, пока гарпии не слетелись.
На этих словах Слава достает швабру и ведро и переключает воду на душ, чтобы набрать воды.
— Я сам... — начинает что-то бубнить несчастный Сережа.
— Shut up and fuck off9, — разбавляет Слава русский мат английским.
9
Заткнись и отъебись (англ.).
Кровавый след идет по коридору мимо лифтов к лестнице, и дальше, и выше, и приводит к разбитому стеклу балконной двери на последнем шестнадцатом этаже. Слава заглядывает в ближайший к кухне блок, смывает грязную воду в унитаз и снова наполняет ведро. Удостоверившись, что кровь достаточно замыта для того, чтобы не сильно выделяться на фоне истерто-серого линолеума, Слава по-быстрому подметает стекло подвернувшимся в том же блоке веником, попутно размышляя: «И почему я вечно ввязываюсь в чужие проблемы? Вот стекло можно было бы и оставить. Все равно ж заметят его отсутствие и устроят разборки на всю общагу...» Избавившись от следов чужого преступления с помощью Фортуны и такой-то матери, ибо на этот раз никто не подумал мешаться под ногами, Слава возвращается к себе, а злополучный Сережа с Иркой уже пьют чай в угадайте-чьей комнате.
— Слав, прости, мы тут чай заварили. Просто девчонки спят уже. Я не хотела их будить, — начинает скороговоркой оправдываться Ирка.
Слава только громко вздыхает в ответ.
— Спасибо тебе, Слава, — внезапно прорезавшимся звучным баритоном произносит жертва собственной глупости. — Я Сергей.
И он протягивает Славе свою большую левую ладонь, поскольку правая рука капитально перемотана заботливой Иркой.
Слава жмет протянутую конечность левой рукой.
— Сережа на двенадцатом живет, прямо под нами, — продолжает объяснять Ирка. — Он этажи перепутал.
— Ах, вот кто по утрам заливается адским смехом, — хмыкает Слава. — Кто ты там? Воланд?
— Мефистофель, — виновато опускает глаза Сережа.
— Ладно, дорогое исчадье ада, — продолжает Слава, — я все могу понять, если захочу простить, но бал окончен, и тебе пора баиньки, а мне надо готовиться к зачету. О происшедшем мы будем молчать. Если другие свидетели выдадут — мы не виноваты. Всё. Ноги в руки, хвост на шею и кыш отсюда!
Незваные гости поспешно встают, Сережа пытается еще раз поблагодарить Славу, пожать руку и обнять, но Ира его оттаскивает и уводит из комнаты.
— Как же меня всё заебало! — стонет Слава падает на кровать.
=> Глава 5b. Симулякры
Глава 5. Дела житейские
А просыпается Слава отнюдь не от истошного звона будильника, а от громоподобного стука в дверь. Не обнаружив очков, Слава падает с кровати и, чертыхаясь, открывает.
— Сволочь ты, Слава, — здоровается Машка.
— И тебе доброго утра, дорогая, — протирает глаза Слава.
— Знаешь, вчера всё было так чудесно, мы избавились от этой чертовой картины, я провела замечательную ночь в объятьях Рояля... И знаешь, что я увидела утром, открыв глаза?! Твои гребаные сиськи!
— Да че сразу гребаные? — Слава заглядывает себе под ворот. — Нормальные сиськи. Че так вопить-то с утра пораньше?
— Какое с утра пораньше?! Уже двенадцать! — вопит Машка.
— Бля! — подпрыгивает Слава. — У меня же зачет в одиннадцать!
На этом месте, пожалуй, стоит упомянуть, что однажды Славе довелось пожить полгода в Соединенных Штатах. При раздолбайстве, помноженном на юношеский максимализм, особо набраться уму-разуму у Славы не получилось, зато появилось несколько странных привычек, одна из которых — спать в одежде. Дело в том, что многие американские студенты живут так: с вечера одеваются, расчесываются, красятся (кому надо), собирают вещи и ложатся спать, а утром, вскочив по последнему будильнику, запрыгивают в машину и едут в универ, по пути покупая кофе и гамбургер в окне Макдональдса. Машины у Славы, впрочем, как не было, так и не предвидится, а черные полинялые джинсы с мятой черной рубашкой вполне подходят для сдачи зачета. Только добавить галстук. Но, вспомнив, что за окном зима, а помещение консерватории отапливается так, что чернила в ручках замерзают, Слава надевает поверх черную вязаную жилетку и черный же вельветовый пиджак, сгребает со стола плоды своих мучений в наплечную сумку и, вскочив в заранее зашнурованные ботинки и накинув пальто, вылетает из блока со шляпой в руке под ехидным взором Машки.
— Покорми Дракулу! — кричит ей Слава, скрываясь за дверью, и, дожидаясь лифта, наивно чекает цены на такси 31-го декабря.
В итоге приходится благоразумно пойти на маршрутку. К счастью, нормальным людям не надо срочно ехать в центр в полдень перед новым годом, так что Славе даже удается найти свободное место и с комфортом прогуглить пару билетов. Конечно, особой уверенности это не придает, но чувство выполненного долга, вероятно, отражается на лице Славы при входе в почти опустевшую аудиторию. Доцент Герман устало беседует с последним аспирантом, добиваясь от него определения сути кочевничества. Завидев Славу, он качает головой и выдает единственный оставшийся на его столе билет. Деррида... Что-то такое в шпорах было. Поэтому проснувшаяся наглость заставляет Славу усесться за первую парту, демонстративно вывалить из сумки шпоры и найти нужную. Герман чуть склоняет голову, оглядывая представшую его взору картину.
Вообще, лекции Германа Славе всегда нравились, хотя попадать на них в связи с перманентными запарами и ленью, редко получалось. Пухлый и невысокий, Герман сильно напоминает мультяшного Карлсона, даже тембром голоса. Герман говорит быстро, разбавляя сложный для музыкантского восприятия материал бесконечными шутками и анекдотами, и каждая его лекция завершается бурными овациями всей аудитории.
Через десять минут, видимо, устав прикалываться над глупым музыкантом, Герман отправляет его на пересдачу и обращается к Славе:
— Тяжелая ночка?
— А то, — отвечает Слава. — Деррида бы сказал, деконструктивная.
— А знаете, что? — доцент встает из-за стола и подходит к Славиной парте. — Я тоже устал. И хочу домой. Давайте зачетку.
Слава обомлело протягивает зачетную книжку.
— Деррида, Дерриду, Дерриде, Дерридою... — напевает Герман, лихо расписываясь. — Все. Идите спать. И никому ни слова.
— Спасибо, Андрей Юрьевич, — все еще не веря в происходящее, отзывается Слава.
— С наступающим, — кивает доцент, возвращаясь к своему столу.
Покинув аудиторию, Слава решает потратить n-ную сумму денег на собственное тело, чудесным образом обретшее органы, вознаградив его кружкой (или даже двумя) темного пива. Остается только один вопрос:
а) «Бесы». => Глава 6
б) «Сарай». => Глава 6а
— Сволочь ты, Слава, — здоровается Машка.
— И тебе доброго утра, дорогая, — протирает глаза Слава.
— Знаешь, вчера всё было так чудесно, мы избавились от этой чертовой картины, я провела замечательную ночь в объятьях Рояля... И знаешь, что я увидела утром, открыв глаза?! Твои гребаные сиськи!
— Да че сразу гребаные? — Слава заглядывает себе под ворот. — Нормальные сиськи. Че так вопить-то с утра пораньше?
— Какое с утра пораньше?! Уже двенадцать! — вопит Машка.
— Бля! — подпрыгивает Слава. — У меня же зачет в одиннадцать!
На этом месте, пожалуй, стоит упомянуть, что однажды Славе довелось пожить полгода в Соединенных Штатах. При раздолбайстве, помноженном на юношеский максимализм, особо набраться уму-разуму у Славы не получилось, зато появилось несколько странных привычек, одна из которых — спать в одежде. Дело в том, что многие американские студенты живут так: с вечера одеваются, расчесываются, красятся (кому надо), собирают вещи и ложатся спать, а утром, вскочив по последнему будильнику, запрыгивают в машину и едут в универ, по пути покупая кофе и гамбургер в окне Макдональдса. Машины у Славы, впрочем, как не было, так и не предвидится, а черные полинялые джинсы с мятой черной рубашкой вполне подходят для сдачи зачета. Только добавить галстук. Но, вспомнив, что за окном зима, а помещение консерватории отапливается так, что чернила в ручках замерзают, Слава надевает поверх черную вязаную жилетку и черный же вельветовый пиджак, сгребает со стола плоды своих мучений в наплечную сумку и, вскочив в заранее зашнурованные ботинки и накинув пальто, вылетает из блока со шляпой в руке под ехидным взором Машки.
— Покорми Дракулу! — кричит ей Слава, скрываясь за дверью, и, дожидаясь лифта, наивно чекает цены на такси 31-го декабря.
В итоге приходится благоразумно пойти на маршрутку. К счастью, нормальным людям не надо срочно ехать в центр в полдень перед новым годом, так что Славе даже удается найти свободное место и с комфортом прогуглить пару билетов. Конечно, особой уверенности это не придает, но чувство выполненного долга, вероятно, отражается на лице Славы при входе в почти опустевшую аудиторию. Доцент Герман устало беседует с последним аспирантом, добиваясь от него определения сути кочевничества. Завидев Славу, он качает головой и выдает единственный оставшийся на его столе билет. Деррида... Что-то такое в шпорах было. Поэтому проснувшаяся наглость заставляет Славу усесться за первую парту, демонстративно вывалить из сумки шпоры и найти нужную. Герман чуть склоняет голову, оглядывая представшую его взору картину.
Вообще, лекции Германа Славе всегда нравились, хотя попадать на них в связи с перманентными запарами и ленью, редко получалось. Пухлый и невысокий, Герман сильно напоминает мультяшного Карлсона, даже тембром голоса. Герман говорит быстро, разбавляя сложный для музыкантского восприятия материал бесконечными шутками и анекдотами, и каждая его лекция завершается бурными овациями всей аудитории.
Через десять минут, видимо, устав прикалываться над глупым музыкантом, Герман отправляет его на пересдачу и обращается к Славе:
— Тяжелая ночка?
— А то, — отвечает Слава. — Деррида бы сказал, деконструктивная.
— А знаете, что? — доцент встает из-за стола и подходит к Славиной парте. — Я тоже устал. И хочу домой. Давайте зачетку.
Слава обомлело протягивает зачетную книжку.
— Деррида, Дерриду, Дерриде, Дерридою... — напевает Герман, лихо расписываясь. — Все. Идите спать. И никому ни слова.
— Спасибо, Андрей Юрьевич, — все еще не веря в происходящее, отзывается Слава.
— С наступающим, — кивает доцент, возвращаясь к своему столу.
Покинув аудиторию, Слава решает потратить n-ную сумму денег на собственное тело, чудесным образом обретшее органы, вознаградив его кружкой (или даже двумя) темного пива. Остается только один вопрос:
а) «Бесы». => Глава 6
б) «Сарай». => Глава 6а
Глава 5a. Наказание
А просыпается Слава отнюдь не от истошного звона будильника, а от громоподобного стука в дверь. Не обнаружив очков, Слава падает с кровати и чертыхаясь открывает.
— Слава! Какого черта ты тут творишь?! — с порога вопит бабулька-дежурная.
— Что? — не врубается Слава.
— Кто вчера на шестнадцатом окно на балкон разбил?!
— Что разбил? Я... у меня сегодня по философии зачет... Я всю ночь билеты...
— Ты нам тут зубы не заговаривай! Сначала с Фаей борщи варили, а потом пошли на шестнадцатый гудеть?! Мы их полночи разгоняли, а они опять там собирались все!
— Да не было меня там, честное пионерское! У меня зачет сегодня...
— А рука почему в бинте? — перебивает вторая бабулька.
— А это... — Слава задумывается и тут обращает внимание на заляпанный кровью пол блока.
Отодвинув бабулек, Слава проходит в ванную и обнаруживает, что там и пол, и раковина, и ванна, и все краны заляпаны кровью. И это явно не Брамсовских лап дело. От кошачьих царапок такой кровищи явно не было. Под гомон бабулек Слава высовывается из блока и обнаруживает дорожку из кровавых капель, идущую со стороны лифтов в их блок.
— Так что у тебя с рукой? — не унимается бабулька.
— Это кот, — не находится, что выдумать, Слава. Если сказать, что это Брамс, то подставишь Фаю, так как мы помним, что животные в общаге — контрабанда, и контрабанда наказуемая. А если признаться в существовании Дракулы, то пиздюлей дадут Славе. Вот вам и дилемма.
— Это Васька! — спасает положение внезапно выползшая из своей комнаты похмельная Анька.
— Да, — подхватывает Слава. — Наш кот-охранник. Ему вчера кто-то кусок жирной колбасы дал, а кошкам такое нельзя, вот я и...
— Так, — теряет терпение одна из бабулек. — Все, достали вы меня! Идем к коменданту!
И бабки бесцеремонно начинают выпихивать Славу на разборки, но тут в комнате, на крышке пианино истошно звонит будильник. Его вибрация пугает Дракулу, мирно почевавшего на этой самой крышке, и он оглашает шестнадцатиэтажное здание общаги душераздирающим мявом.
Спустя десять минут отборной ругани престарелых комсомолок Слава в костюме единорога, так и не снятом со вчерашнего вечера, оказывается в изоляторе с кошачьей переноской у ног. Коменданта, ясное дело, еще нет. Дракула тихо подвывает и шкребется в переноске. От нечего делать Слава пытается хоть что-нибудь припомнить из прочитанного накануне, но вспоминается весьма плохо, а вместо структуралистов и постструктуралистов в голову приходит только Кафка со своим «Процессом» и экзистенциальным кризисом.
Здесь следует сделать небольшое отступление и поведать некоторые пикантные подробности из жизни Славы. Полугодовая программа студенческого обмена, по которой Славу однажды занесло в Калифорнию, принесла свои плоды не только в виде беглого разговорного языка, но и в виде нескольких странных привычек. Одна из них — валяться где ни попадя. Дело в том, что тротуары в Соединенных Штатах почти везде настолько чистые, что на них можно запросто сидеть даже в белых брюках, нисколько не боясь их запачкать, а в большинстве учреждений лежит ковролин, также располагающий к сидению и даже лежанию на нем, чем местные граждане активно пользуются. В российских реалиях подобное поведение может показаться несколько эксцентричным, но не для Славы, чье отрочество прошло в компании панков и металлистов, напрочь лишенных всякого чувства мизофобии.
Поэтому, замерзнув на жесткой деревянной кровати без постельного белья, Слава достает кота, устраивается с ним в обнимку под батареей и засыпает. Спустя пару часов выясняется, что комендант отказывается выходить на работу в предпраздничный день и препоручает разобраться в деле имеющимися силами. От нечего делать бабульки приводят в мини-зоопарк охранницу тетю Лару. Та отличается весьма благодушным нравом и к Славе злобы не питает. Выслушав всю историю, теперь с поправкой на драку с Дракулой, и осмотрев царапины на руках, она убеждает бабулек забить на кота, так как всем известно, что коты в общаге водятся, и Слава — не единственный единорог, то есть человек, нарушающий строгий устав, и отправляет блюстительниц беспорядка искать истинного виновника ЧП на шестнадцатом этаже.
Так ничего и не выяснив, кроме того, что зачет уже начался, Слава накидывает на костюм единорога пальто и, препоручив Дракулу проснувшимся, убегает в консерваторию. Дожидаясь лифта, Слава наивно чекает цены на такси 31-го декабря и благоразумно идет на маршрутку. К счастью, нормальным людям не надо срочно ехать в центр в 11 утра перед новогодней ночью, так что Славе даже удается найти свободное место и с комфортом почитать конспекты. Впрочем, конспекты плохо лезут в голову из-за внезапно возникшего детективного расследования. Кто и зачем умудрился разбить окно на шестнадцатом этаже и зачем этот кто-то пошел на тринадцатый этаж отмывать руку (или ногу?) в Славином блоке? И главное, никто никого не видел! Какой-то сюр.
Увидев потрепанного единорога на пороге аудитории спустя час после начала зачета, доцент Герман просит Славу подождать в коридоре. Стульев там, конечно же, не обнаруживается, поэтому приходится сесть на пол. Немного подумав, Слава достает из рюкзака линзы и при помощи фронтальной камеры телефона и такой-то матери втыкает их в глаза, после чего вновь возвращается к конспектам. Аспиранты один за другим с интервалом минут в десять-пятнадцать покидают аудиторию, не обращая на единорога никакого внимания. Потом уставшая от приключений спина заставляет Славу принять горизонтальное положение. «Будь что будет», — решает Слава и откладывает конспекты, собираясь поразмыслить о чем-нибудь более позитивном. И тут, конечно же, в голову начинает лезть всякая ерунда, а точнее, глупая песенка из нулевых, игравшая в маршрутке. Слава тотчас начинает мысленно переделывать ее на философский лад:
"Слезы Делёза капали,
Не отвечает Гватари.
Капали слезы Гватари,
Падали Делёзы, падали.
Мы как Делёз и Гватари,
Всем на мозги мы капали…"
Эту отчаянную ерунду перебивает вышедший из класса преподаватель.
— Как низко вы пали, — обращается он к Славе с высоты своего роста.
— Это не падение. Как видите, я лежу на полу. То есть веду половую жизнь. Хоть у кого-то в этом здании должна же быть половая жизнь? — отшучивается Слава.
— Хороший костюмчик, — отмечает Герман. — А с кем подрались?
— С котом, — отвечает Слава, тяжело поднимаясь. — За колбасу.
— Что, кот питается лучше, чем вы? — ухмыляется доцент.
— Уж куда лучше. У него хоть тело с органами... А мое, кажется, их начисто лишилось, — кряхтит Слава, потягиваясь.
— А в костюме единорога на зачет на спор пришли?
— Как вы догадались? — удивляется Слава.
— Со мной тоже такое было... — ностальгически поднимает очи к небу, то есть к потемневшему потолку старого здания Герман. — И на что спорили?
а) — По традиции, на ящик водки, — решает соврать Слава. => Глава 6b. Девушка в красном и девушка в синем
б) — Проигравший будет встречать новый год в образе Мерлин Монро, — честно отвечает Слава.
=> Глава 6c. Спонтанность
— Слава! Какого черта ты тут творишь?! — с порога вопит бабулька-дежурная.
— Что? — не врубается Слава.
— Кто вчера на шестнадцатом окно на балкон разбил?!
— Что разбил? Я... у меня сегодня по философии зачет... Я всю ночь билеты...
— Ты нам тут зубы не заговаривай! Сначала с Фаей борщи варили, а потом пошли на шестнадцатый гудеть?! Мы их полночи разгоняли, а они опять там собирались все!
— Да не было меня там, честное пионерское! У меня зачет сегодня...
— А рука почему в бинте? — перебивает вторая бабулька.
— А это... — Слава задумывается и тут обращает внимание на заляпанный кровью пол блока.
Отодвинув бабулек, Слава проходит в ванную и обнаруживает, что там и пол, и раковина, и ванна, и все краны заляпаны кровью. И это явно не Брамсовских лап дело. От кошачьих царапок такой кровищи явно не было. Под гомон бабулек Слава высовывается из блока и обнаруживает дорожку из кровавых капель, идущую со стороны лифтов в их блок.
— Так что у тебя с рукой? — не унимается бабулька.
— Это кот, — не находится, что выдумать, Слава. Если сказать, что это Брамс, то подставишь Фаю, так как мы помним, что животные в общаге — контрабанда, и контрабанда наказуемая. А если признаться в существовании Дракулы, то пиздюлей дадут Славе. Вот вам и дилемма.
— Это Васька! — спасает положение внезапно выползшая из своей комнаты похмельная Анька.
— Да, — подхватывает Слава. — Наш кот-охранник. Ему вчера кто-то кусок жирной колбасы дал, а кошкам такое нельзя, вот я и...
— Так, — теряет терпение одна из бабулек. — Все, достали вы меня! Идем к коменданту!
И бабки бесцеремонно начинают выпихивать Славу на разборки, но тут в комнате, на крышке пианино истошно звонит будильник. Его вибрация пугает Дракулу, мирно почевавшего на этой самой крышке, и он оглашает шестнадцатиэтажное здание общаги душераздирающим мявом.
Спустя десять минут отборной ругани престарелых комсомолок Слава в костюме единорога, так и не снятом со вчерашнего вечера, оказывается в изоляторе с кошачьей переноской у ног. Коменданта, ясное дело, еще нет. Дракула тихо подвывает и шкребется в переноске. От нечего делать Слава пытается хоть что-нибудь припомнить из прочитанного накануне, но вспоминается весьма плохо, а вместо структуралистов и постструктуралистов в голову приходит только Кафка со своим «Процессом» и экзистенциальным кризисом.
Здесь следует сделать небольшое отступление и поведать некоторые пикантные подробности из жизни Славы. Полугодовая программа студенческого обмена, по которой Славу однажды занесло в Калифорнию, принесла свои плоды не только в виде беглого разговорного языка, но и в виде нескольких странных привычек. Одна из них — валяться где ни попадя. Дело в том, что тротуары в Соединенных Штатах почти везде настолько чистые, что на них можно запросто сидеть даже в белых брюках, нисколько не боясь их запачкать, а в большинстве учреждений лежит ковролин, также располагающий к сидению и даже лежанию на нем, чем местные граждане активно пользуются. В российских реалиях подобное поведение может показаться несколько эксцентричным, но не для Славы, чье отрочество прошло в компании панков и металлистов, напрочь лишенных всякого чувства мизофобии.
Поэтому, замерзнув на жесткой деревянной кровати без постельного белья, Слава достает кота, устраивается с ним в обнимку под батареей и засыпает. Спустя пару часов выясняется, что комендант отказывается выходить на работу в предпраздничный день и препоручает разобраться в деле имеющимися силами. От нечего делать бабульки приводят в мини-зоопарк охранницу тетю Лару. Та отличается весьма благодушным нравом и к Славе злобы не питает. Выслушав всю историю, теперь с поправкой на драку с Дракулой, и осмотрев царапины на руках, она убеждает бабулек забить на кота, так как всем известно, что коты в общаге водятся, и Слава — не единственный единорог, то есть человек, нарушающий строгий устав, и отправляет блюстительниц беспорядка искать истинного виновника ЧП на шестнадцатом этаже.
Так ничего и не выяснив, кроме того, что зачет уже начался, Слава накидывает на костюм единорога пальто и, препоручив Дракулу проснувшимся, убегает в консерваторию. Дожидаясь лифта, Слава наивно чекает цены на такси 31-го декабря и благоразумно идет на маршрутку. К счастью, нормальным людям не надо срочно ехать в центр в 11 утра перед новогодней ночью, так что Славе даже удается найти свободное место и с комфортом почитать конспекты. Впрочем, конспекты плохо лезут в голову из-за внезапно возникшего детективного расследования. Кто и зачем умудрился разбить окно на шестнадцатом этаже и зачем этот кто-то пошел на тринадцатый этаж отмывать руку (или ногу?) в Славином блоке? И главное, никто никого не видел! Какой-то сюр.
Увидев потрепанного единорога на пороге аудитории спустя час после начала зачета, доцент Герман просит Славу подождать в коридоре. Стульев там, конечно же, не обнаруживается, поэтому приходится сесть на пол. Немного подумав, Слава достает из рюкзака линзы и при помощи фронтальной камеры телефона и такой-то матери втыкает их в глаза, после чего вновь возвращается к конспектам. Аспиранты один за другим с интервалом минут в десять-пятнадцать покидают аудиторию, не обращая на единорога никакого внимания. Потом уставшая от приключений спина заставляет Славу принять горизонтальное положение. «Будь что будет», — решает Слава и откладывает конспекты, собираясь поразмыслить о чем-нибудь более позитивном. И тут, конечно же, в голову начинает лезть всякая ерунда, а точнее, глупая песенка из нулевых, игравшая в маршрутке. Слава тотчас начинает мысленно переделывать ее на философский лад:
"Слезы Делёза капали,
Не отвечает Гватари.
Капали слезы Гватари,
Падали Делёзы, падали.
Мы как Делёз и Гватари,
Всем на мозги мы капали…"
Эту отчаянную ерунду перебивает вышедший из класса преподаватель.
— Как низко вы пали, — обращается он к Славе с высоты своего роста.
— Это не падение. Как видите, я лежу на полу. То есть веду половую жизнь. Хоть у кого-то в этом здании должна же быть половая жизнь? — отшучивается Слава.
— Хороший костюмчик, — отмечает Герман. — А с кем подрались?
— С котом, — отвечает Слава, тяжело поднимаясь. — За колбасу.
— Что, кот питается лучше, чем вы? — ухмыляется доцент.
— Уж куда лучше. У него хоть тело с органами... А мое, кажется, их начисто лишилось, — кряхтит Слава, потягиваясь.
— А в костюме единорога на зачет на спор пришли?
— Как вы догадались? — удивляется Слава.
— Со мной тоже такое было... — ностальгически поднимает очи к небу, то есть к потемневшему потолку старого здания Герман. — И на что спорили?
а) — По традиции, на ящик водки, — решает соврать Слава. => Глава 6b. Девушка в красном и девушка в синем
б) — Проигравший будет встречать новый год в образе Мерлин Монро, — честно отвечает Слава.
=> Глава 6c. Спонтанность
Глава 5b. Симулякры
Истошный звон будильника, а точнее, вибрация телефона, лежащего на крышке пианино, будит мирно дремавшего на этой самой крышке кота Дракулу, и тот, издав душераздирающий вопль, опрокидывает лампу, турку и пакет с кофе, который незамедлительно рассыпается, покрывая коричнево-липкой пылью пространство и время. Слава, лениво чертыхаясь, выбирается из-под теплого одеяла в суровую реальность и надевает очки. По пустой голове кочует полная детерриторизация, но попытка впихнуть туда еще хоть один билет параллельно с кофеварением особым успехом не увенчивается, зато кофе благополучно выкипает. Отчаянно влив в свое «тело без органов» отвратительную черную гажу, то есть нечто среднее между «жижей» и «гадостью», Слава натягивает видавшую виды черную толстовку, берцы и косуху.
Хотя рокерская юность Славы осталась далеко позади, как и сожженная тетрадь с сотней песен, а цепи перекочевали с джинсов в рояль, любовь к говнодавам и косухам осталась. К тому же, как выяснилось на практике, этот маскарад стал отличным способом мимикрировать: агрессивная внешность отпугивает большую часть докучливых проходимцев, жадных до мелочи, сигарет или просто почесать кулаки, а встречные рокеры непременно выражают респект.
Автобус, естественно, застрял в каком-то сугробе и не спешит являть улице Доблести свой печальный лик, зато подъезжает почти пустая маршрутка: вероятно, нормальным людям никуда не нужно торопиться утром 31 декабря.
Зайдя в класс и вытянув билет про Бодрийяра, который в шпорах, естественно, отсутствует, Слава скрывается за спинами других неудачников на задней парте, чтобы проконсультироваться с Гуглом. Мир с амнезией кажется Славе замечательной метафорой, иллюстрирующей не только вчерашнюю ночь, да и вообще все последние годы.
— Так что же такое симулякр? — спрашивает доцент Герман.
— Как я понимаю, это невозможность объять необъятное, точнее, объяснить необъяснимое, — импровизирует Слава. — Человек не может осознать весь хаос мира, потому что его сознание не может вместить в себя то, что выше его понимания. Поэтому придумывает симулякры, чтобы создать некую иллюзию логики, опираясь на которую, можно жить и чувствовать себя более-менее комфортно. Это как квадратура круга.
— Квадратура круга?
— Числом Пи круг не измерить. Математика, как и человеческая логика, квадратна. А круг круглый, и сколько знаков числу Пи не припиши, все равно получится многоугольник, а не круг, симулякр, а не реальность. Коробка никогда не будет совпадать с размером кота. Она либо больше него, либо меньше. Но кот все равно пытается себя в эту коробку упихать.
— Хорошая метафора, — хмыкает Герман. — А как думаете, имеет ли смысл вообще заниматься искусством?
— Искусство — тоже симулякр. Именно поэтому оно так нравится людям. Смотрите. Нот всего двенадцать. Нет, естественно, больше, но у нас, то бишь европейцев, двенадцатитоновая шкала, точнее двенадцатеричная система исчисления. И, вместо того, чтобы использовать полный спектр звуков, мы тоже занимаемся квадратурой круга, выстраивая инструменты так, чтобы они играли только в этой двенадцатеричной системе, сводя гибкость человеческой речи все к тем же двенадцати нотам. И людям это нравится. Они любят ясную и четкую гармонию, квадратные и предсказуемые мелодии, отсекающие все лишнее и непонятное. Именно авангардисты пришли к конкретной музыке и расширенным техникам. Нам нужно больше, мы стремимся постичь истинную природу звука. Мы работаем со звуками города, мы раскрываем скрытые возможности как музыкальных, так и не музыкальных инструментов, мы стремимся расширить понятие «музыка» до реальной жизни, и больше, стремимся поглотить само понятие «жизнь» понятием «музыка». То же самое можно сказать и о любом другом искусстве. Искусства сливаются и становятся неотделимыми друг от друга, неотделимыми от жизни. Такое искусство людям не нравится. Они называют его халтурой и профанацией. Оно слишком похоже на их повседневную реальность, полную необъяснимых явлений, нелогичную, не укладывающуюся в математические формулы и системы исчисления. Наверное, в этом и смысл. Видеть симулякры и бороться с ними, хотя, вероятно, эта борьба все равно не увенчается успехом, потому что мы все равно остаемся людьми с нашими пятью органами чувств и опытом, получаемым через эти пять органов. Знаете, мне кажется, Бодрийяр — очень грустный человек, совершенно разочарованный в жизни, искусстве и человечестве. «Понимание без надежды»? Так он пишет? Но, если принять, что борьба с симулякрами уже заранее проиграна, то тогда ни искусство, ни жизнь в целом смысла не имеют. Но мне 27, и я пока не хочу умирать. Значит, мне придется найти в себе надежду и продолжать бороться с существующими симулякрами, даже если в замен я создам новые.
Герман, улыбаясь, качает головой.
— И что же, вы нашли какую-то логику в происходящем?
а) — У меня пока нет однозначного ответа на этот вопрос. => Глава 6d. И снова спонтанность
б) — Думаю, жизнь похожа на сложный алгоритм... => Глава 6e. Черная лестница
Хотя рокерская юность Славы осталась далеко позади, как и сожженная тетрадь с сотней песен, а цепи перекочевали с джинсов в рояль, любовь к говнодавам и косухам осталась. К тому же, как выяснилось на практике, этот маскарад стал отличным способом мимикрировать: агрессивная внешность отпугивает большую часть докучливых проходимцев, жадных до мелочи, сигарет или просто почесать кулаки, а встречные рокеры непременно выражают респект.
Автобус, естественно, застрял в каком-то сугробе и не спешит являть улице Доблести свой печальный лик, зато подъезжает почти пустая маршрутка: вероятно, нормальным людям никуда не нужно торопиться утром 31 декабря.
Зайдя в класс и вытянув билет про Бодрийяра, который в шпорах, естественно, отсутствует, Слава скрывается за спинами других неудачников на задней парте, чтобы проконсультироваться с Гуглом. Мир с амнезией кажется Славе замечательной метафорой, иллюстрирующей не только вчерашнюю ночь, да и вообще все последние годы.
— Так что же такое симулякр? — спрашивает доцент Герман.
— Как я понимаю, это невозможность объять необъятное, точнее, объяснить необъяснимое, — импровизирует Слава. — Человек не может осознать весь хаос мира, потому что его сознание не может вместить в себя то, что выше его понимания. Поэтому придумывает симулякры, чтобы создать некую иллюзию логики, опираясь на которую, можно жить и чувствовать себя более-менее комфортно. Это как квадратура круга.
— Квадратура круга?
— Числом Пи круг не измерить. Математика, как и человеческая логика, квадратна. А круг круглый, и сколько знаков числу Пи не припиши, все равно получится многоугольник, а не круг, симулякр, а не реальность. Коробка никогда не будет совпадать с размером кота. Она либо больше него, либо меньше. Но кот все равно пытается себя в эту коробку упихать.
— Хорошая метафора, — хмыкает Герман. — А как думаете, имеет ли смысл вообще заниматься искусством?
— Искусство — тоже симулякр. Именно поэтому оно так нравится людям. Смотрите. Нот всего двенадцать. Нет, естественно, больше, но у нас, то бишь европейцев, двенадцатитоновая шкала, точнее двенадцатеричная система исчисления. И, вместо того, чтобы использовать полный спектр звуков, мы тоже занимаемся квадратурой круга, выстраивая инструменты так, чтобы они играли только в этой двенадцатеричной системе, сводя гибкость человеческой речи все к тем же двенадцати нотам. И людям это нравится. Они любят ясную и четкую гармонию, квадратные и предсказуемые мелодии, отсекающие все лишнее и непонятное. Именно авангардисты пришли к конкретной музыке и расширенным техникам. Нам нужно больше, мы стремимся постичь истинную природу звука. Мы работаем со звуками города, мы раскрываем скрытые возможности как музыкальных, так и не музыкальных инструментов, мы стремимся расширить понятие «музыка» до реальной жизни, и больше, стремимся поглотить само понятие «жизнь» понятием «музыка». То же самое можно сказать и о любом другом искусстве. Искусства сливаются и становятся неотделимыми друг от друга, неотделимыми от жизни. Такое искусство людям не нравится. Они называют его халтурой и профанацией. Оно слишком похоже на их повседневную реальность, полную необъяснимых явлений, нелогичную, не укладывающуюся в математические формулы и системы исчисления. Наверное, в этом и смысл. Видеть симулякры и бороться с ними, хотя, вероятно, эта борьба все равно не увенчается успехом, потому что мы все равно остаемся людьми с нашими пятью органами чувств и опытом, получаемым через эти пять органов. Знаете, мне кажется, Бодрийяр — очень грустный человек, совершенно разочарованный в жизни, искусстве и человечестве. «Понимание без надежды»? Так он пишет? Но, если принять, что борьба с симулякрами уже заранее проиграна, то тогда ни искусство, ни жизнь в целом смысла не имеют. Но мне 27, и я пока не хочу умирать. Значит, мне придется найти в себе надежду и продолжать бороться с существующими симулякрами, даже если в замен я создам новые.
Герман, улыбаясь, качает головой.
— И что же, вы нашли какую-то логику в происходящем?
а) — У меня пока нет однозначного ответа на этот вопрос. => Глава 6d. И снова спонтанность
б) — Думаю, жизнь похожа на сложный алгоритм... => Глава 6e. Черная лестница
Глава 6. «Бесы»
Слава любит «Бесов»: куча раритетов от истрепанных веками книг и пишущих машинок до кофеварок и прочей мало идентифицируемой рухляди конца позапрошлого века позволяют расслабиться и оторваться от быстротечного момента настоящего. Славе вообще нравится ретростиль: длинные пальто, ботинки, шляпы. Вероятно, однажды можно было бы задуматься над пошивом рубашек с широкими рукавами и жабо, но более насущные проблемы никогда не давали этим мечтам возможности воплотиться. Повесив пальто и шляпу на вешалку, Слава сразу делает заказ уже подоспевшему официанту. Приняв его, официант удаляется и тотчас приносит аперитив в виде традиционной для этого места рюмки водки. Но стоит Славе выпить и блаженно закрыть глаза, откинувшись на спинку дивана, как над ухом раздается благодушный бас:
— Не помешаю?
Открыв глаза, Слава удивленно вскидывает бровь:
— Мне казалось, преподаватели предпочитают обедать в «Модерне»?
— Все может быть, все может быть... Но мне определенно нравится в «Бесах», — и Герман, сняв пальто, усаживается в слегка потертое кресло за Славин стол.
Официант тут же материализуется в зале с рюмкой для нового гостя.
— Суп с галушками, бифштекс с картошкой по-деревенски и эспрессо. Кофе сразу, пожалуйста, — делает заказ Андрей Юрьевич. — Слава, вы обед заказали?
— Нет, я только пиво выпить, — отнекивается Слава.
— Нельзя так беречь фигуру. Закажите что-нибудь. Я угощаю.
— Давайте солянку, — решив не заставлять себя уговаривать, заказывает Слава.
— Вот и чудно, — потирает замерзшие ладони Герман. — Чем планируете заниматься после аспирантуры?
— Как повезет, — уклончиво отвечает Слава. — Пока заказов на жизнь хватает, но, когда настанет время снимать жилье, придется еще раз подумать о том, чем заработать денег.
— А о чем диплом пишите? Я имею в виду, тот, который буквами.
— Ну... по современному искусству. То есть вторая половина XX века и далее.
— С Рысьевой общались?
— Да, она курирует.
— Хорошо. Постойте, это не вы ли пару — тройку лет назад устроили скандал на вступительном экзамене? Вы спорили с Голицыным. В чем была проблема? Акционизм?
— Флуксус. Это был Флуксус, — улыбается Слава.
— Ах, да. Флуксус. Ну, это же, если я не ошибаюсь, арт-движение? При чем здесь философия?
— Все-таки, скорее течение, чем движение. На то он и Флуксус — поток, если перевести с латыни. А какое отношение философия имеет к экзистенциализму? Экзистенциализм ведь тоже можно рассматривать как литературное течение? Или модерн, постмодерн? Где грань между философией и искусством? Мы говорим об одном и том же. Просто на разных языках. А если брать литературные жанры, то здесь границы стираются почти полностью.
Официант приносит пиво и кофе. Герман отодвигает свою стопку водки к Славе.
— Сегодня водка ваша. Я за рулем.
— За современное искусство. И философию, — предлагает тост Слава.
— Поддерживаю, — говорит Герман, чокаясь чашкой с кофе. — Но вы же понимаете, что рассказывать на экзамене о предметах, которых не знает экзаменатор, по меньшей мере неразумно?
— Тогда мне это в голову не пришло. На моей кафедре, знаете ли ли, все мои откровения воспринимали как-то более радушно.
— Дело не в кафедре. Дело в том, с кем вы говорите. Но, что действительно стоит делать — это писать. Русская публика так устроена: то, что в книжке написано, — правда и истина в последней инстанции. А если книжки нет, то все, что вы рассказываете — чушь собачья. А все ссылки на иностранную литературу — происки пиндосов и загнившего запада. Так что, если можете, переводите, если можете, пишите на русском. Железный занавес снят только официально. И то, надолго ли? А в головах пост-советского обывателя железный занавес все такой же железный, как и 30 лет назад...
— Железный занавес горит,
Горит, как тысячи свечей,
Что оплывают на гранит
Могил на кладбище идей... — декламирует Слава.
— Любите поэзию? — спрашивает Герман.
— Нет, — честно отвечает Слава.
— Тогда зачем читаете? — удивляется Герман.
— Я не читаю. К сожалению, я пишу, — скромно опускает очи долу Слава. — Глупая детская привычка.
— Ну, почему же? Весьма романтично, — подбадривает Славу Герман, принимая из рук официанта свой заказ.
— Вот именно, — отвечает Слава. — Романтично. Век романтиков истек. У нас тут метамодерн вообще-то. Стихи никому не нужны. И проза тоже. Надо снимать тик-токи и нести всякую чушь, и чем проще и глупее, тем лучше. Лирика — удел слабаков. Вроде меня.
— Весьма самокритично, — хмыкает Андрей Юрьевич. — А издаваться не пробовали?
— Помилуйте, сударь. Это не стихи и не искусство. Просто тренировка для мозга. Помогает быстро подбирать слова, когда пишешь умные вещи или читаешь лекции. А еще помогает не жевать мозговую жвачку, десятки раз обмусоливая насущные проблемы. Вот и все.
Славе приносят солянку.
— Интересное занятие. Надо бы попробовать, — подмечает Герман.
— Вам не обязательно. Простите за откровенность, я совершенно не хочу вам льстить, но как лектор, вы мой пример для подражания.
— Правда? — поднимает брови Герман. — Приятно слышать. Особенно от творческого человека, кто наверняка не слезает со сцены.
— Правильнее сказать, кто не выходит из закулисья, — поправляет его Слава. — На сцену я нечасто теперь выхожу. Нет необходимости.
— Как жаль. А я бы пришел на ваш концерт, — почти разочарованно говорит Герман.
— Могу пригласить на мастер-класс шестнадцатого числа, — предлагает Слава.
— Ох, — вздыхает Герман. — У меня у самого лекция на Открытом философском. Только не думайте, что это отговорка. Правда. Посмотрите программу Новой сцены Александринки.
— Хорошо-хорошо, я вам верю, — ухмыляется Слава. — Все, как обычно, должно происходить одновременно, а еще лучше, если медленно и неправильно. Обещаю, что буду представлять вас в зале, когда выйду на сцену в одних трусах.
— Вы серьезно? — снова удивляется Герман. — Вы читаете лекции в трусах?
— Мне только сейчас в голову пришло. Вы меня вдохновили, — наблюдая за реакцией собеседника, сообщает Слава. — Шутка. Просто перформанс Кена Фридмана. «Сценическая реверсия». Нужно выйти на сцену голым и в краске, а потом отмыться, одеться и уйти. То есть раздеваться на сцене, сами понимаете, моветон, даже для 60-х годов, когда эта пьеса была придумана. На сегодняшний день ходить голым по сцене — тоже моветон, так что трусы я себе все-таки оставлю. Моя задача не пытаться шокировать публику тривиальными выходками, а поработать над собственными границами и ощущениями. Понимаете, перформанс — не всегда про внешнее, не всегда для зрителей. Мы не можем себе в точности представить, что произойдет, если. Инструктивную пьесу мало прочесть. Мало представить мысленно. Ее нужно исполнить. Только тогда можно прочувствовать и понять ее скрытый смысл. Импликатуру, если угодно.
— И какой же ваш любимый перформанс? — спрашивает Герман.
— Хм... — задумывается Слава. — Я люблю читать стихи. С заклеенным ртом.
— О чем стихи? — спрашивает Герман.
— О любви, конечно! — театрально смеется Слава и тут же переходит на серьезный тон. — О молчании. Silence is death10. Они заклеили нам рты. Они убивают нас.
10
— Значит, вы не придерживаетесь точки зрения, что искусство должно быть вне политики? — спрашивает Герман.
— Искусство всегда было политичным. Даже если художник утверждает, что он к политике равнодушен. Возьмите дадаистов. Они возникли как реакция, как протест на реалии Первой мировой. История меняется, как цвет волос у шлюх — не к оскорблению представительниц и представителей древнейшей профессии будет сказано: я не имею ничего против проституток или их цвета волос — но подлинная история, она в искусстве. Художник запечатлевает реальность такой, какой он видит ее в том месте и в то время, в котором он живет, и через призму того опыта, что он имеет в этом месте и в этом времени. Простите, что-то я слишком много болтаю. Вероятно, мои мысли кажутся вам наивным детским лепетом, учитывая, сколько трудов великих философов вы прочли.
— Ну, почему же? — благосклонно улыбается доцент. — Взгляды современных артистов мне очень интересны. Именно поэтому я работаю в консерватории. И именно поэтому я сел за ваш столик.
— Не могу перестать чувствовать себя, как на экзамене, — честно признается Слава. — Можно я помолчу?
— А не вы ли только что сказали, что тишина — это смерть? — подшучивает Герман.
— Хорошо. Давайте я помолчу, а вы расскажете что-нибудь интересное про жизнь современных философов. Например, почему вы пошли в «Бесов», а не домой, как собирались?
— Может быть, просто потому, что я хочу есть? — дипломатично уходит от ответа Герман.
— А у меня в холодильнике мышь повесилась. Компьютерная, — отступает Слава. — А у вас такая есть?
— Нет, что вы, — качает головой Герман. — У меня в холодильнике лежит клавиатура.
— А печатаете вы на пишущей машинке?
— Нет, я человек современный. Я в Твиттере пишу.
— Ах, Андрей Юрьевич, вы отстали от жизни! — машет рукой Слава. — Я ж вам говорю: надо снимать видосики в Тик-токе. Вот это модно и современно! И не забывайте фоточки в Инстаграм выкладывать. Вот вы обед съели и не сфотографировали. Ай-ай-ай! И не стыдно вам?
— Вы тоже, кажется, свой обед не запостили, — защищается Герман. — А между прочим, могли бы написать, что обедаете со мной, мы сделали бы селфи, вы бы меня отметили, и — вуаля! — обоим прибавилось бы лайков и подписчиков!
— Андрей Юрьевич, я романтик. Пишу стихи на манжетах.
— На черных манжетах? — перебивает Герман.
— Да, черной ручкой на черных манжетах, — уточняет Слава. — Так какой Инстаграм? Только ин-сто-грамм. Можно ин-двести-грамм, а можно и ин-бутылка, если совсем тоскливо станет.
Подозвав официанта и расплатившись, Герман внезапно спрашивает:
— Вас подвезти?
Немного призадумавшись, Слава отвечает, снимая пальто с вешалки:
а) — А можно мы пропустим эпизод, где я буду ломаться, аргументируя свой отказ тем фактом, что живу у черта на куличках? => Глава 7. Поездка на море
б) — Спасибо. Спасибо за предложение, но я все-таки откажусь. => Глава 7а. Привет Кейджу
— Не помешаю?
Открыв глаза, Слава удивленно вскидывает бровь:
— Мне казалось, преподаватели предпочитают обедать в «Модерне»?
— Все может быть, все может быть... Но мне определенно нравится в «Бесах», — и Герман, сняв пальто, усаживается в слегка потертое кресло за Славин стол.
Официант тут же материализуется в зале с рюмкой для нового гостя.
— Суп с галушками, бифштекс с картошкой по-деревенски и эспрессо. Кофе сразу, пожалуйста, — делает заказ Андрей Юрьевич. — Слава, вы обед заказали?
— Нет, я только пиво выпить, — отнекивается Слава.
— Нельзя так беречь фигуру. Закажите что-нибудь. Я угощаю.
— Давайте солянку, — решив не заставлять себя уговаривать, заказывает Слава.
— Вот и чудно, — потирает замерзшие ладони Герман. — Чем планируете заниматься после аспирантуры?
— Как повезет, — уклончиво отвечает Слава. — Пока заказов на жизнь хватает, но, когда настанет время снимать жилье, придется еще раз подумать о том, чем заработать денег.
— А о чем диплом пишите? Я имею в виду, тот, который буквами.
— Ну... по современному искусству. То есть вторая половина XX века и далее.
— С Рысьевой общались?
— Да, она курирует.
— Хорошо. Постойте, это не вы ли пару — тройку лет назад устроили скандал на вступительном экзамене? Вы спорили с Голицыным. В чем была проблема? Акционизм?
— Флуксус. Это был Флуксус, — улыбается Слава.
— Ах, да. Флуксус. Ну, это же, если я не ошибаюсь, арт-движение? При чем здесь философия?
— Все-таки, скорее течение, чем движение. На то он и Флуксус — поток, если перевести с латыни. А какое отношение философия имеет к экзистенциализму? Экзистенциализм ведь тоже можно рассматривать как литературное течение? Или модерн, постмодерн? Где грань между философией и искусством? Мы говорим об одном и том же. Просто на разных языках. А если брать литературные жанры, то здесь границы стираются почти полностью.
Официант приносит пиво и кофе. Герман отодвигает свою стопку водки к Славе.
— Сегодня водка ваша. Я за рулем.
— За современное искусство. И философию, — предлагает тост Слава.
— Поддерживаю, — говорит Герман, чокаясь чашкой с кофе. — Но вы же понимаете, что рассказывать на экзамене о предметах, которых не знает экзаменатор, по меньшей мере неразумно?
— Тогда мне это в голову не пришло. На моей кафедре, знаете ли ли, все мои откровения воспринимали как-то более радушно.
— Дело не в кафедре. Дело в том, с кем вы говорите. Но, что действительно стоит делать — это писать. Русская публика так устроена: то, что в книжке написано, — правда и истина в последней инстанции. А если книжки нет, то все, что вы рассказываете — чушь собачья. А все ссылки на иностранную литературу — происки пиндосов и загнившего запада. Так что, если можете, переводите, если можете, пишите на русском. Железный занавес снят только официально. И то, надолго ли? А в головах пост-советского обывателя железный занавес все такой же железный, как и 30 лет назад...
— Железный занавес горит,
Горит, как тысячи свечей,
Что оплывают на гранит
Могил на кладбище идей... — декламирует Слава.
— Любите поэзию? — спрашивает Герман.
— Нет, — честно отвечает Слава.
— Тогда зачем читаете? — удивляется Герман.
— Я не читаю. К сожалению, я пишу, — скромно опускает очи долу Слава. — Глупая детская привычка.
— Ну, почему же? Весьма романтично, — подбадривает Славу Герман, принимая из рук официанта свой заказ.
— Вот именно, — отвечает Слава. — Романтично. Век романтиков истек. У нас тут метамодерн вообще-то. Стихи никому не нужны. И проза тоже. Надо снимать тик-токи и нести всякую чушь, и чем проще и глупее, тем лучше. Лирика — удел слабаков. Вроде меня.
— Весьма самокритично, — хмыкает Андрей Юрьевич. — А издаваться не пробовали?
— Помилуйте, сударь. Это не стихи и не искусство. Просто тренировка для мозга. Помогает быстро подбирать слова, когда пишешь умные вещи или читаешь лекции. А еще помогает не жевать мозговую жвачку, десятки раз обмусоливая насущные проблемы. Вот и все.
Славе приносят солянку.
— Интересное занятие. Надо бы попробовать, — подмечает Герман.
— Вам не обязательно. Простите за откровенность, я совершенно не хочу вам льстить, но как лектор, вы мой пример для подражания.
— Правда? — поднимает брови Герман. — Приятно слышать. Особенно от творческого человека, кто наверняка не слезает со сцены.
— Правильнее сказать, кто не выходит из закулисья, — поправляет его Слава. — На сцену я нечасто теперь выхожу. Нет необходимости.
— Как жаль. А я бы пришел на ваш концерт, — почти разочарованно говорит Герман.
— Могу пригласить на мастер-класс шестнадцатого числа, — предлагает Слава.
— Ох, — вздыхает Герман. — У меня у самого лекция на Открытом философском. Только не думайте, что это отговорка. Правда. Посмотрите программу Новой сцены Александринки.
— Хорошо-хорошо, я вам верю, — ухмыляется Слава. — Все, как обычно, должно происходить одновременно, а еще лучше, если медленно и неправильно. Обещаю, что буду представлять вас в зале, когда выйду на сцену в одних трусах.
— Вы серьезно? — снова удивляется Герман. — Вы читаете лекции в трусах?
— Мне только сейчас в голову пришло. Вы меня вдохновили, — наблюдая за реакцией собеседника, сообщает Слава. — Шутка. Просто перформанс Кена Фридмана. «Сценическая реверсия». Нужно выйти на сцену голым и в краске, а потом отмыться, одеться и уйти. То есть раздеваться на сцене, сами понимаете, моветон, даже для 60-х годов, когда эта пьеса была придумана. На сегодняшний день ходить голым по сцене — тоже моветон, так что трусы я себе все-таки оставлю. Моя задача не пытаться шокировать публику тривиальными выходками, а поработать над собственными границами и ощущениями. Понимаете, перформанс — не всегда про внешнее, не всегда для зрителей. Мы не можем себе в точности представить, что произойдет, если. Инструктивную пьесу мало прочесть. Мало представить мысленно. Ее нужно исполнить. Только тогда можно прочувствовать и понять ее скрытый смысл. Импликатуру, если угодно.
— И какой же ваш любимый перформанс? — спрашивает Герман.
— Хм... — задумывается Слава. — Я люблю читать стихи. С заклеенным ртом.
— О чем стихи? — спрашивает Герман.
— О любви, конечно! — театрально смеется Слава и тут же переходит на серьезный тон. — О молчании. Silence is death10. Они заклеили нам рты. Они убивают нас.
10
Молчание — смерть (англ.).
— Значит, вы не придерживаетесь точки зрения, что искусство должно быть вне политики? — спрашивает Герман.
— Искусство всегда было политичным. Даже если художник утверждает, что он к политике равнодушен. Возьмите дадаистов. Они возникли как реакция, как протест на реалии Первой мировой. История меняется, как цвет волос у шлюх — не к оскорблению представительниц и представителей древнейшей профессии будет сказано: я не имею ничего против проституток или их цвета волос — но подлинная история, она в искусстве. Художник запечатлевает реальность такой, какой он видит ее в том месте и в то время, в котором он живет, и через призму того опыта, что он имеет в этом месте и в этом времени. Простите, что-то я слишком много болтаю. Вероятно, мои мысли кажутся вам наивным детским лепетом, учитывая, сколько трудов великих философов вы прочли.
— Ну, почему же? — благосклонно улыбается доцент. — Взгляды современных артистов мне очень интересны. Именно поэтому я работаю в консерватории. И именно поэтому я сел за ваш столик.
— Не могу перестать чувствовать себя, как на экзамене, — честно признается Слава. — Можно я помолчу?
— А не вы ли только что сказали, что тишина — это смерть? — подшучивает Герман.
— Хорошо. Давайте я помолчу, а вы расскажете что-нибудь интересное про жизнь современных философов. Например, почему вы пошли в «Бесов», а не домой, как собирались?
— Может быть, просто потому, что я хочу есть? — дипломатично уходит от ответа Герман.
— А у меня в холодильнике мышь повесилась. Компьютерная, — отступает Слава. — А у вас такая есть?
— Нет, что вы, — качает головой Герман. — У меня в холодильнике лежит клавиатура.
— А печатаете вы на пишущей машинке?
— Нет, я человек современный. Я в Твиттере пишу.
— Ах, Андрей Юрьевич, вы отстали от жизни! — машет рукой Слава. — Я ж вам говорю: надо снимать видосики в Тик-токе. Вот это модно и современно! И не забывайте фоточки в Инстаграм выкладывать. Вот вы обед съели и не сфотографировали. Ай-ай-ай! И не стыдно вам?
— Вы тоже, кажется, свой обед не запостили, — защищается Герман. — А между прочим, могли бы написать, что обедаете со мной, мы сделали бы селфи, вы бы меня отметили, и — вуаля! — обоим прибавилось бы лайков и подписчиков!
— Андрей Юрьевич, я романтик. Пишу стихи на манжетах.
— На черных манжетах? — перебивает Герман.
— Да, черной ручкой на черных манжетах, — уточняет Слава. — Так какой Инстаграм? Только ин-сто-грамм. Можно ин-двести-грамм, а можно и ин-бутылка, если совсем тоскливо станет.
Подозвав официанта и расплатившись, Герман внезапно спрашивает:
— Вас подвезти?
Немного призадумавшись, Слава отвечает, снимая пальто с вешалки:
а) — А можно мы пропустим эпизод, где я буду ломаться, аргументируя свой отказ тем фактом, что живу у черта на куличках? => Глава 7. Поездка на море
б) — Спасибо. Спасибо за предложение, но я все-таки откажусь. => Глава 7а. Привет Кейджу
Глава 6a. «Сарай»
«Сарай» издавна является местом сбора буйных студентов консерватории. Вполне приемлемые для дырявого кармана цены и крайне неторопливое обслуживание помогают скоротать большие окна между парами за кофе в большом граненом стакане, решая задачи по гармонии и полифонии или просто болтая со знакомыми. В первом зале почти пусто, но Слава его не любит: слишком близко ко входу, а значит, первый же знакомый непременно поспешит составить вам компанию, хотите вы того или нет. Поэтому Слава заглядывает во второй зал, но компания, сидящая там, особого восторга не вызывает. В третьем зале оказывается совсем пусто. К счастью, 31 декабря мало кому в голову приходит ставить занятия и зачеты. Сумасшедший Герман не в счет. Но у него наверняка много работы в других, более важных с точки зрения философии, вузах, так что приходится издеваться над музыкантами.
Слава садится за дальний столик спиной к двери, чтобы не торговать лицом, и звонит в электронный звонок, прилепленный к столу. Через пару минут приходит официантка Дана и приносит меню.
— Темного Ваську и картофельные шарики с огуречным соусом, пожалуйста, — не открывая меню, сообщает ей Слава.
— Хорошо, — кивает Дана и уходит.
Слава достает из сумки потрепанный блокнот, карты таро и принимается играть в «Случайность». Игра эта сводится к следующему: случайная карта определяет персонажа и его характеристики. Добавляем к ней второго персонажа. Добавляем ситуацию. И так далее. Из полученного расклада нужно сложить историю. Погрузившись в процесс, Слава не замечает, как за столом материализуется пианистка Фая. Она некоторое время наблюдает за процессом, а потом здоровается.
— Привет, как дела? — спрашивает Слава, поспешно сгребая карты и блокнот в сумку.
— На кого гадаешь? — спрашивает Фая.
— Я не гадаю, — отвечает Слава.
— А что ты делаешь? — настаивает пианистка.
— Да так, дурака валяю. То есть пытаюсь научиться играть в дурака. Знаешь, мне не везет в карты, да и в любви тоже.
— Не заливай, — улыбается Фая. — В дурака на картах таро. Выдумаешь тоже.
— Хочешь, сыграем? — предлагает Слава.
— Лучше погадай, — настаивает на своем Фая.
— На кого? На Меньшова, что ли? — подкалывает ее Слава.
— Ой, не напоминай, — фыркает та. — Знаешь, как он меня обозвал? Волейболисткой! — гневно восклицает Фая.
Слава только прыскает в кулак, пытаясь не заржать. Фая, наглядное воплощение загадочного термина «библейская красота», по праву считается самой высокой девушкой консерватории и умудряется сохранять этот статус, даже в конце аспирантуры. С ростом 184 сантиметра ей прочили модельную карьеру, но, быстро сообразив, что работа модели не по ее мозгам, она выбрала карьеру самой красивой пианистки Петербурга.
— Короче, я купила новые сапоги к новому году, — раздраженно начинает свой рассказ Фая. — Пришла сегодня на урок, вся такая красивая, и тут... мои ноги не влезли под Стенвей. Пришлось разуться и играть босиком. А он заржал и сказал, что производители Стенвеев не предполагали, что на их роялях будут играть волейболистки!
Слава, заглянув под стол, не может сдержать смех.
— Что ты-то смеешься, зараза?! — со смешанным чувством раздражения, обиды и иронии восклицает Фая.
— Фай, зачем тебе десятисантиметровые каблуки, солнышко? — сквозь смех спрашивает Слава.
— Они не десятисантиметровые, а двенадцатисантиметровые, — серьезно уточняет Фая.
— А теперь давай вспомним пятый класс математики и посчитаем, какого ты теперь роста, — предлагает Слава.
— Не делай и меня дурочку. 196, — отвечает Фая.
— А какой рост у Меньшова? — спрашивает Слава.
— Э-э-э… — задумчиво пытается сообразить Фая.
— 165 максимум. И то, вероятно, в прыжке. И прибавь к тому вес под сотню кило, — отвечает за нее Слава. — А теперь давай подумаем вместе, как чувствует себя такой вот лысеющий мужчина пятидесяти лет, когда в класс к нему заходит двухметровая красавица вроде тебя? Правильно. Ты и так разговариваешь с ним сверху вниз, так теперь еще и подчеркиваешь вашу разницу в росте. Ты давишь ему на комплекс неполноценности одним своим видом, понимаешь?!
— А что я могу сделать?! — всплескивает руками Фая. — Уменьшиться? Или ползать на четвереньках?
— Хотя бы не надевать каблуки, когда приходишь на специальность.
— Но это единственные зимние сапоги у меня. Старые я выкинула, — продолжает гнуть свою линию Фая. — И вообще, почему я должна считаться с чьими-то комплексами неполноценности? Он взрослый мужик, профессор, известный пианист. Чего ему еще надо? Мог бы уже давно разобраться со своими детскими травмами.
— Носи с собой туфли без каблуков. Тем более, опытным путем ты уже выяснила, что в сапогах под Стенвей ты не помещаешься. А так... своими каблуками ты наступила на больную мозоль Меньшова. В ответ он наступил на твою мозоль. Ты ведь чувствуешь себя неловко из-за своего роста и модельной внешности в музыкальном мире.
— И ты туда же? — раздражается Фая.
— Вот видишь, как тебя это цепляет! Любое замечание по поводу своего роста и неправильно выбранной карьеры ты принимаешь за личное оскорбление. А люди просто завидуют. Им неприятно осознавать собственную ущербность, находясь рядом с тобой. Ты хорошая пианистка. И все об этом знают. И многие интуитивно догадываются, где твоя уязвимость. И бьют в больную точку. Вот и все.
— А ты из-за роста не комплексуешь? — спрашивает Фая.
— Я знаю, что коротышки комплексуют больше, и этот факт сохраняет мою психику, — отвечает Слава.
— Тебе никогда не предлагали пойти в модели или в волейбол? — спрашивает Фая.
— На предложение пойти в модели я отвечаю что-то вроде: «А вы работаете на веб-каме?». А если предлагают пойти в волейбол, то отвечаю, что меня выгнали из команды за неизлечимое плоскоглазие и косоручие. Как правило, этого хватает.
Дана приносит Славин заказ. И тут значительно повеселевшая Фая спохватывается, что не вызвала официантку раньше:
— Можно меню? Хотя, нет. Давайте сразу ройбуш в маленьком чайнике и рис с курицей.
— Хорошо. Сейчас, — честно врет Дана и удаляется.
— Может, все-таки погадаешь? — снова вспоминает замятую тему Фая.
— Какая ж ты настырная! — качает головой Слава, доставая карты. — Ладно. Давай так. Сейчас ты вытянешь из колоды четыре карты. Это будут прошлое, настоящее, будущее и то, что мешает или помогает в достижении твоей цели. Но я ничего не буду рассказывать. Ты расскажешь все сама. Хочешь, вслух, хочешь, про себя. Я не буду вмешиваться. Так будет честнее.
— Оригинальный способ, — беря в руки протянутую колоду, говорит Фая. — Но так же получится, что я гадаю сама себе? А гадать себе, говорят, нельзя.
— Предрассудки, — отрезает Слава. — Ты умеешь гадать на таро?
— Нет, — честно сознается Фая, перетасовывая колоду.
— Вот и отлично. То, что мы сейчас сделаем, — это не гадание. Это психоанализ. Или что-то вроде того. Карты можно интерпретировать практически как угодно. Картинки просто помогут раскрыть твое подсознание.
— А почему ты не хочешь интерпретировать? — продолжает доставать Фая.
— А нафига тебе мое подсознание? Это твоя жизнь, и нечего мне в нее вмешиваться. Уволь. К тому же, мне не нравится сама идея гадания хотя бы потому, что случайная комбинация карт открывает случайную дверь. Из каждой ситуации и каждого момента настоящего есть множество выходов, множество дверей. Просто одни выходы кажутся нам более очевидными и более логичными, а другие мы отметаем за их странность или опасность. К примеру, я прямо сейчас могу убежать, не расплатившись, но не сделаю этого по определенным причинам. Когда мы гадаем, то открываем рандомную дверь. За ней может оказаться крокодил. Но мы, зная, что там крокодил, возьмем с собой ружье и побежим бороться с этим долбаным крокодилом вместо того, чтобы заглянуть за другую дверь. Ведь, кто знает, а вдруг за той дверью откажется не крокодил, а кролик, или, скажем, принц на белом коне. Но мы же к такой встрече не готовились! Нам нужен крокодил. Понимаешь, о чем я? Так или иначе, даже если мы не относимся к этому серьезно, гадание лишает нас права выбора, пусть даже выбора вслепую, но все-таки подлинного выбора, подкидывая случайную комбинацию. Так что? Ты все еще хочешь гадать?
— Да, я хочу гадать. И это мой выбор, — кажется, ничего не поняв из проповеди Славы, отвечает Фая, и, закрыв глаза на несколько секунд, вытягивает из колоды четыре карты и раскладывает их на столе. — Какие интересные у тебя картинки… Мне раньше соседка гадала. Но у нее были совсем другие карты.
— Это авторская колода. Ее нарисовала... один мой близкий человек, — поясняет Слава.
— А кто, если не секрет? — спрашивает Фая.
— Сестра. Она художница, — поясняет Слава.
— Не знала, что у тебя есть сестра, — хмурится Фая.
— Смотри на карты и рассказывай свою историю, — напоминает Слава. — Вслух можешь ничего не говорить. Повторяю, это не мое дело, и я не хочу вмешиваться.
Фая внимательно рассматривает картинки. Третья карта, двойка кубков, лежит вверх ногами, и она переворачивает ее, но тут же, отдернув руку, спрашивает:
— Ой, в таро ведь, вроде, есть перевернутые значения?
— Есть, — посмотрев на расклад, отвечает Слава. — Они означают ровно противоположное тому, что нарисовано на карте. Однако ты задала этот вопрос уже после того, как перевернула карту. Так что, можешь интерпретировать в прямом положении. Кстати, некоторые тарологи вообще не используют перевернутых значений.
«И вот, я все-таки вмешиваюсь», — печально констатирует Слава, наблюдая за склонившейся над картами Фаей.
— Что? Теперь в дурака? — спрашивает Слава, когда Фая собирает карты и кладет их обратно в колоду. Дана приносит рис и чай.
— В дурака на таро, — качает головой Фая. — Для тебя вообще нет ничего святого?
— Нет, а зачем оно мне? — задает риторический вопрос Слава, выбрасывая из колоды старшие арканы. Фая тут же подбирает карты и с интересом рассматривает картинки.
— В переводного или простого? — спрашивает она.
— В переводного, конечно, — делает очевидный для себя выбор Слава. — На что играем?
— На желание, — предлагает Фая.
Под конец партии, оставшись с тремя картами, Слава размышляет, стоит ли подкинуть козырного туза, или оставить себе?
а) подкинуть => Глава 7b. Искусство и красота в современной эстетике
б) не подкидывать => Глава 7с. Время жить и время паковать чемоданы
Слава садится за дальний столик спиной к двери, чтобы не торговать лицом, и звонит в электронный звонок, прилепленный к столу. Через пару минут приходит официантка Дана и приносит меню.
— Темного Ваську и картофельные шарики с огуречным соусом, пожалуйста, — не открывая меню, сообщает ей Слава.
— Хорошо, — кивает Дана и уходит.
Слава достает из сумки потрепанный блокнот, карты таро и принимается играть в «Случайность». Игра эта сводится к следующему: случайная карта определяет персонажа и его характеристики. Добавляем к ней второго персонажа. Добавляем ситуацию. И так далее. Из полученного расклада нужно сложить историю. Погрузившись в процесс, Слава не замечает, как за столом материализуется пианистка Фая. Она некоторое время наблюдает за процессом, а потом здоровается.
— Привет, как дела? — спрашивает Слава, поспешно сгребая карты и блокнот в сумку.
— На кого гадаешь? — спрашивает Фая.
— Я не гадаю, — отвечает Слава.
— А что ты делаешь? — настаивает пианистка.
— Да так, дурака валяю. То есть пытаюсь научиться играть в дурака. Знаешь, мне не везет в карты, да и в любви тоже.
— Не заливай, — улыбается Фая. — В дурака на картах таро. Выдумаешь тоже.
— Хочешь, сыграем? — предлагает Слава.
— Лучше погадай, — настаивает на своем Фая.
— На кого? На Меньшова, что ли? — подкалывает ее Слава.
— Ой, не напоминай, — фыркает та. — Знаешь, как он меня обозвал? Волейболисткой! — гневно восклицает Фая.
Слава только прыскает в кулак, пытаясь не заржать. Фая, наглядное воплощение загадочного термина «библейская красота», по праву считается самой высокой девушкой консерватории и умудряется сохранять этот статус, даже в конце аспирантуры. С ростом 184 сантиметра ей прочили модельную карьеру, но, быстро сообразив, что работа модели не по ее мозгам, она выбрала карьеру самой красивой пианистки Петербурга.
— Короче, я купила новые сапоги к новому году, — раздраженно начинает свой рассказ Фая. — Пришла сегодня на урок, вся такая красивая, и тут... мои ноги не влезли под Стенвей. Пришлось разуться и играть босиком. А он заржал и сказал, что производители Стенвеев не предполагали, что на их роялях будут играть волейболистки!
Слава, заглянув под стол, не может сдержать смех.
— Что ты-то смеешься, зараза?! — со смешанным чувством раздражения, обиды и иронии восклицает Фая.
— Фай, зачем тебе десятисантиметровые каблуки, солнышко? — сквозь смех спрашивает Слава.
— Они не десятисантиметровые, а двенадцатисантиметровые, — серьезно уточняет Фая.
— А теперь давай вспомним пятый класс математики и посчитаем, какого ты теперь роста, — предлагает Слава.
— Не делай и меня дурочку. 196, — отвечает Фая.
— А какой рост у Меньшова? — спрашивает Слава.
— Э-э-э… — задумчиво пытается сообразить Фая.
— 165 максимум. И то, вероятно, в прыжке. И прибавь к тому вес под сотню кило, — отвечает за нее Слава. — А теперь давай подумаем вместе, как чувствует себя такой вот лысеющий мужчина пятидесяти лет, когда в класс к нему заходит двухметровая красавица вроде тебя? Правильно. Ты и так разговариваешь с ним сверху вниз, так теперь еще и подчеркиваешь вашу разницу в росте. Ты давишь ему на комплекс неполноценности одним своим видом, понимаешь?!
— А что я могу сделать?! — всплескивает руками Фая. — Уменьшиться? Или ползать на четвереньках?
— Хотя бы не надевать каблуки, когда приходишь на специальность.
— Но это единственные зимние сапоги у меня. Старые я выкинула, — продолжает гнуть свою линию Фая. — И вообще, почему я должна считаться с чьими-то комплексами неполноценности? Он взрослый мужик, профессор, известный пианист. Чего ему еще надо? Мог бы уже давно разобраться со своими детскими травмами.
— Носи с собой туфли без каблуков. Тем более, опытным путем ты уже выяснила, что в сапогах под Стенвей ты не помещаешься. А так... своими каблуками ты наступила на больную мозоль Меньшова. В ответ он наступил на твою мозоль. Ты ведь чувствуешь себя неловко из-за своего роста и модельной внешности в музыкальном мире.
— И ты туда же? — раздражается Фая.
— Вот видишь, как тебя это цепляет! Любое замечание по поводу своего роста и неправильно выбранной карьеры ты принимаешь за личное оскорбление. А люди просто завидуют. Им неприятно осознавать собственную ущербность, находясь рядом с тобой. Ты хорошая пианистка. И все об этом знают. И многие интуитивно догадываются, где твоя уязвимость. И бьют в больную точку. Вот и все.
— А ты из-за роста не комплексуешь? — спрашивает Фая.
— Я знаю, что коротышки комплексуют больше, и этот факт сохраняет мою психику, — отвечает Слава.
— Тебе никогда не предлагали пойти в модели или в волейбол? — спрашивает Фая.
— На предложение пойти в модели я отвечаю что-то вроде: «А вы работаете на веб-каме?». А если предлагают пойти в волейбол, то отвечаю, что меня выгнали из команды за неизлечимое плоскоглазие и косоручие. Как правило, этого хватает.
Дана приносит Славин заказ. И тут значительно повеселевшая Фая спохватывается, что не вызвала официантку раньше:
— Можно меню? Хотя, нет. Давайте сразу ройбуш в маленьком чайнике и рис с курицей.
— Хорошо. Сейчас, — честно врет Дана и удаляется.
— Может, все-таки погадаешь? — снова вспоминает замятую тему Фая.
— Какая ж ты настырная! — качает головой Слава, доставая карты. — Ладно. Давай так. Сейчас ты вытянешь из колоды четыре карты. Это будут прошлое, настоящее, будущее и то, что мешает или помогает в достижении твоей цели. Но я ничего не буду рассказывать. Ты расскажешь все сама. Хочешь, вслух, хочешь, про себя. Я не буду вмешиваться. Так будет честнее.
— Оригинальный способ, — беря в руки протянутую колоду, говорит Фая. — Но так же получится, что я гадаю сама себе? А гадать себе, говорят, нельзя.
— Предрассудки, — отрезает Слава. — Ты умеешь гадать на таро?
— Нет, — честно сознается Фая, перетасовывая колоду.
— Вот и отлично. То, что мы сейчас сделаем, — это не гадание. Это психоанализ. Или что-то вроде того. Карты можно интерпретировать практически как угодно. Картинки просто помогут раскрыть твое подсознание.
— А почему ты не хочешь интерпретировать? — продолжает доставать Фая.
— А нафига тебе мое подсознание? Это твоя жизнь, и нечего мне в нее вмешиваться. Уволь. К тому же, мне не нравится сама идея гадания хотя бы потому, что случайная комбинация карт открывает случайную дверь. Из каждой ситуации и каждого момента настоящего есть множество выходов, множество дверей. Просто одни выходы кажутся нам более очевидными и более логичными, а другие мы отметаем за их странность или опасность. К примеру, я прямо сейчас могу убежать, не расплатившись, но не сделаю этого по определенным причинам. Когда мы гадаем, то открываем рандомную дверь. За ней может оказаться крокодил. Но мы, зная, что там крокодил, возьмем с собой ружье и побежим бороться с этим долбаным крокодилом вместо того, чтобы заглянуть за другую дверь. Ведь, кто знает, а вдруг за той дверью откажется не крокодил, а кролик, или, скажем, принц на белом коне. Но мы же к такой встрече не готовились! Нам нужен крокодил. Понимаешь, о чем я? Так или иначе, даже если мы не относимся к этому серьезно, гадание лишает нас права выбора, пусть даже выбора вслепую, но все-таки подлинного выбора, подкидывая случайную комбинацию. Так что? Ты все еще хочешь гадать?
— Да, я хочу гадать. И это мой выбор, — кажется, ничего не поняв из проповеди Славы, отвечает Фая, и, закрыв глаза на несколько секунд, вытягивает из колоды четыре карты и раскладывает их на столе. — Какие интересные у тебя картинки… Мне раньше соседка гадала. Но у нее были совсем другие карты.
— Это авторская колода. Ее нарисовала... один мой близкий человек, — поясняет Слава.
— А кто, если не секрет? — спрашивает Фая.
— Сестра. Она художница, — поясняет Слава.
— Не знала, что у тебя есть сестра, — хмурится Фая.
— Смотри на карты и рассказывай свою историю, — напоминает Слава. — Вслух можешь ничего не говорить. Повторяю, это не мое дело, и я не хочу вмешиваться.
Фая внимательно рассматривает картинки. Третья карта, двойка кубков, лежит вверх ногами, и она переворачивает ее, но тут же, отдернув руку, спрашивает:
— Ой, в таро ведь, вроде, есть перевернутые значения?
— Есть, — посмотрев на расклад, отвечает Слава. — Они означают ровно противоположное тому, что нарисовано на карте. Однако ты задала этот вопрос уже после того, как перевернула карту. Так что, можешь интерпретировать в прямом положении. Кстати, некоторые тарологи вообще не используют перевернутых значений.
«И вот, я все-таки вмешиваюсь», — печально констатирует Слава, наблюдая за склонившейся над картами Фаей.
— Что? Теперь в дурака? — спрашивает Слава, когда Фая собирает карты и кладет их обратно в колоду. Дана приносит рис и чай.
— В дурака на таро, — качает головой Фая. — Для тебя вообще нет ничего святого?
— Нет, а зачем оно мне? — задает риторический вопрос Слава, выбрасывая из колоды старшие арканы. Фая тут же подбирает карты и с интересом рассматривает картинки.
— В переводного или простого? — спрашивает она.
— В переводного, конечно, — делает очевидный для себя выбор Слава. — На что играем?
— На желание, — предлагает Фая.
Под конец партии, оставшись с тремя картами, Слава размышляет, стоит ли подкинуть козырного туза, или оставить себе?
а) подкинуть => Глава 7b. Искусство и красота в современной эстетике
б) не подкидывать => Глава 7с. Время жить и время паковать чемоданы
Глава 6b. Девушка в красном и девушка в синем
— По традиции, на ящик водки, — решает соврать Слава.
— По какой традиции? — переспрашивает Герман, жестом приглашая Славу пройти в опустевшую аудиторию.
— Ну, как же? Как Хачатурян.
— И что было с Хачатуряном? — спрашивает Герман, садясь за стол.
— Знаменитая байка про Хачатуряна и Шостаковича, — начинает Слава, садясь напротив. — Значит, однажды Хачатурян поспорил с остальными композиторами на кафедре, что Шостакович не сможет прочитать с листа партитуру. Но, поскольку Шостакович владел чтением партитур с листа лучше всех во всей консерватории, а то и во всем Союзе, то народ над Хачатуряном только посмеялся. Эм-м-м… Чтение партитур — это когда вы открываете оркестровую партитуру и пытаетесь запихнуть в десять пальцев максимальное число инструментов, изображая оркестр на рояле. При том часть инструментов играет в собственных ключах или куда-нибудь транспонирует, и все партии надо как-то быстро высчитать и решить, кого какой левой пяткой схватить. Короче, недаром «чтение партитур» сокращается до аббревиатуры ЧП. Так вот. Хачатурян предложил спор на ящик водки, и все радостно согласились. Привели Шостаковича, посадили за пианину, и Хачатурян водрузил ему ноты. Здесь я, увы, не буду врать, не помню, что это было. Вероятно, какой-нибудь Бранденбургский концерт Баха. У него оркестр маленький, транспонирующих инструментов почти нет, короче, легче придумать сложно. Все, естественно, еще больше удивляются самонадеянности Хачатуряна. И вот Шостакович начинает играть и... лажает. Лажает и лажает, тихо ругается, но продолжает играть мимо нот. Короче, ко всеобщему изумлению Шостакович сдается, а Хачатуряну приносят ящик водки. Но потом кто-то из проигравших находит те самые ноты. И что же он видит? Шестую линеечку. Хитрый Хачатурян пририсовал в некоторых партиях шестую линейку к нотному стану. А ноты люди читают так же просто, как слова, то есть не зацикливаясь на каждой конкретной ноте, а считывая картинку целиком. Если переставить буквы в слове, но сохранить первую и последнюю в правильном месте, то человек даже не заметит перестановки. В нотном тексте такой опорой является нотный стан. И вот опора рухнула. Естественно, Шостакович, который, как мы прекрасно помним, носил на носу не очки, а две лупы, никак не мог заметить, что кое-где нарисовались шестые линейки. Вот и вся история.
— Хорошая история, — соглашается Герман. — Хоть буду знать, в каком историческом месте я работаю. Что ж, давайте зачетку и не убейте ваше тело водкой раньше времени. Хоть оно и без органов.
Немного прифигев от такого поворота событий, Слава лезет в рюкзак, но зачетки там не обнаруживает. Слава снова перепроверяет все карманы под веселым взглядом Германа.
— Ну что? Зачетку забыли?
Слава только криво улыбается.
— Ладно, так и быть, поставлю пока в ведомость. Зайдите ко мне... эм-м-м... шестнадцатого числа. На Новую сцену Александринки. Я буду читать лекцию на Открытом философском. В семь вечера. Напомните, как ваша фамилия?
Уже на выходе из консерватории до Славы доходит, что спор проигран, ведь для доказательства обратного нужно было сфотографировать ведомость, а лучше сделать селфи с Германым или на худой конец не забыть зачетку. С другой стороны, лучше так, чем дальше грузить свои мозги Бодрийяром и бегать с пересдачей. Спускаясь вниз, Слава решает позвонить Вадику и таки разузнать, чем дело кончилось и на чем сердце успокоилось.
— Ха, просто ржака, — веселится Вадик на том конце не существующего провода. — Короче, это был вокалист с двенадцатого, который по утрам демонический смех репетирует, знаешь его?
— Нет, никогда не встречались. Только каждое утро я подскакиваю с мыслью, что настал конец света. Так что с ним?
— Вчера на шестнадцатом бухали режиссеры. Среди них, есна, затесались вокалисты и хореографы. Ну, пили они знатно, и в какой-то момент этот Фишер-Дискау, етить его за ногу, со своей Марией Каллас поссорился да и саданул рукой в дверь. Стекло вылетело, видимо, вену задело или хер пойми что, но кровищи было много. И он, вместо того, чтобы воспользоваться лифтом, пошел по лестнице и перепутал этаж. Тихонько отмылся у нас блоке, замотал руку моим полотенцем, а потом, осознав, что блок-то не его, так же тихо ушел.
— Ха. А ларчик-то просто открывался, — ухмыляется Слава. — Не мудрено. Мы же на восемнадцатом живем. И он тоже.
— В смысле? — не понимает Вадик.
— Ты давно по лестнице ходил?
— Да как-то мне не нужно, вроде. Высоковато будет. А зачем?
— А вот если ты хоть раз пройдешься по лестнице, то все поймешь. Наши великие шутники еще в незапамятные времена все номера этажей перерисовали. И сколько с ними не борются, цифры постоянно перерисовывают. Поэтому и двенадцатый, и тринадцатый этажи превратились в восемнадцатые. Одиннадцатый стал семнадцатым, седьмой девятым и так далее. Там сам черт ногу сломит. Видимо, чел помнил, что живет на восемнадцатом, и, спускаясь с шестнадцатого пьяным, забыл, на каком по счету восемнадцатом он живет. Так и попал на тринадцатый.
— Слушай, я щаз в твою математику не врубаюсь. Не забывай, я все-таки гуманитарий, — перебивает Вадик. — Еду на Театралку в гости к Диане с Тохой. Кстати, как твоя философия?
— Зачет. Но спор все равно проигран... Долгая история. Кстати, а можно тебе на хвост упасть? Давно с девчонками не общались...
— Ну, упади, заодно расскажешь про свой спор. Я буду минут через сорок. Дождешься?
— Позвони на подлете, — соглашается Слава.
Сорок минут — вполне приемлемый срок, чтобы добраться до магазина со странным названием «Отчаяние» и раздобыть какого-нибудь хитрого чаю, дабы не идти под новый год в гости с пустыми руками.
— О, Слава! Тебя-то мне и надо было! — радостно приветствует гостей Диана. — Как раз собиралась тебе звонить. Короче, я тут думаю ввязаться в один проект. Детский. Тема — революция, 17-й год. Короче, надо написать небольшую оперу или спектакль с музыкой, чтобы не очень сложно и не очень запарно, и где-то на полчаса. Естественно, денег заплатят. Возьмешься?
— А либретто есть? — спрашивает Слава, расшнуровывая берцы в темном коридоре старинной коммуналки, полностью занятой бывшими и нынешними студентами консерватории.
— Нет. Бери, что хочешь, — милостиво разрешает Диана.
— Нет, дорогая, давай все-таки, как режиссер, ты мне хотя бы скажешь, на что опираться. А то я вместо того, чтобы музыку писать, буду целую неделю рыться в стихах и прозе, теряя время и нервы, — аккуратно ступая по скрипучему шатающемуся полу следом за Дианой и Вадиком, возражает Слава.
— Я сама не знаю, что взять, — пожимает плечами Диана, приглашая друзей в свою комнату.
Диана садится в старинное кресло, явно сохранившееся с царских времен, но, судя по всему, ни разу не реставрированное. Вадику и Славе достаются кресла поскромнее, советские. Слава осматривает интерьер. Диана занимает весьма просторную комнату, стены которой покрывают полуотвалившиеся советские обои с буро-зелеными листиками, из-под которых местами проглядывают более древние бордовые, а в местах, где и они прорвались, виднеется пожелтевшая газета и штукатурка. Потолки под четыре метра скрываются в темноте и паутине. Фолиант Большой Советской Энциклопедии заменяет одну из ножек громоздкого дореволюционного шкафа, соседствующего с советским музыкальным холодильником «Саратов», в углу, прячась за выступом не работающей более полувека изразцовой печи, тонет под завалами бижутерии туалетный столик. А в центре комнаты гордо стоит советский раздвижной стол в окружении разложенного советского дивана и описанных выше кресел. На окнах под сквозняком мерно качаются старинные шторы, судя по нарисованным цифрам, стащенные из какого-то театра. Диана кутается в бордовый бархатный халат, явно из мужской костюмерной. На руках у нее куча колец, а на ногах остроносые тапки, как у Хоттабыча или маленького Мука. Протянув руку, она включает электрический чайник, стоящий на подоконнике. На глаза Славе попадается скромно затесавшаяся в углу икеевская полка, которой производители дали какое-то странное человеческое имя, кажется, Альберт или Альфред. На ней громоздятся книги. В поисках идеи Слава подходит к полке и начинает изучать ее содержимое. Вадик рассказывает Диане удивительный детектив с разбитым окном.
— Так что там с этажами? — внезапно вытаскивает он Славу из раздумий.
— Что-что? Все номера этажей на лестнице перерисованы. Поэтому цифры 12 и 13 превратились в 18.
— Ну да, помню эту тему, — усмехается Диана. — Я жила на девятом, хотя по факту это был четвертый.
— Вот именно, — соглашается Слава, доставая с полки томик Цветаевой и задумчиво смотря на халат Дианы. — Девушка в красном.
— Что? — спрашивает Диана.
— Вы пока болтайте без меня, — снова отстраняется Слава. — Я думаю.
Слава садится в кресло и начинает перелистывать томик. Открывается дверь. На пороге материализуется Тоха в викторианском темно-синем платье.
— И девушка в синем, — констатирует Слава.
Вообще-то Тоха по паспорту Антонида, но в быту ее сокращают исключительно до Тохи, то ли за пацанские манеры, то ли...
— У-у-у, ёпта, гля хто пришел, — здоровается она, вальяжно облокотившись на дверной косяк. — Славка! Сколько лет сколько зим тебя не видела! И еще столько же не видеть бы! Ха-ха! А ты, Вадька, чего приперся? Проголодался аль переночевать негде?
— И тебе не хворать, старая перечница, — здоровается Вадик.
— От бля, гости пришли, а я не при параде! — одергивает Тоха корсет.
— Нихренасе не при параде! — оценивающе окидывает ее взглядом Вадик.
— Ты чё, слепой что ли? Не видишь, я не накрашена, вся рожа в прыщах, воняю, как скотина, потому что уже неделю колонка барахлит, а тазик мне жена не греет. Башка совсем грязная. Дианка, тебя еще блохи не покусали?
— Не покусали, — спокойно мотает головой Диана.
— А меня чета грызут, — почесывает подмышку Тоха. — А, точно! У меня ж конфеты есть! И водка. Че вы тут чай с сухарями хлещете? Новый год на дворе, ёпта, а вы тут трезвые... единороги! Гы-гы-гы! Слава, кто тебе рог наставил? Давай я пойду разберусь!
— Это Герман, — ржет Вадик.
— Этот тощий филосох что ли? Ах-ха, Славка, ты даешь!
— Тош, подожди подкалывать, я думаю, — отмахивается от нее Слава, листая Цветаеву.
— Ой, ты смотри! Мыслитель!.. этого... как бишь его... Гогена!
— Родена, — поправляет Диана.
— Да один хуй! Гогены... Родены... Диогены... Ладно, я ща! — и Тоха исчезает в темноте коридора.
— А чего она так вырядилась? — спрашивает Диану Вадик.
— Это ежегодная примерка платьев. Проверяет, насколько сильно она растолстела, и прикидывает, какое платье мы будем шить к следующему сезону... — вздыхает Диана.
Дверь снова открывается. На пороге появляется скрипач Женя.
— Диан, есть мужские туфли 45-го размера?
— Жень, я тебе реквизитор, что ли? — вскидывает бровь Диана. — Иди у Сереги попроси.
— У него 43-й, а Юрка с 44-м уехал к родителям. О, ребят, а у вас какие размеры?
— Мы сегодня не при параде, ёпта, — отвечает Вадик в манере Тохи.
— Да мне не сегодня, мне на третье число нужно, а то мои концертные порвались.
— Жень, твои туфли порвались два года назад! Может, купишь уже новые и перестанешь всех подряд разувать? — тоном строгой мамаши отчитывает его Диана.
— Но мне кроссовки нужны были...
— На зиму?
Женя, опустив очи долу, молчит.
— Женя, — продолжает наставления Диана, — когда ты уже запомнишь одну простую вещь: сначала туфли, а потом кроссовки, сначала костюм, а потом джинсы!
— Ладно, не вопи, мам. Пойду у Сереги возьму. Как-нибудь влезу.
— Ты мне не мамкай! Не я тебя рожала, не мне тебя и убивать! Хотя иногда очень хочется, — последнюю фразу Диана произносит как бы «с ремаркой в сторону».
— Хочешь, мои возьми, — предлагает вернувшаяся Тоха. — Как раз от Керубино11 остались. Красивые. С бантами.
11
— А у тебя какой размер? — интересуется Женя.
— Сороковой! — ржет Тоха, и под дружный гогот Женя ретируется, а Тоха, теперь уже в фиолетовом платье, королевской походкой шествует через комнату, попутно выставляя на стол водку с конфетами, и, повернувшись спиной к Диане, командует:
— Застегни, мать!
Диана застегивает молнию и шлепает Тоху по мягкому месту.
— И не дерись, — строго говорит Тоха, с размаху плюхаясь на колени Диане, да с такого размаху, что Диана издает громкий «ох».
— Так вы все еще по разным комнатам живете? — удивляется Вадик.
— Нет, живем мы в этой, — отвечает Диана. — А во второй у Тохи гардеробная и конфеты от всяких поклонников.
— Да в жопу этих поклонников! Не люблю я Фиреро Роше, ёпта. Придурки. Лучше бы платья дарили, — и она нежно гладит по голове Диану. Та тяжело вздыхает.
— Ну, а если серьезно?
— Если серьезно, то ищем соседа или соседку в наш дурдом. Когда найдем, будем запихивать Тохины шмотки в холодильник, потому что шкаф переполнится, — серьезно рассуждает Диана.
— Зато сохранятся лучше, — деловито заявляет вокалистка.
— Так вы поженились или что? — уточняет Вадик.
— Не поженились! — раздраженно отвечает Тоха. — Она мою фамилию не хочет, а я че, баба что ли, ее фамилию брать?
— Тох, не начинай, — успокаивает ее Диана.
— Так вы ж в Данию собирались, вроде? — спрашивает Вадик.
— Собирались, но пока не собрались. Лучше платье новое сошьем, правда, солнышко? — ехидно подкалывает Тоху Диана.
— Да, моя киска! — восклицает Тоха и целует Диану в щеку.
— Ша! — внезапно возвращается из астрала Слава. — Слушайте.
Девочка в красном и девочка в синем
Вместе гуляли в саду.
«Знаешь, Алина, мы платьица скинем,
Будем купаться в пруду?» — Слава закрывает книжку. — Так вот. Здесь мы остановимся. Синяя еще не совсем посинела, поэтому они таки идут купаться в пруду. А дальше добро и красота, девочки любят друг друга, солнышко светит, птички поют «Боже, царя храни». И тут трах-ба-бах! Ленин на броневичке, рабочие с молотками, крестьяне с лопатами, красные, белые, зеленые, ничего не понятно, черт ломает обе ноги, смешались вместе кони и люди, Синяя выходит замуж и валит в Париж, Красная хватает советский флаг и вперед на революционный фронт. И заключительный дуэт как бы через стекло. Девчонки признаются друг другу в любви, но поют в совершенно разных тональностях, да, это будет единственный тональный эпизод, точнее, политональный, чтобы стало ясно, что это конец, и им уже не суждено быть вместе никогда! Вот.
— Класс! — аплодирует Вадик.
— Круто! Чур я Красная! — кричит Тоха, тоже аплодируя.
— Браво, маэстро, — несколько раз громко хлопает в ладоши Диана. — Слава, у тебя мозги на плечах есть?! Это детский спектакль! Какие, нахуй, лесбиянки, какая, нахуй, эмиграция? Тебе вообще хоть что-нибудь говорит слово «дети»?
— Какие, нахуй, девочки, с какими, нахуй, волосатыми сиськами... — вполголоса вспоминает вчерашние шарады Вадик.
— Что? — переспрашивает Диана.
— Да так, ничего. Потом расскажу, — отмахивается тот.
— Дети — это плохо, — возвращается к теме Слава. — Но идея же крутая!
— Слав, поезжай в Гейропу и пиши, что хочешь. Мы в России. Нужен другой сюжет. Или без лесбиянок.
— Тогда какой в нем прок? Диан, ну, придумай сама, что можно детям загнать и не сесть!
— Не знаю, Слав. Надо думать. Видимо, спонтанно не получится, — печально констатирует Диана.
— А давайте что-нибудь про Оскара Уайльда, — предлагает Вадик.
— Еще лучше! И при чем здесь вообще революция? — вскидывает бровь Диана.
— Как же! Революция в мире моды, в мире эстетики, вообще одно из первых громких дел, легших в основу сексуальной революции! — воодушевляется Вадик.
— А мне что там петь? — обиженно надувает губки Тоха. — Там одни мужики будут. Нет. Давайте про Цветаеву! А советский флаг у кого-нибудь есть?
Диана изображает фейспалм.
Засидевшись у девчонок почти до девяти вечера, Слава и Вадик все-таки решают встретить новый год в общаге, вероятно потому, что Вадику уж очень хочется посмотреть, как из Славы сделают Мерлин Монро. Ежась под дождеснегом, они выходят на автобусную остановку. И тут Вадик замечает, что на противоположной стороне дороги тормозит знакомая ржавая «копейка».
— Знаешь, чей это мерс? — спрашивает он, указывая на чудо советского автопрома.
— По всей видимости, Артема, — присматриваясь к машине, отвечает Слава.
— Может, попросим, чтобы подвез, если он в общагу? — предлагает Вадик.
а) — Ну, давай, — соглашается Слава. => Глава 7d. Закон падлости
б) — Не, не верю я ему. Лучше дождемся «двойку». => Глава 7е. Неизгладимый след в истории
— По какой традиции? — переспрашивает Герман, жестом приглашая Славу пройти в опустевшую аудиторию.
— Ну, как же? Как Хачатурян.
— И что было с Хачатуряном? — спрашивает Герман, садясь за стол.
— Знаменитая байка про Хачатуряна и Шостаковича, — начинает Слава, садясь напротив. — Значит, однажды Хачатурян поспорил с остальными композиторами на кафедре, что Шостакович не сможет прочитать с листа партитуру. Но, поскольку Шостакович владел чтением партитур с листа лучше всех во всей консерватории, а то и во всем Союзе, то народ над Хачатуряном только посмеялся. Эм-м-м… Чтение партитур — это когда вы открываете оркестровую партитуру и пытаетесь запихнуть в десять пальцев максимальное число инструментов, изображая оркестр на рояле. При том часть инструментов играет в собственных ключах или куда-нибудь транспонирует, и все партии надо как-то быстро высчитать и решить, кого какой левой пяткой схватить. Короче, недаром «чтение партитур» сокращается до аббревиатуры ЧП. Так вот. Хачатурян предложил спор на ящик водки, и все радостно согласились. Привели Шостаковича, посадили за пианину, и Хачатурян водрузил ему ноты. Здесь я, увы, не буду врать, не помню, что это было. Вероятно, какой-нибудь Бранденбургский концерт Баха. У него оркестр маленький, транспонирующих инструментов почти нет, короче, легче придумать сложно. Все, естественно, еще больше удивляются самонадеянности Хачатуряна. И вот Шостакович начинает играть и... лажает. Лажает и лажает, тихо ругается, но продолжает играть мимо нот. Короче, ко всеобщему изумлению Шостакович сдается, а Хачатуряну приносят ящик водки. Но потом кто-то из проигравших находит те самые ноты. И что же он видит? Шестую линеечку. Хитрый Хачатурян пририсовал в некоторых партиях шестую линейку к нотному стану. А ноты люди читают так же просто, как слова, то есть не зацикливаясь на каждой конкретной ноте, а считывая картинку целиком. Если переставить буквы в слове, но сохранить первую и последнюю в правильном месте, то человек даже не заметит перестановки. В нотном тексте такой опорой является нотный стан. И вот опора рухнула. Естественно, Шостакович, который, как мы прекрасно помним, носил на носу не очки, а две лупы, никак не мог заметить, что кое-где нарисовались шестые линейки. Вот и вся история.
— Хорошая история, — соглашается Герман. — Хоть буду знать, в каком историческом месте я работаю. Что ж, давайте зачетку и не убейте ваше тело водкой раньше времени. Хоть оно и без органов.
Немного прифигев от такого поворота событий, Слава лезет в рюкзак, но зачетки там не обнаруживает. Слава снова перепроверяет все карманы под веселым взглядом Германа.
— Ну что? Зачетку забыли?
Слава только криво улыбается.
— Ладно, так и быть, поставлю пока в ведомость. Зайдите ко мне... эм-м-м... шестнадцатого числа. На Новую сцену Александринки. Я буду читать лекцию на Открытом философском. В семь вечера. Напомните, как ваша фамилия?
Уже на выходе из консерватории до Славы доходит, что спор проигран, ведь для доказательства обратного нужно было сфотографировать ведомость, а лучше сделать селфи с Германым или на худой конец не забыть зачетку. С другой стороны, лучше так, чем дальше грузить свои мозги Бодрийяром и бегать с пересдачей. Спускаясь вниз, Слава решает позвонить Вадику и таки разузнать, чем дело кончилось и на чем сердце успокоилось.
— Ха, просто ржака, — веселится Вадик на том конце не существующего провода. — Короче, это был вокалист с двенадцатого, который по утрам демонический смех репетирует, знаешь его?
— Нет, никогда не встречались. Только каждое утро я подскакиваю с мыслью, что настал конец света. Так что с ним?
— Вчера на шестнадцатом бухали режиссеры. Среди них, есна, затесались вокалисты и хореографы. Ну, пили они знатно, и в какой-то момент этот Фишер-Дискау, етить его за ногу, со своей Марией Каллас поссорился да и саданул рукой в дверь. Стекло вылетело, видимо, вену задело или хер пойми что, но кровищи было много. И он, вместо того, чтобы воспользоваться лифтом, пошел по лестнице и перепутал этаж. Тихонько отмылся у нас блоке, замотал руку моим полотенцем, а потом, осознав, что блок-то не его, так же тихо ушел.
— Ха. А ларчик-то просто открывался, — ухмыляется Слава. — Не мудрено. Мы же на восемнадцатом живем. И он тоже.
— В смысле? — не понимает Вадик.
— Ты давно по лестнице ходил?
— Да как-то мне не нужно, вроде. Высоковато будет. А зачем?
— А вот если ты хоть раз пройдешься по лестнице, то все поймешь. Наши великие шутники еще в незапамятные времена все номера этажей перерисовали. И сколько с ними не борются, цифры постоянно перерисовывают. Поэтому и двенадцатый, и тринадцатый этажи превратились в восемнадцатые. Одиннадцатый стал семнадцатым, седьмой девятым и так далее. Там сам черт ногу сломит. Видимо, чел помнил, что живет на восемнадцатом, и, спускаясь с шестнадцатого пьяным, забыл, на каком по счету восемнадцатом он живет. Так и попал на тринадцатый.
— Слушай, я щаз в твою математику не врубаюсь. Не забывай, я все-таки гуманитарий, — перебивает Вадик. — Еду на Театралку в гости к Диане с Тохой. Кстати, как твоя философия?
— Зачет. Но спор все равно проигран... Долгая история. Кстати, а можно тебе на хвост упасть? Давно с девчонками не общались...
— Ну, упади, заодно расскажешь про свой спор. Я буду минут через сорок. Дождешься?
— Позвони на подлете, — соглашается Слава.
Сорок минут — вполне приемлемый срок, чтобы добраться до магазина со странным названием «Отчаяние» и раздобыть какого-нибудь хитрого чаю, дабы не идти под новый год в гости с пустыми руками.
— О, Слава! Тебя-то мне и надо было! — радостно приветствует гостей Диана. — Как раз собиралась тебе звонить. Короче, я тут думаю ввязаться в один проект. Детский. Тема — революция, 17-й год. Короче, надо написать небольшую оперу или спектакль с музыкой, чтобы не очень сложно и не очень запарно, и где-то на полчаса. Естественно, денег заплатят. Возьмешься?
— А либретто есть? — спрашивает Слава, расшнуровывая берцы в темном коридоре старинной коммуналки, полностью занятой бывшими и нынешними студентами консерватории.
— Нет. Бери, что хочешь, — милостиво разрешает Диана.
— Нет, дорогая, давай все-таки, как режиссер, ты мне хотя бы скажешь, на что опираться. А то я вместо того, чтобы музыку писать, буду целую неделю рыться в стихах и прозе, теряя время и нервы, — аккуратно ступая по скрипучему шатающемуся полу следом за Дианой и Вадиком, возражает Слава.
— Я сама не знаю, что взять, — пожимает плечами Диана, приглашая друзей в свою комнату.
Диана садится в старинное кресло, явно сохранившееся с царских времен, но, судя по всему, ни разу не реставрированное. Вадику и Славе достаются кресла поскромнее, советские. Слава осматривает интерьер. Диана занимает весьма просторную комнату, стены которой покрывают полуотвалившиеся советские обои с буро-зелеными листиками, из-под которых местами проглядывают более древние бордовые, а в местах, где и они прорвались, виднеется пожелтевшая газета и штукатурка. Потолки под четыре метра скрываются в темноте и паутине. Фолиант Большой Советской Энциклопедии заменяет одну из ножек громоздкого дореволюционного шкафа, соседствующего с советским музыкальным холодильником «Саратов», в углу, прячась за выступом не работающей более полувека изразцовой печи, тонет под завалами бижутерии туалетный столик. А в центре комнаты гордо стоит советский раздвижной стол в окружении разложенного советского дивана и описанных выше кресел. На окнах под сквозняком мерно качаются старинные шторы, судя по нарисованным цифрам, стащенные из какого-то театра. Диана кутается в бордовый бархатный халат, явно из мужской костюмерной. На руках у нее куча колец, а на ногах остроносые тапки, как у Хоттабыча или маленького Мука. Протянув руку, она включает электрический чайник, стоящий на подоконнике. На глаза Славе попадается скромно затесавшаяся в углу икеевская полка, которой производители дали какое-то странное человеческое имя, кажется, Альберт или Альфред. На ней громоздятся книги. В поисках идеи Слава подходит к полке и начинает изучать ее содержимое. Вадик рассказывает Диане удивительный детектив с разбитым окном.
— Так что там с этажами? — внезапно вытаскивает он Славу из раздумий.
— Что-что? Все номера этажей на лестнице перерисованы. Поэтому цифры 12 и 13 превратились в 18.
— Ну да, помню эту тему, — усмехается Диана. — Я жила на девятом, хотя по факту это был четвертый.
— Вот именно, — соглашается Слава, доставая с полки томик Цветаевой и задумчиво смотря на халат Дианы. — Девушка в красном.
— Что? — спрашивает Диана.
— Вы пока болтайте без меня, — снова отстраняется Слава. — Я думаю.
Слава садится в кресло и начинает перелистывать томик. Открывается дверь. На пороге материализуется Тоха в викторианском темно-синем платье.
— И девушка в синем, — констатирует Слава.
Вообще-то Тоха по паспорту Антонида, но в быту ее сокращают исключительно до Тохи, то ли за пацанские манеры, то ли...
— У-у-у, ёпта, гля хто пришел, — здоровается она, вальяжно облокотившись на дверной косяк. — Славка! Сколько лет сколько зим тебя не видела! И еще столько же не видеть бы! Ха-ха! А ты, Вадька, чего приперся? Проголодался аль переночевать негде?
— И тебе не хворать, старая перечница, — здоровается Вадик.
— От бля, гости пришли, а я не при параде! — одергивает Тоха корсет.
— Нихренасе не при параде! — оценивающе окидывает ее взглядом Вадик.
— Ты чё, слепой что ли? Не видишь, я не накрашена, вся рожа в прыщах, воняю, как скотина, потому что уже неделю колонка барахлит, а тазик мне жена не греет. Башка совсем грязная. Дианка, тебя еще блохи не покусали?
— Не покусали, — спокойно мотает головой Диана.
— А меня чета грызут, — почесывает подмышку Тоха. — А, точно! У меня ж конфеты есть! И водка. Че вы тут чай с сухарями хлещете? Новый год на дворе, ёпта, а вы тут трезвые... единороги! Гы-гы-гы! Слава, кто тебе рог наставил? Давай я пойду разберусь!
— Это Герман, — ржет Вадик.
— Этот тощий филосох что ли? Ах-ха, Славка, ты даешь!
— Тош, подожди подкалывать, я думаю, — отмахивается от нее Слава, листая Цветаеву.
— Ой, ты смотри! Мыслитель!.. этого... как бишь его... Гогена!
— Родена, — поправляет Диана.
— Да один хуй! Гогены... Родены... Диогены... Ладно, я ща! — и Тоха исчезает в темноте коридора.
— А чего она так вырядилась? — спрашивает Диану Вадик.
— Это ежегодная примерка платьев. Проверяет, насколько сильно она растолстела, и прикидывает, какое платье мы будем шить к следующему сезону... — вздыхает Диана.
Дверь снова открывается. На пороге появляется скрипач Женя.
— Диан, есть мужские туфли 45-го размера?
— Жень, я тебе реквизитор, что ли? — вскидывает бровь Диана. — Иди у Сереги попроси.
— У него 43-й, а Юрка с 44-м уехал к родителям. О, ребят, а у вас какие размеры?
— Мы сегодня не при параде, ёпта, — отвечает Вадик в манере Тохи.
— Да мне не сегодня, мне на третье число нужно, а то мои концертные порвались.
— Жень, твои туфли порвались два года назад! Может, купишь уже новые и перестанешь всех подряд разувать? — тоном строгой мамаши отчитывает его Диана.
— Но мне кроссовки нужны были...
— На зиму?
Женя, опустив очи долу, молчит.
— Женя, — продолжает наставления Диана, — когда ты уже запомнишь одну простую вещь: сначала туфли, а потом кроссовки, сначала костюм, а потом джинсы!
— Ладно, не вопи, мам. Пойду у Сереги возьму. Как-нибудь влезу.
— Ты мне не мамкай! Не я тебя рожала, не мне тебя и убивать! Хотя иногда очень хочется, — последнюю фразу Диана произносит как бы «с ремаркой в сторону».
— Хочешь, мои возьми, — предлагает вернувшаяся Тоха. — Как раз от Керубино11 остались. Красивые. С бантами.
11
В опере Моцарта «Свадьба Фигаро» партия юного пажа Керубино написана для женского голоса (меццо-сопрано).
— А у тебя какой размер? — интересуется Женя.
— Сороковой! — ржет Тоха, и под дружный гогот Женя ретируется, а Тоха, теперь уже в фиолетовом платье, королевской походкой шествует через комнату, попутно выставляя на стол водку с конфетами, и, повернувшись спиной к Диане, командует:
— Застегни, мать!
Диана застегивает молнию и шлепает Тоху по мягкому месту.
— И не дерись, — строго говорит Тоха, с размаху плюхаясь на колени Диане, да с такого размаху, что Диана издает громкий «ох».
— Так вы все еще по разным комнатам живете? — удивляется Вадик.
— Нет, живем мы в этой, — отвечает Диана. — А во второй у Тохи гардеробная и конфеты от всяких поклонников.
— Да в жопу этих поклонников! Не люблю я Фиреро Роше, ёпта. Придурки. Лучше бы платья дарили, — и она нежно гладит по голове Диану. Та тяжело вздыхает.
— Ну, а если серьезно?
— Если серьезно, то ищем соседа или соседку в наш дурдом. Когда найдем, будем запихивать Тохины шмотки в холодильник, потому что шкаф переполнится, — серьезно рассуждает Диана.
— Зато сохранятся лучше, — деловито заявляет вокалистка.
— Так вы поженились или что? — уточняет Вадик.
— Не поженились! — раздраженно отвечает Тоха. — Она мою фамилию не хочет, а я че, баба что ли, ее фамилию брать?
— Тох, не начинай, — успокаивает ее Диана.
— Так вы ж в Данию собирались, вроде? — спрашивает Вадик.
— Собирались, но пока не собрались. Лучше платье новое сошьем, правда, солнышко? — ехидно подкалывает Тоху Диана.
— Да, моя киска! — восклицает Тоха и целует Диану в щеку.
— Ша! — внезапно возвращается из астрала Слава. — Слушайте.
Девочка в красном и девочка в синем
Вместе гуляли в саду.
«Знаешь, Алина, мы платьица скинем,
Будем купаться в пруду?» — Слава закрывает книжку. — Так вот. Здесь мы остановимся. Синяя еще не совсем посинела, поэтому они таки идут купаться в пруду. А дальше добро и красота, девочки любят друг друга, солнышко светит, птички поют «Боже, царя храни». И тут трах-ба-бах! Ленин на броневичке, рабочие с молотками, крестьяне с лопатами, красные, белые, зеленые, ничего не понятно, черт ломает обе ноги, смешались вместе кони и люди, Синяя выходит замуж и валит в Париж, Красная хватает советский флаг и вперед на революционный фронт. И заключительный дуэт как бы через стекло. Девчонки признаются друг другу в любви, но поют в совершенно разных тональностях, да, это будет единственный тональный эпизод, точнее, политональный, чтобы стало ясно, что это конец, и им уже не суждено быть вместе никогда! Вот.
— Класс! — аплодирует Вадик.
— Круто! Чур я Красная! — кричит Тоха, тоже аплодируя.
— Браво, маэстро, — несколько раз громко хлопает в ладоши Диана. — Слава, у тебя мозги на плечах есть?! Это детский спектакль! Какие, нахуй, лесбиянки, какая, нахуй, эмиграция? Тебе вообще хоть что-нибудь говорит слово «дети»?
— Какие, нахуй, девочки, с какими, нахуй, волосатыми сиськами... — вполголоса вспоминает вчерашние шарады Вадик.
— Что? — переспрашивает Диана.
— Да так, ничего. Потом расскажу, — отмахивается тот.
— Дети — это плохо, — возвращается к теме Слава. — Но идея же крутая!
— Слав, поезжай в Гейропу и пиши, что хочешь. Мы в России. Нужен другой сюжет. Или без лесбиянок.
— Тогда какой в нем прок? Диан, ну, придумай сама, что можно детям загнать и не сесть!
— Не знаю, Слав. Надо думать. Видимо, спонтанно не получится, — печально констатирует Диана.
— А давайте что-нибудь про Оскара Уайльда, — предлагает Вадик.
— Еще лучше! И при чем здесь вообще революция? — вскидывает бровь Диана.
— Как же! Революция в мире моды, в мире эстетики, вообще одно из первых громких дел, легших в основу сексуальной революции! — воодушевляется Вадик.
— А мне что там петь? — обиженно надувает губки Тоха. — Там одни мужики будут. Нет. Давайте про Цветаеву! А советский флаг у кого-нибудь есть?
Диана изображает фейспалм.
Засидевшись у девчонок почти до девяти вечера, Слава и Вадик все-таки решают встретить новый год в общаге, вероятно потому, что Вадику уж очень хочется посмотреть, как из Славы сделают Мерлин Монро. Ежась под дождеснегом, они выходят на автобусную остановку. И тут Вадик замечает, что на противоположной стороне дороги тормозит знакомая ржавая «копейка».
— Знаешь, чей это мерс? — спрашивает он, указывая на чудо советского автопрома.
— По всей видимости, Артема, — присматриваясь к машине, отвечает Слава.
— Может, попросим, чтобы подвез, если он в общагу? — предлагает Вадик.
а) — Ну, давай, — соглашается Слава. => Глава 7d. Закон падлости
б) — Не, не верю я ему. Лучше дождемся «двойку». => Глава 7е. Неизгладимый след в истории
Глава 6c. Спонтанность
— Проигравший будет встречать новый год в образе Мерлин Монро, — честно отвечает Слава.
— Хм... — склоняет голову набок Герман. — А может, блонд вам и подойдет.
— Мерлин не была блондинкой. Она красилась, — пытается возразить Слава.
— Покрасьтесь тоже. Увидимся одиннадцатого января. И, чтобы не утруждать ваши мозги, которые к тому времени, вероятно, станут пергидрольными, прочтите «Голос и феномен» Деррида. О нем и поговорим. С наступающим новым годом, мисс Монро.
С этими словами Герман разворачивается на каблуках и закрывает за собой дверь кабинета. Славе очень хочется крепко выругаться, но, поскольку слушателей в округе не оказывается, Слава просто отправляется на автобусную остановку. «Двойка» долго не приходит, и становится весьма прохладно под декабрьским дождем. «Единорог посреди грязного промозглого города… Милая картинка», — размышляет Слава. Выкурив вторую сигарету и так не дождавшись автобуса, Слава обходит обе Мариинки и заходит в дом быта. «Спор есть спор», — решает Слава, открывая дверь парикмахерской.
— В блонд. Чем светлее, тем лучше. И укоротите по плечи.
Мастер хочет было что-то возразить, но, взглянув на сурово сдвинутые брови Славы, благоразумно закрывает рот. Смена имиджа происходит в полном молчании, пока Слава размышляет, что бы выкинуть такого радикального, если реальность в край задолбала. Но ничего особо умного на ум не приходит. «Возможно, это перекись так действует, — слегка улыбается собственной мысли Слава. — Слезы Делёза капали, где-то Эдипы падали...» По окончании парикмахерских работ Слава решает взглянуть на себя в зеркало и приходит в ужас. Нет, нельзя сказать, чтобы руки у мастера из скромного салона в доме быта росли не из нужного места, но ощущения экзистенциального ужаса от увиденного это не отменяет. Расплатившись, Слава садится на диван, открывает сайт РЖД и берет билет на ближайший поезд. Да, дороговато, но могло быть и хуже. Кажется, Фортуна все-таки решила улыбнуться.
По пути к Сенной Слава заходит в табачный магазин и выбирает элитный трубочный табак, а потом под возгласы возбужденных кавказцев, никогда не видевших единорогов в пальто, обегает с десяток лавок на Апрашке, чтобы раздобыть махровый плед, и в конце концов, замерзнув и разозлившись окончательно в попытке найти блок дешевых сигарет, отправляется на Ладожский вокзал. Плед приходится как нельзя кстати, и, пообедав парой пирожков с кофе, Слава ложится спать в неприметном уголке на втором этаже. К счастью, на этот раз никто не рвется задавать вопросов о целях пребывания в общественных местах живых непарнокопытных. Проснувшись от истошного звона будильника, Слава успевает покурить и выпить кофе, прежде чем сесть на поезд.
=> Глава 7f. Память
— Хм... — склоняет голову набок Герман. — А может, блонд вам и подойдет.
— Мерлин не была блондинкой. Она красилась, — пытается возразить Слава.
— Покрасьтесь тоже. Увидимся одиннадцатого января. И, чтобы не утруждать ваши мозги, которые к тому времени, вероятно, станут пергидрольными, прочтите «Голос и феномен» Деррида. О нем и поговорим. С наступающим новым годом, мисс Монро.
С этими словами Герман разворачивается на каблуках и закрывает за собой дверь кабинета. Славе очень хочется крепко выругаться, но, поскольку слушателей в округе не оказывается, Слава просто отправляется на автобусную остановку. «Двойка» долго не приходит, и становится весьма прохладно под декабрьским дождем. «Единорог посреди грязного промозглого города… Милая картинка», — размышляет Слава. Выкурив вторую сигарету и так не дождавшись автобуса, Слава обходит обе Мариинки и заходит в дом быта. «Спор есть спор», — решает Слава, открывая дверь парикмахерской.
— В блонд. Чем светлее, тем лучше. И укоротите по плечи.
Мастер хочет было что-то возразить, но, взглянув на сурово сдвинутые брови Славы, благоразумно закрывает рот. Смена имиджа происходит в полном молчании, пока Слава размышляет, что бы выкинуть такого радикального, если реальность в край задолбала. Но ничего особо умного на ум не приходит. «Возможно, это перекись так действует, — слегка улыбается собственной мысли Слава. — Слезы Делёза капали, где-то Эдипы падали...» По окончании парикмахерских работ Слава решает взглянуть на себя в зеркало и приходит в ужас. Нет, нельзя сказать, чтобы руки у мастера из скромного салона в доме быта росли не из нужного места, но ощущения экзистенциального ужаса от увиденного это не отменяет. Расплатившись, Слава садится на диван, открывает сайт РЖД и берет билет на ближайший поезд. Да, дороговато, но могло быть и хуже. Кажется, Фортуна все-таки решила улыбнуться.
По пути к Сенной Слава заходит в табачный магазин и выбирает элитный трубочный табак, а потом под возгласы возбужденных кавказцев, никогда не видевших единорогов в пальто, обегает с десяток лавок на Апрашке, чтобы раздобыть махровый плед, и в конце концов, замерзнув и разозлившись окончательно в попытке найти блок дешевых сигарет, отправляется на Ладожский вокзал. Плед приходится как нельзя кстати, и, пообедав парой пирожков с кофе, Слава ложится спать в неприметном уголке на втором этаже. К счастью, на этот раз никто не рвется задавать вопросов о целях пребывания в общественных местах живых непарнокопытных. Проснувшись от истошного звона будильника, Слава успевает покурить и выпить кофе, прежде чем сесть на поезд.
=> Глава 7f. Память
Глава 6d. И снова спонтанность
— У меня пока нет однозначного ответа на этот вопрос.
— Что ж, дипломатично. Cogito ergo sum. Чьи это слова?
— Декарта. Мыслю, следовательно существую.
— А откуда пошло выражение «днем с фонарем не сыщешь»?
— Полагаю, от перформансов Диогена.
— Перформансов... — добродушно хмыкает Герман. — Ладно, давайте зачетку. И постарайтесь в следующем семестре почаще заглядывать на лекции. Гречкин не любит прогульщиков.
Герман лихо расписывается в зачетной книжке и возвращает ее с такой счастливой улыбкой, будто он сам только что случайно сдал зачет.
Выйдя из консерватории, Слава решает позвонить старому другу-дирижеру, с которым они, кажется, успели пройти за эти годы и воду, и огонь, и медные трубы, а выпили, пожалуй, целое море.
— Привет, Веничка. Как оно?
— Привет. Да в целом живем как-то? А ты?
— Хочу свалить из города в неизвестном направлении.
— Смелое заявление. А я сижу у родителей.
— Планы на сегодня?
— Твоя идея мне нравится. Как насчет Выборга?
— Согласен. Через час на Финбане?
— Через час на Финбане, — повторяет Веня и кладет трубку.
=> Глава 7g. Приключение
— Что ж, дипломатично. Cogito ergo sum. Чьи это слова?
— Декарта. Мыслю, следовательно существую.
— А откуда пошло выражение «днем с фонарем не сыщешь»?
— Полагаю, от перформансов Диогена.
— Перформансов... — добродушно хмыкает Герман. — Ладно, давайте зачетку. И постарайтесь в следующем семестре почаще заглядывать на лекции. Гречкин не любит прогульщиков.
Герман лихо расписывается в зачетной книжке и возвращает ее с такой счастливой улыбкой, будто он сам только что случайно сдал зачет.
Выйдя из консерватории, Слава решает позвонить старому другу-дирижеру, с которым они, кажется, успели пройти за эти годы и воду, и огонь, и медные трубы, а выпили, пожалуй, целое море.
— Привет, Веничка. Как оно?
— Привет. Да в целом живем как-то? А ты?
— Хочу свалить из города в неизвестном направлении.
— Смелое заявление. А я сижу у родителей.
— Планы на сегодня?
— Твоя идея мне нравится. Как насчет Выборга?
— Согласен. Через час на Финбане?
— Через час на Финбане, — повторяет Веня и кладет трубку.
=> Глава 7g. Приключение
Глава 6e. Черная лестница
— Думаю, жизнь похожа на сложный алгоритм...
— Развивайте мысль, — заинтересовано кивает Герман.
— Ну, мне жизнь представляется чем-то вроде запутанного алгоритма или лабиринта. То есть в каждый момент времени, так скажем, судьба задает нам вопрос: что дальше? Мы отвечаем на него и тем самым выбираем свой дальнейший вектор движения, пока не встретим следующий вопрос. И снова выбор. Таким образом, из каждой отдельной точки времени у нас есть бесконечное множество вариантов развития событий.
— Вы упомянули слово «судьба». А судьбе вы определение придумали? — спрашивает преподаватель.
— Наверное, это некая совокупность решений всех других людей на планете, всех животных, и движения всех одушевленных и не очень одушевленных объектов, начиная от растений и одноклеточных и заканчивая звездами на границах нашей вселенной.
— Что ж, весьма неплохая концепция. Но все-таки давайте поразмышляем над Бодрийяром. Есть, знаете ли у него такая книжка... точнее, сборник статей. Называется «Идеальное преступление». Найдете в интернете. Вот почитайте на досуге, и обсудим... скажем... — он заглядывает в ежедневник, — одиннадцатого января. А на сегодня я с вами прощаюсь и желаю хороших праздников.
— Спасибо, Андрей Юрьевич. Вас тоже с наступающим, — печально вздыхает Слава, вставая из-за стола.
Решив покурить и собраться с мыслями, Слава выходит на черную лестницу. Черную в прямом смысле слова, потому что чуткие и ранимые души уборщиц не в силах вынести того, что тут обычно происходит. Сейчас здесь тихо, хотя в будничное время на каждой лестничной площадке от первого до шестого этажа стоит по меднику, каждый из которых отчаянно стремится выдуть все легкие в свою дудку, а звуки, впадая в бесконечные циклы реверберации, разлетаются во все стороны, бьются о стены, сталкиваются между собой, опадают и растаптываются ногами пробегающих курильщиков. Среди всего этого гомона, рева и воя, достойного второго круга Данте, остается только один не оккупированный медью остров, куда и бегут все никотинозависимые, — площадка на один лестничный пролет ниже физкультурного зала, почему-то расположившегося на чердаке. На черной от ежегодного протекания крыши стене все еще красуется темно-бордовая, но по-прежнему четкая надпись «Кафедра курения», выведенная неведомой рукой в незапамятные времена. Это та самая кафедра, на которую Славу приняли сразу и без лишних экзаменов. Здесь они, перекрикивая медь, душевно болтали с профессорами, здесь они с друзьями с кафедры буховиков и угарников развлекались тем, что переставляли мундштуки от флейты, трубы и кларнета, получая странных инфернальных гибридов, здесь складывались ансамбли и совершались ангажементы на всякие международные фестивали. Теперь здесь пусто. Все звуки, вылетевшие из уст духовиков, умерли и обратились в прах. Звук щелчка зажигалки со звоном осыпается вниз, до самого подвала. Слава закуривает и выпускает дым, глядя, как он проходит сквозь решетку, натянутую между площадками, видимо, во избежание падения всяких неуравновешенных личностей. Уединение нарушает какой-то китаец, пришедший сюда, видимо, по тем же причинам, что и Слава. Он становится рядом (как будто места мало?!), открывает пачку, извлекает из нее сломанную сигарету и разочарованно выбрасывает ее вместе с пачкой.
— Do you need a cigarette? — спрашивает Слава, протягивая ему свою пачку.
— Oh, yes. Thank you.
Китаец вытаскивает сигарету и пытается прикурить, но, как назло, у него ломается зажигалка, которая тотчас отправляется вслед за пустой пачкой и сломанной сигаретой.
— Sorry do you have а... fire? — тяжело подбирает слова китаец.
— Yeh, shure, — глядя по-прежнему в темноту подвала, отвечает Слава и протягивает ему зажигалку.
— Thank you, — снова благодарит иностранный студент и подкуривает сигарету. — Take it.
Наверное, он протягивает зажигалку, но Слава не смотрит на него.
— Keep it. I've got one more.
Чтобы избежать недопонимания, Слава вытаскивает из кармана вторую зажигалку и демонстрирует китайцу.
— Hey, are you OK? — не унимается тот.
— Hey, sorry, I don't want to chat now, — поднимает на него глаза Слава. — Maybe next time. OK?
Китаец, видимо, решает так просто не сдаваться, а потому говорит:
— My name is Vasya. I'm from Chukotka. I play valtorn.
— Че? — малость офигевает Слава. — Ты че, русский? В смысле, чукча?!
— Ну да, чукча, — отвечает Вася.
— А хули мы на английском базарим? — не понимает Слава.
— Так я думал, ты из Греции или из Испании. Кто у нас тут нынче водится?
— Мда. А ты, уж извини, похож на китайца.
— Есть такое. Они меня вечно тоже за своего принимают, подбегают и начинают что-то на своем птичьем лепетать, а я че? Я ничего не понимаю и говорю, что я русский. Они офигевают и убегают.
а) — Ладно, мой перекур окончен, мне на зачет надо, — решает завершить бессмысленный разговор Слава. => Глава 7h. Эффект шланга
б) — Прости, мне надо билет прогуглить. Я сейчас на зачете, — говорит Слава, доставая телефон.
=> Глава 7i. Когда никто не ждет
— Развивайте мысль, — заинтересовано кивает Герман.
— Ну, мне жизнь представляется чем-то вроде запутанного алгоритма или лабиринта. То есть в каждый момент времени, так скажем, судьба задает нам вопрос: что дальше? Мы отвечаем на него и тем самым выбираем свой дальнейший вектор движения, пока не встретим следующий вопрос. И снова выбор. Таким образом, из каждой отдельной точки времени у нас есть бесконечное множество вариантов развития событий.
— Вы упомянули слово «судьба». А судьбе вы определение придумали? — спрашивает преподаватель.
— Наверное, это некая совокупность решений всех других людей на планете, всех животных, и движения всех одушевленных и не очень одушевленных объектов, начиная от растений и одноклеточных и заканчивая звездами на границах нашей вселенной.
— Что ж, весьма неплохая концепция. Но все-таки давайте поразмышляем над Бодрийяром. Есть, знаете ли у него такая книжка... точнее, сборник статей. Называется «Идеальное преступление». Найдете в интернете. Вот почитайте на досуге, и обсудим... скажем... — он заглядывает в ежедневник, — одиннадцатого января. А на сегодня я с вами прощаюсь и желаю хороших праздников.
— Спасибо, Андрей Юрьевич. Вас тоже с наступающим, — печально вздыхает Слава, вставая из-за стола.
Решив покурить и собраться с мыслями, Слава выходит на черную лестницу. Черную в прямом смысле слова, потому что чуткие и ранимые души уборщиц не в силах вынести того, что тут обычно происходит. Сейчас здесь тихо, хотя в будничное время на каждой лестничной площадке от первого до шестого этажа стоит по меднику, каждый из которых отчаянно стремится выдуть все легкие в свою дудку, а звуки, впадая в бесконечные циклы реверберации, разлетаются во все стороны, бьются о стены, сталкиваются между собой, опадают и растаптываются ногами пробегающих курильщиков. Среди всего этого гомона, рева и воя, достойного второго круга Данте, остается только один не оккупированный медью остров, куда и бегут все никотинозависимые, — площадка на один лестничный пролет ниже физкультурного зала, почему-то расположившегося на чердаке. На черной от ежегодного протекания крыши стене все еще красуется темно-бордовая, но по-прежнему четкая надпись «Кафедра курения», выведенная неведомой рукой в незапамятные времена. Это та самая кафедра, на которую Славу приняли сразу и без лишних экзаменов. Здесь они, перекрикивая медь, душевно болтали с профессорами, здесь они с друзьями с кафедры буховиков и угарников развлекались тем, что переставляли мундштуки от флейты, трубы и кларнета, получая странных инфернальных гибридов, здесь складывались ансамбли и совершались ангажементы на всякие международные фестивали. Теперь здесь пусто. Все звуки, вылетевшие из уст духовиков, умерли и обратились в прах. Звук щелчка зажигалки со звоном осыпается вниз, до самого подвала. Слава закуривает и выпускает дым, глядя, как он проходит сквозь решетку, натянутую между площадками, видимо, во избежание падения всяких неуравновешенных личностей. Уединение нарушает какой-то китаец, пришедший сюда, видимо, по тем же причинам, что и Слава. Он становится рядом (как будто места мало?!), открывает пачку, извлекает из нее сломанную сигарету и разочарованно выбрасывает ее вместе с пачкой.
— Do you need a cigarette? — спрашивает Слава, протягивая ему свою пачку.
— Oh, yes. Thank you.
Китаец вытаскивает сигарету и пытается прикурить, но, как назло, у него ломается зажигалка, которая тотчас отправляется вслед за пустой пачкой и сломанной сигаретой.
— Sorry do you have а... fire? — тяжело подбирает слова китаец.
— Yeh, shure, — глядя по-прежнему в темноту подвала, отвечает Слава и протягивает ему зажигалку.
— Thank you, — снова благодарит иностранный студент и подкуривает сигарету. — Take it.
Наверное, он протягивает зажигалку, но Слава не смотрит на него.
— Keep it. I've got one more.
Чтобы избежать недопонимания, Слава вытаскивает из кармана вторую зажигалку и демонстрирует китайцу.
— Hey, are you OK? — не унимается тот.
— Hey, sorry, I don't want to chat now, — поднимает на него глаза Слава. — Maybe next time. OK?
Китаец, видимо, решает так просто не сдаваться, а потому говорит:
— My name is Vasya. I'm from Chukotka. I play valtorn.
— Че? — малость офигевает Слава. — Ты че, русский? В смысле, чукча?!
— Ну да, чукча, — отвечает Вася.
— А хули мы на английском базарим? — не понимает Слава.
— Так я думал, ты из Греции или из Испании. Кто у нас тут нынче водится?
— Мда. А ты, уж извини, похож на китайца.
— Есть такое. Они меня вечно тоже за своего принимают, подбегают и начинают что-то на своем птичьем лепетать, а я че? Я ничего не понимаю и говорю, что я русский. Они офигевают и убегают.
а) — Ладно, мой перекур окончен, мне на зачет надо, — решает завершить бессмысленный разговор Слава. => Глава 7h. Эффект шланга
б) — Прости, мне надо билет прогуглить. Я сейчас на зачете, — говорит Слава, доставая телефон.
=> Глава 7i. Когда никто не ждет
Глава 7. Поездка на море
— А можно мы пропустим эпизод, где я буду ломаться, аргументируя свой отказ тем фактом, что живу у черта на куличках?
— Разумеется, — усмехается Андрей Юрьевич, застегивая пальто. — Планируете встречать новый год в общежитии?
— Вероятно, — отвечает Слава, выходя на улицу и тщетно пытаясь закурить под дождеснегом в опускающихся сумерках.
Герман подкуривает свою сигарету от Зиппо и протягивает огонь Славе.
— Благодарю, — затягивается Слава. — А не вы ли говорили, что хотите домой и спать? И жена, наверное, ждет?
Слава кивает на обручальное кольцо на руке преподавателя.
— Ха-ха! — смеется тот, переходя дорогу к набережной Мойки. — Я ждал, когда вы спросите!
— Чего? — не понимает Слава, догоняя его.
— Маленькая хитрость. Чтобы студентки меньше клеились.
— Вам не нравятся молодые и красивые студентки? — выражает крайнее удивление Слава.
— А вам? — отвечает вопросом на вопрос Герман.
— Как говорилось в какой-то старой рекламе шоколада, я предпочитаю умных, — отвечает Слава.
— Вроде, там про рыжих было, — хмурится Герман, пытаясь вспомнить, о чем идет речь.
— Может, и про рыжих, — соглашается Слава. — Но я предпочитаю умных.
— А я рыжих, — то ли в шутку, то ли всерьез, говорит Герман, открывая дверь видавшего виды Фольксвагена.
— Оно и видно, — говорит Слава, садясь на пассажирское сиденье. — У вас рыжий волос на плече.
— Что? Правда? — пугается Герман и тотчас начинает неуклюже отряхивать пальто.
— Да нет же! Шучу я! — оканчивает бессмысленные телодвижения преподавателя Слава. — Не волнуйтесь так.
— Кто волнуется? Я волнуюсь? — нервно газует Герман. — Я спокоен как слон. В посудной лавке. Блядь, понаставили тут посудин! Так что? Куда мы едем?
— На юг, — отвечает Слава. — Куда-нибудь, где солнце, море, чайки и комары.
— Боюсь, до нового года не успеем, — посмотрев на часы, возражает Герман.
— Тогда на Юго-Запад. Угол Доблести и Захарова, — горестно вздыхает Слава.
— Дорогу покажете? — спрашивает Герман.
— Нет, это вряд ли. Я всегда в автобусах сплю, пока громкоговоритель не скажет: «Остановка улица Доблести. Приехали. Слава, мать твою, выходи!» А вы что, не местный? Город плохо знаете?
— Вообще-то не местный, — признается Герман. — Я тут только семнадцать лет живу. Простите, это больше чем вам, кажется?
— Ха-ха. Мне уже целых 27. И иногда даже сигареты без паспорта продают! — хвастается Слава. — А где вы жили, когда были студентом?
— В студгородке на Парке Победы. Бывали там?
— Место знакомое, но бывать там не доводилось, — признается Слава. — Так, ладно. Вознесенский проехали. Сверните направо в переулок Гривцова, с него попадем на Московский проспект. А там прямо до Ленинского, который упрется в Доблести. Несколько длиннее получится, чем зигзагами по мелким улицам, но по ним я точно не проведу. Или включите навигатор.
— Давайте сегодня обойдемся без чудес техники и вспомним былые времена, — предлагает Герман.
— Давайте, — соглашается Слава. — Вот вы коллекционировали фантики от жвачек «Лав из»?
— Что? Серьезно? — смеется Герман. — Вам интересно, коллекционировал ли я фантики от жвачек?
— Да. Мне же надо будет о чем-то друзьям-подругам рассказать, когда я вернусь в общагу! Если я не принесу интимных подробностей о вашей жизни, то они не поверят, что вы меня в ресторан водили.
— Ладно, — соглашается на откровенность Герман. — Фантики я не коллекционировал. Был... нет, считал себя слишком взрослым для этого. Но однажды я купил такую жвачку. И там был фантик, на котором было написано: «Любовь — это надеяться, что лучшие времена за углом». Вот с тех пор и думаю, где же тот угол.
— И что? Вся мировая философия вам так и не помогла?
— Нет, не помогла, — вздыхает Герман. — Знаете, наверное, это прозвучит глупо, но сейчас мне кажется, что именно из-за того фантика я и поступил на философский...
— Серьезно? — удивленно переспрашивает Слава.
— Нет, — грустно улыбается Герман.
— А у меня, точнее, у сестры была целая коллекция, — ностальгически произносит Слава. — Она их очень любила. А мне нравилось рыться в ее заветном сундучке и рассматривать эти фантики. До сих пор помню их запах, но не помню ни одной картинки и ни одной надписи.
— Я видел, сейчас эти жвачки прям коробками продают. Подарите ей на новый год. Наверняка обрадуется, — предлагает Герман.
— Может быть, — вздыхает Слава. — Я подумаю.
— Что-то не так? — настороженно спрашивает Герман.
— Нет, все хорошо.
Остановившись у здания общежития, они выходят покурить.
— Ну что? Какие у вас дальнейшие планы? — интересуется Слава. — В смысле, могу я пригласить вас на чашечку кофе? Или уже спешите?
— Ну, планы у меня, конечно, имелись, — задумчиво произносит Герман, выпуская дым в бурое небо. — Но на кофе время найдется.
— А то можно и с нами остаться. Студентку какую-нибудь подцепите. Рыжую, — шутит Слава.
— Я же сказал. Не люблю я студенток, — качает головой Герман.
— А зачем тогда в преподаватели пошли? — косит под дурака Слава.
— Понимаете, Святослав... Философия — это наука в себе. На философов учатся, чтобы преподавать философию. И других вариантов мало.
— Варианты всегда есть... — пожимает плечами Слава.
— К тому же, преподавать мне нравится, — продолжает свою мысль Герман. — Хоть вы все и прогульщики страшные. Что мне не нравится, так это переступать границу учитель-ученик. Таково уж мое правило. А само по себе преподавание — весьма увлекательное занятие, не находите?
— Согласен. Значит, идем пить кофе? Только давайте сначала в магазин заскочим. Надо бы заранее чего-нибудь горючего взять, а то потом начнется, — рассуждает Слава.
В магазине, где на кассе уже стоит толпа студентов, Слава берет три бутылки сухого красного, салатов и два пакетика кошачьего корма.
— А корм зачем? — интересуется Герман.
— На всякий случай, — ничего не объясняет Слава.
На входе в общагу Герману приходится оставить свой паспорт в качестве залога охраннику дяде Коле, а Слава вручает ему корм «для Васи». Огромный рыжий Вася, развалившись на турникете, величаво наблюдает за происходящим.
— На самом деле, дядя Коля — просто симулякр, — поясняет Слава, проходя через турникет. — Настоящий охранник — Вася, наш талисман и главный блюститель беспорядка. Если нужно кого-нибудь привести в гости или оставить ночевать, нужно дать взятку коту.
— А-а-а, ясно, — понимающе кивает Герман, следуя за Славой к лифтам. — Miserere nobis? Латынь?
Он кивает на надпись, прокорябанную шариковой ручкой на стене.
— Помилуй нас, — входя в лифт и нажимая кнопку 13-го этажа, переводит Слава. — Эх, прошло то время, время золотое, а фразочка-то все жива. Покойный профессор Елисеус, преподававший историю зарубежной музыки, гонял своих перваков учить наизусть все тексты латинской мессы. Может, встречали порой людей, мрачно бродящих по коридорам и тихо вызывающим дьявола?
— И вы тоже дьявола вызывали? — усмехается Герман.
— Конечно. Но у меня спиритических способностей нет, так что ничего путного не получилось. Разве что зеленые черти. Но, полагаю, виной тому отнюдь не «Dies irae»12... О, майка Босха!
12
Войдя в коридор тринадцатого этажа, они обнаруживают море, пляж, три солнца, пальмы, пышногрудую русалку и чаек, нарисованных на желтых стенах простым оркестровым карандашом. По всему коридору раскиданы походные коврики-пенки и казенные покрывала, на которых сидят и лежат уже отнюдь не нарисованные барышни в купальниках и молодые люди в пляжных шортах. Водрузив на носы солнечные очки, они вальяжно потягивают разноцветные напитки из разноцветных трубочек. С одной стороны коридора кто-то выставил колонки и врубил регги, а с другой стороны раздаются рулады чаек, аккомпанируемые плеском волн.
— И что у нас тут происходит? — спрашивает Слава у скрипачки Насти, тусующейся около двери к лифтам.
— Пляжная вечеринка! — деловито отвечает она. — Мы решили, что, раз мы не можем поехать на море, то оно должно приехать к нам!
— Вам че, залива мало? До него двадцать минут медленным пешком! — язвит Слава.
— Сам на залив медленным пешком топай, — огрызается Настя. — У нас тут теплое море, с солнышком... ами. С тремя солнышками.
— Дай глотнуть, — говорит Слава, отобрав у нее стакан и сделав глоток чего-то крепко-сладкого. — Спасибо.
— Ты как сюда Германа приволок? — спрашивает она шепотом, пока преподаватель с интересом ученого-исследователя осматривает местную живопись и живность.
— Не задавай вопросов, ответы на которые тебе не нужны, — с милой улыбкой отвечает Слава.
— Ладно, присоединяйтесь, — говорит Настя и уплывает куда-то в сторону кухни.
— Ну что? Как впечатления? — спрашивает Слава Германа, когда они заходят в комнату. — Кстати, знакомьтесь. Граф Дракула. Он глухой, но, если его не пугать, то можно потискать.
Он гладит по голове кота, сонно моргающего на внезапно включившийся свет.
— А вас администрация не выкинет всем этажом за наскальную живопись? — интересуется Герман, присоединяясь к глажке животного.
— Я полагаю, это санкционированная акция, — отвечает Слава, начиная приготовление кофе. — Зная наших мудрецов, можно предположить, что они обещали сами все стены после нового года перекрасить. А может, и нет. В любом случае, весь этаж не выселят, а инициаторов все равно никто никогда не узнает.
— Интересная у вас тут жизнь, — задумчиво произносит Герман, наблюдая за тем, как Слава готовит кофе, параллельно наводя подобие порядка в комнате. Он берет с подоконника наручники и вертит их в руках. — А это зачем?
— На рояле играть, — снова ничего не объясняет Слава.
— А-а-а, — с понимающим видом кивает Герман. — Может, открыть вино?
— Вы же за рулем, — напоминает Слава.
— А вы нет, — в ответ напоминает Герман.
— Нет, пить в одиночестве я все-таки не люблю, — говорит Слава.
— Ладно, давайте пить кофе, — соглашается Герман.
С досадой оглядев свой пустующий стол, Слава выходит из комнаты и возвращается через пару минут с тарелкой пирожков. На столе уже стоят две дымящиеся чашки с черным напитком.
— Ой, я забыл выключить кофе... — констатирует Слава.
— Ничего, я справился, — улыбается Герман. — Кто пек пирожки?
— Машка, тромбонистка с третьего курса, — отвечает Слава, садясь за стол. — Скоро с ней познакомитесь.
— Полагаю, что очень скоро, — ухмыляется Герман, делая глоток. — А вы почитаете мне свои стихи?
— Нет. Они не для нового года. Слишком мрачные, — отказывается Слава.
— И все же, — настаивает Герман. — Давайте мы все-таки пропустим сцену, где я вас уговариваю и придумываю аргументы, а вы ломаетесь и оправдываетесь.
— Ладно. Только сегодня. И только для вас. Концерт для одного, — соглашается Слава.
Он лезет под стол и включает небольшой микшерный пульт, переставляет колонки со стола ближе к двери, ставит позади них микрофон, достает из тумбочки черный пакет и выходит из комнаты. Через пару минут он возвращается в грязном, мятом и, кажется, обгоревшем радужном флаге, завязанном на бедрах. Больше на нем нет ничего, кроме полоски черного скотча, налепленной на рот. Он закрывает за собой дверь, со стуком, отдающимся в колонках, берет в руку микрофон и закрывает глаза. Делает первый вдох, медленный и прерывистый. В нем явственно слышно волнение и страх. Медленный прерывистый выдох. Слава слышит свое волнение и позволяет ему случиться. Потом делает резкий вдох и выдох и снова замедляется. Несколько резких вдохов и медленный выдох. Потом, словно из тишины, появляется ритм сердца, сначала медленный, потом всё быстрее и быстрее, всё громче и громче, пока исполнитель не доходит до своего физического предела, и вдруг открывает глаза и делает резкий полувдох, как бы прерванный чем-то извне, и замирает почти на полминуты, пристально глядя в глаза своему единственному слушателю. Потом он снова оживает, ставит микрофон на стойку, кланяется и под аплодисменты Германа выходит из комнаты. Через минуту Слава возвращается в своей обычной черной одежде, молча отключает аппаратуру и ставит все на прежние места.
— Ну что? Как вам такое искусство? — с плохо скрываемым вызовом спрашивает он, вылезая из-под стола и возвращая свое тело на стул. Его руки слегка подрагивают.
— Впечатляюще, — кивает головой Герман. — Я даже не думал, что нечто подобное может... как бы вам сказать?.. вызвать у человека непросвещенного в делах авангардного искусства такой сильный эмоциональный отклик. Действительно сильно. И опасно. Если вы решитесь выйти с такими стихами на широкую публику.
— Это уже мое дело, — отрезает Слава. — Простите. Спасибо за поддержку. Я рад, что вам понравилось.
— Что это были за стихи? — спрашивает Герман, отпивая кофе.
— Пушкин, конечно, — ухмыляется Слава.
— Письмо Татьяны? — смекает Герман.
— Сегодня я выбрал именно его, — отвечает Слава с ироничной улыбкой и берет пирожок.
— Не хотите присоединиться к пляжникам? — меняет тему Герман, тоже принимаясь за поедание пирожков. — Вы же хотели на море, кажется?
— Нет. На такое море я не хочу. Слишком много чаек. Скоро еще народники с этниками придут колядовать… Новый год в общаге — сущий ад во плоти. Miserere nobis. Я вообще не люблю всякого рода официальные праздники и почти никогда их не отмечаю.
— И что же вы делаете? — удивленно спрашивает Герман.
— Надеваю наушники, ставлю грозу и ложусь спать. Или читаю что-нибудь.
— «Грозу» Вивальди? — переспрашивает Герман.
— Нет, просто грозу. Звуки дождя и грома.
— Почему?
— Мне так нравится.
— Может, пора покончить с мрачными традициями? — предлагает Герман.
— Может быть. Или нет.
Герман встает и извлекает из пакета бутылку, по-свойски берет штопор с крышки пианино и открывает вино. Слава не скрываемым удивлением наблюдает за ним.
— Я подумал и решил, что сегодня я встречу новый год здесь, — говорит Герман, разливая вино по разномастным бокалам, найденным им на полке с такой же разномастной посудой. — Вы ведь уже дали взятку вашему пушистому охраннику, правда?
Из-под кровати раздается самозабвенный вой Дракулы.
Конец линии 1.
— Разумеется, — усмехается Андрей Юрьевич, застегивая пальто. — Планируете встречать новый год в общежитии?
— Вероятно, — отвечает Слава, выходя на улицу и тщетно пытаясь закурить под дождеснегом в опускающихся сумерках.
Герман подкуривает свою сигарету от Зиппо и протягивает огонь Славе.
— Благодарю, — затягивается Слава. — А не вы ли говорили, что хотите домой и спать? И жена, наверное, ждет?
Слава кивает на обручальное кольцо на руке преподавателя.
— Ха-ха! — смеется тот, переходя дорогу к набережной Мойки. — Я ждал, когда вы спросите!
— Чего? — не понимает Слава, догоняя его.
— Маленькая хитрость. Чтобы студентки меньше клеились.
— Вам не нравятся молодые и красивые студентки? — выражает крайнее удивление Слава.
— А вам? — отвечает вопросом на вопрос Герман.
— Как говорилось в какой-то старой рекламе шоколада, я предпочитаю умных, — отвечает Слава.
— Вроде, там про рыжих было, — хмурится Герман, пытаясь вспомнить, о чем идет речь.
— Может, и про рыжих, — соглашается Слава. — Но я предпочитаю умных.
— А я рыжих, — то ли в шутку, то ли всерьез, говорит Герман, открывая дверь видавшего виды Фольксвагена.
— Оно и видно, — говорит Слава, садясь на пассажирское сиденье. — У вас рыжий волос на плече.
— Что? Правда? — пугается Герман и тотчас начинает неуклюже отряхивать пальто.
— Да нет же! Шучу я! — оканчивает бессмысленные телодвижения преподавателя Слава. — Не волнуйтесь так.
— Кто волнуется? Я волнуюсь? — нервно газует Герман. — Я спокоен как слон. В посудной лавке. Блядь, понаставили тут посудин! Так что? Куда мы едем?
— На юг, — отвечает Слава. — Куда-нибудь, где солнце, море, чайки и комары.
— Боюсь, до нового года не успеем, — посмотрев на часы, возражает Герман.
— Тогда на Юго-Запад. Угол Доблести и Захарова, — горестно вздыхает Слава.
— Дорогу покажете? — спрашивает Герман.
— Нет, это вряд ли. Я всегда в автобусах сплю, пока громкоговоритель не скажет: «Остановка улица Доблести. Приехали. Слава, мать твою, выходи!» А вы что, не местный? Город плохо знаете?
— Вообще-то не местный, — признается Герман. — Я тут только семнадцать лет живу. Простите, это больше чем вам, кажется?
— Ха-ха. Мне уже целых 27. И иногда даже сигареты без паспорта продают! — хвастается Слава. — А где вы жили, когда были студентом?
— В студгородке на Парке Победы. Бывали там?
— Место знакомое, но бывать там не доводилось, — признается Слава. — Так, ладно. Вознесенский проехали. Сверните направо в переулок Гривцова, с него попадем на Московский проспект. А там прямо до Ленинского, который упрется в Доблести. Несколько длиннее получится, чем зигзагами по мелким улицам, но по ним я точно не проведу. Или включите навигатор.
— Давайте сегодня обойдемся без чудес техники и вспомним былые времена, — предлагает Герман.
— Давайте, — соглашается Слава. — Вот вы коллекционировали фантики от жвачек «Лав из»?
— Что? Серьезно? — смеется Герман. — Вам интересно, коллекционировал ли я фантики от жвачек?
— Да. Мне же надо будет о чем-то друзьям-подругам рассказать, когда я вернусь в общагу! Если я не принесу интимных подробностей о вашей жизни, то они не поверят, что вы меня в ресторан водили.
— Ладно, — соглашается на откровенность Герман. — Фантики я не коллекционировал. Был... нет, считал себя слишком взрослым для этого. Но однажды я купил такую жвачку. И там был фантик, на котором было написано: «Любовь — это надеяться, что лучшие времена за углом». Вот с тех пор и думаю, где же тот угол.
— И что? Вся мировая философия вам так и не помогла?
— Нет, не помогла, — вздыхает Герман. — Знаете, наверное, это прозвучит глупо, но сейчас мне кажется, что именно из-за того фантика я и поступил на философский...
— Серьезно? — удивленно переспрашивает Слава.
— Нет, — грустно улыбается Герман.
— А у меня, точнее, у сестры была целая коллекция, — ностальгически произносит Слава. — Она их очень любила. А мне нравилось рыться в ее заветном сундучке и рассматривать эти фантики. До сих пор помню их запах, но не помню ни одной картинки и ни одной надписи.
— Я видел, сейчас эти жвачки прям коробками продают. Подарите ей на новый год. Наверняка обрадуется, — предлагает Герман.
— Может быть, — вздыхает Слава. — Я подумаю.
— Что-то не так? — настороженно спрашивает Герман.
— Нет, все хорошо.
Остановившись у здания общежития, они выходят покурить.
— Ну что? Какие у вас дальнейшие планы? — интересуется Слава. — В смысле, могу я пригласить вас на чашечку кофе? Или уже спешите?
— Ну, планы у меня, конечно, имелись, — задумчиво произносит Герман, выпуская дым в бурое небо. — Но на кофе время найдется.
— А то можно и с нами остаться. Студентку какую-нибудь подцепите. Рыжую, — шутит Слава.
— Я же сказал. Не люблю я студенток, — качает головой Герман.
— А зачем тогда в преподаватели пошли? — косит под дурака Слава.
— Понимаете, Святослав... Философия — это наука в себе. На философов учатся, чтобы преподавать философию. И других вариантов мало.
— Варианты всегда есть... — пожимает плечами Слава.
— К тому же, преподавать мне нравится, — продолжает свою мысль Герман. — Хоть вы все и прогульщики страшные. Что мне не нравится, так это переступать границу учитель-ученик. Таково уж мое правило. А само по себе преподавание — весьма увлекательное занятие, не находите?
— Согласен. Значит, идем пить кофе? Только давайте сначала в магазин заскочим. Надо бы заранее чего-нибудь горючего взять, а то потом начнется, — рассуждает Слава.
В магазине, где на кассе уже стоит толпа студентов, Слава берет три бутылки сухого красного, салатов и два пакетика кошачьего корма.
— А корм зачем? — интересуется Герман.
— На всякий случай, — ничего не объясняет Слава.
На входе в общагу Герману приходится оставить свой паспорт в качестве залога охраннику дяде Коле, а Слава вручает ему корм «для Васи». Огромный рыжий Вася, развалившись на турникете, величаво наблюдает за происходящим.
— На самом деле, дядя Коля — просто симулякр, — поясняет Слава, проходя через турникет. — Настоящий охранник — Вася, наш талисман и главный блюститель беспорядка. Если нужно кого-нибудь привести в гости или оставить ночевать, нужно дать взятку коту.
— А-а-а, ясно, — понимающе кивает Герман, следуя за Славой к лифтам. — Miserere nobis? Латынь?
Он кивает на надпись, прокорябанную шариковой ручкой на стене.
— Помилуй нас, — входя в лифт и нажимая кнопку 13-го этажа, переводит Слава. — Эх, прошло то время, время золотое, а фразочка-то все жива. Покойный профессор Елисеус, преподававший историю зарубежной музыки, гонял своих перваков учить наизусть все тексты латинской мессы. Может, встречали порой людей, мрачно бродящих по коридорам и тихо вызывающим дьявола?
— И вы тоже дьявола вызывали? — усмехается Герман.
— Конечно. Но у меня спиритических способностей нет, так что ничего путного не получилось. Разве что зеленые черти. Но, полагаю, виной тому отнюдь не «Dies irae»12... О, майка Босха!
12
«День гнева» — часть заупокойной мессы.
Войдя в коридор тринадцатого этажа, они обнаруживают море, пляж, три солнца, пальмы, пышногрудую русалку и чаек, нарисованных на желтых стенах простым оркестровым карандашом. По всему коридору раскиданы походные коврики-пенки и казенные покрывала, на которых сидят и лежат уже отнюдь не нарисованные барышни в купальниках и молодые люди в пляжных шортах. Водрузив на носы солнечные очки, они вальяжно потягивают разноцветные напитки из разноцветных трубочек. С одной стороны коридора кто-то выставил колонки и врубил регги, а с другой стороны раздаются рулады чаек, аккомпанируемые плеском волн.
— И что у нас тут происходит? — спрашивает Слава у скрипачки Насти, тусующейся около двери к лифтам.
— Пляжная вечеринка! — деловито отвечает она. — Мы решили, что, раз мы не можем поехать на море, то оно должно приехать к нам!
— Вам че, залива мало? До него двадцать минут медленным пешком! — язвит Слава.
— Сам на залив медленным пешком топай, — огрызается Настя. — У нас тут теплое море, с солнышком... ами. С тремя солнышками.
— Дай глотнуть, — говорит Слава, отобрав у нее стакан и сделав глоток чего-то крепко-сладкого. — Спасибо.
— Ты как сюда Германа приволок? — спрашивает она шепотом, пока преподаватель с интересом ученого-исследователя осматривает местную живопись и живность.
— Не задавай вопросов, ответы на которые тебе не нужны, — с милой улыбкой отвечает Слава.
— Ладно, присоединяйтесь, — говорит Настя и уплывает куда-то в сторону кухни.
— Ну что? Как впечатления? — спрашивает Слава Германа, когда они заходят в комнату. — Кстати, знакомьтесь. Граф Дракула. Он глухой, но, если его не пугать, то можно потискать.
Он гладит по голове кота, сонно моргающего на внезапно включившийся свет.
— А вас администрация не выкинет всем этажом за наскальную живопись? — интересуется Герман, присоединяясь к глажке животного.
— Я полагаю, это санкционированная акция, — отвечает Слава, начиная приготовление кофе. — Зная наших мудрецов, можно предположить, что они обещали сами все стены после нового года перекрасить. А может, и нет. В любом случае, весь этаж не выселят, а инициаторов все равно никто никогда не узнает.
— Интересная у вас тут жизнь, — задумчиво произносит Герман, наблюдая за тем, как Слава готовит кофе, параллельно наводя подобие порядка в комнате. Он берет с подоконника наручники и вертит их в руках. — А это зачем?
— На рояле играть, — снова ничего не объясняет Слава.
— А-а-а, — с понимающим видом кивает Герман. — Может, открыть вино?
— Вы же за рулем, — напоминает Слава.
— А вы нет, — в ответ напоминает Герман.
— Нет, пить в одиночестве я все-таки не люблю, — говорит Слава.
— Ладно, давайте пить кофе, — соглашается Герман.
С досадой оглядев свой пустующий стол, Слава выходит из комнаты и возвращается через пару минут с тарелкой пирожков. На столе уже стоят две дымящиеся чашки с черным напитком.
— Ой, я забыл выключить кофе... — констатирует Слава.
— Ничего, я справился, — улыбается Герман. — Кто пек пирожки?
— Машка, тромбонистка с третьего курса, — отвечает Слава, садясь за стол. — Скоро с ней познакомитесь.
— Полагаю, что очень скоро, — ухмыляется Герман, делая глоток. — А вы почитаете мне свои стихи?
— Нет. Они не для нового года. Слишком мрачные, — отказывается Слава.
— И все же, — настаивает Герман. — Давайте мы все-таки пропустим сцену, где я вас уговариваю и придумываю аргументы, а вы ломаетесь и оправдываетесь.
— Ладно. Только сегодня. И только для вас. Концерт для одного, — соглашается Слава.
Он лезет под стол и включает небольшой микшерный пульт, переставляет колонки со стола ближе к двери, ставит позади них микрофон, достает из тумбочки черный пакет и выходит из комнаты. Через пару минут он возвращается в грязном, мятом и, кажется, обгоревшем радужном флаге, завязанном на бедрах. Больше на нем нет ничего, кроме полоски черного скотча, налепленной на рот. Он закрывает за собой дверь, со стуком, отдающимся в колонках, берет в руку микрофон и закрывает глаза. Делает первый вдох, медленный и прерывистый. В нем явственно слышно волнение и страх. Медленный прерывистый выдох. Слава слышит свое волнение и позволяет ему случиться. Потом делает резкий вдох и выдох и снова замедляется. Несколько резких вдохов и медленный выдох. Потом, словно из тишины, появляется ритм сердца, сначала медленный, потом всё быстрее и быстрее, всё громче и громче, пока исполнитель не доходит до своего физического предела, и вдруг открывает глаза и делает резкий полувдох, как бы прерванный чем-то извне, и замирает почти на полминуты, пристально глядя в глаза своему единственному слушателю. Потом он снова оживает, ставит микрофон на стойку, кланяется и под аплодисменты Германа выходит из комнаты. Через минуту Слава возвращается в своей обычной черной одежде, молча отключает аппаратуру и ставит все на прежние места.
— Ну что? Как вам такое искусство? — с плохо скрываемым вызовом спрашивает он, вылезая из-под стола и возвращая свое тело на стул. Его руки слегка подрагивают.
— Впечатляюще, — кивает головой Герман. — Я даже не думал, что нечто подобное может... как бы вам сказать?.. вызвать у человека непросвещенного в делах авангардного искусства такой сильный эмоциональный отклик. Действительно сильно. И опасно. Если вы решитесь выйти с такими стихами на широкую публику.
— Это уже мое дело, — отрезает Слава. — Простите. Спасибо за поддержку. Я рад, что вам понравилось.
— Что это были за стихи? — спрашивает Герман, отпивая кофе.
— Пушкин, конечно, — ухмыляется Слава.
— Письмо Татьяны? — смекает Герман.
— Сегодня я выбрал именно его, — отвечает Слава с ироничной улыбкой и берет пирожок.
— Не хотите присоединиться к пляжникам? — меняет тему Герман, тоже принимаясь за поедание пирожков. — Вы же хотели на море, кажется?
— Нет. На такое море я не хочу. Слишком много чаек. Скоро еще народники с этниками придут колядовать… Новый год в общаге — сущий ад во плоти. Miserere nobis. Я вообще не люблю всякого рода официальные праздники и почти никогда их не отмечаю.
— И что же вы делаете? — удивленно спрашивает Герман.
— Надеваю наушники, ставлю грозу и ложусь спать. Или читаю что-нибудь.
— «Грозу» Вивальди? — переспрашивает Герман.
— Нет, просто грозу. Звуки дождя и грома.
— Почему?
— Мне так нравится.
— Может, пора покончить с мрачными традициями? — предлагает Герман.
— Может быть. Или нет.
Герман встает и извлекает из пакета бутылку, по-свойски берет штопор с крышки пианино и открывает вино. Слава не скрываемым удивлением наблюдает за ним.
— Я подумал и решил, что сегодня я встречу новый год здесь, — говорит Герман, разливая вино по разномастным бокалам, найденным им на полке с такой же разномастной посудой. — Вы ведь уже дали взятку вашему пушистому охраннику, правда?
Из-под кровати раздается самозабвенный вой Дракулы.
Конец линии 1.
Глава 7а. Привет Кейджу
— Спасибо. Спасибо за предложение, но я все-таки откажусь.
— Хочется побыть в одиночестве? — понимающе спрашивает Герман, надевая пальто.
— Да, наверное. Иногда я сильно устаю разговаривать, — признается Слава. — Хочется просто помолчать, но у людей это не очень принято.
Они выходят из «Бесов» под праздничный дождеснег и молча закуривают.
— Что ж, тогда я поеду встречать новый год с такими же болтунами-философами, как и я, — докурив, говорит Герман, пожимая руку Славы.
— С наступающим, Андрей Юрьевич, — отвечает на пожатие Слава. — И спасибо за обед. Мне действительно было очень приятно в вашей компании.
— С наступающим, Ростислав, — прощается Герман и переходит дорогу.
— Передавайте привет Сократу! — кричит ему Слава.
— А вы передавайте привет Кейджу! — весело отвечает философ.
И Слава тут же принимается этот привет передавать, погрузившись в молчание. Полное молчание. Выкинуть из головы всё, в том числе самые зловредные мысли, которые пытаются обвинить Славу в отказе от покровительства и пренебрежении расположением старшего по званию. Но на углу Вознесенского и Садовой прекрасную музыку Кейджа прерывает внезапный звонок.
— Привет, Вень, — стараясь придать своему голосу веселую интонацию, говорит Слава.
— Привет, — слышится радостный и немного озадаченный голос друга. — С наступающим. Как ты?
— Да нормально. В общем и целом. А ты?
— Да тут такое дело... Я с Темой и Димой сорвался на лыжах покататься. В общем, дня на три, полагаю. Хотел тебя попросить... у тебя же есть ключи от моей квартиры? Можешь завтра кошку покормить и пожить у меня до третьего или до четвертого? А я, как вернусь, так мы с тобой обязательно выпьем!
— Да, конечно, — со смешанным чувством разочарования и радости отвечает Слава.
— Ты там не грустишь? — спрашивает Веня.
— Нет-нет, все в порядке, — убеждает его Слава. — Все хорошо. Удачно вам покататься. Буду ждать. С цветами и конфетами.
— Ты же знаешь, я не люблю сладкое.
— Нет, это ты привезешь мне цветы и конфеты в знак благодарности за то, что я кормлю твою Чучундру.
— А-а-а, ну ладно. Привезу. Ну давай. С наступающим. И спасибо.
— Давай.
Привычка всегда таскать с собой все имеющиеся ключи, в том числе дубликаты от квартир нескольких друзей, снова выручает Славу, так что необходимость заезжать в общагу отпадает, и он отправляется прямиком на Приму.
Включив свет в квартире, Слава обнаруживает серую кошку Чучундру пасущейся на подоконнике, где неведомо как сохранился и продолжал давать плоды горшочек с травой для домашних животных, притащенный Славой еще прошлым летом. Веня любит Ваську и, съехав от родителей, снимает квартиры исключительно на этом острове. На Приме он живет один уже два года, и, кажется, своим одиночеством вполне доволен. Хотя, слово «живет» слишком громкое. Веня здесь ночует, а все остальные шестнадцать часов в сутки семь дней в неделю Веня бегает по городу, преподавая то здесь то там, устраивая бесчисленные репетиции и давая концерты. Как он до сих пор не сгорел с таким графиком, для Славы навсегда останется загадкой. Возможно, сила Вени заключена, как у всякого джина, в бутылке. И вправду, у разложенного дивана обнаруживается целая артиллерия бутылок из-под водки и многочисленных настоек. Пройдя на кухню, Слава прилипает к полу и с удивлением делает вывод, что иногда Веня даже готовит. В раковине громоздится немногочисленная посуда, а стол залит чем-то сладким и присыпан крошками. Порывшись в кухонном шкафчике, Слава находит перчатки и средства для мытья всего и вся, купленные им еще полгода назад, когда по причине тяжелой летней депрессии он сбежал из общаги к Вене.
К слову, это была замечательная неделя. Они почти каждый день гуляли по кладбищам и паркам, даже один раз вышли на залив, в котором Слава не преминул тотчас утопиться и простыть. Однажды Слава придумал инструктивную пьесу: «Придите на кладбище. Полежите. Встаньте и идите дальше». И, разумеется, ее исполнил. Правда, нужный эффект от перформанса немного подпортил граф Толстой со своим Болконским. Но в целом идея была неплохой: умереть и воскреснуть, чтобы жить дальше. А по ночам, когда Веня уже спал, Слава открывал окно настежь, садился на подоконник, курил в светлое летнее небо, свесив ноги во двор-колодец, и слушал тишину.
Нахлынувшие воспоминания лета и чувство покинутости (хотя вопрос спорный, кто кого покинул) делают тишину невыносимой, и Слава, включив аудиокнигу, приступает к уборке. Около полуночи аудиокнигу прерывает телефонный звонок.
— Да, мам, привет, — говорит Слава. — Да, все хорошо. И тебя так же. Я у Вени. Все хорошо. Да, тут весело... Мам, давай не сейчас. Сдам. Через полгода. Закончу аспирантуру и сдам. Мам, можно я сам решу? Знаю. Пока меня все устраивает. Давай не будем поднимать эту тему сейчас. У вас все нормально? Не болеете? Как папа? Передавай привет. А, привет, пап. И тебя с наступающим. Да, я постараюсь выбраться на каникулах. Двадцать второго. Нет, не надо, я сам куплю. Ладно, хорошо. Спасибо. Люблю вас. С наступающим.
Завершив разговор, Слава оглядывает творенье рук своих и накрывает на стол, водрузив на него в том числе и миску с кормом, и саму Чучундру.
— Ну что, дорогая? С новым годом! — говорит он кошке и чокается рюмкой с ее носом.
Конец линии 2.
— Хочется побыть в одиночестве? — понимающе спрашивает Герман, надевая пальто.
— Да, наверное. Иногда я сильно устаю разговаривать, — признается Слава. — Хочется просто помолчать, но у людей это не очень принято.
Они выходят из «Бесов» под праздничный дождеснег и молча закуривают.
— Что ж, тогда я поеду встречать новый год с такими же болтунами-философами, как и я, — докурив, говорит Герман, пожимая руку Славы.
— С наступающим, Андрей Юрьевич, — отвечает на пожатие Слава. — И спасибо за обед. Мне действительно было очень приятно в вашей компании.
— С наступающим, Ростислав, — прощается Герман и переходит дорогу.
— Передавайте привет Сократу! — кричит ему Слава.
— А вы передавайте привет Кейджу! — весело отвечает философ.
И Слава тут же принимается этот привет передавать, погрузившись в молчание. Полное молчание. Выкинуть из головы всё, в том числе самые зловредные мысли, которые пытаются обвинить Славу в отказе от покровительства и пренебрежении расположением старшего по званию. Но на углу Вознесенского и Садовой прекрасную музыку Кейджа прерывает внезапный звонок.
— Привет, Вень, — стараясь придать своему голосу веселую интонацию, говорит Слава.
— Привет, — слышится радостный и немного озадаченный голос друга. — С наступающим. Как ты?
— Да нормально. В общем и целом. А ты?
— Да тут такое дело... Я с Темой и Димой сорвался на лыжах покататься. В общем, дня на три, полагаю. Хотел тебя попросить... у тебя же есть ключи от моей квартиры? Можешь завтра кошку покормить и пожить у меня до третьего или до четвертого? А я, как вернусь, так мы с тобой обязательно выпьем!
— Да, конечно, — со смешанным чувством разочарования и радости отвечает Слава.
— Ты там не грустишь? — спрашивает Веня.
— Нет-нет, все в порядке, — убеждает его Слава. — Все хорошо. Удачно вам покататься. Буду ждать. С цветами и конфетами.
— Ты же знаешь, я не люблю сладкое.
— Нет, это ты привезешь мне цветы и конфеты в знак благодарности за то, что я кормлю твою Чучундру.
— А-а-а, ну ладно. Привезу. Ну давай. С наступающим. И спасибо.
— Давай.
Привычка всегда таскать с собой все имеющиеся ключи, в том числе дубликаты от квартир нескольких друзей, снова выручает Славу, так что необходимость заезжать в общагу отпадает, и он отправляется прямиком на Приму.
Включив свет в квартире, Слава обнаруживает серую кошку Чучундру пасущейся на подоконнике, где неведомо как сохранился и продолжал давать плоды горшочек с травой для домашних животных, притащенный Славой еще прошлым летом. Веня любит Ваську и, съехав от родителей, снимает квартиры исключительно на этом острове. На Приме он живет один уже два года, и, кажется, своим одиночеством вполне доволен. Хотя, слово «живет» слишком громкое. Веня здесь ночует, а все остальные шестнадцать часов в сутки семь дней в неделю Веня бегает по городу, преподавая то здесь то там, устраивая бесчисленные репетиции и давая концерты. Как он до сих пор не сгорел с таким графиком, для Славы навсегда останется загадкой. Возможно, сила Вени заключена, как у всякого джина, в бутылке. И вправду, у разложенного дивана обнаруживается целая артиллерия бутылок из-под водки и многочисленных настоек. Пройдя на кухню, Слава прилипает к полу и с удивлением делает вывод, что иногда Веня даже готовит. В раковине громоздится немногочисленная посуда, а стол залит чем-то сладким и присыпан крошками. Порывшись в кухонном шкафчике, Слава находит перчатки и средства для мытья всего и вся, купленные им еще полгода назад, когда по причине тяжелой летней депрессии он сбежал из общаги к Вене.
К слову, это была замечательная неделя. Они почти каждый день гуляли по кладбищам и паркам, даже один раз вышли на залив, в котором Слава не преминул тотчас утопиться и простыть. Однажды Слава придумал инструктивную пьесу: «Придите на кладбище. Полежите. Встаньте и идите дальше». И, разумеется, ее исполнил. Правда, нужный эффект от перформанса немного подпортил граф Толстой со своим Болконским. Но в целом идея была неплохой: умереть и воскреснуть, чтобы жить дальше. А по ночам, когда Веня уже спал, Слава открывал окно настежь, садился на подоконник, курил в светлое летнее небо, свесив ноги во двор-колодец, и слушал тишину.
Нахлынувшие воспоминания лета и чувство покинутости (хотя вопрос спорный, кто кого покинул) делают тишину невыносимой, и Слава, включив аудиокнигу, приступает к уборке. Около полуночи аудиокнигу прерывает телефонный звонок.
— Да, мам, привет, — говорит Слава. — Да, все хорошо. И тебя так же. Я у Вени. Все хорошо. Да, тут весело... Мам, давай не сейчас. Сдам. Через полгода. Закончу аспирантуру и сдам. Мам, можно я сам решу? Знаю. Пока меня все устраивает. Давай не будем поднимать эту тему сейчас. У вас все нормально? Не болеете? Как папа? Передавай привет. А, привет, пап. И тебя с наступающим. Да, я постараюсь выбраться на каникулах. Двадцать второго. Нет, не надо, я сам куплю. Ладно, хорошо. Спасибо. Люблю вас. С наступающим.
Завершив разговор, Слава оглядывает творенье рук своих и накрывает на стол, водрузив на него в том числе и миску с кормом, и саму Чучундру.
— Ну что, дорогая? С новым годом! — говорит он кошке и чокается рюмкой с ее носом.
Конец линии 2.
Глава 7b. Искусство и красота в современной эстетике
Слава подкидывает козырного туза, а Фая радостно кладет рядом еще одного. Оставшиеся в руках Славы два валета, естественно, уже ничем не могут спасти положение.
— Только ты можешь проиграть с козырным тузом в руках, — довольно констатирует Фая.
— Это ж я. Даже если бы у меня было два козырных туза, я бы все равно проиграл. Ладно, загадывай свое желание, — без особого разочарования говорит Слава, собирая карты.
— Так вот, — сияет Фая. — Через час во дворце Белосельских-Белозерских будет арфовый концерт. У меня два билета, но Сашка Лукьянова в последний момент слилась, типа лень ей 31-го числа жопу поднимать. Так что, ты идешь со мной.
Полтора отделения старинной музыки и бесконечных арфовых глиссандо доводят Славу практически до нервного истощения. Совково-театральные манеры цветистых излияний престарелой ведущей концерта и обилие арфисток в жутких, как свадебный торт, платьях никак не способствуют поддержанию душевного здоровья. Зато сидящая рядом Фая, кажется, воспринимает все как должное, и ничего ее не смущает; она блаженно улыбается и даже ахает на особенно эффектных пассажах. Но вот, внезапно ведущая объявляет:
— София Губайдулина. Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных.
— Нифигасе! — тихо восклицает Слава, от удивления перестав страдать.
— Я бы попросила тебя не выражаться, — пихает его в бок Фая.
«Наконец-то хорошая музыка и хорошие люди, — думает про себя Слава. — Но, надо отдать должное Софии Асгатовне, мадам знает толк в извращениях...». И впрямь, на сцену выходит контрабасист Милош. Медведеобразный и больше похожий на рокера со своей бородой и длинным хаером, он неспешно кладет контрабас на стул и вдумчиво расставляет ноты. Следом за ним выбегает ударник Петя Дрозд с двумя томами от ударной установки. Он ставит их и тотчас убегает. В народе его называют просто Дроздом, хотя на самом деле он паук, поскольку его способность играть на всех ударных сразу выходит далеко за пределы возможностей антропоморфных существ. Из двери под сценой появляется монтировщик с арфой на специальной коляске и меняет одну арфу на другую. Следом за ним выходит и сама арфистка Карина. На ней строгое, не в пример розовым тортам, практически монашеское темно-синее платье с блестками, без каких-либо вырезов и разрезов. Меж тем ударник снова возвращается, чуть не сбив рабочего сцены двумя тарелками на стойках. Водрузив их на сцену, он снова убегает. Через несколько минут, начав волноваться, куда подевался Дрозд, Милош уходит на его поиски через дверь на сцене. В тот же момент Дрозд вкатывает через дверь под сценой вибрафон. Арфистка, поняв, что вряд ли сможет помочь втащить на сцену столь тяжелую металлическую конструкцию, убегает искать контрабасиста через дверь на сцене. И в тот же момент, как в самом глупом мультике, контрабасист забегает в дверь под сценой и принимается помогать ударнику затаскивать на сцену вибрафон. То ли нарочно, то ли специально, Дрозд несколько раз переворачивает ноты на пюпитре вверх ногами и обратно, надевает очки, роняет их и снова надевает. В этот момент старушка-ведущая, пристроившаяся под сценой, уже не выдерживает и убегает за арфисткой, естественно, через нижнюю дверь, а Карина в тот же момент возвращается через верхнюю. Уставшие от ситкома зрители, решив не дожидаться старушки, бурно аплодируют.
Но, увы, свободное от тональных предрассудков творчество Губайдулиной повергает любителей классической гармонии в полное недоумение. «Это что, музыка такая?» — доносится до Славы чей-то возмущенный шепот. Он только фыркает и качает головой, сдерживая порыв нахамить непросвещенной слушательнице. Впрочем, идея впихнуть Губайдулину в концерт, состоящий в основном из музыки романтиков, была весьма нетривиальной, все равно что повесить работу Кандинсткого в зал с прерафаэлитами. Отыграв положенные 12 минут впавшей в ступор публике, музыканты кланяются и начинают собираться в обратный путь. Рабочий сцены выкатывает следующую арфу, Дрозд подхватывает томы и уносится с ними прочь. В этот отчаянный момент сердце Славы не выдерживает, и он, сорвавшись с места, запрыгивает на сцену, берет тарелки и, бряцая, убегает вслед за Дроздом.
— Ой, привет, спасибо, — заметив Славу, говорит Дрозд. — Какими судьбами?
И едва Слава успевает поставить тарелки на пол, со сцены раздается адский грохот. Сразу поняв, что случилось, Дрозд и Слава медленно, держась за остановившиеся сердца, возвращаются в зал. Под сценой лежит вибрафон с отлетевшими в сторону клавишами. Благо, производители связывают их веревочкой. Громко вздохнув на рабочего сцены, Дрозд дает ему понять, что он свободен, и тот быстренько сматывается с Карининой арфой. Слава и Дрозд поднимают вибрафон, который Дрозд тотчас спешит выкатить из зала, а Слава подбирает гирлянду клавиш и убегает за ним.
— Уебок, — гневно выдыхает Дрозд, раскладывая клавиши по вибрафону, когда они оказываются в холле.
Рядом уже стоят растерянные Карина и Милош с контрабасом. Вернув клавиши на место и откатив инструмент подальше, Дрозд проверяет его на сохранность. Вроде, ничего не поломалось. Даже трубки стоят на месте.
— Это твой? — спрашивает Слава.
— Конечно, мой, — вздыхает Дрозд.
— Помочь спустить?
— Ага.
Дрозд уходит в гримерку и возвращается с железной продуктовой корзинкой, вероятно, позаимствованной из какого-нибудь супермаркета, куда и складывает клавиши вибрафона. Тихо ругаясь, они спускают вибрафон по лестнице и утромбовывают его в багажник катафалка, потом возвращаются за корзинкой с клавишами и прочими ударными. К тому времени, как Слава входит в зал, концерт уже оканчивается, и ведущая рассыпается в благодарностях прелестным исполнительницам и чудесным зрителям.
— Потрясающе! Просто потрясающе! — восклицает Фая, подбегая к Славе.
— Потрясающе, что ни одна пара грудей так и не вывалилась из корсета, — мрачно качает головой Слава. — Или все-таки вывалилась, пока меня не было?
— А ты только на сиськи и смотришь! — укоризненно хмурит брови Фая.
— Я смотел на Дрозда, и мое сердце обливалось кровью, — вздыхает Слава.
— Вибрафон-то жив? — вспомнив об инциденте, спрашивает Фая.
— Жив, куда он денется... — отвечает Слава. — Единственное приличное произведение в концерте, и превратить его в ёбаный ситком... Но в остальном... Это же форменное соревнование, у кого пышнее платье и у кого больше вырез! Мне казалось, только вокалистки на такое способны... А-а-а-а... испанский стыд...
— Да что ты вообще понимаешь в платьях? Хорошие у них платья. Дорогие, стильные. В смысле, в стиле середины XIX века. А в чем они должны играть старинную музыку по-твоему? В джинсах что ли?
— В черном. Просто строгие черные платья в пол. Или черные рубашки и черные брюки. Они же музыку играют, а не устраивают показ мод позапрошлого столетия! Что за стриптиз вообще?
— Платья нужны для аутентичности! В XIX веке такие и носили!
— Ой, Фай, давай хоть без аутентичности! А? Мне всегда нравилась арфа, но после сегодняшнего, пожалуй, я еще года два к этому инструменту не прикоснусь. Буду думать о сиськах.
— Да что тебе не понравилось-то? — не понимает Фая. — Прекрасный концерт, прекрасная музыка, прекрасные девушки…
— Вот именно! Пре-крас-ны-е! Слишком сладко, слишком много стразов, слишком много сисек и элементарной пошлости! Понимаешь? В оркестре арфа — это украшение, бриллиантовое колье на шее, кружева на платье. Сольная арфа, если мы говорим о старинной музыке, — то изысканное пирожное, десерт ручной работы. Но целый концерт из одних арф — это слишком. Все равно что выпить горячий шоколад с маршмеллоу, закусить тирамису, потом сожрать двадцать видов макарони, запить молочным коктейлем с клубникой и в довершение прыгнуть в бассейн с блестками. Меня сейчас радугой стошнит.
— Фу, и зачем только тебя взяла? — обиженно качает головой Фая. — Ты ничего не понимаешь в старинной музыке. Только бы орать, скрежетать и хуи в рояль кидать!
— Да какие хуи? Не кидаюсь я хуями в рояль! С чего ты взяла?! — возмущается Слава.
— А что, правда не кидаешься?
— Нет.
— А Вадик сказал, что кидаешься, — недоверчиво возражает Фая.
— Ах, вот откуда ноги растут, — смекает Слава.
— А что? — спрашивает Фая.
— Да ничего. Неудачно пошутил я однажды. Позвонил ему как-то, спросил, что он делает. Он сказал, что хуи пинает. А я ему подробно объяснил, почему хуи не пинать надо, а в рояль кидать. Теперь понятно, с чьей подачи пошла легенда о том, что я такой фигней страдаю.
— А с тебя станется, — пожимает плечами Фая. — Пойми, людям нравится гармоничная, красивая музыка. Посмотри, сколько народу пришло! Им всем нужна музыка! Вместо того, чтобы готовить оливье и смотреть «С легким паром», они все пришли сюда, они тянутся к прекрасному! Разве это не здорово? Ты просто завидуешь, что тебя никуда не зовут, и на твою музыку приходят пара калек, таких же стукнутых на всю голову, как и ты.
— Потому что людям не нужна правда. Им нужна иллюзия счастья. Утопия. Само понятие старинная музыка — это полнейший симулякр прекрасной и никогда не существовавшей эпохи. Сотни лет музыка была в рабстве у желудков и элиты. Она должна была ублажать слух и способствовать правильному пищеварению, если мы говорим о светском искусстве. Духовная музыка была в рабстве у церкви, и ее обязанность — заставить людей бояться гнева вымышленного бога и жить в соответствии с предписанной отцами церкви моралью. Я отказываюсь быть рабом. Как Дюшан, как Тристан Тцара, как ЛЕФ, как Кейдж, я не хочу подчиняться. Музыка должна быть свободной. Она должна нести мысль автора, не взирая на то, нравится она публике или нет. Я не хочу сидеть в золотой клетке и петь пошлые песенки в угоду дяденькам и тетенькам с толстыми кошельками. Я дикий зверь. Я вою, рычу и царапаюсь, потому что такова моя природа, такова моя реакция на мир, в котором я живу.
— Ты грязный облезлый волк в вонючей клетке провинциального зоопарка. К тебе редко кто подходит, а те, кто подходит, смеются над тобой. Или жалеют тебя. Ты питаешься объедками и мерзнешь. Вот ты кто. И ты тоже в клетке.
— Знаешь, может, ты и права. Пусть я волк. Грязный и облезлый. И именно потому мне не стать соловьем. Да, я тоже в клетке капиталистического общества и торгово-рыночных отношений. Потому что искусство, как ни крути, — это тоже товар. Классическое искусство, особенно дополненное сиськами, продается хорошо, а авангард, как не продавался, так и не будет продаваться в массовом масштабе. Но порой находятся безумцы, способные заплатить пять миллионов зеленых президентов за «Фонтан» Дюшана. И на том им спасибо.
— А что, если ты не встретишь своего безумца? — спрашивает Фая. — Так и помрешь в нищете и безвестности?
— Может быть. В принципе, все равно. Мне не нужны массы. Мне нужны те, кто готов и кто хочет меня услышать.
— Очень удобная позиция, — ехидно отмечает Фая. — А не пора ли признать свое поражение и начать делать что-то более понятное, что нравится людям, за что они готовы платить?
— Мы уже идем по кругу. Я не заставляю тебя идти со мной. Хочешь — играй классику. Не хочешь — велкам в авангард. Или в джаз, или продайся в попсу. Последние тоже получают деньги и имеют широкий круг слушателей. К чему вообще весь этот спор?
— К тому, что ты испортил мне весь вечер, Станислав.
Они уже стоят у метро «Маяковская».
— Прости. Я не хотел. Концерт был действительно... хорошим. Губайдулина его спасла. И ребят повстречал, а то все никак не мог решиться позвонить Карине, чтобы она помогла мне перевести армянские фрагменты в «Арии» Кейджа.
Слава достает из внутреннего кармана пальто двойку кубков.
— Так как ты прочитала эту карту? В прямом или перевернутом положении?
Выпив по бокалу глинтвейна в ближайшей кофейне на Марата, Слава задумчиво произносит:
— Знаешь, я ведь тоже не такой уж неуязвимый. Моя самоуверенность — по большей части маска. И мне страшно, что однажды я сдамся и начну делать то, чего от меня ждут люди, и превращусь в безобидную цирковую собачку. Просто я так не выживу. Я не могу писать как Монтеверди. Просто потому что живу в другое время и в другую эпоху. Не хочу плодить симулякры, не хочу врать. Художник должен писать о том, что он видит и что он думает, отображать реальность, а не бежать от нее в мир розовых единорогов. Да, в смутное время, когда кажется, что дальше будет только хуже, людям нужен этот опиум, все эти пирожные и блестки. Должно быть что-то прекрасное. Так что, пусть девчонки играют, я не против. Я понимаю, зачем они это делают. Только я не такой. Я не могу смеяться, когда я вижу то, что вижу. И мне тоже бывает больно, когда люди, которых я уважаю и которым доверяю, наступают на больные мозоли. Просто мало кто об том знает.
— Значит, я все-таки задела тебя? — поднимает свою идеальную бровь Фая.
— Задела.
— Прости.
— И ты меня прости. Обосрал такой хороший концерт...
— Да ладно тебе. Арфистки действительно нелепы в своих вульгарных платьях. Я бы в таком, наверное, не вышла.
— Правильно. Тебе и не нужно. Ты и так самая красивая пианистка в этом городе.
— Льстец.
— Ой, вэй. С меня не убудет.
— А знаешь, в чем ты действительно неправ? В том, что отказываешься от простых радостей жизни. Даже в этот темный час нужно находить в себе силы смеяться. Устраивать пир во время чумы. Иначе можно просто не дожить до светлого дня. Поэтому сейчас мы пойдем в общагу и будем веселиться до утра. Даже если для этого придется колядовать с народниками и медведями.
— Хорошо, мам. Будь по-твоему.
Добравшись до общаги и забежав в магазин за продуктами к праздничному застолью, они разъезжаются по своим этажам. А войдя на свой тринадцатый, Славе не остается ничего больше, как воскликнуть:
— Майка Босха! Что у вас тут происходит?
— Пляжная вечеринка! — отвечает оказавшаяся неподалеку от входа Анька. — Иди надевай плавки и присоединяйся!
И не поспоришь: все стены коридора заполонили море, пляж, три солнца, пальмы, русалка и чайки, нарисованные простым оркестровым карандашом. По всему полу раскиданы походные коврики-пенки и казенные покрывала, на которых сидят и лежат уже отнюдь не нарисованные барышни в купальниках и молодые люди в пляжных шортах. Водрузив на носы солнечные очки, они вальяжно потягивают разноцветные напитки из разноцветных трубочек. С одной стороны коридора кто-то выставил колонки и врубил регги, а с другой стороны раздаются рулады чаек, аккомпанируемые плеском волн.
— Акция-то санкционированная? — спрашивает Слава у Аньки, пока та не успела убежать.
— Санкционированная. Настя еще пару дней назад договорилась. Нам дали три ведра краски, так как коменд все равно собирался обновлять стены на этаже. Так что, после нового года будем сами восстанавливать нанесенный нами ущерб.
— Окей, — соглашается Слава. — Но розовое море у вас явно не того оттенка.
С этими словами он идет в свою комнату, кормит кота, надевает пляжные шорты и возвращается в коридор с двумя большими коробками детской гуаши, кисточками и банкой с водой. Выдав материалы развалившимся на коврике отдыхающим, он отправляется на четырнадцатый и стучится к Фае.
— Мадемуазель, разрешите пригласить вас на бал, — произносит он с галантным поклоном. — Дресс-код — купальники.
— Ты когда так нажраться успел? — изумляется Фая.
— Да я трезвый. У нас на этаже внезапно пляжная вечеринка образовалась. Иди сама посмотри.
Не поняв, в чем дело, но из чистого любопытства Фая все-таки спускается вслед за Славой.
— Нет, это не по мне, — качает головой она. — Спасибо, мсье, но я не с вами.
— А не ты ли звала колядовать с народниками? — хитро спрашивает Слава. — По мне, так пляжная вечеринка — куда оригинальнее и менее оглушительно. Лежи себе под солнышком и наслаждайся жизнью.
— Не-не, я все-таки как-нибудь в одежде новый год встречу, — не соглашается Фая.
— Ага. Значит, разглядывать сиськи арфисток целый вечер — это ты всегда за, а как свои показать, так ты сразу в шкаф? — подкалывает ее Слава.
— Что? На слабо берешь? — подозрительно сощуривается Фая.
— Беру, — соглашается Слава.
— Ну и хер с тобой, — говорит Фая и удаляется, хлопнув дверью.
Через полчаса, когда Слава уже сидит на коврике, раскрашивая море во все оттенки розового и попивая нечто оранжевое из стакана с синим зонтиком, а некая второкурсница Ника заплетает ему косички с разноцветными ленточками, Фая возвращается в купальнике со стразами и пайетками, на голове огромная соломенная шляпа, на носу винтажные солнечные очки, в руках бутылка игристого.
— Открывай, — бесцеремонно отодвигая Нику, командует она Славе и, сев на коврик, тоже принимается рисовать розовые волны. — А почему мы раскрашиваем море в розовый?
— А тебя три солнца не смущают? — спрашивает Слава, удерживая силящуюся вылететь пробку, ладонью. — Мы не на Земле. Это Бета-Малая Медведица. А это... — смотрит он на бутылку, — пусть это будет пангалактический грызлодер!
Пробка со хлопком вылетает из бутылки и врезается в потолочную лампу. Пластиковый плафон, переживший не одно поколение безумных консерваторцев, дает трещину, но остается висеть на своем месте.
Конец линии 3.
— Только ты можешь проиграть с козырным тузом в руках, — довольно констатирует Фая.
— Это ж я. Даже если бы у меня было два козырных туза, я бы все равно проиграл. Ладно, загадывай свое желание, — без особого разочарования говорит Слава, собирая карты.
— Так вот, — сияет Фая. — Через час во дворце Белосельских-Белозерских будет арфовый концерт. У меня два билета, но Сашка Лукьянова в последний момент слилась, типа лень ей 31-го числа жопу поднимать. Так что, ты идешь со мной.
Полтора отделения старинной музыки и бесконечных арфовых глиссандо доводят Славу практически до нервного истощения. Совково-театральные манеры цветистых излияний престарелой ведущей концерта и обилие арфисток в жутких, как свадебный торт, платьях никак не способствуют поддержанию душевного здоровья. Зато сидящая рядом Фая, кажется, воспринимает все как должное, и ничего ее не смущает; она блаженно улыбается и даже ахает на особенно эффектных пассажах. Но вот, внезапно ведущая объявляет:
— София Губайдулина. Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных.
— Нифигасе! — тихо восклицает Слава, от удивления перестав страдать.
— Я бы попросила тебя не выражаться, — пихает его в бок Фая.
«Наконец-то хорошая музыка и хорошие люди, — думает про себя Слава. — Но, надо отдать должное Софии Асгатовне, мадам знает толк в извращениях...». И впрямь, на сцену выходит контрабасист Милош. Медведеобразный и больше похожий на рокера со своей бородой и длинным хаером, он неспешно кладет контрабас на стул и вдумчиво расставляет ноты. Следом за ним выбегает ударник Петя Дрозд с двумя томами от ударной установки. Он ставит их и тотчас убегает. В народе его называют просто Дроздом, хотя на самом деле он паук, поскольку его способность играть на всех ударных сразу выходит далеко за пределы возможностей антропоморфных существ. Из двери под сценой появляется монтировщик с арфой на специальной коляске и меняет одну арфу на другую. Следом за ним выходит и сама арфистка Карина. На ней строгое, не в пример розовым тортам, практически монашеское темно-синее платье с блестками, без каких-либо вырезов и разрезов. Меж тем ударник снова возвращается, чуть не сбив рабочего сцены двумя тарелками на стойках. Водрузив их на сцену, он снова убегает. Через несколько минут, начав волноваться, куда подевался Дрозд, Милош уходит на его поиски через дверь на сцене. В тот же момент Дрозд вкатывает через дверь под сценой вибрафон. Арфистка, поняв, что вряд ли сможет помочь втащить на сцену столь тяжелую металлическую конструкцию, убегает искать контрабасиста через дверь на сцене. И в тот же момент, как в самом глупом мультике, контрабасист забегает в дверь под сценой и принимается помогать ударнику затаскивать на сцену вибрафон. То ли нарочно, то ли специально, Дрозд несколько раз переворачивает ноты на пюпитре вверх ногами и обратно, надевает очки, роняет их и снова надевает. В этот момент старушка-ведущая, пристроившаяся под сценой, уже не выдерживает и убегает за арфисткой, естественно, через нижнюю дверь, а Карина в тот же момент возвращается через верхнюю. Уставшие от ситкома зрители, решив не дожидаться старушки, бурно аплодируют.
Но, увы, свободное от тональных предрассудков творчество Губайдулиной повергает любителей классической гармонии в полное недоумение. «Это что, музыка такая?» — доносится до Славы чей-то возмущенный шепот. Он только фыркает и качает головой, сдерживая порыв нахамить непросвещенной слушательнице. Впрочем, идея впихнуть Губайдулину в концерт, состоящий в основном из музыки романтиков, была весьма нетривиальной, все равно что повесить работу Кандинсткого в зал с прерафаэлитами. Отыграв положенные 12 минут впавшей в ступор публике, музыканты кланяются и начинают собираться в обратный путь. Рабочий сцены выкатывает следующую арфу, Дрозд подхватывает томы и уносится с ними прочь. В этот отчаянный момент сердце Славы не выдерживает, и он, сорвавшись с места, запрыгивает на сцену, берет тарелки и, бряцая, убегает вслед за Дроздом.
— Ой, привет, спасибо, — заметив Славу, говорит Дрозд. — Какими судьбами?
И едва Слава успевает поставить тарелки на пол, со сцены раздается адский грохот. Сразу поняв, что случилось, Дрозд и Слава медленно, держась за остановившиеся сердца, возвращаются в зал. Под сценой лежит вибрафон с отлетевшими в сторону клавишами. Благо, производители связывают их веревочкой. Громко вздохнув на рабочего сцены, Дрозд дает ему понять, что он свободен, и тот быстренько сматывается с Карининой арфой. Слава и Дрозд поднимают вибрафон, который Дрозд тотчас спешит выкатить из зала, а Слава подбирает гирлянду клавиш и убегает за ним.
— Уебок, — гневно выдыхает Дрозд, раскладывая клавиши по вибрафону, когда они оказываются в холле.
Рядом уже стоят растерянные Карина и Милош с контрабасом. Вернув клавиши на место и откатив инструмент подальше, Дрозд проверяет его на сохранность. Вроде, ничего не поломалось. Даже трубки стоят на месте.
— Это твой? — спрашивает Слава.
— Конечно, мой, — вздыхает Дрозд.
— Помочь спустить?
— Ага.
Дрозд уходит в гримерку и возвращается с железной продуктовой корзинкой, вероятно, позаимствованной из какого-нибудь супермаркета, куда и складывает клавиши вибрафона. Тихо ругаясь, они спускают вибрафон по лестнице и утромбовывают его в багажник катафалка, потом возвращаются за корзинкой с клавишами и прочими ударными. К тому времени, как Слава входит в зал, концерт уже оканчивается, и ведущая рассыпается в благодарностях прелестным исполнительницам и чудесным зрителям.
— Потрясающе! Просто потрясающе! — восклицает Фая, подбегая к Славе.
— Потрясающе, что ни одна пара грудей так и не вывалилась из корсета, — мрачно качает головой Слава. — Или все-таки вывалилась, пока меня не было?
— А ты только на сиськи и смотришь! — укоризненно хмурит брови Фая.
— Я смотел на Дрозда, и мое сердце обливалось кровью, — вздыхает Слава.
— Вибрафон-то жив? — вспомнив об инциденте, спрашивает Фая.
— Жив, куда он денется... — отвечает Слава. — Единственное приличное произведение в концерте, и превратить его в ёбаный ситком... Но в остальном... Это же форменное соревнование, у кого пышнее платье и у кого больше вырез! Мне казалось, только вокалистки на такое способны... А-а-а-а... испанский стыд...
— Да что ты вообще понимаешь в платьях? Хорошие у них платья. Дорогие, стильные. В смысле, в стиле середины XIX века. А в чем они должны играть старинную музыку по-твоему? В джинсах что ли?
— В черном. Просто строгие черные платья в пол. Или черные рубашки и черные брюки. Они же музыку играют, а не устраивают показ мод позапрошлого столетия! Что за стриптиз вообще?
— Платья нужны для аутентичности! В XIX веке такие и носили!
— Ой, Фай, давай хоть без аутентичности! А? Мне всегда нравилась арфа, но после сегодняшнего, пожалуй, я еще года два к этому инструменту не прикоснусь. Буду думать о сиськах.
— Да что тебе не понравилось-то? — не понимает Фая. — Прекрасный концерт, прекрасная музыка, прекрасные девушки…
— Вот именно! Пре-крас-ны-е! Слишком сладко, слишком много стразов, слишком много сисек и элементарной пошлости! Понимаешь? В оркестре арфа — это украшение, бриллиантовое колье на шее, кружева на платье. Сольная арфа, если мы говорим о старинной музыке, — то изысканное пирожное, десерт ручной работы. Но целый концерт из одних арф — это слишком. Все равно что выпить горячий шоколад с маршмеллоу, закусить тирамису, потом сожрать двадцать видов макарони, запить молочным коктейлем с клубникой и в довершение прыгнуть в бассейн с блестками. Меня сейчас радугой стошнит.
— Фу, и зачем только тебя взяла? — обиженно качает головой Фая. — Ты ничего не понимаешь в старинной музыке. Только бы орать, скрежетать и хуи в рояль кидать!
— Да какие хуи? Не кидаюсь я хуями в рояль! С чего ты взяла?! — возмущается Слава.
— А что, правда не кидаешься?
— Нет.
— А Вадик сказал, что кидаешься, — недоверчиво возражает Фая.
— Ах, вот откуда ноги растут, — смекает Слава.
— А что? — спрашивает Фая.
— Да ничего. Неудачно пошутил я однажды. Позвонил ему как-то, спросил, что он делает. Он сказал, что хуи пинает. А я ему подробно объяснил, почему хуи не пинать надо, а в рояль кидать. Теперь понятно, с чьей подачи пошла легенда о том, что я такой фигней страдаю.
— А с тебя станется, — пожимает плечами Фая. — Пойми, людям нравится гармоничная, красивая музыка. Посмотри, сколько народу пришло! Им всем нужна музыка! Вместо того, чтобы готовить оливье и смотреть «С легким паром», они все пришли сюда, они тянутся к прекрасному! Разве это не здорово? Ты просто завидуешь, что тебя никуда не зовут, и на твою музыку приходят пара калек, таких же стукнутых на всю голову, как и ты.
— Потому что людям не нужна правда. Им нужна иллюзия счастья. Утопия. Само понятие старинная музыка — это полнейший симулякр прекрасной и никогда не существовавшей эпохи. Сотни лет музыка была в рабстве у желудков и элиты. Она должна была ублажать слух и способствовать правильному пищеварению, если мы говорим о светском искусстве. Духовная музыка была в рабстве у церкви, и ее обязанность — заставить людей бояться гнева вымышленного бога и жить в соответствии с предписанной отцами церкви моралью. Я отказываюсь быть рабом. Как Дюшан, как Тристан Тцара, как ЛЕФ, как Кейдж, я не хочу подчиняться. Музыка должна быть свободной. Она должна нести мысль автора, не взирая на то, нравится она публике или нет. Я не хочу сидеть в золотой клетке и петь пошлые песенки в угоду дяденькам и тетенькам с толстыми кошельками. Я дикий зверь. Я вою, рычу и царапаюсь, потому что такова моя природа, такова моя реакция на мир, в котором я живу.
— Ты грязный облезлый волк в вонючей клетке провинциального зоопарка. К тебе редко кто подходит, а те, кто подходит, смеются над тобой. Или жалеют тебя. Ты питаешься объедками и мерзнешь. Вот ты кто. И ты тоже в клетке.
— Знаешь, может, ты и права. Пусть я волк. Грязный и облезлый. И именно потому мне не стать соловьем. Да, я тоже в клетке капиталистического общества и торгово-рыночных отношений. Потому что искусство, как ни крути, — это тоже товар. Классическое искусство, особенно дополненное сиськами, продается хорошо, а авангард, как не продавался, так и не будет продаваться в массовом масштабе. Но порой находятся безумцы, способные заплатить пять миллионов зеленых президентов за «Фонтан» Дюшана. И на том им спасибо.
— А что, если ты не встретишь своего безумца? — спрашивает Фая. — Так и помрешь в нищете и безвестности?
— Может быть. В принципе, все равно. Мне не нужны массы. Мне нужны те, кто готов и кто хочет меня услышать.
— Очень удобная позиция, — ехидно отмечает Фая. — А не пора ли признать свое поражение и начать делать что-то более понятное, что нравится людям, за что они готовы платить?
— Мы уже идем по кругу. Я не заставляю тебя идти со мной. Хочешь — играй классику. Не хочешь — велкам в авангард. Или в джаз, или продайся в попсу. Последние тоже получают деньги и имеют широкий круг слушателей. К чему вообще весь этот спор?
— К тому, что ты испортил мне весь вечер, Станислав.
Они уже стоят у метро «Маяковская».
— Прости. Я не хотел. Концерт был действительно... хорошим. Губайдулина его спасла. И ребят повстречал, а то все никак не мог решиться позвонить Карине, чтобы она помогла мне перевести армянские фрагменты в «Арии» Кейджа.
Слава достает из внутреннего кармана пальто двойку кубков.
— Так как ты прочитала эту карту? В прямом или перевернутом положении?
Выпив по бокалу глинтвейна в ближайшей кофейне на Марата, Слава задумчиво произносит:
— Знаешь, я ведь тоже не такой уж неуязвимый. Моя самоуверенность — по большей части маска. И мне страшно, что однажды я сдамся и начну делать то, чего от меня ждут люди, и превращусь в безобидную цирковую собачку. Просто я так не выживу. Я не могу писать как Монтеверди. Просто потому что живу в другое время и в другую эпоху. Не хочу плодить симулякры, не хочу врать. Художник должен писать о том, что он видит и что он думает, отображать реальность, а не бежать от нее в мир розовых единорогов. Да, в смутное время, когда кажется, что дальше будет только хуже, людям нужен этот опиум, все эти пирожные и блестки. Должно быть что-то прекрасное. Так что, пусть девчонки играют, я не против. Я понимаю, зачем они это делают. Только я не такой. Я не могу смеяться, когда я вижу то, что вижу. И мне тоже бывает больно, когда люди, которых я уважаю и которым доверяю, наступают на больные мозоли. Просто мало кто об том знает.
— Значит, я все-таки задела тебя? — поднимает свою идеальную бровь Фая.
— Задела.
— Прости.
— И ты меня прости. Обосрал такой хороший концерт...
— Да ладно тебе. Арфистки действительно нелепы в своих вульгарных платьях. Я бы в таком, наверное, не вышла.
— Правильно. Тебе и не нужно. Ты и так самая красивая пианистка в этом городе.
— Льстец.
— Ой, вэй. С меня не убудет.
— А знаешь, в чем ты действительно неправ? В том, что отказываешься от простых радостей жизни. Даже в этот темный час нужно находить в себе силы смеяться. Устраивать пир во время чумы. Иначе можно просто не дожить до светлого дня. Поэтому сейчас мы пойдем в общагу и будем веселиться до утра. Даже если для этого придется колядовать с народниками и медведями.
— Хорошо, мам. Будь по-твоему.
Добравшись до общаги и забежав в магазин за продуктами к праздничному застолью, они разъезжаются по своим этажам. А войдя на свой тринадцатый, Славе не остается ничего больше, как воскликнуть:
— Майка Босха! Что у вас тут происходит?
— Пляжная вечеринка! — отвечает оказавшаяся неподалеку от входа Анька. — Иди надевай плавки и присоединяйся!
И не поспоришь: все стены коридора заполонили море, пляж, три солнца, пальмы, русалка и чайки, нарисованные простым оркестровым карандашом. По всему полу раскиданы походные коврики-пенки и казенные покрывала, на которых сидят и лежат уже отнюдь не нарисованные барышни в купальниках и молодые люди в пляжных шортах. Водрузив на носы солнечные очки, они вальяжно потягивают разноцветные напитки из разноцветных трубочек. С одной стороны коридора кто-то выставил колонки и врубил регги, а с другой стороны раздаются рулады чаек, аккомпанируемые плеском волн.
— Акция-то санкционированная? — спрашивает Слава у Аньки, пока та не успела убежать.
— Санкционированная. Настя еще пару дней назад договорилась. Нам дали три ведра краски, так как коменд все равно собирался обновлять стены на этаже. Так что, после нового года будем сами восстанавливать нанесенный нами ущерб.
— Окей, — соглашается Слава. — Но розовое море у вас явно не того оттенка.
С этими словами он идет в свою комнату, кормит кота, надевает пляжные шорты и возвращается в коридор с двумя большими коробками детской гуаши, кисточками и банкой с водой. Выдав материалы развалившимся на коврике отдыхающим, он отправляется на четырнадцатый и стучится к Фае.
— Мадемуазель, разрешите пригласить вас на бал, — произносит он с галантным поклоном. — Дресс-код — купальники.
— Ты когда так нажраться успел? — изумляется Фая.
— Да я трезвый. У нас на этаже внезапно пляжная вечеринка образовалась. Иди сама посмотри.
Не поняв, в чем дело, но из чистого любопытства Фая все-таки спускается вслед за Славой.
— Нет, это не по мне, — качает головой она. — Спасибо, мсье, но я не с вами.
— А не ты ли звала колядовать с народниками? — хитро спрашивает Слава. — По мне, так пляжная вечеринка — куда оригинальнее и менее оглушительно. Лежи себе под солнышком и наслаждайся жизнью.
— Не-не, я все-таки как-нибудь в одежде новый год встречу, — не соглашается Фая.
— Ага. Значит, разглядывать сиськи арфисток целый вечер — это ты всегда за, а как свои показать, так ты сразу в шкаф? — подкалывает ее Слава.
— Что? На слабо берешь? — подозрительно сощуривается Фая.
— Беру, — соглашается Слава.
— Ну и хер с тобой, — говорит Фая и удаляется, хлопнув дверью.
Через полчаса, когда Слава уже сидит на коврике, раскрашивая море во все оттенки розового и попивая нечто оранжевое из стакана с синим зонтиком, а некая второкурсница Ника заплетает ему косички с разноцветными ленточками, Фая возвращается в купальнике со стразами и пайетками, на голове огромная соломенная шляпа, на носу винтажные солнечные очки, в руках бутылка игристого.
— Открывай, — бесцеремонно отодвигая Нику, командует она Славе и, сев на коврик, тоже принимается рисовать розовые волны. — А почему мы раскрашиваем море в розовый?
— А тебя три солнца не смущают? — спрашивает Слава, удерживая силящуюся вылететь пробку, ладонью. — Мы не на Земле. Это Бета-Малая Медведица. А это... — смотрит он на бутылку, — пусть это будет пангалактический грызлодер!
Пробка со хлопком вылетает из бутылки и врезается в потолочную лампу. Пластиковый плафон, переживший не одно поколение безумных консерваторцев, дает трещину, но остается висеть на своем месте.
Конец линии 3.
Глава 7с. Время жить и время паковать чемоданы
— Бито, — говорит Слава, переворачивая карты.
Фая выбрасывает короля. Слава бьет его козырным валетом и кладет рядом еще одного. Фая забирает карты. Слава отдает ей козырного туза.
— Что ж, на этот раз моя взяла, хотя я и с козырными тузами умудряюсь проигрывать, — пожимает плечами Слава. — Итак, мое желание... Мое желание... Ага. Вот. Ты мне нужна шестнадцатого числа в восемь вечера. Если ты свободна, разумеется.
— Сейчас, — Фая заглядывает в календарь на смартфоне. — Да, я свободна. А что?
— Будешь играть Шопена.
— Я Шопена не играю. Он скотина.
— В смысле? — не понимает Слава.
— Ну, ты знаешь, как он себя повел с Жорж Санд. Я его ненавижу.
— Хм... — хмурится Слава. — Знаешь, сейчас ты поднимаешь очень сложную дискуссионную тему. Во-первых, с Жоржем Сандом. Все-таки, как утверждают современные исследователи, он был трансгендерным мужчиной, хотя в те времена еще не было такого термина. А Шопен был пансексуалом и полиамором, хотя гомофобные поляки истово скрывают его эротические переписки с мужиками. Но это так, для справки. Я тоже не в восторге от всей этой истории. Но мы не знаем всей правды. Ее никто не знает. Правда — вещь субъективная, и чтобы собрать более-менее целостную картинку, пришлось бы пообщаться с очевидцами, которые, увы, все умерли, а в спиритические сеансы я не играю. Но, мне кажется, нужно уметь отделять личность человека от его творений. Давай инвертируем ситуацию. Допустим, у нас есть некий человек, прям ангел во плоти, но совершенно бездарный, захочется ли тебе играть его музыку? Будешь ли ты исполнять ее на концертах, если ты испытываешь испанский стыд за каждую ноту? Разумеется, нет. Может быть, втихаря в закрытой студии ты поможешь этой бездарности записать альбомчик в благодарность за какую-нибудь оказанную им услугу, но ты даже возьмешь творческий псевдоним, чтобы ни дай Босх, твоя фамилия не фигурировала рядом с его. Понимаешь логику?
— Понимаю. И все равно, играя Шопена, я прям вижу Париж и Майорку, несчастную... несчастного Санда, и чувствую всю эту ложь, аморальность. Такое ощущение, что Шопен думал не головой, а прости меня, головкой. Его музыка... она словно пропитана сексом, похотью и пошлостью. Даже в его революционных произведениях это чувствуется. Понимаешь?
— Каждый слышит по-своему. Музыка на то и музыка, что она абстрактна. А в абстракции каждый видит то, что он хочет. Как ты помнишь, тот же Бетховен ни о какой луне не писал. А потом пришел поэт Рельштаб и нафантазировал лунный пейзаж на каком-то там плохо выговариваемом озере. Всем метафора понравилась. И готово. Живи, то есть покойся теперь с этим, дорогой Людвиг ван. А что касается Шопена... знаешь, думаю, моя идея тебе понравится. Собственно, играть надо не совсем Шопена, а «Композицию № 5» Джорджа Мачьюнаса. Требуется засунуть в рояль кошку или собаку или обоих разом и сыграть Шопена. Видимо, имеется в виду «Собачий вальс», который также называют «кошачьим» или «блошиным». А у датчан он называется «Фрикадельки убегают через забор». Но не суть. Собственно, поскольку Мачьюнас точно не указал, что конкретно он хотел услышать, то это на твое усмотрение. Тявкающие собачки на батарейках у меня уже есть, а вот Шопена со своим косоручием я не сыграю. Зато ты можешь ему отомстить за все выходки, испоганив его музыку тявкающими собаками, ползающими по струнам. Можем, если хочешь, еще и дополнительную препарацию навешать, чтобы пофальшивее звучало. Что скажешь?
— А играть с пошлыми рубато
13
— Хоть мольто лажитато14, — усмехается Слава. — Можешь поиздеваться от души.
14
— Что ж, тогда я согласна, — хитро потирает руки Фая.
— Отлично. А теперь изволь, я откланяюсь и пойду дрыхнуть, а то ночью начнется трэш, угар и содомия, а у меня уже сил нет, — допив свое пиво, произносит Слава, отсчитывая четыреста рублей наличными, включая щедрые новогодние чаевые для Даны.
— А не хочешь пойти со мной на арфовый концерт в Белосельских-Белозерских? — умоляюще спрашивает Фая. — А то у меня два пригласительных, а идти не с кем.
— Не, подруга, прости, это без меня. Хуже, чем арфовый концерт, — только концерт вибрафонов. Слишком приторно-сладко. Я точно либо усну, либо начну блевать радугой.
— Все бы тебе скрежетать, орать да хуи в рояль кидать, — качает головой Фая.
— Договоришься у меня, — грозит ей пальцем Слава, снимая с вешалки пальто. — А, кстати, позвони скрипачу Женьке. Он же тут на Декабристов живет. Может, ему эта тема зайдет. Ладно. Бывай.
Опасаясь встретить кого-нибудь еще, Слава бежит на автобусную остановку, чавкая типичным для новогоднего Петербурга грязеснегом. Сев в автобус и открыв было любимый «Fluxusworkbook»15, который был бы уже потрепанным до дыр, если бы не был электронным, Слава чувствует, что мозг совершенно отказывается соображать, и засыпает. Выдрессированный годами организм просыпается на повороте с Ленинского проспекта на улицу Доблести, за одну остановку до общежития, чтобы хватило времени продрать глаза, вспомнить, кто ты и как тут оказался. Зайдя в магазин и затарившись на несколько дней вперед, чтобы не пришлось выходить из комнаты, пока последствия новогоднего апокалипсиса не отшкребут от стен и полов, Слава встречает на кассе Аньку, виолончелистку из соседней комнаты, от ля-бемоля которой у Славы постоянно дребезжит кровать, по неведомым причинам входя в резонанс именно с этой нотой.
15
— Привет, — говорит она. — Мне твоя помощь нужна.
— Очень интригующе, — вскидывает бровь Слава. — И какая же на этот раз?
— Чемодан собрать.
— Ты куда-то собралась с чемоданом в новогоднюю ночь? — удивляется Слава.
— Нет, но мои родители решили выписать меня на новогодние праздники, так что поезд завтра. А собирать чемодан надо сегодня, потому что неизвестно, в каком состоянии я буду утром.
— Резонно. А я тут причем?
— Застегнуть чемодан не могу.
— Попроси Машку на него сесть.
— Не, не поможет. Да и Машка по ходу к Роялю свалила. Слав, помоги, а?
— Черт с тобой, золотая рыбка. Но с тебя... глинтвейн.
— Договорились, — соглашается она. — А на каком вине его делают? На полусладком или на сухом?
— Можно сразу на сладком. Например, на кагоре.
— А специи у тебя есть?
— Есть, — отвечает Слава.
— Окей. Посторожи корзину, я щаз, — говорит она и убегает за вином.
Зайдя домой, Слава приносит в комнату девчонок кипятильник и специи, и Анька незамедлительно принимается варить глинтвейн в ковше. Посреди комнаты лежит огромный чемодан на колесиках, чем-то напоминающий труп во время вскрытия.
— Итак, посмотрим, что у нас тут, — потирая руки, приступает к пациенту Слава. — Итак, куда ты едешь?
— В Кондопогу.
— Кондопога... — задумчиво произносит Слава.
— Алле, мы почти соседи, — напоминает Анька.
— Да слышал я о твоей Кондопоге, но ни разу не был. Переводится как «медвежья лапа», да?
— Да-да, медвежья лапа. Да и нечего там особо делать, если честно, — вздыхает Анька.
— Тогда объясни мне, пожалуйста, нафига тебе четыре пары туфель? — спрашивает Слава, извлекая их из чемодана.
— Ну, как? В клуб сходить.
— Ты собралась каждый вечер ходить в клуб?
— Еще в кафе можно, с девчонками прогуляться...
— Анечка, какие нафиг туфли?! Тут валенки нужны! Оставь одни, если куда-то они все-таки понадобятся.
— Они все красивые. Я не могу выбрать одни.
— И что? Пойдешь в клуб в четырех парах одновременно? Или наденешь одни, а три в сумке с собой потащишь?
— Отличная идея! И как я раньше не додумалась? — воодушевляется Анька.
— Аня, дивизи твоих виолончелей! Все! Мне нравятся синие. Остальные я выбрасываю.
— Нет, я хочу розовые.
— Вот мы и поняли, какие ты хочешь. Хорошо. А, скажи мне, у вас дома что, утюга нет?
— Есть.
— Тогда зачем ты с собой утюг тащишь?
— А вдруг пригодится?
— У мамы одолжишь. А фен нахуя? У мамы и фена нет?
— Есть.
— Вот и возьмешь мамин. А зачем тебе столько маечек и юбочек? Когда Кондопога успела в Африку переехать?
— В клуб сходить...
— Так. Вот давай из этой кучи ты подберешь то, что можно надеть с розовыми туфлями, а остальное мы оставим.
Анька смиренно закапывается в шмотки, и, отложив несколько штук в сторону, вручает Славе гору разноцветных тряпок обратно.
— Теперь иди сюда и учись складывать вещи, — говорит Слава, сворачивая свитер в трубочку.
Когда Слава уже застегивает чемодан, Анька вдруг вспоминает:
— Чайник!
— Что «чайник»? — не понимает Слава.
— Чайник забыла.
— У вас дома нет чайника? — вздыхает Слава.
Анька тоже вздыхает и садится на кровать, печально осматривая разбросанные по полу вещи. Слава снова подогревает уже успевший остыть глинтвейн и разливает его по кружкам.
— Я документы забрала, — внезапно ошарашивает Анька, сделав глоток.
— Чего? — поперхнувшись, спрашивает Слава.
— Документы забрала, — повторяет Анька. — У меня все равно долги с лета остались, и меня бы отчислили на этой сессии.
— Но, может, можно было как-то закрыть? Почему ты раньше не сказала? Я бы тебе своих рефератов дал...
— Не нужны мне твои рефераты. Я просто поняла, что это не мое. Все это здорово и весело, но это не моя дорога. Понимаешь, нам вечно кажется, что мы все такие крутые, свободные, что мы в праве выбирать свой путь, но это не так. Понимаешь? Ты ведь тоже абсолютник. А какой выбор есть у абсолютника? Никакого. Как только в музыкалке у тебя обнаруживают абсолютный слух, тебе тут же начинают внушать, что это божий дар, или еще какую-нибудь чушь. Все вокруг начинают настаивать на том, чтобы ты шел дальше в музыку, и неважно, есть ли у тебя желание или нет. И ты часами дрочишь программу по спецке, учишь муру16, готовишься к экзаменам, потому что ты должен быть лучшим. Если у тебя абсолютный слух, то тебя убеждают в том, что ты лучше всех, и ты стремишься оправдать чужие ожидания. Ты поступаешь в училище, поступаешь в консерваторию. А здесь половина таких же как ты, тех, кого чуть ли не ногами запихнули в музыку, ни о чем не спросив, не дав никакого выбора. Понимаешь, о чем я? Скажи, тебе нравится быть тем, кто ты есть, нравится делать то, что ты делаешь?
16
— В целом, меня все устраивает. Впрочем, я и не представляю другой жизни для себя, — пожимает плечами Слава.
— Я тоже, — соглашается Анька. — Но хочу представить. Хочу узнать другую жизнь. Не ту, что мне навязали родители и учителя. Я хочу идти своей дорогой.
— И тебе не жалко потраченных лет?
— Лет не жалко. Какие мои годы? Но по «Волосатой ноге» буду скучать, наверное...
— Какой волосатой ноге? — не понимает Слава.
— Неофициальное название нашего квартета «Sul tacchi»17. Потому что у меня платье с разрезом, и с виолончелью от него никуда не деться, так что нога выскакивает, когда я сажусь. А побрить ноги или хотя бы одну ногу перед концертом я всегда забываю. Так и получился квартет «Волосатая нога».
17
— Эх, как же теперь девчонки без твоей волосатой ноги жить будут?
— Не знаю. Может, найдут виолончелистку с бритыми ногами, — вздыхает Анька.
— Может, дать тебе рюкзак? — спрашивает Слава. — Соберем в него остатки вещей, а потом ты как-нибудь к моим родителям его закинешь. Или встретимся, когда я приеду их навестить. Как раз думал на каникулах на несколько дней смотаться.
— Нет, не надо, — качает головой Анька. — Я хотела, чтобы ты выкинул лишнее. Лишнее из моей жизни. Нужно уметь избавляться от балласта, который тянет вниз. Пусть это все останется в наследство девчонкам. Мне оно больше не нужно.
— А с виолончелью что будешь делать?
— Пока поедет со мной. Посмотрю, подумаю. В самой виолончели нет ничего плохого. Мне нравится на ней играть. Только не наспех, не для того, чтобы сдать экзамен или заработать денег. А для души нравится. Она добрая, теплая.
— И что же, теперь некому будет меня ля-бемолем будить? — шутит Слава.
— Пожалуй, что некому. Зато у тебя остается вокалист с двенадцатого, который каждое утро ржет как аццкий сотона.
— О, да, — вздыхает Слава. — Хотел бы я посмотреть на этого сотону.
— Ты очень добрый, — говорит Анька, обнимая Славу.
— Это не совсем так, — возражает Слава.
— Так. У тебя доброе сердце, — настаивает на своем Анька.
— Знала бы ты, что стоит за этой добротой, — вздыхает Слава.
— Я знаю, — говорит Анька. — Это вина. Я не знаю, в чем она, но ты пытаешься ее искупить. Только у тебя никогда это не получится. Пока ты сам себя не простишь. И все же, у тебя доброе сердце. Потому что другие люди, чувствуя вину, стремятся очернить всех вокруг, сделать так, чтобы выглядеть лучше на фоне других. Это злые люди. А ты не такой. Ты добрый.
— Однажды я не ответил на звонок, — неожиданно для себя признается Слава. — Очень важный звонок. И случилась трагедия.
Повисает молчание, нарушаемое приглушенными криками и беготней в коридоре.
— А знаешь что? — меняет тему Анька. — Пойдем к тебе? И ты разложишь мне сказку на таро, а я ее запишу. Я хочу запомнить тебя.
— Если ты просишь...
Они переходят в Славину комнату. Дракула просыпается от включенного света и, спрыгнув со стола, идет обнюхивать ноги гостьи. Подхватив его, Анька забирается на кровать с ногами. Слава вырывает лист из блокнота и протягивает девушке.
— Я запишу на диктофон, — говорит Анька, включая телефон.
— У меня плохая дикция, — с сомнением смотрит на Анькин телефон Слава. — В записи мой голос еще хуже, чем в жизни.
— Это неважно, — отмахивается Анька. — Ты все равно никогда не услышишь эту запись. Раскладывай.
— Давай ты будешь тянуть, а я буду рассказывать, — предлагает Слава.
— Давай, — соглашается Анька, придвигаясь ближе к столу и включая диктофон. — Вячеслав Вереск. Сказка на таро.
Слава перемешивает колоду, и Анька вытягивает две карты: Солнце и тройку кубков.
— Сразу две? Ладно. Хм... — собирается с мыслями Слава. — Однажды в солнечной Греции жили-были три грации: Аглая, Евфросина и Талия, или просто Наглая, Фрося и Натаха.
Восьмерка жезлов.
— И все у них было и радостно: с утра они плескались в море с океанидами, после полудня спали под дубом вместе с Фавном и дриадами, а вечерами бухали с музами, поэтами и прочими алкоголиками, то есть творческими личностями.
Туз жезлов.
— Но однажды вечером раздается Бах и Шуман, гром, молнии и тому подобное, и все бегут, теряя сандалики, вопят, ругаются на своем древнегрехческом, и из грозовых облаков с молнией наперевес выходит Зевс. Весь сам из себя важный как птица, которая без пинка не летает, и говорит: «Дорогие россияне, — имитирует Слава голос Ельцина. — Я мухожук. Шутка. Никакой я не мухожук. А дело у меня есть.
Королева мечей.
— Короче, Афина совсем распоясалась.
Дьявол.
— Видали вон третьего дня затмение было? Это наша Афина Тартар вверх дном перевернула. Аид с Хароном на силу все на место поставили. И то половину мертвяков порастеряли, и теперь они по земле бегают и по теням шкерятся, чтобы солнце их не сожгло нахрен.
Шестерка кубков.
— А неделю назад пьянку с океанидами закатила, да такую, что вся рыба в океане нажралась, и греки, эту тему прочухав, уже неделю всей страной лыка не вяжут. Землю не пашут, в храмы не ходят, жертвы не приносят. Только философствуют и смеются. Непорядок.
Рыцарь жезлов.
— Короче, есть тут среди вас какой-нибудь рыцарь, способный удержать в руках палку? И все такие давай галдеть и кудахтать наперебой, из серии: «А кто такие рыцари? Не видали мы никаких рыцарей... А длинную ли палку надо в руках держать?»
Пятерка жезлов.
— Терпеливо дождавшись, когда весь этот гвалт стихнет, Зевс предлагает самое мудрое решение: «Тяните спички». И достает из своей простыни, которой он обмотан, коробок спичек. Обламывает одну и протягивает коробок всем присутствующим.
Двойка жезлов.
— Ко всеобщему удивлению, коротких спичек оказывается сразу две.
Анька послушно вытягивает две карты: Королеву жезлов и Смерть.
— Поскольку речь в данном случае идет о всяких музах... то пусть это будут Эвтерпа с флейтой и Мельпомена — муза трагедии, или Терпила и Памела, если по-нашему. «Ну, все, я пошел, — говорит Зевс. — Как хотите, так и разбирайтесь с Афиной, но завтра чтобы все философы протрезвели, а мертвецы вернулись к Аиду. Хлоп! — и исчезает, что твой Декарт, когда забыл подумать.
Тройка жезлов.
— Ты перестанешь вытягивать жезлы или нет? Так вот. Значит, собрались девчонки с духом, прически поправили, повязали на себя чистые простыни, взяли с собой три флейты и пошли. Почему три? А просто на всякий случай.
Паж жезлов.
— Ань, ты своими палками меня в гроб загонишь. Короче, бредут они бредут, на флейтах играют. Терпила в мажоре, а Памела в одноименном миноре. А навстречу им Фавн. «Не так, — говорит, — вы, девчонки, на флейтах играете. Смотрите, как надо!» И берет сразу две флейты, в рот засовывает и сам с собой дуэтом начинает играть. «А ты, раз такой умный, — говорит Терпила, — то с нами пойдешь Афину успокаивать». «Нет, — говорит Фавн. — Не пойду я с вами. Меня Дионис бухать звал». И исчезает, захватив с собой обе флейты. Так, дай-ка я теперь вытяну.
Семь кубков.
— Хм... Так. Бредут они, бредут по горам по долам, с одной флейтой на двоих и тут — глядь! — посреди чиста поля семь дверей. А в какую войти, они не знают.
Рыцарь кубков.
— Короче, стучат они в одну дверь. Из-за нее Ганимед вылезает. Уже бухой, естественно, простыней кокетливо прикрывается. «Ты Афину не видел?» — спрашивают его музы. «Не, не видел», — говорит. А из-за двери голос Зевса раздается: «Зая, кого там циклопы носят?» Короче, Ганимед музам подмигивает и дверь захлопывает. Делать нечего. Стучат в другую.
Колесо Фортуны.
— О, вот это уже лучше. Вылезает Фортуна. Не помню, как ее по-гречески звали. «Ну, чего вам?» — говорит. «Да вот, — отвечают музы. — Афину ищем». «А мы тут в "Поле чудес" играем, — говорит Фортуна, поправляя роскошные усы. — Крутите барабан!» Девчонки заходят в дверь и крутят барабан. «И это… а-а-а-втомобиль!» — радостно кричит Фортуна и дарит им колесницу, запряженную двумя грифонами.
Суд.
— «А Афина-то где?» — спрашивают Фортуну музы. «Да Немесиду спаивает, — машет рукой усатая Фортуна.
Четверка жезлов.
— Чтобы та ей разрешила оргию в храме на Олимпе закатить». И музы, взгромоздившись на колесницу, несутся к Немесиде, но по дороге задумываются: а нахуя? Если Афина Немесиду уболтает на оргию, значит, та ей и прочие непотребства простит. А если не уболтает, то Немесида сама с ней расправится и без их музьей помощи. Поэтому разворачивают они колесницу и возвращаются обратно к грациям и поэтам пить винишко. Но о том, что затевает Афина на завтра, они решают не рассказывать. Пусть будет сюрприз. А если не будет, то они сами оргию устроят, и ничего им за это не будет, потому что они не какие-нибудь титаниды, а всего-навсего музы, и никому до них дела нет. Конец сказки.
— Хорошие у тебя сказки, добрые, — говорит Анька, отключив диктофон. — Главное, мудрые. Действительно: а нахуя? Иногда все само собой разрешается, и не надо жопу рвать, если ты всего лишь муза с флейтой.
— Ага. Одной на двоих, — ухмыляется Слава.
Анька подползает к Славе и целует его.
— Я хочу запомнить тебя, — говорит она.
— Ты чего? — сажая ее обратно, спрашивает Слава. — Любовных романов перечитала?
— Нет, «Стиляг» пересматривала, — честно сознается Анька. — Там была такая история про негра...
— Афроамериканца, — поправляет ее Слава. — Да, я помню. Но давай не будем делать того, о чем в последствии пожалеем.
— А я не буду жалеть, — говорит Анька. — Я знаю, что больше мы не увидимся. Скорее всего, не увидимся. А если и увидимся, то это будем уже не мы, а совсем другие люди. В смысле, мы ведь каждый день меняемся, каждый день становимся другими. Чуть-чуть, но другими. И однажды мы становимся настолько другими, что те, прежние мы, какими мы были год или два назад, кажутся нам совсем чужими, совсем не похожими на нас настоящих. Вот так и с нами будет. Я не люблю тебя. И ты меня не любишь. Но сегодня, на одну ночь, мы можем притвориться, что все иначе. Можем сыграть другие роли. А завтра мы снимем маски и розовые очки и разойдемся по своим жизням.
— Ань, а зачем? Зачем плодить симулякры?
— Очень просто, глупый, — нежно улыбается она. — Чтобы хоть на несколько часов почувствовать себя счастливыми и забыть обо всем, что происходит вокруг. Человек не может быть счастлив долго. Счастье — это только моменты, но, что бы ни случилось потом, счастье, пусть даже иллюзорное, стоит того, чтобы его пережить. Прости, если я перегнула палку...
— Опять ты со своими палками? — смеется Слава.
— Это не я. Просто случайность, — говорит Анька, запирая дверь.
Конец линии 4.
Фая выбрасывает короля. Слава бьет его козырным валетом и кладет рядом еще одного. Фая забирает карты. Слава отдает ей козырного туза.
— Что ж, на этот раз моя взяла, хотя я и с козырными тузами умудряюсь проигрывать, — пожимает плечами Слава. — Итак, мое желание... Мое желание... Ага. Вот. Ты мне нужна шестнадцатого числа в восемь вечера. Если ты свободна, разумеется.
— Сейчас, — Фая заглядывает в календарь на смартфоне. — Да, я свободна. А что?
— Будешь играть Шопена.
— Я Шопена не играю. Он скотина.
— В смысле? — не понимает Слава.
— Ну, ты знаешь, как он себя повел с Жорж Санд. Я его ненавижу.
— Хм... — хмурится Слава. — Знаешь, сейчас ты поднимаешь очень сложную дискуссионную тему. Во-первых, с Жоржем Сандом. Все-таки, как утверждают современные исследователи, он был трансгендерным мужчиной, хотя в те времена еще не было такого термина. А Шопен был пансексуалом и полиамором, хотя гомофобные поляки истово скрывают его эротические переписки с мужиками. Но это так, для справки. Я тоже не в восторге от всей этой истории. Но мы не знаем всей правды. Ее никто не знает. Правда — вещь субъективная, и чтобы собрать более-менее целостную картинку, пришлось бы пообщаться с очевидцами, которые, увы, все умерли, а в спиритические сеансы я не играю. Но, мне кажется, нужно уметь отделять личность человека от его творений. Давай инвертируем ситуацию. Допустим, у нас есть некий человек, прям ангел во плоти, но совершенно бездарный, захочется ли тебе играть его музыку? Будешь ли ты исполнять ее на концертах, если ты испытываешь испанский стыд за каждую ноту? Разумеется, нет. Может быть, втихаря в закрытой студии ты поможешь этой бездарности записать альбомчик в благодарность за какую-нибудь оказанную им услугу, но ты даже возьмешь творческий псевдоним, чтобы ни дай Босх, твоя фамилия не фигурировала рядом с его. Понимаешь логику?
— Понимаю. И все равно, играя Шопена, я прям вижу Париж и Майорку, несчастную... несчастного Санда, и чувствую всю эту ложь, аморальность. Такое ощущение, что Шопен думал не головой, а прости меня, головкой. Его музыка... она словно пропитана сексом, похотью и пошлостью. Даже в его революционных произведениях это чувствуется. Понимаешь?
— Каждый слышит по-своему. Музыка на то и музыка, что она абстрактна. А в абстракции каждый видит то, что он хочет. Как ты помнишь, тот же Бетховен ни о какой луне не писал. А потом пришел поэт Рельштаб и нафантазировал лунный пейзаж на каком-то там плохо выговариваемом озере. Всем метафора понравилась. И готово. Живи, то есть покойся теперь с этим, дорогой Людвиг ван. А что касается Шопена... знаешь, думаю, моя идея тебе понравится. Собственно, играть надо не совсем Шопена, а «Композицию № 5» Джорджа Мачьюнаса. Требуется засунуть в рояль кошку или собаку или обоих разом и сыграть Шопена. Видимо, имеется в виду «Собачий вальс», который также называют «кошачьим» или «блошиным». А у датчан он называется «Фрикадельки убегают через забор». Но не суть. Собственно, поскольку Мачьюнас точно не указал, что конкретно он хотел услышать, то это на твое усмотрение. Тявкающие собачки на батарейках у меня уже есть, а вот Шопена со своим косоручием я не сыграю. Зато ты можешь ему отомстить за все выходки, испоганив его музыку тявкающими собаками, ползающими по струнам. Можем, если хочешь, еще и дополнительную препарацию навешать, чтобы пофальшивее звучало. Что скажешь?
— А играть с пошлыми рубато
13
можно?13
Rubato — итальянский термин, означающий свободное в темповом отношении исполнение.
— Хоть мольто лажитато14, — усмехается Слава. — Можешь поиздеваться от души.
14
Molto lagitato — вымышленный термин, по звучанию апеллирующий к «molto agitato» (итал. «очень взволнованно»), но этимологически образованный от русского слова «лажа».
— Что ж, тогда я согласна, — хитро потирает руки Фая.
— Отлично. А теперь изволь, я откланяюсь и пойду дрыхнуть, а то ночью начнется трэш, угар и содомия, а у меня уже сил нет, — допив свое пиво, произносит Слава, отсчитывая четыреста рублей наличными, включая щедрые новогодние чаевые для Даны.
— А не хочешь пойти со мной на арфовый концерт в Белосельских-Белозерских? — умоляюще спрашивает Фая. — А то у меня два пригласительных, а идти не с кем.
— Не, подруга, прости, это без меня. Хуже, чем арфовый концерт, — только концерт вибрафонов. Слишком приторно-сладко. Я точно либо усну, либо начну блевать радугой.
— Все бы тебе скрежетать, орать да хуи в рояль кидать, — качает головой Фая.
— Договоришься у меня, — грозит ей пальцем Слава, снимая с вешалки пальто. — А, кстати, позвони скрипачу Женьке. Он же тут на Декабристов живет. Может, ему эта тема зайдет. Ладно. Бывай.
Опасаясь встретить кого-нибудь еще, Слава бежит на автобусную остановку, чавкая типичным для новогоднего Петербурга грязеснегом. Сев в автобус и открыв было любимый «Fluxusworkbook»15, который был бы уже потрепанным до дыр, если бы не был электронным, Слава чувствует, что мозг совершенно отказывается соображать, и засыпает. Выдрессированный годами организм просыпается на повороте с Ленинского проспекта на улицу Доблести, за одну остановку до общежития, чтобы хватило времени продрать глаза, вспомнить, кто ты и как тут оказался. Зайдя в магазин и затарившись на несколько дней вперед, чтобы не пришлось выходить из комнаты, пока последствия новогоднего апокалипсиса не отшкребут от стен и полов, Слава встречает на кассе Аньку, виолончелистку из соседней комнаты, от ля-бемоля которой у Славы постоянно дребезжит кровать, по неведомым причинам входя в резонанс именно с этой нотой.
15
«Fluxusworkbook» — книга ивентов или инструктивных пьес под ред. Кена Фридмана и др.
— Привет, — говорит она. — Мне твоя помощь нужна.
— Очень интригующе, — вскидывает бровь Слава. — И какая же на этот раз?
— Чемодан собрать.
— Ты куда-то собралась с чемоданом в новогоднюю ночь? — удивляется Слава.
— Нет, но мои родители решили выписать меня на новогодние праздники, так что поезд завтра. А собирать чемодан надо сегодня, потому что неизвестно, в каком состоянии я буду утром.
— Резонно. А я тут причем?
— Застегнуть чемодан не могу.
— Попроси Машку на него сесть.
— Не, не поможет. Да и Машка по ходу к Роялю свалила. Слав, помоги, а?
— Черт с тобой, золотая рыбка. Но с тебя... глинтвейн.
— Договорились, — соглашается она. — А на каком вине его делают? На полусладком или на сухом?
— Можно сразу на сладком. Например, на кагоре.
— А специи у тебя есть?
— Есть, — отвечает Слава.
— Окей. Посторожи корзину, я щаз, — говорит она и убегает за вином.
Зайдя домой, Слава приносит в комнату девчонок кипятильник и специи, и Анька незамедлительно принимается варить глинтвейн в ковше. Посреди комнаты лежит огромный чемодан на колесиках, чем-то напоминающий труп во время вскрытия.
— Итак, посмотрим, что у нас тут, — потирая руки, приступает к пациенту Слава. — Итак, куда ты едешь?
— В Кондопогу.
— Кондопога... — задумчиво произносит Слава.
— Алле, мы почти соседи, — напоминает Анька.
— Да слышал я о твоей Кондопоге, но ни разу не был. Переводится как «медвежья лапа», да?
— Да-да, медвежья лапа. Да и нечего там особо делать, если честно, — вздыхает Анька.
— Тогда объясни мне, пожалуйста, нафига тебе четыре пары туфель? — спрашивает Слава, извлекая их из чемодана.
— Ну, как? В клуб сходить.
— Ты собралась каждый вечер ходить в клуб?
— Еще в кафе можно, с девчонками прогуляться...
— Анечка, какие нафиг туфли?! Тут валенки нужны! Оставь одни, если куда-то они все-таки понадобятся.
— Они все красивые. Я не могу выбрать одни.
— И что? Пойдешь в клуб в четырех парах одновременно? Или наденешь одни, а три в сумке с собой потащишь?
— Отличная идея! И как я раньше не додумалась? — воодушевляется Анька.
— Аня, дивизи твоих виолончелей! Все! Мне нравятся синие. Остальные я выбрасываю.
— Нет, я хочу розовые.
— Вот мы и поняли, какие ты хочешь. Хорошо. А, скажи мне, у вас дома что, утюга нет?
— Есть.
— Тогда зачем ты с собой утюг тащишь?
— А вдруг пригодится?
— У мамы одолжишь. А фен нахуя? У мамы и фена нет?
— Есть.
— Вот и возьмешь мамин. А зачем тебе столько маечек и юбочек? Когда Кондопога успела в Африку переехать?
— В клуб сходить...
— Так. Вот давай из этой кучи ты подберешь то, что можно надеть с розовыми туфлями, а остальное мы оставим.
Анька смиренно закапывается в шмотки, и, отложив несколько штук в сторону, вручает Славе гору разноцветных тряпок обратно.
— Теперь иди сюда и учись складывать вещи, — говорит Слава, сворачивая свитер в трубочку.
Когда Слава уже застегивает чемодан, Анька вдруг вспоминает:
— Чайник!
— Что «чайник»? — не понимает Слава.
— Чайник забыла.
— У вас дома нет чайника? — вздыхает Слава.
Анька тоже вздыхает и садится на кровать, печально осматривая разбросанные по полу вещи. Слава снова подогревает уже успевший остыть глинтвейн и разливает его по кружкам.
— Я документы забрала, — внезапно ошарашивает Анька, сделав глоток.
— Чего? — поперхнувшись, спрашивает Слава.
— Документы забрала, — повторяет Анька. — У меня все равно долги с лета остались, и меня бы отчислили на этой сессии.
— Но, может, можно было как-то закрыть? Почему ты раньше не сказала? Я бы тебе своих рефератов дал...
— Не нужны мне твои рефераты. Я просто поняла, что это не мое. Все это здорово и весело, но это не моя дорога. Понимаешь, нам вечно кажется, что мы все такие крутые, свободные, что мы в праве выбирать свой путь, но это не так. Понимаешь? Ты ведь тоже абсолютник. А какой выбор есть у абсолютника? Никакого. Как только в музыкалке у тебя обнаруживают абсолютный слух, тебе тут же начинают внушать, что это божий дар, или еще какую-нибудь чушь. Все вокруг начинают настаивать на том, чтобы ты шел дальше в музыку, и неважно, есть ли у тебя желание или нет. И ты часами дрочишь программу по спецке, учишь муру16, готовишься к экзаменам, потому что ты должен быть лучшим. Если у тебя абсолютный слух, то тебя убеждают в том, что ты лучше всех, и ты стремишься оправдать чужие ожидания. Ты поступаешь в училище, поступаешь в консерваторию. А здесь половина таких же как ты, тех, кого чуть ли не ногами запихнули в музыку, ни о чем не спросив, не дав никакого выбора. Понимаешь, о чем я? Скажи, тебе нравится быть тем, кто ты есть, нравится делать то, что ты делаешь?
16
Мура — распространенное сокращение от «музыкальная литература».
— В целом, меня все устраивает. Впрочем, я и не представляю другой жизни для себя, — пожимает плечами Слава.
— Я тоже, — соглашается Анька. — Но хочу представить. Хочу узнать другую жизнь. Не ту, что мне навязали родители и учителя. Я хочу идти своей дорогой.
— И тебе не жалко потраченных лет?
— Лет не жалко. Какие мои годы? Но по «Волосатой ноге» буду скучать, наверное...
— Какой волосатой ноге? — не понимает Слава.
— Неофициальное название нашего квартета «Sul tacchi»17. Потому что у меня платье с разрезом, и с виолончелью от него никуда не деться, так что нога выскакивает, когда я сажусь. А побрить ноги или хотя бы одну ногу перед концертом я всегда забываю. Так и получился квартет «Волосатая нога».
17
«На каблуках» — аллюзия к термину «sul tasto» (итал. — на грифе).
— Эх, как же теперь девчонки без твоей волосатой ноги жить будут?
— Не знаю. Может, найдут виолончелистку с бритыми ногами, — вздыхает Анька.
— Может, дать тебе рюкзак? — спрашивает Слава. — Соберем в него остатки вещей, а потом ты как-нибудь к моим родителям его закинешь. Или встретимся, когда я приеду их навестить. Как раз думал на каникулах на несколько дней смотаться.
— Нет, не надо, — качает головой Анька. — Я хотела, чтобы ты выкинул лишнее. Лишнее из моей жизни. Нужно уметь избавляться от балласта, который тянет вниз. Пусть это все останется в наследство девчонкам. Мне оно больше не нужно.
— А с виолончелью что будешь делать?
— Пока поедет со мной. Посмотрю, подумаю. В самой виолончели нет ничего плохого. Мне нравится на ней играть. Только не наспех, не для того, чтобы сдать экзамен или заработать денег. А для души нравится. Она добрая, теплая.
— И что же, теперь некому будет меня ля-бемолем будить? — шутит Слава.
— Пожалуй, что некому. Зато у тебя остается вокалист с двенадцатого, который каждое утро ржет как аццкий сотона.
— О, да, — вздыхает Слава. — Хотел бы я посмотреть на этого сотону.
— Ты очень добрый, — говорит Анька, обнимая Славу.
— Это не совсем так, — возражает Слава.
— Так. У тебя доброе сердце, — настаивает на своем Анька.
— Знала бы ты, что стоит за этой добротой, — вздыхает Слава.
— Я знаю, — говорит Анька. — Это вина. Я не знаю, в чем она, но ты пытаешься ее искупить. Только у тебя никогда это не получится. Пока ты сам себя не простишь. И все же, у тебя доброе сердце. Потому что другие люди, чувствуя вину, стремятся очернить всех вокруг, сделать так, чтобы выглядеть лучше на фоне других. Это злые люди. А ты не такой. Ты добрый.
— Однажды я не ответил на звонок, — неожиданно для себя признается Слава. — Очень важный звонок. И случилась трагедия.
Повисает молчание, нарушаемое приглушенными криками и беготней в коридоре.
— А знаешь что? — меняет тему Анька. — Пойдем к тебе? И ты разложишь мне сказку на таро, а я ее запишу. Я хочу запомнить тебя.
— Если ты просишь...
Они переходят в Славину комнату. Дракула просыпается от включенного света и, спрыгнув со стола, идет обнюхивать ноги гостьи. Подхватив его, Анька забирается на кровать с ногами. Слава вырывает лист из блокнота и протягивает девушке.
— Я запишу на диктофон, — говорит Анька, включая телефон.
— У меня плохая дикция, — с сомнением смотрит на Анькин телефон Слава. — В записи мой голос еще хуже, чем в жизни.
— Это неважно, — отмахивается Анька. — Ты все равно никогда не услышишь эту запись. Раскладывай.
— Давай ты будешь тянуть, а я буду рассказывать, — предлагает Слава.
— Давай, — соглашается Анька, придвигаясь ближе к столу и включая диктофон. — Вячеслав Вереск. Сказка на таро.
Слава перемешивает колоду, и Анька вытягивает две карты: Солнце и тройку кубков.
— Сразу две? Ладно. Хм... — собирается с мыслями Слава. — Однажды в солнечной Греции жили-были три грации: Аглая, Евфросина и Талия, или просто Наглая, Фрося и Натаха.
Восьмерка жезлов.
— И все у них было и радостно: с утра они плескались в море с океанидами, после полудня спали под дубом вместе с Фавном и дриадами, а вечерами бухали с музами, поэтами и прочими алкоголиками, то есть творческими личностями.
Туз жезлов.
— Но однажды вечером раздается Бах и Шуман, гром, молнии и тому подобное, и все бегут, теряя сандалики, вопят, ругаются на своем древнегрехческом, и из грозовых облаков с молнией наперевес выходит Зевс. Весь сам из себя важный как птица, которая без пинка не летает, и говорит: «Дорогие россияне, — имитирует Слава голос Ельцина. — Я мухожук. Шутка. Никакой я не мухожук. А дело у меня есть.
Королева мечей.
— Короче, Афина совсем распоясалась.
Дьявол.
— Видали вон третьего дня затмение было? Это наша Афина Тартар вверх дном перевернула. Аид с Хароном на силу все на место поставили. И то половину мертвяков порастеряли, и теперь они по земле бегают и по теням шкерятся, чтобы солнце их не сожгло нахрен.
Шестерка кубков.
— А неделю назад пьянку с океанидами закатила, да такую, что вся рыба в океане нажралась, и греки, эту тему прочухав, уже неделю всей страной лыка не вяжут. Землю не пашут, в храмы не ходят, жертвы не приносят. Только философствуют и смеются. Непорядок.
Рыцарь жезлов.
— Короче, есть тут среди вас какой-нибудь рыцарь, способный удержать в руках палку? И все такие давай галдеть и кудахтать наперебой, из серии: «А кто такие рыцари? Не видали мы никаких рыцарей... А длинную ли палку надо в руках держать?»
Пятерка жезлов.
— Терпеливо дождавшись, когда весь этот гвалт стихнет, Зевс предлагает самое мудрое решение: «Тяните спички». И достает из своей простыни, которой он обмотан, коробок спичек. Обламывает одну и протягивает коробок всем присутствующим.
Двойка жезлов.
— Ко всеобщему удивлению, коротких спичек оказывается сразу две.
Анька послушно вытягивает две карты: Королеву жезлов и Смерть.
— Поскольку речь в данном случае идет о всяких музах... то пусть это будут Эвтерпа с флейтой и Мельпомена — муза трагедии, или Терпила и Памела, если по-нашему. «Ну, все, я пошел, — говорит Зевс. — Как хотите, так и разбирайтесь с Афиной, но завтра чтобы все философы протрезвели, а мертвецы вернулись к Аиду. Хлоп! — и исчезает, что твой Декарт, когда забыл подумать.
Тройка жезлов.
— Ты перестанешь вытягивать жезлы или нет? Так вот. Значит, собрались девчонки с духом, прически поправили, повязали на себя чистые простыни, взяли с собой три флейты и пошли. Почему три? А просто на всякий случай.
Паж жезлов.
— Ань, ты своими палками меня в гроб загонишь. Короче, бредут они бредут, на флейтах играют. Терпила в мажоре, а Памела в одноименном миноре. А навстречу им Фавн. «Не так, — говорит, — вы, девчонки, на флейтах играете. Смотрите, как надо!» И берет сразу две флейты, в рот засовывает и сам с собой дуэтом начинает играть. «А ты, раз такой умный, — говорит Терпила, — то с нами пойдешь Афину успокаивать». «Нет, — говорит Фавн. — Не пойду я с вами. Меня Дионис бухать звал». И исчезает, захватив с собой обе флейты. Так, дай-ка я теперь вытяну.
Семь кубков.
— Хм... Так. Бредут они, бредут по горам по долам, с одной флейтой на двоих и тут — глядь! — посреди чиста поля семь дверей. А в какую войти, они не знают.
Рыцарь кубков.
— Короче, стучат они в одну дверь. Из-за нее Ганимед вылезает. Уже бухой, естественно, простыней кокетливо прикрывается. «Ты Афину не видел?» — спрашивают его музы. «Не, не видел», — говорит. А из-за двери голос Зевса раздается: «Зая, кого там циклопы носят?» Короче, Ганимед музам подмигивает и дверь захлопывает. Делать нечего. Стучат в другую.
Колесо Фортуны.
— О, вот это уже лучше. Вылезает Фортуна. Не помню, как ее по-гречески звали. «Ну, чего вам?» — говорит. «Да вот, — отвечают музы. — Афину ищем». «А мы тут в "Поле чудес" играем, — говорит Фортуна, поправляя роскошные усы. — Крутите барабан!» Девчонки заходят в дверь и крутят барабан. «И это… а-а-а-втомобиль!» — радостно кричит Фортуна и дарит им колесницу, запряженную двумя грифонами.
Суд.
— «А Афина-то где?» — спрашивают Фортуну музы. «Да Немесиду спаивает, — машет рукой усатая Фортуна.
Четверка жезлов.
— Чтобы та ей разрешила оргию в храме на Олимпе закатить». И музы, взгромоздившись на колесницу, несутся к Немесиде, но по дороге задумываются: а нахуя? Если Афина Немесиду уболтает на оргию, значит, та ей и прочие непотребства простит. А если не уболтает, то Немесида сама с ней расправится и без их музьей помощи. Поэтому разворачивают они колесницу и возвращаются обратно к грациям и поэтам пить винишко. Но о том, что затевает Афина на завтра, они решают не рассказывать. Пусть будет сюрприз. А если не будет, то они сами оргию устроят, и ничего им за это не будет, потому что они не какие-нибудь титаниды, а всего-навсего музы, и никому до них дела нет. Конец сказки.
— Хорошие у тебя сказки, добрые, — говорит Анька, отключив диктофон. — Главное, мудрые. Действительно: а нахуя? Иногда все само собой разрешается, и не надо жопу рвать, если ты всего лишь муза с флейтой.
— Ага. Одной на двоих, — ухмыляется Слава.
Анька подползает к Славе и целует его.
— Я хочу запомнить тебя, — говорит она.
— Ты чего? — сажая ее обратно, спрашивает Слава. — Любовных романов перечитала?
— Нет, «Стиляг» пересматривала, — честно сознается Анька. — Там была такая история про негра...
— Афроамериканца, — поправляет ее Слава. — Да, я помню. Но давай не будем делать того, о чем в последствии пожалеем.
— А я не буду жалеть, — говорит Анька. — Я знаю, что больше мы не увидимся. Скорее всего, не увидимся. А если и увидимся, то это будем уже не мы, а совсем другие люди. В смысле, мы ведь каждый день меняемся, каждый день становимся другими. Чуть-чуть, но другими. И однажды мы становимся настолько другими, что те, прежние мы, какими мы были год или два назад, кажутся нам совсем чужими, совсем не похожими на нас настоящих. Вот так и с нами будет. Я не люблю тебя. И ты меня не любишь. Но сегодня, на одну ночь, мы можем притвориться, что все иначе. Можем сыграть другие роли. А завтра мы снимем маски и розовые очки и разойдемся по своим жизням.
— Ань, а зачем? Зачем плодить симулякры?
— Очень просто, глупый, — нежно улыбается она. — Чтобы хоть на несколько часов почувствовать себя счастливыми и забыть обо всем, что происходит вокруг. Человек не может быть счастлив долго. Счастье — это только моменты, но, что бы ни случилось потом, счастье, пусть даже иллюзорное, стоит того, чтобы его пережить. Прости, если я перегнула палку...
— Опять ты со своими палками? — смеется Слава.
— Это не я. Просто случайность, — говорит Анька, запирая дверь.
Конец линии 4.
Глава 7d. Закон падлости
— Ну, давай, — соглашается Слава.
Перебежав дорогу, они и впрямь сталкиваются с Артемом, вылезающим из своей колымаги.
— Привет. Ты в общагу? — спрашивает его Вадик.
— Ага. Только жрать хочу. Щаз пирожок возьму и поеду. Вас захватить?
— Были бы очень признательны, — соглашается Слава. — Пойдем, я тоже пирожков хочу.
От радости, что не придется ждать автобус, Вадик скупает полвитрины хлебобулочных изделий, и все трое отправляются в путь.
— Какая все-таки потрясающая машина «копейка», — расхваливает свою любимицу Артем, жуя пирожок с картошкой. — Вот умели ж в советские времена машины делать! Не понимаю я всех этих иномарок. Вечно ломаются, вечно деталей на них не найти, жрут бензин, как кони... Я вот вчера свою красотку на двадцать рублей заправил, так до сих пор на ходу. Уже два раза до Театралки и обратно съездили...
— Артем, — настороженно перебивает его хвалебную песнь Слава, — давай на заправку, а? Если денег нет, мы оплатим. Но давай все-таки не рисковать?
— Да не ссы, — машет пирожком Артем. — Моей малышке много не надо. До общаги доедем — там заправимся.
— Это тринадцать километров только по прямой! — не сдается Слава.
— И чё? Не ссы, тебе говорю. Нормас все будет. Вот видишь, едем же!
И тут калымага издает совсем уж натужное кряхтение и останавливается посреди Измайловского моста.
— Бля. Сглазил, — не придумывает лучшей версии Артем.
— Вот мы и приехали, — весело констатирует Вадик.
— И что теперь делать? — спрашивает Слава.
— Ща, погодь. Милому позвоню. Надеюсь, он еще не далеко уехал. Он в консу за канистрами заезжал.
— Какими канистрами? — спрашивает Слава.
— У нас в классе есть канистры со спиртом, — отвечает за Артема Вадик. — Если нужен спирт, можешь заяву оставить, тебе привезут. Но это секрет фирмы.
— Болтаешь много, — тормозит Вадика Артем, слушая гудки в своем кнопочном черно-белом телефоне. — Так, тишину в студию. Алло, Милый, у нас тут ЧП…
Оттащив машину с моста на обочину и поржав над превратностями судьбы, потерпевшие встречают свое спасение в виде мотоциклиста Милоша. Будучи сербом, Милош вынужден всю свою жизнь в России терпеть издевательства над собственным именем, впрочем, его это обстоятельство, кажется, не особо задевает. Выгнав всех из машины и сложив переднее пассажирское сиденье, он лихо закидывает в «копейку» контрабас, сажает на его место Артема, и они с ревом уносятся в ночь, оставив Славу с Вадиком охранять имущество. В итоге Вадику приходится сесть на водительское место, а Слава утрамбовывается на оставшейся части заднего сиденья, поскольку все остальное место теперь занимает туша «короля оркестра».
— И сколько их еще ждать? — задает философский вопрос Слава спустя полчаса.
— Да фиг их знает, — четко и ясно отвечает Вадик.
— У тебя номер Артема есть?
— Есть.
— Так позвони.
Вадик набирает Артема.
— Не берет трубку, — сообщает он.
— А номер Милоша? — спрашивает Слава.
— У меня нет, — отвечает Вадик.
— Ну так достань. Наверняка у кого-нибудь из контрабасистов есть. Я вашу братию по явкам и паролям не знаю.
Вадик звонит какому-то Олегу, потом какому-то Сереже, потом Игорю. В итоге с четвертой попытки он получает номер Милоша и тоже не дозванивается.
— Может, что случилось? — начинает тревожиться Слава.
— Ой, да что с ними случится? Эти двое и не в такие передряги влипали, — отмахивается Вадик.
— Допустим. Но влипли-то теперь мы, — не сдается Слава. — Может, заберем контрабас, оставим записку и своим ходом доберемся до общаги? Тут Техноложка, в принципе, недалеко. А развалюху эту, да еще и без бензина, никто не угонит. Или эвакуатор вызовем. И будем дальше пытаться дозвониться...
— Да что ты так переживаешь? — не понимает душевных терзаний Славы Вадик. — Вернутся они, никуда не денутся. Может, встретили кого или застряли где...
— Но трубку-то взять можно?! — настаивает Слава.
— Так, хватит. Хочешь — иди на метро. Я остаюсь, — ультимативно заявляет Вадик.
— Нет. Я тебя одного тут не оставлю, — не соглашается Слава.
— Тогда иди в магазин и купи чего-нибудь выпить, если продадут.
— Блин, десять минут осталось, — смотрит на часы Слава. — Ладно, попытаюсь успеть.
В отличие от зачетки, паспорт у Славы в этот раз с собой, а в совокупности с быстрым бегом это приносит свои плоды в виде двух бутылок не самого плохого игристого.
— Ой, — уже забираясь обратно в машину, задумывается Слава. — Мы ж, получается, сейчас градус будем понижать.
— Ну, водки было не так уж много. Авось не проблюемся. Открывай.
Славе с природной нелюбовью к громким звукам никогда не удавалось эффектно открывать шампанское. В этот раз пробка тоже издает только длинное тихое шипение.
— Прям «4:33», исполненное на бутылке шампанского, — иронизирует Вадик.
— Это не шампанское, а игристое вино. Шампанское производится в провинции Шампань... — начинает пояснять Слава.
— Окно открой, — перебивает Вадик.
— Курить? — спрашивает Слава.
— Душно.
— Да вообще-то прохладно, — ежится Слава.
— Ты душнишь, — завершает не особо удачную шутку Вадик. — Перестань душнить и давай тост.
— Ну, не знаю... Давай за случайности, — предлагает Слава и отпивает глоток из горла.
— Поддерживаю, — соглашается Вадик, принимая бутылку. — Пирожок будешь?
— Буду.
— А какой у вас самый сложный экзамен? — спрашивает Вадик.
— Оркестровка, — без колебаний отвечает Слава.
— Да, транспонирующие инструменты — это жопа, — соглашается Вадик.
— Да не в транспорте дело, — хмыкает Слава. — Куда тяжелее определять партитуру по развороту. То есть тебе открывают рандомные ноты на рандомной странице, и ты должен сказать, что это за произведение. Хорошо, если композитор выпендривается и всовывает в оркестр хор. Там по тексту все сразу ясно. А порой попадается кусок в какой-нибудь разработке, что даже тему не видишь. И пойди-пойми кто. Мне на первом экзамене Дворжака подсунули. Но я так разволновался, что сказал «Симфония с того света»18.
18
— Че, серьезно? «С того света»? — ржет Вадик. — И че комиссия?
— Че-че? Тоже поржали, но оценку не снизили. А на последнем экзамене по оркестровке мы водку пили.
— Это как?
— Как староста, я пообещал группе в честь последнего испытания принести на экзамен водку. Налил ее в бутылку от «Святого родника» и принес. Сам отстрелялся первым. Нас по алфавиту опять вызывали. Ну и дальше пошло-поехало. Кто из кабинета выходил, проходил обряд освящения. Потом кто-то раздобыл шоколадку. И вот сидим мы толпой в коридоре, бутылочку минералки по кругу передаем, пьем мелкими глоточками да шоколадкой закусываем. Спиртом несет, как в больнице. Идут струнники, смотрят на нас и говорят: «Да вы, композиторы, уже вкрай ахуели». Но это был еще не край. Потом мы пошли в «Сарай» и заполировались Гиннесом. А вот что было дальше, не помнит никто. Кажется, кто-то залез на колени Римскому-Корсакову19 и горланил басом арию Снегурочки. Но это был не я, честное пионерское.
19
— Эх, гитарку бы сейчас, — задумчиво произносит Вадик по окончании второй бутылки.
— Можешь попробовать сыграть на контрабасе, — хихикает Слава.
— Что, сверху на него залезть? — хитро вскидывает бровь Вадик.
— А что? Весьма пикантное зрелище... — протягивает Слава, приближаясь к Вадику, сидящему в пол оборота, чтобы видеть собеседника.
— Вот как? — спрашивает Вадик, целуя Славу.
Слава берет Вадика за руку и перетягивает к себе на колени.
— Холодно тут, — говорит Слава, запуская руки под куртку Вадика.
Разумеется, говорить об интиме в тесном пространстве «копейки», оккупированной контрабасом, да еще и в костюме единорога в пальто, не приходится. Но от нечего делать и невозможности что-либо изменить, да еще и в последний час уходящего года и не до такого можно додуматься. Однако по закону падлости жаркие объятия почти тотчас прерываются стуком извне. Еле открыв запотевшее окно, Вадик восклицает от радости. Злые, но довольные собой, Милош с Артемом уже отвинтили крышку бака и заливают в него бензин.
— Слава Босху, — выдыхает Слава, выбравшись из машины и из-под Вадика. — И где вас носило столько времени?
— Нет времени. Надо ехать, — отрезает Артем, закручивая крышку бензобака. — По дороге расскажу.
Тем временем Милош, уже изъявший из машины свою тяжкую ношу, наскоро прощается со всеми и снова уносится в ночь.
— Короче, — приступает к рассказу Артем, разогнав свою ненаглядную, наверное, до максимальных 50 километров в час. — Едем мы с Милым на заправку, никого не трогаем. И тут навстречу нам гайцы. «Предъявите, блядь, документы, пожалуйста». А у Милого, блядь, права полгода как истекли. Ну и «извольте, блядь, господа, проехаться в отделение». Короче, оформили по полной программе. Двадцать шестого судить будут...
— И чем это грозит? — спрашивает Слава.
— Ну, как? Вероятно, штраф, может, еще и лишение водительских прав на какое-то время. Точнее, права-то и так недействительны. Но восстановить их вот прям щаз вряд ли получится. Хер знает... Короче, гайцы, работающие в новый год, — это гайцы в квадрате.
— Эх, вечно оно так, — вздыхает Слава. — Помоги другу — попади в беду.
— Да не грусти, единорог, — откликается Артем. — Мы же контрабасисты. Оплатим как-нибудь этот штраф. Контрабас контрабаса не бросит.
— Эт точно, — соглашается Слава, глядя на Вадика, во избежание лишних вопросов пересевшего на переднее пассажирское сиденье.
За двадцать минут до полуночи все трое забегают в общагу и отправляются на свои этажи. В коридоре блока Славу уже поджидают девчонки, причем не только свои из трешки, но и какие-то совсем незнакомые, откуда-то узнавшие и о вчерашнем споре, и о поражении Славы, а потому они утаскивают его в свою комнату и, не смотря на все возражения, наскоро превращают единорога в голливудский секс-символ середины XX века. Остается только гадать, где они нашли туфли 43 размера. Такой мгновенной трансформации, пожалуй, не видел еще никто.
— Встречайте! Владислав Монро! — кричит Машка, выпинывая Славу из блока.
И под бой курантов и бурные аплодисменты всего тринадцатого этажа и гостей с четырнадцатого малость обескураженный Слава шатающейся походкой выходит на кухню, мяукая под аккомпанемент Вадика на мотив Аббы:
— Happy new year,
Happy new year,
My dear mister president
Of a world where every neighbor may be gay20...
Конец линии 5.
Перебежав дорогу, они и впрямь сталкиваются с Артемом, вылезающим из своей колымаги.
— Привет. Ты в общагу? — спрашивает его Вадик.
— Ага. Только жрать хочу. Щаз пирожок возьму и поеду. Вас захватить?
— Были бы очень признательны, — соглашается Слава. — Пойдем, я тоже пирожков хочу.
От радости, что не придется ждать автобус, Вадик скупает полвитрины хлебобулочных изделий, и все трое отправляются в путь.
— Какая все-таки потрясающая машина «копейка», — расхваливает свою любимицу Артем, жуя пирожок с картошкой. — Вот умели ж в советские времена машины делать! Не понимаю я всех этих иномарок. Вечно ломаются, вечно деталей на них не найти, жрут бензин, как кони... Я вот вчера свою красотку на двадцать рублей заправил, так до сих пор на ходу. Уже два раза до Театралки и обратно съездили...
— Артем, — настороженно перебивает его хвалебную песнь Слава, — давай на заправку, а? Если денег нет, мы оплатим. Но давай все-таки не рисковать?
— Да не ссы, — машет пирожком Артем. — Моей малышке много не надо. До общаги доедем — там заправимся.
— Это тринадцать километров только по прямой! — не сдается Слава.
— И чё? Не ссы, тебе говорю. Нормас все будет. Вот видишь, едем же!
И тут калымага издает совсем уж натужное кряхтение и останавливается посреди Измайловского моста.
— Бля. Сглазил, — не придумывает лучшей версии Артем.
— Вот мы и приехали, — весело констатирует Вадик.
— И что теперь делать? — спрашивает Слава.
— Ща, погодь. Милому позвоню. Надеюсь, он еще не далеко уехал. Он в консу за канистрами заезжал.
— Какими канистрами? — спрашивает Слава.
— У нас в классе есть канистры со спиртом, — отвечает за Артема Вадик. — Если нужен спирт, можешь заяву оставить, тебе привезут. Но это секрет фирмы.
— Болтаешь много, — тормозит Вадика Артем, слушая гудки в своем кнопочном черно-белом телефоне. — Так, тишину в студию. Алло, Милый, у нас тут ЧП…
Оттащив машину с моста на обочину и поржав над превратностями судьбы, потерпевшие встречают свое спасение в виде мотоциклиста Милоша. Будучи сербом, Милош вынужден всю свою жизнь в России терпеть издевательства над собственным именем, впрочем, его это обстоятельство, кажется, не особо задевает. Выгнав всех из машины и сложив переднее пассажирское сиденье, он лихо закидывает в «копейку» контрабас, сажает на его место Артема, и они с ревом уносятся в ночь, оставив Славу с Вадиком охранять имущество. В итоге Вадику приходится сесть на водительское место, а Слава утрамбовывается на оставшейся части заднего сиденья, поскольку все остальное место теперь занимает туша «короля оркестра».
— И сколько их еще ждать? — задает философский вопрос Слава спустя полчаса.
— Да фиг их знает, — четко и ясно отвечает Вадик.
— У тебя номер Артема есть?
— Есть.
— Так позвони.
Вадик набирает Артема.
— Не берет трубку, — сообщает он.
— А номер Милоша? — спрашивает Слава.
— У меня нет, — отвечает Вадик.
— Ну так достань. Наверняка у кого-нибудь из контрабасистов есть. Я вашу братию по явкам и паролям не знаю.
Вадик звонит какому-то Олегу, потом какому-то Сереже, потом Игорю. В итоге с четвертой попытки он получает номер Милоша и тоже не дозванивается.
— Может, что случилось? — начинает тревожиться Слава.
— Ой, да что с ними случится? Эти двое и не в такие передряги влипали, — отмахивается Вадик.
— Допустим. Но влипли-то теперь мы, — не сдается Слава. — Может, заберем контрабас, оставим записку и своим ходом доберемся до общаги? Тут Техноложка, в принципе, недалеко. А развалюху эту, да еще и без бензина, никто не угонит. Или эвакуатор вызовем. И будем дальше пытаться дозвониться...
— Да что ты так переживаешь? — не понимает душевных терзаний Славы Вадик. — Вернутся они, никуда не денутся. Может, встретили кого или застряли где...
— Но трубку-то взять можно?! — настаивает Слава.
— Так, хватит. Хочешь — иди на метро. Я остаюсь, — ультимативно заявляет Вадик.
— Нет. Я тебя одного тут не оставлю, — не соглашается Слава.
— Тогда иди в магазин и купи чего-нибудь выпить, если продадут.
— Блин, десять минут осталось, — смотрит на часы Слава. — Ладно, попытаюсь успеть.
В отличие от зачетки, паспорт у Славы в этот раз с собой, а в совокупности с быстрым бегом это приносит свои плоды в виде двух бутылок не самого плохого игристого.
— Ой, — уже забираясь обратно в машину, задумывается Слава. — Мы ж, получается, сейчас градус будем понижать.
— Ну, водки было не так уж много. Авось не проблюемся. Открывай.
Славе с природной нелюбовью к громким звукам никогда не удавалось эффектно открывать шампанское. В этот раз пробка тоже издает только длинное тихое шипение.
— Прям «4:33», исполненное на бутылке шампанского, — иронизирует Вадик.
— Это не шампанское, а игристое вино. Шампанское производится в провинции Шампань... — начинает пояснять Слава.
— Окно открой, — перебивает Вадик.
— Курить? — спрашивает Слава.
— Душно.
— Да вообще-то прохладно, — ежится Слава.
— Ты душнишь, — завершает не особо удачную шутку Вадик. — Перестань душнить и давай тост.
— Ну, не знаю... Давай за случайности, — предлагает Слава и отпивает глоток из горла.
— Поддерживаю, — соглашается Вадик, принимая бутылку. — Пирожок будешь?
— Буду.
— А какой у вас самый сложный экзамен? — спрашивает Вадик.
— Оркестровка, — без колебаний отвечает Слава.
— Да, транспонирующие инструменты — это жопа, — соглашается Вадик.
— Да не в транспорте дело, — хмыкает Слава. — Куда тяжелее определять партитуру по развороту. То есть тебе открывают рандомные ноты на рандомной странице, и ты должен сказать, что это за произведение. Хорошо, если композитор выпендривается и всовывает в оркестр хор. Там по тексту все сразу ясно. А порой попадается кусок в какой-нибудь разработке, что даже тему не видишь. И пойди-пойми кто. Мне на первом экзамене Дворжака подсунули. Но я так разволновался, что сказал «Симфония с того света»18.
18
В оригинале 9-я симфония Антонина Дворжака имеет подзаголовок «Из Нового Света»
— Че, серьезно? «С того света»? — ржет Вадик. — И че комиссия?
— Че-че? Тоже поржали, но оценку не снизили. А на последнем экзамене по оркестровке мы водку пили.
— Это как?
— Как староста, я пообещал группе в честь последнего испытания принести на экзамен водку. Налил ее в бутылку от «Святого родника» и принес. Сам отстрелялся первым. Нас по алфавиту опять вызывали. Ну и дальше пошло-поехало. Кто из кабинета выходил, проходил обряд освящения. Потом кто-то раздобыл шоколадку. И вот сидим мы толпой в коридоре, бутылочку минералки по кругу передаем, пьем мелкими глоточками да шоколадкой закусываем. Спиртом несет, как в больнице. Идут струнники, смотрят на нас и говорят: «Да вы, композиторы, уже вкрай ахуели». Но это был еще не край. Потом мы пошли в «Сарай» и заполировались Гиннесом. А вот что было дальше, не помнит никто. Кажется, кто-то залез на колени Римскому-Корсакову19 и горланил басом арию Снегурочки. Но это был не я, честное пионерское.
19
Имеется в виду памятник, стоящий у здания консерватории.
— Эх, гитарку бы сейчас, — задумчиво произносит Вадик по окончании второй бутылки.
— Можешь попробовать сыграть на контрабасе, — хихикает Слава.
— Что, сверху на него залезть? — хитро вскидывает бровь Вадик.
— А что? Весьма пикантное зрелище... — протягивает Слава, приближаясь к Вадику, сидящему в пол оборота, чтобы видеть собеседника.
— Вот как? — спрашивает Вадик, целуя Славу.
Слава берет Вадика за руку и перетягивает к себе на колени.
— Холодно тут, — говорит Слава, запуская руки под куртку Вадика.
Разумеется, говорить об интиме в тесном пространстве «копейки», оккупированной контрабасом, да еще и в костюме единорога в пальто, не приходится. Но от нечего делать и невозможности что-либо изменить, да еще и в последний час уходящего года и не до такого можно додуматься. Однако по закону падлости жаркие объятия почти тотчас прерываются стуком извне. Еле открыв запотевшее окно, Вадик восклицает от радости. Злые, но довольные собой, Милош с Артемом уже отвинтили крышку бака и заливают в него бензин.
— Слава Босху, — выдыхает Слава, выбравшись из машины и из-под Вадика. — И где вас носило столько времени?
— Нет времени. Надо ехать, — отрезает Артем, закручивая крышку бензобака. — По дороге расскажу.
Тем временем Милош, уже изъявший из машины свою тяжкую ношу, наскоро прощается со всеми и снова уносится в ночь.
— Короче, — приступает к рассказу Артем, разогнав свою ненаглядную, наверное, до максимальных 50 километров в час. — Едем мы с Милым на заправку, никого не трогаем. И тут навстречу нам гайцы. «Предъявите, блядь, документы, пожалуйста». А у Милого, блядь, права полгода как истекли. Ну и «извольте, блядь, господа, проехаться в отделение». Короче, оформили по полной программе. Двадцать шестого судить будут...
— И чем это грозит? — спрашивает Слава.
— Ну, как? Вероятно, штраф, может, еще и лишение водительских прав на какое-то время. Точнее, права-то и так недействительны. Но восстановить их вот прям щаз вряд ли получится. Хер знает... Короче, гайцы, работающие в новый год, — это гайцы в квадрате.
— Эх, вечно оно так, — вздыхает Слава. — Помоги другу — попади в беду.
— Да не грусти, единорог, — откликается Артем. — Мы же контрабасисты. Оплатим как-нибудь этот штраф. Контрабас контрабаса не бросит.
— Эт точно, — соглашается Слава, глядя на Вадика, во избежание лишних вопросов пересевшего на переднее пассажирское сиденье.
За двадцать минут до полуночи все трое забегают в общагу и отправляются на свои этажи. В коридоре блока Славу уже поджидают девчонки, причем не только свои из трешки, но и какие-то совсем незнакомые, откуда-то узнавшие и о вчерашнем споре, и о поражении Славы, а потому они утаскивают его в свою комнату и, не смотря на все возражения, наскоро превращают единорога в голливудский секс-символ середины XX века. Остается только гадать, где они нашли туфли 43 размера. Такой мгновенной трансформации, пожалуй, не видел еще никто.
— Встречайте! Владислав Монро! — кричит Машка, выпинывая Славу из блока.
И под бой курантов и бурные аплодисменты всего тринадцатого этажа и гостей с четырнадцатого малость обескураженный Слава шатающейся походкой выходит на кухню, мяукая под аккомпанемент Вадика на мотив Аббы:
— Happy new year,
Happy new year,
My dear mister president
Of a world where every neighbor may be gay20...
С новым годом, c новым годом, мой дорогой президент мира, где любой сосед может быть геем (англ.).
Конец линии 5.
Глава 7е. Неизгладимый след в истории
— Не, не верю я ему. Лучше дождемся «двойку».
Надеясь на закон падлости, они закуривают по сигарете, но автобус не приходит. Вадик мрачно провожает взглядом отъезжающую возможность побыстрее вернуться в общагу в виде артемовской «копейки». Но, хорошенько промокнув и замерзнув, друзьям все-таки удается прикурить свой транспорт со второй попытки. В автобусе Слава несколько раз пытается заснуть, но Вадик, активно тренирующий навыки коммуникации в соцсетях, постоянно мешает, то зачитывая какую-нибудь глупость, то показывая не менее глупые картинки. Предстоящее перевоплощение в Мерлин Монро ни разу не радует, и настроение делается совсем поганым.
— Ну что, идем за бухлом и краской для волос? — воодушевленно спрашивает Вадик, когда они выходят из автобуса.
— Отвали, моя черешня, — бухтит Слава.
— Так, спор — дело святое, — настаивает на своем Вадик.
— Хочешь Мерлин — сам и красься, — огрызается Слава.
— Нет уж, — решительно возражает Вадик, увлекая Славу в «Семерочку».
Призвав на помощь дамсовет и счастливого по поводу выигранного спора Пашку, Вадик организует салон красоты в Славиной комнате. Обезумевший от количества хомо сапиенсов на квадратный метр кот путается у всех под ногами, вероятно, пытаясь спасти своего человека или хотя бы понять, кто его человек. Подогреваемая алкоголем пытка длится около часа, за который Слава успевает окончательно обрести просветление и отказаться от любых попыток хоть как-то повлиять на происходящее. В половину двенадцатого в блоке материализуются этномузыковеды с народниками, аккордеоном, балалайками, медведем в костюме человека, точнее, наоборот, и барышнями, одетыми по последнему писку древнеславянской моды. Завидев такую красоту, они почему-то решают непременно взять ее в свою компанию. Уже перестав чему-либо сопротивляться или удивляться, Слава идет вместе с ними в сопровождении Вадика, поддерживающего эту шаткую конструкцию в вертикальном положении. Таким вот ансамблем они дефилируют по четырнадцатому этажу, а на пятнадцатом их ждет рояль «Красный Октябрь».
Надо сказать, что рояль этот за свою долгую жизнь успел перекочевать по множеству мест, никому уже, кроме него самого, неизвестных. Несколько лет назад, будучи уволенным из какой-то музыкальной школы за профнепригодность, рояль был подарен некому пианисту-аспиранту, проживавшему на означенном выше пятнадцатом этаже. Каким образом этот самый аспирант умудрился впихнуть рояль в свою однушку, науке неизвестно. И культуре тоже. Однако научный факт и культурный феномен: он это сделал, вероятно, заблаговременно избавившись от шкафа и прочей ненужной пианистам мебели. Вещи он хранил под роялем, а спал на рояле, а может, наоборот, но в один прекрасный летний день пианист закончил аспирантуру и, получив в подарок еще какой-то инструмент, уехал на съемную квартиру. Следующий же аспирант, заселившийся в комнату рояля, не оценил гениальности дизайнерского решения своего предшественника и выставил рояль в коридор. Как он это сделал, культуре и науке также неизвестно. Открытый всем ветрам в головах у обитателей общежития, рояль ревел каждую ночь под пальцами пьяных духовиков и прочих человекообразных, не имеющих к профессии пианиста никакого отношения. Арфистки, контрабасисты и иные тяжеловесы неуклонно спотыкались об него, пытаясь протащить или провезти мимо свои инструменты. И даже бабульки-пионервожатые, каждую ночь отдиравшие от клавиш бедного рояля пьяных духовиков, молились, чтобы кто-нибудь что-нибудь сделал с треклятым инструментом.
И вот, напрочь изнасилованный и уставший от жизни после смерти и смерти после жизни рояль дождался своего последнего часа. Веселая пьяная толпа, состоящая из народников, этников, вокалистов и прочей неведанной фауны, вкатывает несчастное создание фабрики «Красный Октябрь» в грузовой лифт и выпирает его на центральный балкон злополучного шестнадцатого этажа. На ту беду примерно в 50 метрах под балконом расположена стоянка для неведомо чьих автомобилей, поскольку среди студентов машин почти ни у кого нет, поэтому стоянка оказывается совершенно пустой, если не считать крохотного Ниссана, скромно пристроившегося где-то в углу. Ничтоже сумняшеся, музыканты рассчитывают... (а здесь надо отдать должное нашему музыкальному образованию, потому что такие предметы как физика и математика студентами консерваторий забываются напрочь еще за предшествующие четыре года музыкального колледжа)... рассчитывают, что сейчас они бросят рояль, и он полетит перпендикулярно вниз. Ну, взяли, подняли и... бросили! И вот, под бой курантов и первые вспышки салютов рояль вылетает с балкона шестнадцатого этажа музыкального общежития, гордо расправив свое единственное крыло, но... цепляется ногой за балкон пятнадцатого этажа и начинает лететь кубарем, выписывая такие винты и вращения, что позавидовали бы даже обладатели олимпийского золота по прыжкам в воду. Счастливые обитатели общаги, кто уже успел узнать о надвигающемся главном событии уходящего года, года наступающего, и многих, и многих последующих лет в жизни консерватории, пораскрывав рты, прилипают носами к стеклам окон и свешиваются с боковых балконов. Время замирает. Но законы физики все-таки побеждают силу эфемерного искусства, и рояль, как нож в масло, плавно входит в скромно пристроившийся где-то в углу Ниссан под углом 90 градусов.
И когда последний аккорд старого рояля, заглушивший все салюты новогодней ночи, смолкает, на балконах и в коридорах не остается никого. Лампочки все так же тускло мерцают, освещая уныло-однообразные коридоры, выкрашенные веселенькой желтой краской, в щелях рассохшихся окон завывает ветер, тихо падают капли воды из протекающих кранов на кухнях. По коридору шестнадцатого этажа катится бутылка из-под коньяка в красной помаде Ярослава.
Конец линии 6.
Надеясь на закон падлости, они закуривают по сигарете, но автобус не приходит. Вадик мрачно провожает взглядом отъезжающую возможность побыстрее вернуться в общагу в виде артемовской «копейки». Но, хорошенько промокнув и замерзнув, друзьям все-таки удается прикурить свой транспорт со второй попытки. В автобусе Слава несколько раз пытается заснуть, но Вадик, активно тренирующий навыки коммуникации в соцсетях, постоянно мешает, то зачитывая какую-нибудь глупость, то показывая не менее глупые картинки. Предстоящее перевоплощение в Мерлин Монро ни разу не радует, и настроение делается совсем поганым.
— Ну что, идем за бухлом и краской для волос? — воодушевленно спрашивает Вадик, когда они выходят из автобуса.
— Отвали, моя черешня, — бухтит Слава.
— Так, спор — дело святое, — настаивает на своем Вадик.
— Хочешь Мерлин — сам и красься, — огрызается Слава.
— Нет уж, — решительно возражает Вадик, увлекая Славу в «Семерочку».
Призвав на помощь дамсовет и счастливого по поводу выигранного спора Пашку, Вадик организует салон красоты в Славиной комнате. Обезумевший от количества хомо сапиенсов на квадратный метр кот путается у всех под ногами, вероятно, пытаясь спасти своего человека или хотя бы понять, кто его человек. Подогреваемая алкоголем пытка длится около часа, за который Слава успевает окончательно обрести просветление и отказаться от любых попыток хоть как-то повлиять на происходящее. В половину двенадцатого в блоке материализуются этномузыковеды с народниками, аккордеоном, балалайками, медведем в костюме человека, точнее, наоборот, и барышнями, одетыми по последнему писку древнеславянской моды. Завидев такую красоту, они почему-то решают непременно взять ее в свою компанию. Уже перестав чему-либо сопротивляться или удивляться, Слава идет вместе с ними в сопровождении Вадика, поддерживающего эту шаткую конструкцию в вертикальном положении. Таким вот ансамблем они дефилируют по четырнадцатому этажу, а на пятнадцатом их ждет рояль «Красный Октябрь».
Надо сказать, что рояль этот за свою долгую жизнь успел перекочевать по множеству мест, никому уже, кроме него самого, неизвестных. Несколько лет назад, будучи уволенным из какой-то музыкальной школы за профнепригодность, рояль был подарен некому пианисту-аспиранту, проживавшему на означенном выше пятнадцатом этаже. Каким образом этот самый аспирант умудрился впихнуть рояль в свою однушку, науке неизвестно. И культуре тоже. Однако научный факт и культурный феномен: он это сделал, вероятно, заблаговременно избавившись от шкафа и прочей ненужной пианистам мебели. Вещи он хранил под роялем, а спал на рояле, а может, наоборот, но в один прекрасный летний день пианист закончил аспирантуру и, получив в подарок еще какой-то инструмент, уехал на съемную квартиру. Следующий же аспирант, заселившийся в комнату рояля, не оценил гениальности дизайнерского решения своего предшественника и выставил рояль в коридор. Как он это сделал, культуре и науке также неизвестно. Открытый всем ветрам в головах у обитателей общежития, рояль ревел каждую ночь под пальцами пьяных духовиков и прочих человекообразных, не имеющих к профессии пианиста никакого отношения. Арфистки, контрабасисты и иные тяжеловесы неуклонно спотыкались об него, пытаясь протащить или провезти мимо свои инструменты. И даже бабульки-пионервожатые, каждую ночь отдиравшие от клавиш бедного рояля пьяных духовиков, молились, чтобы кто-нибудь что-нибудь сделал с треклятым инструментом.
И вот, напрочь изнасилованный и уставший от жизни после смерти и смерти после жизни рояль дождался своего последнего часа. Веселая пьяная толпа, состоящая из народников, этников, вокалистов и прочей неведанной фауны, вкатывает несчастное создание фабрики «Красный Октябрь» в грузовой лифт и выпирает его на центральный балкон злополучного шестнадцатого этажа. На ту беду примерно в 50 метрах под балконом расположена стоянка для неведомо чьих автомобилей, поскольку среди студентов машин почти ни у кого нет, поэтому стоянка оказывается совершенно пустой, если не считать крохотного Ниссана, скромно пристроившегося где-то в углу. Ничтоже сумняшеся, музыканты рассчитывают... (а здесь надо отдать должное нашему музыкальному образованию, потому что такие предметы как физика и математика студентами консерваторий забываются напрочь еще за предшествующие четыре года музыкального колледжа)... рассчитывают, что сейчас они бросят рояль, и он полетит перпендикулярно вниз. Ну, взяли, подняли и... бросили! И вот, под бой курантов и первые вспышки салютов рояль вылетает с балкона шестнадцатого этажа музыкального общежития, гордо расправив свое единственное крыло, но... цепляется ногой за балкон пятнадцатого этажа и начинает лететь кубарем, выписывая такие винты и вращения, что позавидовали бы даже обладатели олимпийского золота по прыжкам в воду. Счастливые обитатели общаги, кто уже успел узнать о надвигающемся главном событии уходящего года, года наступающего, и многих, и многих последующих лет в жизни консерватории, пораскрывав рты, прилипают носами к стеклам окон и свешиваются с боковых балконов. Время замирает. Но законы физики все-таки побеждают силу эфемерного искусства, и рояль, как нож в масло, плавно входит в скромно пристроившийся где-то в углу Ниссан под углом 90 градусов.
И когда последний аккорд старого рояля, заглушивший все салюты новогодней ночи, смолкает, на балконах и в коридорах не остается никого. Лампочки все так же тускло мерцают, освещая уныло-однообразные коридоры, выкрашенные веселенькой желтой краской, в щелях рассохшихся окон завывает ветер, тихо падают капли воды из протекающих кранов на кухнях. По коридору шестнадцатого этажа катится бутылка из-под коньяка в красной помаде Ярослава.
Конец линии 6.
Глава 7f. Память
Петрозаводск встречает усталого и заспанного единорога настоящей зимней сказкой. Или ее симулякром. Снег, лампочки, елки, и все, как полагается. Однако настроение Славы по-прежнему напоминает утопающий в снегогрязи декабрьский Петербург. Посмотрев на часы, Слава решает, не мудрствуя лукаво, взять такси, благо, ехать недалеко, и взлетевшие цены Петрозаводска не идут ни в какое сравнение с культурностоличными. Уже около дома Слава соображает, что новый год принято встречать с игристым и выходит у круглосуточного магазина. За прилавком стоит все та же тетя Маша, что и семь лет назад, почти не изменившаяся. «Как, наверное, грустно работать в новогоднюю ночь», — печально думает Слава. Но кто, как не тетя Маша продаст всем непредусмотрительным жителям окрестностей водку в главную ночь года?
— Добрый вечер, — здоровается Слава. — Есть игристое?
Тетя Маша вздрагивает и вглядывается в знакомое лицо.
— Женя? — растерянно спрашивает она.
Слава поправляет ее.
— Ой, здравствуй, Слава! Не узнала с новым цветом волос. Вы теперь прям как две капли воды... Как твои дела? Как учеба? — тараторит тетя Маша. — Какой у тебя новогодний костюм классный! Я внучке такой же купила, только дракона. Ой, ей та-а-ак нравится! Они такие теплые, мягкие!
— Теть Маш, я попозже постараюсь заскочить, тороплюсь. Надо к друзьям ехать. Можно мне игристого... в смысле, шампанского? — перебивает ее Слава.
— Ой-ой-ой, — спохватывается тетя Маша. — Сейчас-сейчас… Ой, уже половина двенадцатого! Сейчас-сейчас. Вот. Держи. Французское. За 450 подойдет?
Слава роется в кармане куртки и извлекает три мятые сотни.
— Если хочешь, можно по карте, — сообщает тетя Маша.
— Правда? — удивляется Слава.
— Конечно, — довольно улыбается продавщица, протягивая терминал. — Я уже давно на электронную валюту перешла. У нас уже почти везде по карте все можно купить. Что думаешь, мы деревня какая?
— Здорово, — улыбается Слава, прикладывая карту. — С наступающим.
Поднявшись на четвертый этаж видавшей виды хрущевки, Слава, затаив дыхание, отпирает дверь, зажигает свет и входит в пространство остановившегося времени. Тихо ступая, Слава заглядывает в каждую комнату, проверяя, ничего ли не изменилось. Нет. Все на своих местах. И все тихо. Молчат напольные часы, молчит большой телевизор с плоским экраном, молчит холодильник и старый компьютер. Слава открывает перекрытую воду, включает кран на кухне, слегка мочит тряпку и проходит по квартире, стирая пыль с картин и фотографий. Сняв со стены портрет белокурой девушки, рисующей саму себя, Слава подходит к зеркалу и долго изучает практически идентичные лица.
— Прости меня. Прости... — шепчет Слава вслух и, внезапно разразившись рыданиями, садится на пол, прижимая к себе портрет. Звонящий телефон заставляет Славу успокоиться и выйти в коридор.
— Привет, мам, — отвечает на звонок Слава. — И тебя с наступающим. Да, в общаге. Все хорошо. Просто пытаемся скрыться от всего этого дурдома в тесной тихой компании. Хорошо. И вас с наступающим. Поцелуй от меня папу. Пока.
Слава возвращается в комнату, роется в шкафу и находит белое платье, почти такое же, как на знаменитых фотографиях Монро. Слава надевает его, находит косметичку, и, изучив ее содержимое, подводит глаза и красит губы, потом находит в тумбочке старую плойку и завивает волосы.
— Что ж, дорогая, пойдем встречать новый год, — приглашает Слава портрет.
Поставив его на стол, Слава достает из кухонного шкафа свечу, зажигает ее и ставит рядом с портретом, потом снова выключает весь свет в квартире и, почти беззвучно открыв игристое, разливает его по запылившимся бокалам.
— С новым годом, сестричка, — говорит Слава, чокаясь с бокалом на столе под приглушенный гром салютов за окном.
Утерев набежавшую слезу и натянув улыбку, излучающую счастье, Слава делает селфи со вспышкой и, поскольку номера Пашки в телефоне не обнаруживается, отправляет фотографию Вадику в качестве доказательства, что проигранный спор честно отработан. Посидев с портретом еще несколько минут, Слава тушит свечу, моет свой бокал и ставит его обратно в шкаф, перекрывает воду, упаковывает костюм единорога в рюкзак, снова надевает берцы и пальто и выходит на улицу.
Через полчаса гуляний по гремящему городу под разноцветным небом Слава подходит к другому дому, почти такой же хрущевке, заходит в подъезд и звонит в дверь на первом этаже. Ее открывает сухопарый мужчина лет семидесяти с трубкой в зубах. Он несколько секунд удивленно моргает подслеповатыми глазами.
— Это я, пап. Влада.
Конец линии 7.
— Добрый вечер, — здоровается Слава. — Есть игристое?
Тетя Маша вздрагивает и вглядывается в знакомое лицо.
— Женя? — растерянно спрашивает она.
Слава поправляет ее.
— Ой, здравствуй, Слава! Не узнала с новым цветом волос. Вы теперь прям как две капли воды... Как твои дела? Как учеба? — тараторит тетя Маша. — Какой у тебя новогодний костюм классный! Я внучке такой же купила, только дракона. Ой, ей та-а-ак нравится! Они такие теплые, мягкие!
— Теть Маш, я попозже постараюсь заскочить, тороплюсь. Надо к друзьям ехать. Можно мне игристого... в смысле, шампанского? — перебивает ее Слава.
— Ой-ой-ой, — спохватывается тетя Маша. — Сейчас-сейчас… Ой, уже половина двенадцатого! Сейчас-сейчас. Вот. Держи. Французское. За 450 подойдет?
Слава роется в кармане куртки и извлекает три мятые сотни.
— Если хочешь, можно по карте, — сообщает тетя Маша.
— Правда? — удивляется Слава.
— Конечно, — довольно улыбается продавщица, протягивая терминал. — Я уже давно на электронную валюту перешла. У нас уже почти везде по карте все можно купить. Что думаешь, мы деревня какая?
— Здорово, — улыбается Слава, прикладывая карту. — С наступающим.
Поднявшись на четвертый этаж видавшей виды хрущевки, Слава, затаив дыхание, отпирает дверь, зажигает свет и входит в пространство остановившегося времени. Тихо ступая, Слава заглядывает в каждую комнату, проверяя, ничего ли не изменилось. Нет. Все на своих местах. И все тихо. Молчат напольные часы, молчит большой телевизор с плоским экраном, молчит холодильник и старый компьютер. Слава открывает перекрытую воду, включает кран на кухне, слегка мочит тряпку и проходит по квартире, стирая пыль с картин и фотографий. Сняв со стены портрет белокурой девушки, рисующей саму себя, Слава подходит к зеркалу и долго изучает практически идентичные лица.
— Прости меня. Прости... — шепчет Слава вслух и, внезапно разразившись рыданиями, садится на пол, прижимая к себе портрет. Звонящий телефон заставляет Славу успокоиться и выйти в коридор.
— Привет, мам, — отвечает на звонок Слава. — И тебя с наступающим. Да, в общаге. Все хорошо. Просто пытаемся скрыться от всего этого дурдома в тесной тихой компании. Хорошо. И вас с наступающим. Поцелуй от меня папу. Пока.
Слава возвращается в комнату, роется в шкафу и находит белое платье, почти такое же, как на знаменитых фотографиях Монро. Слава надевает его, находит косметичку, и, изучив ее содержимое, подводит глаза и красит губы, потом находит в тумбочке старую плойку и завивает волосы.
— Что ж, дорогая, пойдем встречать новый год, — приглашает Слава портрет.
Поставив его на стол, Слава достает из кухонного шкафа свечу, зажигает ее и ставит рядом с портретом, потом снова выключает весь свет в квартире и, почти беззвучно открыв игристое, разливает его по запылившимся бокалам.
— С новым годом, сестричка, — говорит Слава, чокаясь с бокалом на столе под приглушенный гром салютов за окном.
Утерев набежавшую слезу и натянув улыбку, излучающую счастье, Слава делает селфи со вспышкой и, поскольку номера Пашки в телефоне не обнаруживается, отправляет фотографию Вадику в качестве доказательства, что проигранный спор честно отработан. Посидев с портретом еще несколько минут, Слава тушит свечу, моет свой бокал и ставит его обратно в шкаф, перекрывает воду, упаковывает костюм единорога в рюкзак, снова надевает берцы и пальто и выходит на улицу.
Через полчаса гуляний по гремящему городу под разноцветным небом Слава подходит к другому дому, почти такой же хрущевке, заходит в подъезд и звонит в дверь на первом этаже. Ее открывает сухопарый мужчина лет семидесяти с трубкой в зубах. Он несколько секунд удивленно моргает подслеповатыми глазами.
— Это я, пап. Влада.
Конец линии 7.
Глава 7g. Приключение
Купив водку и горячих пирожков, Слава запрыгивает в поезд и располагается слушать Венины истории. Веня — сам по себе ходячая история. Кажется, травить байки он может бесконечно. Большинство из них за семь лет дружбы Слава уже знает наизусть, но все равно не перебивает. Уж больно успокаивающе они действуют: хоть что-то не меняется в этом безумном мире. Иногда Слава даже завидует и немного обижается, если Веня отправляется покорять заброшки и крепости не в его компании, но факт, что сегодня они едут за приключениями вдвоем, Славу очень радует.
— Мне иногда кажется, что студентки надо мной просто издеваются! — иронично жалуется Веня. — Вот на днях спрашиваю на репетиции: «Что будем дальше петь?» И тут Алина кричит на весь хор: «Вениамин Викторович, а давайте „Сосну“?»!
— Что? — не понимает Слава.
— Хор Танеева на стихи Лермонтова. «Сосна». А она мне «давайте сосну»! Естественно, весь хор ржет, как кони, а я в такие моменты вообще не знаю, куда себя деть.
— Ну, и что ты сказал этой «сосне»? — хмыкает Слава.
— Что-что? Строго порекомендовал следить за своей речью, чтобы не ставить себя в глупое положение. Покраснела, скрылась за нотами. Дуреха.
Выйдя из поезда, Слава с Веней заправляются свежим выборгским пивом и отправляются в Монрепо. Добравшись до парка, они, естественно, не идут в платную зону, а забираются на гору, туда, где все тот же Монрепо, только большой и бесплатный. Зачем платить деньги за хождение по вольеру, когда можно пройтись по настоящему лесу?
— А может, на Остров Мертвых? — спрашивает Слава.
— Хм... — задумывается Веня. — На него ближе из платной зоны выходить, да и лед еще не встал. Мне что-то не очень хочется встречать новый год в мокрых штанах.
— Эх, — разочарованно вздыхает Слава.
Надо отдать Вене должное, они все-таки находят заброшенные склады, которые летом напоминают хоббитскую нору, поскольку спрятаны под холмом и практически сливаются с общим ландшафтом. Впрочем, внутри ничего особо интересного не обнаруживается, кроме двух высоченных залов с крошечными туннелями в стене. Слава залезает в один из них, и, долго бредя на корточках, вылезает из туннеля в противоположном зале. Потом они доходят до старого маяка, и он, конечно же, оказывается закрытым, а никаких инструментов для взлома у них в карманах не обнаруживается. Да и вообще, Веня против взлома. Если открыто — можно влезть. Если закрыто и не открывается голыми руками, то ломать замки не стоит.
Становится уже совсем темно, но фонарики они не зажигают, поскольку белизны снега вполне хватает, чтобы видеть тропы, точнее, собственные следы. Сколько бы они не заправлялись, пальцы на руках и ногах начинают предательски замерзать, и приходится вернуться в цивилизацию. По пути в пивную они обнаруживают заброшенный завод. Обойдя со всех сторон, они понимают, что единственным входом остается собачий лаз под забором.
— Слишком узкий, — вздыхает Веня. — Боюсь, я не влезу.
— А давай так, — предлагает Слава. — Я сейчас занырну, и, если там открыто, то позову тебя.
С этими словами он снимает рюкзак и отдает его другу, а сам ложится на спину и проскальзывает на ту сторону. Встав, он быстро оглядывается и обнаруживает две двери. Одна оказывается запертой, а вторая только прикрытой.
— Есть! — почти кричит Слава, вернувшись обратно. — Давай!
— Ты надо мной издеваешься, — бурчит Веня. — Я ведь уже не мальчик под заборами ползать. У меня опора...
— Отъел себе опору, теперь под заборы не пролезает! — ругается Слава.
Проскользнуть так же легко у Вени не получается, но способ по-пластунски вполне срабатывает. Вот оно! То, чего так не хватало Славе. Приключение! Бегая по этажам и перепрыгивая через зияющие дыры в полах, они в конце концов складывают историю завода. Основная деятельность его сводилась к яйцам и муке. Закрывался завод, очевидно, поэтапно. В некоторых кабинетах они нашли документы за 2012 год, в другом крыле на стене обнаружился календарь за 2016 год, а в самом дальнем корпусе сохранились бумаги от 2019 года. Где-то нашлись даже старые дискеты, несколько из которых Слава взял себе на память. Еще на заводе остался какой-то сложный многоэтажный конвейер. В конце концов, они обнаружили даже вполне приличный дермантиновый диван, на котором, как отметил Слава, в случае полного проеба с электричками, можно и поспать.
Осмотрев большую часть помещений, Слава с Веней внезапно осознают, что никто из них не помнит, как вернуться назад. Поэтому еще минут двадцать они носятся в темноте по всем этажам, периодически разделяясь и пытаясь не потерять друг друга в попытке найти выход, а потом попадают во внутренний двор, и собственные следы подсказывают им, что выход где-то рядом. Выбравшись из-под забора и сверившись с расписанием, они понимают, что вернуться в Петербург до нового года уже не судьба. Слава предлагает накупить еды и вернуться на завод. Веня оказывается категорически против и предлагает пойти в бар.
— Ну вот, в Питер мы все-таки попадем, — торжествующе говорит Веня, убирая телефон, когда они оказываются в тепле таверны.
— И как же? — спрашивает Слава.
— На Рускеальском поезде, — отвечает Веня.
— Э-э-э… то есть нам придется ехать два часа на верхних боковушках?
— Нет, — хитро улыбается Веня. — Увидишь.
Взяв с собой недопитую бутылку коньяка из таверны и прикупив еще закусок в круглосуточном магазине, они возвращаются на вокзал и в 23:40 садятся на поезд. Вопреки ожиданиям Славы, это оказывается не спальный, а сидячий вагон, какие раньше назывались «мягкими». Им достается отдельное купе на шесть персон, причем без попутчиков. Стены обиты шелковым штофом и украшены старинными фотографиями в сепии. Ушедшее великолепие дополняют темно-зеленые занавески и абажур с золотой бахромой. На столе бумажная карта Рускеалы, копия дореволюционной.
— Ну нифигасе! — только и может выдохнуть Слава.
— Добро пожаловать, Мирослав Яковлевич, — кланяется ему Веня.
— Благодарю, Вениамин Викторович. Как нелепо, должно быть, мы нынче выглядим, — осматривая друга, говорит Слава, когда они, сняв верхнюю одежду, уютно располагаются в тепле вагона. — Мокрые, пыльные, вонючие и пьяные в этом шикарном купе.
— А то, — весело смеется Веня, отпивая из горла. — А знаешь, как митьки ходят в непьющие гости?
— Рассказывай, — соглашается Слава, хотя байку про веселых бородачей в тельняшках из ленинградского андеграунда он уже от Вени слышал не раз.
— Короче, первым делом митек покупает в ларьке бутылку водки и прячет ее под бушлатом. Потом заходит в парадную, выпивает бутылку залпом и ставит на почтовые ящики. После этого уже можно подниматься на этаж и звонить в дверь. Поскольку митек только что выпил, то перегара у него еще нет, и хозяйка никак не может догадаться, что он уже того, — Веня хлопает себя тыльной стороной ладони по горлу. — Так вот, митек рассыпается в комплиментах хозяйке, раздевается, проходит к столу. Ему наливают чай, он мило общается со всеми собравшимися, и все нахваливает хозяйкин чай. Но от тепла и горячего чая его быстро развозит, и не успевает пройти и получаса, как митек уже спит под столом, и никто его разбудить не может. И все только и удивляются: «Как так? Ведь только чай пили, а митек все равно напился...»
— Так, митек, полночь почти, — констатирует Слава. — Желания загадывать будем?
— Я не знаю, что загадать, — мрачнеет Веня. — Давай просто, чтобы не стало еще хуже.
— А давай, чтобы стало лучше, — предлагает Слава.
— Ну что, Мирослав, тогда за мир? — предлагает тост Веня.
— За мир, — поддерживает Слава.
Конец линии 8.
— Мне иногда кажется, что студентки надо мной просто издеваются! — иронично жалуется Веня. — Вот на днях спрашиваю на репетиции: «Что будем дальше петь?» И тут Алина кричит на весь хор: «Вениамин Викторович, а давайте „Сосну“?»!
— Что? — не понимает Слава.
— Хор Танеева на стихи Лермонтова. «Сосна». А она мне «давайте сосну»! Естественно, весь хор ржет, как кони, а я в такие моменты вообще не знаю, куда себя деть.
— Ну, и что ты сказал этой «сосне»? — хмыкает Слава.
— Что-что? Строго порекомендовал следить за своей речью, чтобы не ставить себя в глупое положение. Покраснела, скрылась за нотами. Дуреха.
Выйдя из поезда, Слава с Веней заправляются свежим выборгским пивом и отправляются в Монрепо. Добравшись до парка, они, естественно, не идут в платную зону, а забираются на гору, туда, где все тот же Монрепо, только большой и бесплатный. Зачем платить деньги за хождение по вольеру, когда можно пройтись по настоящему лесу?
— А может, на Остров Мертвых? — спрашивает Слава.
— Хм... — задумывается Веня. — На него ближе из платной зоны выходить, да и лед еще не встал. Мне что-то не очень хочется встречать новый год в мокрых штанах.
— Эх, — разочарованно вздыхает Слава.
Надо отдать Вене должное, они все-таки находят заброшенные склады, которые летом напоминают хоббитскую нору, поскольку спрятаны под холмом и практически сливаются с общим ландшафтом. Впрочем, внутри ничего особо интересного не обнаруживается, кроме двух высоченных залов с крошечными туннелями в стене. Слава залезает в один из них, и, долго бредя на корточках, вылезает из туннеля в противоположном зале. Потом они доходят до старого маяка, и он, конечно же, оказывается закрытым, а никаких инструментов для взлома у них в карманах не обнаруживается. Да и вообще, Веня против взлома. Если открыто — можно влезть. Если закрыто и не открывается голыми руками, то ломать замки не стоит.
Становится уже совсем темно, но фонарики они не зажигают, поскольку белизны снега вполне хватает, чтобы видеть тропы, точнее, собственные следы. Сколько бы они не заправлялись, пальцы на руках и ногах начинают предательски замерзать, и приходится вернуться в цивилизацию. По пути в пивную они обнаруживают заброшенный завод. Обойдя со всех сторон, они понимают, что единственным входом остается собачий лаз под забором.
— Слишком узкий, — вздыхает Веня. — Боюсь, я не влезу.
— А давай так, — предлагает Слава. — Я сейчас занырну, и, если там открыто, то позову тебя.
С этими словами он снимает рюкзак и отдает его другу, а сам ложится на спину и проскальзывает на ту сторону. Встав, он быстро оглядывается и обнаруживает две двери. Одна оказывается запертой, а вторая только прикрытой.
— Есть! — почти кричит Слава, вернувшись обратно. — Давай!
— Ты надо мной издеваешься, — бурчит Веня. — Я ведь уже не мальчик под заборами ползать. У меня опора...
— Отъел себе опору, теперь под заборы не пролезает! — ругается Слава.
Проскользнуть так же легко у Вени не получается, но способ по-пластунски вполне срабатывает. Вот оно! То, чего так не хватало Славе. Приключение! Бегая по этажам и перепрыгивая через зияющие дыры в полах, они в конце концов складывают историю завода. Основная деятельность его сводилась к яйцам и муке. Закрывался завод, очевидно, поэтапно. В некоторых кабинетах они нашли документы за 2012 год, в другом крыле на стене обнаружился календарь за 2016 год, а в самом дальнем корпусе сохранились бумаги от 2019 года. Где-то нашлись даже старые дискеты, несколько из которых Слава взял себе на память. Еще на заводе остался какой-то сложный многоэтажный конвейер. В конце концов, они обнаружили даже вполне приличный дермантиновый диван, на котором, как отметил Слава, в случае полного проеба с электричками, можно и поспать.
Осмотрев большую часть помещений, Слава с Веней внезапно осознают, что никто из них не помнит, как вернуться назад. Поэтому еще минут двадцать они носятся в темноте по всем этажам, периодически разделяясь и пытаясь не потерять друг друга в попытке найти выход, а потом попадают во внутренний двор, и собственные следы подсказывают им, что выход где-то рядом. Выбравшись из-под забора и сверившись с расписанием, они понимают, что вернуться в Петербург до нового года уже не судьба. Слава предлагает накупить еды и вернуться на завод. Веня оказывается категорически против и предлагает пойти в бар.
— Ну вот, в Питер мы все-таки попадем, — торжествующе говорит Веня, убирая телефон, когда они оказываются в тепле таверны.
— И как же? — спрашивает Слава.
— На Рускеальском поезде, — отвечает Веня.
— Э-э-э… то есть нам придется ехать два часа на верхних боковушках?
— Нет, — хитро улыбается Веня. — Увидишь.
Взяв с собой недопитую бутылку коньяка из таверны и прикупив еще закусок в круглосуточном магазине, они возвращаются на вокзал и в 23:40 садятся на поезд. Вопреки ожиданиям Славы, это оказывается не спальный, а сидячий вагон, какие раньше назывались «мягкими». Им достается отдельное купе на шесть персон, причем без попутчиков. Стены обиты шелковым штофом и украшены старинными фотографиями в сепии. Ушедшее великолепие дополняют темно-зеленые занавески и абажур с золотой бахромой. На столе бумажная карта Рускеалы, копия дореволюционной.
— Ну нифигасе! — только и может выдохнуть Слава.
— Добро пожаловать, Мирослав Яковлевич, — кланяется ему Веня.
— Благодарю, Вениамин Викторович. Как нелепо, должно быть, мы нынче выглядим, — осматривая друга, говорит Слава, когда они, сняв верхнюю одежду, уютно располагаются в тепле вагона. — Мокрые, пыльные, вонючие и пьяные в этом шикарном купе.
— А то, — весело смеется Веня, отпивая из горла. — А знаешь, как митьки ходят в непьющие гости?
— Рассказывай, — соглашается Слава, хотя байку про веселых бородачей в тельняшках из ленинградского андеграунда он уже от Вени слышал не раз.
— Короче, первым делом митек покупает в ларьке бутылку водки и прячет ее под бушлатом. Потом заходит в парадную, выпивает бутылку залпом и ставит на почтовые ящики. После этого уже можно подниматься на этаж и звонить в дверь. Поскольку митек только что выпил, то перегара у него еще нет, и хозяйка никак не может догадаться, что он уже того, — Веня хлопает себя тыльной стороной ладони по горлу. — Так вот, митек рассыпается в комплиментах хозяйке, раздевается, проходит к столу. Ему наливают чай, он мило общается со всеми собравшимися, и все нахваливает хозяйкин чай. Но от тепла и горячего чая его быстро развозит, и не успевает пройти и получаса, как митек уже спит под столом, и никто его разбудить не может. И все только и удивляются: «Как так? Ведь только чай пили, а митек все равно напился...»
— Так, митек, полночь почти, — констатирует Слава. — Желания загадывать будем?
— Я не знаю, что загадать, — мрачнеет Веня. — Давай просто, чтобы не стало еще хуже.
— А давай, чтобы стало лучше, — предлагает Слава.
— Ну что, Мирослав, тогда за мир? — предлагает тост Веня.
— За мир, — поддерживает Слава.
Конец линии 8.
Глава 7h. Эффект шланга
— Ладно, мой перекур окончен, мне на зачет надо, — решает завершить бессмысленный разговор Слава.
Бывший китаец, видимо, истосковавшийся по общению, остается безнадежно курить в одиночестве, а Слава наконец-то покидает альма матер и идет на автобусную остановку, не снискав никаких приключений. Проспав общагу на пару остановок, Слава не особо расстраивается. На окраине города все-таки идет снег, а не дождеснег, как в центре. Неспешно прогуливаясь, Слава покупает по пути две бутылки конька и кучу полуфабрикатов, чтобы можно было в ближайшие дни вообще не выходить из комнаты, пока все веселье не уляжется. Придя домой, Слава ненароком пугает кота, смотревшего в окно. Он с поросячьим визгом прыгает на пианино, переворачивая стакан со столовыми приборами, потом сигает на полку с посудой и разбивает бокал, видимо, на счастье, после чего врезается головой в дверь, отскакивает и забивается под кровать, откуда раздается тигриное ворчание. Слава кладет в миску корм и ставит ее под кровать. Ворчание сменяется чавканьем. Вырвав из блокнота лист, Слава пишет красным маркером: «Не будить до второго пришествия марсиан», и вешает листок на дверь с внешней стороны, после чего, посмотрев в зеркало на свои уже несколько засаленные волосы, решает все-таки сходить в душ. Нет, лучше взять с собой коньяк и принять ванну. Мало ли, что ждет дальше? Это же Петербург... Пока есть ванна, надо ею пользоваться. Откиснув и окончательно захмелев, Слава возвращается в комнату, запирается на ключ и засыпает сном младенца.
А просыпается Слава отнюдь не от истошного звона будильника, и даже не от салютов за окном, а от громоподобного стука в дверь. Не обнаружив в темноте очков, Слава падает с кровати и, чертыхаясь, ползет открывать. Под ногой раздается неприятный хруст пластмассы и стекла.
— Что, блядь, марсиане прилетели? — кричит Слава, зажигая раздражающий свет и поднимая останки очков. Отвратительный стук продолжается, и дверь приходится открыть.
— Ты че, спишь что ли? — удивляется Вадик, явно уже окосевший от количества употребленных напитков.
— Сплю что ли, — раздраженно отвечает Слава. — Не видишь надпись на двери?
— Какую надпись? — не врубается Вадик.
— Написано русским по белому: «Не будить до второго пришествия марсиан».
— Пойдем к Артему, у него трава есть. Обалденная! — пропустив марсиан мимо ушей, радостно сообщает Вадик.
— По тебе видно. Нет, спасибо. Я не курю.
— Слав, нельзя быть такой букой. Новый год же все-таки. Хватит уже. Пора завязывать с этим вечным трауром. Выходи.
И Вадик бесцеремонно выволакивает Славу в коридор, где уже творится невесть что. Кто-то бегает в купальниках, какие-то народники в древнерусских одеяниях горланят колядочные песни под аккордеон с балалайками, кто-то носится в костюме медведя. Поднявшись по уже малость заблеванной лестнице на четырнадцатый этаж, Вадик запихивает Славу в комнату Артема, где, естественно, дым стоит зеленым коромыслом.
— Я не курю, — повторяет Слава. — Лучше дайте выпить.
— Да че ты ломаешься, как школьница, в самом деле? — хлопает Славу по спине Артем. — Трава классная, веселая.
— У меня в юности был неудачный опыт, и мне бы не хотелось его повторять, — поясняет Слава.
— Такое тоже бывает, — соглашается Артем. — Но проблема, скорее всего, была не в траве как таковой, а в том, что компания была неправильной, или в том, что на душе у тебя было херово.
— Мне и сейчас не лучше, — мрачно отрезает Слава, пытаясь разглядеть присутствующих подслеповатыми глазами через клубы дыма.
Рядом со Славой приземляется кто-то смутно знакомый. Медленно соображая, Слава приходит к выводу, что это вчерашняя Ника. «Ох, только малолеток мне сейчас не хватало», — думает Слава.
— Как дела? — весело спрашивает девушка. — Как зачет?
— Никак. Пересдача одиннадцатого, — отвечает Слава сквозь зубы.
— Ох, мне жаль, — сочувственно гладит Славу по плечу Ника. — Прости, что я вчера так внезапно ворвалась...
— Ты тут ни при чем, — успокаивает ее Слава. — Просто неудачная ночь и неудачный день. Может, завтра все наладится.
— А может, уже сегодня, — улыбается девушка. — Тебе налить чего-нибудь?
— Яду, — саркастически усмехается Слава. — Можно с лимоном.
— Окей, — как ни в чем не бывало, соглашается Ника и исчезает в тумане.
— Эй, ну нельзя же так париться из-за какой-то философии? — обнимает Славу Вадик. — Ты серьезно что ли?
— Да кто тебе сказал, что я из-за философии парюсь?! — взрывается Слава. — Я просто не люблю все эти пьянки-гулянки, они меня за семь лет в вашем дурдоме достали до тошноты! Понимаешь?!
— Не понимаю! — кричит в ответ Вадик. — Сколько тебя знаю, ты вечно сливаешься ото всюду! Неужели нельзя расслабиться и насладиться жизнью?! Через полгода ты выпустишься, и больше не будет всего этого! И ты будешь жалеть о тех праздниках и том безумии, что прошло мимо тебя...
— С чего ты взял, что ты вообще меня знаешь?! — огрызается Слава. — С чего ты взял, что я буду о чем-то жалеть?!
Подоспевшая Ника прекращает ссору, уводя Славу из комнаты на балкон ближайшей кухни. Она вручает стакан чего-то сладко-крепкого и делится сигаретами, поскольку, естественно, спьяну Славе в голову не пришло захватить ничего, кроме телефона, когда загребущие руки Вадика утащили тело, лишившееся органов, в неизвестном направлении.
— Ты как? — спрашивает Ника.
— Хуево, — честно отвечает Слава.
— Расскажешь?
— Нет.
Повисает долгая пауза. Славе очень хочется рассказать правду, но...
— У меня мама умерла в этом году, — внезапно выдает Ника.
— Ох, соболезную, — не придумывает ничего умнее Слава. — Онкология?
— Нет. Ковид. Все произошло очень быстро и внезапно...
Ника замолкает.
— Да, тяжелое время, — соглашается Слава. — Как ты?
— Я пока так и не могу это до конца осознать. Ощущение, что она все еще рядом. Все еще где-то есть... Но... мы так мало общались в последние годы. Я ведь уехала. Созванивались иногда. А однажды папа позвонил и сказал, что мамы больше нет... И, вроде, особо ничего не изменилось. Только ее больше нет. И ей не позвонить. И даже голосовых сообщений не осталось... Мы ими не пользовались. А зря...
— На каком ты курсе? — спрашивает Слава.
— На втором, — отвечает Ника.
— Значит, тебе...
— Двадцать один.
— Мало, конечно, — вздыхает Слава. — Но, там где смерть, не бывает мало или много. Она просто случается.
Они некоторое время молчат. А потом Слава выдает свою очередную проповедь:
— Знаешь, иногда я думаю, что Хемингуэй в чем-то прав. Никто никогда не умирает. Есть что-то, что остается и продолжает жить. Даже если человек не оставил после себя какого-то явного наследия типа художественных произведений, научных открытий или политических деяний. Мысли, простые фразы, которые остаются с нами. Моя сестра вечно ругалась: «майка Босха». По-хорватски «божья матерь» звучит как «майка божья». Так ругалась наша бабушка, которую я почти не помню. А сестра изменила бабушкину фразу, заменив бога на Босха. Теперь это моя фраза. Однажды кто-то подцепит ее, и она продолжит жить своим ходом, а вместе с ней продолжатся мои бабушка и сестра. А от кого взяла фразу бабушка, я уже и не знаю. Но вот так наши мертвые остаются живыми. И неважно, знаем ли мы их имена, помним ли мы их самих. Мы даже представить себе не можем, сколько мертвецов в наших самых повседневных мыслях, в наших самых обычных фразах... Никто никогда не умирает...
— Интересная теория, — соглашается Ника. — Но помогает ли она тебе?
— Может быть. В какой-то мере. Не знаю. Но мне так легче.
— Ты не веришь в бога, в бессмертие души?
— Нет, я ни во что не верю. Кроме себя. У меня есть только я. И только я могу решать, что делать дальше, продолжать ли вообще что-либо делать.
— Надо продолжать, — говорит Ника.
— Я знаю, — соглашается Слава, выпуская дым в небо. — В том пиздеце, что творится вокруг, я не имею права сдаваться.
— Мы не имеем права, — говорит Ника. — Смотри. Небо расчехлилось. Звезды. Зимой в Петербурге ведь редко бывает звездное небо?
— А на небе тысячи звезд,
Я не видел их десять лет.
Но пора заступать на пост.
Так вставай и иди, мусагет,
Через Пост-Петергофский проспект,
Через Старо-Калинов мост.
Ты уже и сам арт-объект.
Разумеется, пост-... — декламирует Слава, глядя в бесконечно-черное небо.
— Ты их не видишь? — сочувственно спрашивает Ника.
— Нет, — продолжая смотреть в пустоту, отвечает Слава. — Но я знаю, что они есть.
— Может, и с мертвыми так? Мы их не видим. Не слышим. А они есть. Рядом с нами.
— Может. Но я в это не верю. Я надеюсь, что там, за порогом, только пустота. Ничего. Ни чувств, ни ощущений, ни памяти. Самое страшное, чем обладает человек, — память. Мы слишком много помним. Если бы не память, мы бы так и висели на деревьях, а может, и из океана не выползли. Если бы не память, мы бы не страдали так сильно... Давай зайдем. Мне холодно, — говорит Слава.
Они возвращаются в блок. В кармане звонит телефон. Слава берет трубку и машет Нике, чтобы та ушла.
— Да, мам. Привет. Все хорошо. Да, в общаге. Празднуем. Вадик, блядь, ёб твоих дивизи налево!
Вадик, выбираясь из уборной, падает на Славу, и, извиняясь на русском матерном, вползает обратно в комнату.
— Прости, мам... Мам... Да, я помню. Ты всегда говоришь «хрен», а папа говорит «блин», но мам, ты путаешь классы. Вы — интеллигенция, а мы — богема. Богема общается исключительно матом. Пока я объясню человекам, что надо играть, как Детский Шведский, уйдет три года. Ты вот знаешь, кто такой Детский Шведский? А вот. И они не понимают. А можно сказать: «играйте максимально хуево», и все всё поймут за секунду и с первого раза. И не говоря уже о междисциплинарных диалогах, когда в разных сферах искусства терминология не совпадает. Тогда вообще без мата никак. Но давай мы эту тему подробнее обсудим завтра вечером, а лучше послезавтра, когда я отосплюсь. Конечно, пьяна. Новый год вообще-то. Все хорошо. Просто я устала и решила наконец-то отпраздновать его с друзьями. Да. Я люблю тебя. И папу. Все будет хорошо. Знаю. Мам, что со мной случится? Такая дылда, как я, никому нахрен не нужна. Мне хорошо в своем гордом одиночестве. Не начинай, пожалуйста. Мам, давай не будем портить друг другу настроение. Не говори так. Давай не сейчас. Я тебя люблю. Буду. Хорошо, отпишусь, как проснусь. Да. Целую. С наступающим.
Ника украдкой подходит к Славе, гладит позвоночник, и, когда Слава оборачивается, целует ее, выдыхая дым. Колкий, горьковатый дым.
— Бля, что ты творишь?! — оторвавшись от Ники, возмущается Слава.
— Ничего я не творю, я вытворяю, — глупо хихикая, отвечает Ника. — Пойдем обратно.
В комнате все бобы марли, по ходу, играют в крокодила. В центре Пашка изображает красавицу, пригорюнившуюся у окна.
— «Ожидание». Арнольд Шёнберг. Или Таривердиев, — бросает случайную ассоциацию Слава, проходя мимо.
— Шёнберг! — радостно подскакивает Пашка, и, схватив Славу за руку, уводит обратно в коридор блока.
— Да это ж шутка была... — отмазывается Слава.
— Но ты же угадала! — радуется Пашка. — Так что... Давай Воццека!
— Ты с ёбу духнул?! Какой нахрен Воццек? Как мне его изображать?! — кричит Слава, чтобы за дверью услышали, и переходит на шепот. — Если хочешь экспрессионистов, давай я изображу «Крик» Мунка, и на том порешим. Я не хочу играть.
— Нет, давай... э-э-э... ладно, изображай Мунка. Хуй с тобой, золотая рыбка, — соглашается Пашка.
Тихо проматерившись, Слава заходит в комнату и становится в позу героя знаменитой картины. Как всегда, музыканты долго не могут вспомнить слово крик и фамилию художника, но все-таки кому-то удается. Слава не знает этого юношу, а потому быстро и безапелляционно шепчет ему на ухо:
— Лигети. «Белое на белом».
Вернувшись к Нике, Слава берет из ее пачки, выложенной на стол, сигарету и закуривает. У Ники в руках обнаруживается огроменный косяк, скрученный из тетрадного листа.
— Это шишки, — поясняет та. — Свежие. Из Казахстана.
Затянувшись, она передает косяк Славе. Та, немного не подумав, крепко затягивается. Ника закрывает ладонью ее нос и рот на несколько бесконечно долгих секунд, пока легкие Славы продолжают сопротивляться едкому дыму. Вырвавшись, Слава обнаруживает, что выдыхать практически нечего, но голова начинает неприятно кружиться. Поставленная на беззвучный режим речь президента озвучивается Вадиком, поющим под гитару «Wind of changes». Народ подпевает. Кто-то звонко открывает шампанское. За окном звучат салюты. Ника целует Славу. И тут Славу начинает накрывать: «Что, если Вселенная ограничивается только нашими знаниями и представлениями о ней? Я представляю себе несколько сотен людей. Я представляю себе нашу семимиллиардную планету. Ее флору и фауну. В общих чертах, но представляю. Я представляю себе Солнечную систему. Я представляю себе Млечный путь, в рукаве которого наша система находится. Я представляю себе Магеллановы Облака. Я представляю себе черные дыры и звездные туманности. Я представляю себе, что существуют тысячи тысяч и миллиарды миллиардов, гугол гуголов звезд. Бесконечность... Насколько большую бесконечность я могу представить? Сколько нулей в моей бесконечности? На что похоже мое бесконечное число...».
Окружающий шум давит на уши, и Слава чувствует, как ее вселенной становится тесно. Она аккуратно сползает со стула и выходит на балкон подышать воздухом посвежее. Снова смотрит на невидимые звезды. «Где-то там, в черноте все эти гуголы звезд... И почти у каждой из них есть свои планеты. И некоторые из них, возможно, были или будут когда-нибудь обитаемыми... в смысле, у них будет какая-нибудь органическая форма жизни. Или какая-нибудь другая... Этими знаниями ограничивается моя вселенная. Но она пересекается со знаниями других людей, существующих в моем сознании. А они знают еще каких-то людей. И все вместе мы образуем огромное семимиллиардное множество пересекающихся сфер, доходящих до самых пределов бесконечной Вселенной. А где-то есть другие обитаемые планеты. И их жители тоже что-то думают о Вселенной, и тоже расширят ее одной своей мыслью... Вселенная существует, пока мы ее мыслим. А если все живые обитатели Вселенной вдруг умрут или просто одновременно перестанут ее мыслить, то Вселенная исчезнет. Бля, это уже Декарт какой-то...».
Славе становится холодно, но возвращаться в духоту и туман артемовской комнаты нет никакого желания, а очень хочется спать, поэтому она спускается по лестнице на восемнадцатый этаж, с изумлением оглядывает раскинувшийся вокруг пляж с морем, тремя солнцами, пальмами, чайками и пышногрудой русалкой и проходит к себе в блок. Ее ноги обдает теплая морская пена...
— Какой долбоеб не закинул шланг обратно в ванну?! — возмущенно кричит Слава, и тут же понимает, что этим долбоебом была она сама.
Злобно пнув стиральную машинку, Слава находит за ней ведро, но тряпка почему-то куда-то исчезла. Осмотрев свою майку, порванную в трех местах, Слава наконец-то принимает решение использовать ее по назначению, и, оставшись в спортивном топе, начинает собирать воду, матерясь на всех языках галактики. И тут волной накатывают старые воспоминания, запрятанные в самые дальние уголки памяти. От них, кажется, никуда не деться. «Вот, что такое настоящая „тошнота“, Сартр, — мысленно обращается к философу она. — Тошнота — это помнить прошлое, то прошлое, которое уже не вернуть. Самое ужасное чувство — это ностальгия». И эта ностальгия накрывает Славу с головой. «Отпусти меня, чудо трава, — чуть не плачет Слава, и ей на помощь приходит Пелевин. — Ом мелафефон бва кха ша!» На пороге появляется Анька. Почему-то в купальнике.
— О! Море! — весело восклицает она.
— Море имени великой долбоебки Велиславы Вереск, — уточняет Слава, ползая на четвереньках.
Немного полюбовавшись картиной, Анька просит Славу достать древний запас тряпья на случай ядерной катастрофы с верхней полки над унитазом. «А... вот они где прятались», — доходит до Славы. Вскоре к ним присоединяется Ирка (тоже в пляжном наряде), и вот уже три девушки передвигаются по полу на четвереньках, постоянно наталкиваясь друг на друга в тесном пространстве блока.
— А давайте играть в луноходов! — вдруг предлагает Слава.
— А как это? — спрашивает Анька.
— Будем делать так, — размышляет Слава. — Я говорю: «Я луноход-пи-один». И комментирую свои действия: «Луноход-пи-один столкнулся с прямоугольным объектом, по всей видимости, предназначенным для хранения обуви обитателей планеты Бета-Центравра-6». Анька будет Луноходм-пи-пи-два, а Ирка — Луноходом-пи-пи-пи-три.
И три лунохода приступают к исследованиям поверхности планеты Бета-Центавра-6 и пытаются, хохоча, взять пробу местной воды.
— Луноход-пи-пи-два не может взять пробу воды из-под кресла, потому длина его механических клешней не позволяет этого сделать. Прием. Вызываю подмогу! Луноход-пи-один ответьте! — говорит Анька электронным голосом.
— Я луноход-пи-один. Луноход-пи-пи-два, иду к вам. Луноход-пи-один пробирается к Луноходу-пи-пи-два, но сталкивается с луноходом-пи-пи-пи-три. Луноход-пи-пи-пи-три, прием, развернитесь на 40 градусов к югу и начните движение задом.
— Я луноход-пи-пи-пи-три. Луноход-пи-один, я не знаю, где юг. Прием.
— Нихуясе! — восклицает появившийся в дверях блока Вадик.
— Луноход-пи-один обнаружил новую внеземную форму жизни, — говорит Слава. — И сейчас эта внеземная форма жизни либо перестанет ржать и пялиться, либо получит тряпкой по ебалу.
— Луноходы, а у вас горючее осталось? — спрашивает Вадик.
— Луноход-пи-один готовится к нападению на наглую внеземную форму жизни, — предупреждает Слава.
Вадик поспешно ретируется. Собрав пробы воды в размере двух ведер и благополучно вылив их в унитаз, луноходы отмывают руки и ноги и возвращают проклятый шланг от стиральной машинки обратно в ванну. В благодарность за помощь Слава вручает луноходам-два и -три вторую бутылку конька и ложится спать. Спать, естественно, получается плохо. Точнее, накатывает новая волна. На этот раз — волна непреодолимого отчаяния и полной безысходности, да такой, что очень хочется выть и что-нибудь с собой сделать. Уже пройдя нечто подобное в юности, о чем напоминают белые шрамы на руке, Слава пытается вспомнить свои же наставления младшему поколению, страдающему той же напастью: «Если хочется сделать себе больно, сделай так, чтобы было красиво». Поэтому Слава сползает с постели и открывает тумбочку. Там она находит жестяную коробочку из-под монпансье с многочисленными сережками и массивными рокерскими кольцами. Не обнаружив катеторной иглы, Слава к своему облегчению находит серьгу-булавку из хирургической стали, которую производители почему-то сделали очень острой. Протерев булавку и ухо коньяком, Слава прокалывает очередную дырку в хряще. Раздается оглушительный хруст, а в глазах темнеет от боли, и Слава уже начинает жалеть, что ввязалась, но делать нечего: надо все доводить до конца. Вдев булавку, Слава выдыхает. Теперь ее осталось только застегнуть, но одна мысль о том, что надо снова касаться уха, вызывает ужас. Тем не менее, глотнув коньяку и собравшись с силами, Слава завершает начатое и, выключив свет, со стоном падает на кровать. «Стало ли мне легче? — спрашивает Слава себя. — Не очень. Зато ухо болит. Ёбаные шишки, ёбаные мишки! Чтобы я еще раз...»
Но Слава не успевает довершить свою мысль, когда в комнату заходит Анька.
— Я хотела с тобой поговорить, — немного смущенно начинает она.
Слава садится на постели. Анька присаживается рядом.
— Я сегодня уезжаю, — сообщает она.
— А-а-а, — кивает Слава, по-прежнему не врубаясь в причину начала странного диалога. — Привет Медвежьей Лапе.
— Я навсегда уезжаю, — уточняет Анька. — Я забрала документы.
— Почему?
— Так нужно. Я хочу начать жизнь с чистого листа. Просто поняла, что музыка — не мое.
— Ты уверена? — переспрашивает Слава.
— Да. Это не спонтанная прихоть. Я уже давно все решила. Просто хотела отметить последний новый год с вами. И хотела сказать тебе...
Анька замолкает и опускает глаза.
— Что? — спрашивает Слава, ощущая, как по спине пробегает стадо мурашек.
— Теперь уже поздно, — пытается съехать с темы Анька.
— Поздно бывает, когда патанатом сообщает время смерти, — мрачно шутит Слава.
— Ладно, — соглашается Анька. — Ты мне нравишься. Но теперь уже поздно об этом говорить. Потому что все кончено.
Слава целует Аньку в губы. Та отвечает на поцелуй.
— Но ведь все равно уже слишком поздно, — вздыхает она, отрываясь от Славы.
— И пусть. Но один друг напомнил мне, что, если каждый раз отказываться от всех безумств, что нам подкидывает жизнь, то в конце нечего будет вспомнить перед тем, как патанатом сообщит время смерти.
— Ты плачешь? — удивляется Анька, вытирая слезу со Славиной щеки.
— Нет. Ты зацепила мое ухо. Я его только что проколола, — улыбнувшись, отвечает Слава, целуя пальцы Аньки.
Анька оглядывает издырявленное ухо Славы, пытаясь вычислить, какая серьга в нем новая.
— Красиво, — говорит она. — А мне проколешь?
— Надо оно тебе? — хмурится Слава.
— Пожалуйста. Так ты навсегда останешься со мной. И я больше не буду жалеть о том, что так долго молчала.
— Ладно, — соглашается Слава.
Она снимает топ и вытаскивает из соска вторую серьгу-булавку, наблюдая за Анькой. Та завороженно следит за руками Славы, слегка приоткрыв рот.
— Сосок колоть не буду, и не проси, — предупреждает ее Слава. — Боль адская, и потом еще неделю ни двигаться нормально не сможешь, ни смеяться, ни чихать. А тебе вечером на поезд.
— Ладно, — соглашается Анька, отлепив глаза от груди Славы. — Тогда вторую дырку в ухе.
Слава протирает булавку и Анькино ухо коньяком, втыкает в мочку булавку и застегивает ее. В этот раз все получается не так гладко, и ухо начинает кровить. Слава берет ватный диск, чтобы оттереть шею Аньки, но та встает и подходит к зеркалу.
— Прикольно, — говорит она, глядя, как кровь струйкой стекает из мочки по шее к ключице. — Как будто меня вампир покусал. Вампирша. Иди сюда. Сыграем в вампирскую лесби-драму.
Слава подходит к Аньке и слизывает кровь с ее шеи. В этот момент в комнату врывается Вадик.
— Слав, там Ника в обморок упала! Ты же умеешь людей откачивать... Ох, нихуясе!
— Как же вы все меня заебали!!! — взвывает Слава, отрывая от шеи Аньки окровавленное лицо.
Конец линии 9
Бывший китаец, видимо, истосковавшийся по общению, остается безнадежно курить в одиночестве, а Слава наконец-то покидает альма матер и идет на автобусную остановку, не снискав никаких приключений. Проспав общагу на пару остановок, Слава не особо расстраивается. На окраине города все-таки идет снег, а не дождеснег, как в центре. Неспешно прогуливаясь, Слава покупает по пути две бутылки конька и кучу полуфабрикатов, чтобы можно было в ближайшие дни вообще не выходить из комнаты, пока все веселье не уляжется. Придя домой, Слава ненароком пугает кота, смотревшего в окно. Он с поросячьим визгом прыгает на пианино, переворачивая стакан со столовыми приборами, потом сигает на полку с посудой и разбивает бокал, видимо, на счастье, после чего врезается головой в дверь, отскакивает и забивается под кровать, откуда раздается тигриное ворчание. Слава кладет в миску корм и ставит ее под кровать. Ворчание сменяется чавканьем. Вырвав из блокнота лист, Слава пишет красным маркером: «Не будить до второго пришествия марсиан», и вешает листок на дверь с внешней стороны, после чего, посмотрев в зеркало на свои уже несколько засаленные волосы, решает все-таки сходить в душ. Нет, лучше взять с собой коньяк и принять ванну. Мало ли, что ждет дальше? Это же Петербург... Пока есть ванна, надо ею пользоваться. Откиснув и окончательно захмелев, Слава возвращается в комнату, запирается на ключ и засыпает сном младенца.
А просыпается Слава отнюдь не от истошного звона будильника, и даже не от салютов за окном, а от громоподобного стука в дверь. Не обнаружив в темноте очков, Слава падает с кровати и, чертыхаясь, ползет открывать. Под ногой раздается неприятный хруст пластмассы и стекла.
— Что, блядь, марсиане прилетели? — кричит Слава, зажигая раздражающий свет и поднимая останки очков. Отвратительный стук продолжается, и дверь приходится открыть.
— Ты че, спишь что ли? — удивляется Вадик, явно уже окосевший от количества употребленных напитков.
— Сплю что ли, — раздраженно отвечает Слава. — Не видишь надпись на двери?
— Какую надпись? — не врубается Вадик.
— Написано русским по белому: «Не будить до второго пришествия марсиан».
— Пойдем к Артему, у него трава есть. Обалденная! — пропустив марсиан мимо ушей, радостно сообщает Вадик.
— По тебе видно. Нет, спасибо. Я не курю.
— Слав, нельзя быть такой букой. Новый год же все-таки. Хватит уже. Пора завязывать с этим вечным трауром. Выходи.
И Вадик бесцеремонно выволакивает Славу в коридор, где уже творится невесть что. Кто-то бегает в купальниках, какие-то народники в древнерусских одеяниях горланят колядочные песни под аккордеон с балалайками, кто-то носится в костюме медведя. Поднявшись по уже малость заблеванной лестнице на четырнадцатый этаж, Вадик запихивает Славу в комнату Артема, где, естественно, дым стоит зеленым коромыслом.
— Я не курю, — повторяет Слава. — Лучше дайте выпить.
— Да че ты ломаешься, как школьница, в самом деле? — хлопает Славу по спине Артем. — Трава классная, веселая.
— У меня в юности был неудачный опыт, и мне бы не хотелось его повторять, — поясняет Слава.
— Такое тоже бывает, — соглашается Артем. — Но проблема, скорее всего, была не в траве как таковой, а в том, что компания была неправильной, или в том, что на душе у тебя было херово.
— Мне и сейчас не лучше, — мрачно отрезает Слава, пытаясь разглядеть присутствующих подслеповатыми глазами через клубы дыма.
Рядом со Славой приземляется кто-то смутно знакомый. Медленно соображая, Слава приходит к выводу, что это вчерашняя Ника. «Ох, только малолеток мне сейчас не хватало», — думает Слава.
— Как дела? — весело спрашивает девушка. — Как зачет?
— Никак. Пересдача одиннадцатого, — отвечает Слава сквозь зубы.
— Ох, мне жаль, — сочувственно гладит Славу по плечу Ника. — Прости, что я вчера так внезапно ворвалась...
— Ты тут ни при чем, — успокаивает ее Слава. — Просто неудачная ночь и неудачный день. Может, завтра все наладится.
— А может, уже сегодня, — улыбается девушка. — Тебе налить чего-нибудь?
— Яду, — саркастически усмехается Слава. — Можно с лимоном.
— Окей, — как ни в чем не бывало, соглашается Ника и исчезает в тумане.
— Эй, ну нельзя же так париться из-за какой-то философии? — обнимает Славу Вадик. — Ты серьезно что ли?
— Да кто тебе сказал, что я из-за философии парюсь?! — взрывается Слава. — Я просто не люблю все эти пьянки-гулянки, они меня за семь лет в вашем дурдоме достали до тошноты! Понимаешь?!
— Не понимаю! — кричит в ответ Вадик. — Сколько тебя знаю, ты вечно сливаешься ото всюду! Неужели нельзя расслабиться и насладиться жизнью?! Через полгода ты выпустишься, и больше не будет всего этого! И ты будешь жалеть о тех праздниках и том безумии, что прошло мимо тебя...
— С чего ты взял, что ты вообще меня знаешь?! — огрызается Слава. — С чего ты взял, что я буду о чем-то жалеть?!
Подоспевшая Ника прекращает ссору, уводя Славу из комнаты на балкон ближайшей кухни. Она вручает стакан чего-то сладко-крепкого и делится сигаретами, поскольку, естественно, спьяну Славе в голову не пришло захватить ничего, кроме телефона, когда загребущие руки Вадика утащили тело, лишившееся органов, в неизвестном направлении.
— Ты как? — спрашивает Ника.
— Хуево, — честно отвечает Слава.
— Расскажешь?
— Нет.
Повисает долгая пауза. Славе очень хочется рассказать правду, но...
— У меня мама умерла в этом году, — внезапно выдает Ника.
— Ох, соболезную, — не придумывает ничего умнее Слава. — Онкология?
— Нет. Ковид. Все произошло очень быстро и внезапно...
Ника замолкает.
— Да, тяжелое время, — соглашается Слава. — Как ты?
— Я пока так и не могу это до конца осознать. Ощущение, что она все еще рядом. Все еще где-то есть... Но... мы так мало общались в последние годы. Я ведь уехала. Созванивались иногда. А однажды папа позвонил и сказал, что мамы больше нет... И, вроде, особо ничего не изменилось. Только ее больше нет. И ей не позвонить. И даже голосовых сообщений не осталось... Мы ими не пользовались. А зря...
— На каком ты курсе? — спрашивает Слава.
— На втором, — отвечает Ника.
— Значит, тебе...
— Двадцать один.
— Мало, конечно, — вздыхает Слава. — Но, там где смерть, не бывает мало или много. Она просто случается.
Они некоторое время молчат. А потом Слава выдает свою очередную проповедь:
— Знаешь, иногда я думаю, что Хемингуэй в чем-то прав. Никто никогда не умирает. Есть что-то, что остается и продолжает жить. Даже если человек не оставил после себя какого-то явного наследия типа художественных произведений, научных открытий или политических деяний. Мысли, простые фразы, которые остаются с нами. Моя сестра вечно ругалась: «майка Босха». По-хорватски «божья матерь» звучит как «майка божья». Так ругалась наша бабушка, которую я почти не помню. А сестра изменила бабушкину фразу, заменив бога на Босха. Теперь это моя фраза. Однажды кто-то подцепит ее, и она продолжит жить своим ходом, а вместе с ней продолжатся мои бабушка и сестра. А от кого взяла фразу бабушка, я уже и не знаю. Но вот так наши мертвые остаются живыми. И неважно, знаем ли мы их имена, помним ли мы их самих. Мы даже представить себе не можем, сколько мертвецов в наших самых повседневных мыслях, в наших самых обычных фразах... Никто никогда не умирает...
— Интересная теория, — соглашается Ника. — Но помогает ли она тебе?
— Может быть. В какой-то мере. Не знаю. Но мне так легче.
— Ты не веришь в бога, в бессмертие души?
— Нет, я ни во что не верю. Кроме себя. У меня есть только я. И только я могу решать, что делать дальше, продолжать ли вообще что-либо делать.
— Надо продолжать, — говорит Ника.
— Я знаю, — соглашается Слава, выпуская дым в небо. — В том пиздеце, что творится вокруг, я не имею права сдаваться.
— Мы не имеем права, — говорит Ника. — Смотри. Небо расчехлилось. Звезды. Зимой в Петербурге ведь редко бывает звездное небо?
— А на небе тысячи звезд,
Я не видел их десять лет.
Но пора заступать на пост.
Так вставай и иди, мусагет,
Через Пост-Петергофский проспект,
Через Старо-Калинов мост.
Ты уже и сам арт-объект.
Разумеется, пост-... — декламирует Слава, глядя в бесконечно-черное небо.
— Ты их не видишь? — сочувственно спрашивает Ника.
— Нет, — продолжая смотреть в пустоту, отвечает Слава. — Но я знаю, что они есть.
— Может, и с мертвыми так? Мы их не видим. Не слышим. А они есть. Рядом с нами.
— Может. Но я в это не верю. Я надеюсь, что там, за порогом, только пустота. Ничего. Ни чувств, ни ощущений, ни памяти. Самое страшное, чем обладает человек, — память. Мы слишком много помним. Если бы не память, мы бы так и висели на деревьях, а может, и из океана не выползли. Если бы не память, мы бы не страдали так сильно... Давай зайдем. Мне холодно, — говорит Слава.
Они возвращаются в блок. В кармане звонит телефон. Слава берет трубку и машет Нике, чтобы та ушла.
— Да, мам. Привет. Все хорошо. Да, в общаге. Празднуем. Вадик, блядь, ёб твоих дивизи налево!
Вадик, выбираясь из уборной, падает на Славу, и, извиняясь на русском матерном, вползает обратно в комнату.
— Прости, мам... Мам... Да, я помню. Ты всегда говоришь «хрен», а папа говорит «блин», но мам, ты путаешь классы. Вы — интеллигенция, а мы — богема. Богема общается исключительно матом. Пока я объясню человекам, что надо играть, как Детский Шведский, уйдет три года. Ты вот знаешь, кто такой Детский Шведский? А вот. И они не понимают. А можно сказать: «играйте максимально хуево», и все всё поймут за секунду и с первого раза. И не говоря уже о междисциплинарных диалогах, когда в разных сферах искусства терминология не совпадает. Тогда вообще без мата никак. Но давай мы эту тему подробнее обсудим завтра вечером, а лучше послезавтра, когда я отосплюсь. Конечно, пьяна. Новый год вообще-то. Все хорошо. Просто я устала и решила наконец-то отпраздновать его с друзьями. Да. Я люблю тебя. И папу. Все будет хорошо. Знаю. Мам, что со мной случится? Такая дылда, как я, никому нахрен не нужна. Мне хорошо в своем гордом одиночестве. Не начинай, пожалуйста. Мам, давай не будем портить друг другу настроение. Не говори так. Давай не сейчас. Я тебя люблю. Буду. Хорошо, отпишусь, как проснусь. Да. Целую. С наступающим.
Ника украдкой подходит к Славе, гладит позвоночник, и, когда Слава оборачивается, целует ее, выдыхая дым. Колкий, горьковатый дым.
— Бля, что ты творишь?! — оторвавшись от Ники, возмущается Слава.
— Ничего я не творю, я вытворяю, — глупо хихикая, отвечает Ника. — Пойдем обратно.
В комнате все бобы марли, по ходу, играют в крокодила. В центре Пашка изображает красавицу, пригорюнившуюся у окна.
— «Ожидание». Арнольд Шёнберг. Или Таривердиев, — бросает случайную ассоциацию Слава, проходя мимо.
— Шёнберг! — радостно подскакивает Пашка, и, схватив Славу за руку, уводит обратно в коридор блока.
— Да это ж шутка была... — отмазывается Слава.
— Но ты же угадала! — радуется Пашка. — Так что... Давай Воццека!
— Ты с ёбу духнул?! Какой нахрен Воццек? Как мне его изображать?! — кричит Слава, чтобы за дверью услышали, и переходит на шепот. — Если хочешь экспрессионистов, давай я изображу «Крик» Мунка, и на том порешим. Я не хочу играть.
— Нет, давай... э-э-э... ладно, изображай Мунка. Хуй с тобой, золотая рыбка, — соглашается Пашка.
Тихо проматерившись, Слава заходит в комнату и становится в позу героя знаменитой картины. Как всегда, музыканты долго не могут вспомнить слово крик и фамилию художника, но все-таки кому-то удается. Слава не знает этого юношу, а потому быстро и безапелляционно шепчет ему на ухо:
— Лигети. «Белое на белом».
Вернувшись к Нике, Слава берет из ее пачки, выложенной на стол, сигарету и закуривает. У Ники в руках обнаруживается огроменный косяк, скрученный из тетрадного листа.
— Это шишки, — поясняет та. — Свежие. Из Казахстана.
Затянувшись, она передает косяк Славе. Та, немного не подумав, крепко затягивается. Ника закрывает ладонью ее нос и рот на несколько бесконечно долгих секунд, пока легкие Славы продолжают сопротивляться едкому дыму. Вырвавшись, Слава обнаруживает, что выдыхать практически нечего, но голова начинает неприятно кружиться. Поставленная на беззвучный режим речь президента озвучивается Вадиком, поющим под гитару «Wind of changes». Народ подпевает. Кто-то звонко открывает шампанское. За окном звучат салюты. Ника целует Славу. И тут Славу начинает накрывать: «Что, если Вселенная ограничивается только нашими знаниями и представлениями о ней? Я представляю себе несколько сотен людей. Я представляю себе нашу семимиллиардную планету. Ее флору и фауну. В общих чертах, но представляю. Я представляю себе Солнечную систему. Я представляю себе Млечный путь, в рукаве которого наша система находится. Я представляю себе Магеллановы Облака. Я представляю себе черные дыры и звездные туманности. Я представляю себе, что существуют тысячи тысяч и миллиарды миллиардов, гугол гуголов звезд. Бесконечность... Насколько большую бесконечность я могу представить? Сколько нулей в моей бесконечности? На что похоже мое бесконечное число...».
Окружающий шум давит на уши, и Слава чувствует, как ее вселенной становится тесно. Она аккуратно сползает со стула и выходит на балкон подышать воздухом посвежее. Снова смотрит на невидимые звезды. «Где-то там, в черноте все эти гуголы звезд... И почти у каждой из них есть свои планеты. И некоторые из них, возможно, были или будут когда-нибудь обитаемыми... в смысле, у них будет какая-нибудь органическая форма жизни. Или какая-нибудь другая... Этими знаниями ограничивается моя вселенная. Но она пересекается со знаниями других людей, существующих в моем сознании. А они знают еще каких-то людей. И все вместе мы образуем огромное семимиллиардное множество пересекающихся сфер, доходящих до самых пределов бесконечной Вселенной. А где-то есть другие обитаемые планеты. И их жители тоже что-то думают о Вселенной, и тоже расширят ее одной своей мыслью... Вселенная существует, пока мы ее мыслим. А если все живые обитатели Вселенной вдруг умрут или просто одновременно перестанут ее мыслить, то Вселенная исчезнет. Бля, это уже Декарт какой-то...».
Славе становится холодно, но возвращаться в духоту и туман артемовской комнаты нет никакого желания, а очень хочется спать, поэтому она спускается по лестнице на восемнадцатый этаж, с изумлением оглядывает раскинувшийся вокруг пляж с морем, тремя солнцами, пальмами, чайками и пышногрудой русалкой и проходит к себе в блок. Ее ноги обдает теплая морская пена...
— Какой долбоеб не закинул шланг обратно в ванну?! — возмущенно кричит Слава, и тут же понимает, что этим долбоебом была она сама.
Злобно пнув стиральную машинку, Слава находит за ней ведро, но тряпка почему-то куда-то исчезла. Осмотрев свою майку, порванную в трех местах, Слава наконец-то принимает решение использовать ее по назначению, и, оставшись в спортивном топе, начинает собирать воду, матерясь на всех языках галактики. И тут волной накатывают старые воспоминания, запрятанные в самые дальние уголки памяти. От них, кажется, никуда не деться. «Вот, что такое настоящая „тошнота“, Сартр, — мысленно обращается к философу она. — Тошнота — это помнить прошлое, то прошлое, которое уже не вернуть. Самое ужасное чувство — это ностальгия». И эта ностальгия накрывает Славу с головой. «Отпусти меня, чудо трава, — чуть не плачет Слава, и ей на помощь приходит Пелевин. — Ом мелафефон бва кха ша!» На пороге появляется Анька. Почему-то в купальнике.
— О! Море! — весело восклицает она.
— Море имени великой долбоебки Велиславы Вереск, — уточняет Слава, ползая на четвереньках.
Немного полюбовавшись картиной, Анька просит Славу достать древний запас тряпья на случай ядерной катастрофы с верхней полки над унитазом. «А... вот они где прятались», — доходит до Славы. Вскоре к ним присоединяется Ирка (тоже в пляжном наряде), и вот уже три девушки передвигаются по полу на четвереньках, постоянно наталкиваясь друг на друга в тесном пространстве блока.
— А давайте играть в луноходов! — вдруг предлагает Слава.
— А как это? — спрашивает Анька.
— Будем делать так, — размышляет Слава. — Я говорю: «Я луноход-пи-один». И комментирую свои действия: «Луноход-пи-один столкнулся с прямоугольным объектом, по всей видимости, предназначенным для хранения обуви обитателей планеты Бета-Центравра-6». Анька будет Луноходм-пи-пи-два, а Ирка — Луноходом-пи-пи-пи-три.
И три лунохода приступают к исследованиям поверхности планеты Бета-Центавра-6 и пытаются, хохоча, взять пробу местной воды.
— Луноход-пи-пи-два не может взять пробу воды из-под кресла, потому длина его механических клешней не позволяет этого сделать. Прием. Вызываю подмогу! Луноход-пи-один ответьте! — говорит Анька электронным голосом.
— Я луноход-пи-один. Луноход-пи-пи-два, иду к вам. Луноход-пи-один пробирается к Луноходу-пи-пи-два, но сталкивается с луноходом-пи-пи-пи-три. Луноход-пи-пи-пи-три, прием, развернитесь на 40 градусов к югу и начните движение задом.
— Я луноход-пи-пи-пи-три. Луноход-пи-один, я не знаю, где юг. Прием.
— Нихуясе! — восклицает появившийся в дверях блока Вадик.
— Луноход-пи-один обнаружил новую внеземную форму жизни, — говорит Слава. — И сейчас эта внеземная форма жизни либо перестанет ржать и пялиться, либо получит тряпкой по ебалу.
— Луноходы, а у вас горючее осталось? — спрашивает Вадик.
— Луноход-пи-один готовится к нападению на наглую внеземную форму жизни, — предупреждает Слава.
Вадик поспешно ретируется. Собрав пробы воды в размере двух ведер и благополучно вылив их в унитаз, луноходы отмывают руки и ноги и возвращают проклятый шланг от стиральной машинки обратно в ванну. В благодарность за помощь Слава вручает луноходам-два и -три вторую бутылку конька и ложится спать. Спать, естественно, получается плохо. Точнее, накатывает новая волна. На этот раз — волна непреодолимого отчаяния и полной безысходности, да такой, что очень хочется выть и что-нибудь с собой сделать. Уже пройдя нечто подобное в юности, о чем напоминают белые шрамы на руке, Слава пытается вспомнить свои же наставления младшему поколению, страдающему той же напастью: «Если хочется сделать себе больно, сделай так, чтобы было красиво». Поэтому Слава сползает с постели и открывает тумбочку. Там она находит жестяную коробочку из-под монпансье с многочисленными сережками и массивными рокерскими кольцами. Не обнаружив катеторной иглы, Слава к своему облегчению находит серьгу-булавку из хирургической стали, которую производители почему-то сделали очень острой. Протерев булавку и ухо коньяком, Слава прокалывает очередную дырку в хряще. Раздается оглушительный хруст, а в глазах темнеет от боли, и Слава уже начинает жалеть, что ввязалась, но делать нечего: надо все доводить до конца. Вдев булавку, Слава выдыхает. Теперь ее осталось только застегнуть, но одна мысль о том, что надо снова касаться уха, вызывает ужас. Тем не менее, глотнув коньяку и собравшись с силами, Слава завершает начатое и, выключив свет, со стоном падает на кровать. «Стало ли мне легче? — спрашивает Слава себя. — Не очень. Зато ухо болит. Ёбаные шишки, ёбаные мишки! Чтобы я еще раз...»
Но Слава не успевает довершить свою мысль, когда в комнату заходит Анька.
— Я хотела с тобой поговорить, — немного смущенно начинает она.
Слава садится на постели. Анька присаживается рядом.
— Я сегодня уезжаю, — сообщает она.
— А-а-а, — кивает Слава, по-прежнему не врубаясь в причину начала странного диалога. — Привет Медвежьей Лапе.
— Я навсегда уезжаю, — уточняет Анька. — Я забрала документы.
— Почему?
— Так нужно. Я хочу начать жизнь с чистого листа. Просто поняла, что музыка — не мое.
— Ты уверена? — переспрашивает Слава.
— Да. Это не спонтанная прихоть. Я уже давно все решила. Просто хотела отметить последний новый год с вами. И хотела сказать тебе...
Анька замолкает и опускает глаза.
— Что? — спрашивает Слава, ощущая, как по спине пробегает стадо мурашек.
— Теперь уже поздно, — пытается съехать с темы Анька.
— Поздно бывает, когда патанатом сообщает время смерти, — мрачно шутит Слава.
— Ладно, — соглашается Анька. — Ты мне нравишься. Но теперь уже поздно об этом говорить. Потому что все кончено.
Слава целует Аньку в губы. Та отвечает на поцелуй.
— Но ведь все равно уже слишком поздно, — вздыхает она, отрываясь от Славы.
— И пусть. Но один друг напомнил мне, что, если каждый раз отказываться от всех безумств, что нам подкидывает жизнь, то в конце нечего будет вспомнить перед тем, как патанатом сообщит время смерти.
— Ты плачешь? — удивляется Анька, вытирая слезу со Славиной щеки.
— Нет. Ты зацепила мое ухо. Я его только что проколола, — улыбнувшись, отвечает Слава, целуя пальцы Аньки.
Анька оглядывает издырявленное ухо Славы, пытаясь вычислить, какая серьга в нем новая.
— Красиво, — говорит она. — А мне проколешь?
— Надо оно тебе? — хмурится Слава.
— Пожалуйста. Так ты навсегда останешься со мной. И я больше не буду жалеть о том, что так долго молчала.
— Ладно, — соглашается Слава.
Она снимает топ и вытаскивает из соска вторую серьгу-булавку, наблюдая за Анькой. Та завороженно следит за руками Славы, слегка приоткрыв рот.
— Сосок колоть не буду, и не проси, — предупреждает ее Слава. — Боль адская, и потом еще неделю ни двигаться нормально не сможешь, ни смеяться, ни чихать. А тебе вечером на поезд.
— Ладно, — соглашается Анька, отлепив глаза от груди Славы. — Тогда вторую дырку в ухе.
Слава протирает булавку и Анькино ухо коньяком, втыкает в мочку булавку и застегивает ее. В этот раз все получается не так гладко, и ухо начинает кровить. Слава берет ватный диск, чтобы оттереть шею Аньки, но та встает и подходит к зеркалу.
— Прикольно, — говорит она, глядя, как кровь струйкой стекает из мочки по шее к ключице. — Как будто меня вампир покусал. Вампирша. Иди сюда. Сыграем в вампирскую лесби-драму.
Слава подходит к Аньке и слизывает кровь с ее шеи. В этот момент в комнату врывается Вадик.
— Слав, там Ника в обморок упала! Ты же умеешь людей откачивать... Ох, нихуясе!
— Как же вы все меня заебали!!! — взвывает Слава, отрывая от шеи Аньки окровавленное лицо.
Конец линии 9
Глава 7i. Когда никто не ждет
— Прости, мне надо билет прогуглить. Я сейчас на зачете, — говорит Слава, доставая телефон.
Бывший китаец послушно умолкает и, докурив, ретируется восвояси. Просмотрев цены на билеты, Слава понимает, что спешно покинуть планету не получится, и выходит на автобусную остановку. «Двойка», естественно, не хочет идти, несмотря ни на какие уговоры и напрасные попытки покурить, сыграв на законе падлости. Но вот приходит очередная «тройка», и Слава решает, что лучше проехать длинным путем, зато в тепле. Впрочем, печка в автобусе не работает, и Слава спрыгивает на Адмиралтейской, чтобы пересесть на метро. В метро Славу, конечно же, отправляют на досмотр, потому что именно так, видимо, должны выглядеть террористы. Несмотря на опустошенные карманы, противная арка продолжает звенеть, и Слава долго объясняет сотрудникам полиции метрополитена, что вытащить железные носы из ботинок и снять все молнии с куртки не получится. В конце концов, удостоверившись, что звенят именно ботинки, Славе все-таки разрешают пройти турникет.
Поразмыслив в пути, Слава решает выйти на «Кировском заводе» и зайти в дисконт, дабы обновить свой весьма повидавший виды гардероб. Взяв очередную черную толстовку и черные джинсы, Слава заходит в пивной бар, расположенный в торговом комплексе на первом этаже. Здесь, как и раньше, подают пиво в литровых кружках, а на бумажном меню с обратной стороны напечатаны поля для игры в морской бой. Всякий раз, когда сестра наведывалась к Славе в гости, они шли именно сюда: накупить ей шмоток по скидке и выпить пиво, затапливая корабли друг друга. Вот и сейчас Слава заполняет два поля кораблями и открывает на телефоне генератор рандомных чисел. Генератор выдает «9» и «8». Значит, «И8». Мимо. Переход на другое поле. «6» и «6». Значит, «Е6». Попал. Генерируем число от 1 до 4. «2» — Восток, значит, «Ж6». Попал. Дальше, соответственно, «З6», и трехпалубник убит.
— Вы играете в морской бой сами с собой? — раздается чей-то голос.
— Нет, — отвечает Слава. — С генератором случайных чисел.
— Научите? — спрашивает длинноволосый молодой человек в косухе, стоящий перед его столиком с такой же литровой кружкой пива.
«Вот и встретились два рокера», — с горечью думает Слава, а вслух выдает:
— Научу.
Молодой человек садится за столик, и Слава объяснят принцип игры в морской бой с рандомайзером.
— Сыграем вместе? — предлагает молодой человек.
— А почему бы нет? — неожиданно для себя решается Слава. — Все равно спешить некуда.
— А как же новый год, оливье, телевизор? — иронизирует новый знакомый.
— Смеешься? Я не видел телевизора уже лет восемь, и, надеюсь, и в будущем не увижу.
— Резонно. Но разве тебе не надо ехать домой или к друзьям?
— Нет. Меня никто особо не ждет, — пожимает плечами Слава.
— Кстати, я Нил, — представляется молодой человек.
— Слава.
Они пожимают руки.
— А полное? — спрашивает новый знакомый.
— Мстислав.
— А я Даниил. Странное у тебя имя, — хмурится он.
— Согласен, — вздыхает Слава. — Мне тоже не особо нравится. Но, если интерпретировать через Сенеку, то ничего, сносно...
— Прости, я в философии не очень шарю, — говорит Нил. — Что значит, интерпретировать через Сенеку?
— Он пишет: «Отомсти за себя, и время, что у тебя отнимали и крали, что зря проходило, собери и сохрани».
— Неплохой вариант, — соглашается Нил. — Ты философ?
— Только если переводить слово философ с английского, как feel sofa, то есть «чувствующий диван».
— Значит, лингвист, — предполагает Нил.
— Снова мимо, — ухмыляется Слава.
— Ага! — вдруг восклицает Нил, указывая на значок, прицепленный к толстовке Славы. — Это же HTML-коды цветов! Ты дизайнер!
— Тогда, скорее дазайнер, от хайдегеровского Dasein, но это тоже не совсем моя тема. Прости, сегодня был зачет по философии, так что с головой до сих пор не все в порядке. А вообще, я композитор.
— Песни пишешь? — наивно спрашивает новый знакомый.
— Нет. Симфонии, оперы и балеты, — обламывает его Слава.
— Ух ты! — восхищенно восклицает Нил. — А я художник.
— Да, так я и подумал, — говорит Слава. — Кроме вашей братии, никто не может догадаться, что написано у меня на значке.
— Ну, я тоже не помню коды всех цветов наизусть, — смущенно признается Нил. — Так что за цвета у тебя выписаны?
— Основные шесть цветов радуги. Их не так уж сложно запомнить... — начинает объяснять Слава.
— Вообще-то радугу обычно раскладывают на семь цветов... — перебивает его Нил. — А, я понял! Это радужный флаг! Хитрó придумано.
— Ты закончил живописать корабли? — переводит тему Слава.
— Да.
— Тогда Е3.
— Мимо.
— Интересно, а другие игры у них есть? — с досадой сминая проигранный бой, спрашивает Нил.
— У них нет, — отвечает Слава. — А у меня есть с собой колода таро. Можем сыграть в дурака. Или еще во что-нибудь.
— Серьезно? Ты на таро в дурака играешь?
— А что? Кто сказал, что нельзя? Те же карты, только с картинками.
— А на что играть будем? — спрашивает Нил.
— Проигравший покупает два шота, — предлагает Слава.
— Этак я совсем разорюсь, — хмурится Нил. — Я сейчас на мели.
— Не бойся. Проигрывать в карты — это моя участь. Или давай брать по одному шоту.
— Идет, — соглашается художник. — А как насчет закуски?
— Давай первую партию сыграем на гренки, — предлагает Слава.
— Необычная у тебя колода. Авторская? — спрашивает Нил, рассматривая карты.
— Да, досталась от сестры. Она тоже художница.
— Значит, в живописи ты разбираешься?
— Честно говоря, не очень. Но Поллока от Босха отличить могу, — пожимает плечами Слава.
— А Ива Кляйна знаешь? — спрашивает Нил.
— Нет, — честно признаётся Слава. — Расскажешь?
— Его называют художником одной краски. Потому что рисовал он практически исключительно синим. И еще людьми рисовал: обмазывал их краской с ног до головы и бросал на холст. Впрочем, я не думаю, что лить краску и рисовать человеками — единственно верный путь. Но, что мне нравится у Кляйна, так это движение, застывшая хореография. Ты буквально видишь, как художник бежал из одной части холста в другую, как он махал руками, приседая и подпрыгивая. В этом определенно что-то есть.
— Никогда не рассматривал живопись с точки зрения хореографии, — задумчиво поднимает бровь Слава. — А ты в каком стиле пишешь?
— Зарабатываю как монументалист. А сейчас увлекаюсь абстракцией. Накупил флуоресцентного акрила и радуюсь. Но буржуям это не нужно. Они все как один хотят жить в Сикстинских капеллах.
— Так ты Микеланджело? — ухмыляется Слава.
— Я неудачник, — вздыхает Нил. — Мне приходится делать то, что я умею, но чего не хочу, чтобы заработать на хлеб.
— Расслабься, — машет рукой Слава. — Мало кто из художников, в смысле, áртистов в целом, мог при жизни зарабатывать тем, что он хочет. Так или иначе, искусство — тоже товар. И нам приходится продаваться. Главное, чтобы оставались силы на собственное творчество.
— Так что, — указывая на кружку Славы, спрашивает Нил. — Стакан на половину пуст или на половину Поллок?
— Главное, чтобы не на половину Пруст, — ухмыляется Слава.
— А ты его читал?
— Пытался. Потом стошнило цветами, и я понял, что с меня хватит.
— Хех, — ухмыляется Нил. — Если тебе не нравится Пруст, значит, ты просто не умеешь его готовить.
— Думаю, Пруста было кому готовить, в смысле жарить, — каламбурит Слава. — А что касается стакана, то он просто стакан. Гласс. Филипп Гласс.
— А, это композитор-минималист, да? — врубает Нил.
Хорошо подняв градус и повеселев, новые знакомые все-таки покидают бар, выходят на улицу и закуривают, глядя на падающий снег.
— А хочешь мои картины посмотреть? — внезапно спрашивает Нил. — Я тут недалеко живу.
— Серьезно? Ты вот так просто приглашаешь едва знакомого человека к себе домой? — удивляется Слава.
— А ты вот так просто можешь пойти к едва знакомому человеку в гости? — отвечает вопросом на вопрос Нил.
— Могу. Если честно, мне все равно. На самом деле, я совершенно не доверяю людям, даже хорошо знакомым. Да и смерть может ждать за любым поворотом, но, если не рисковать, то можно и всю жизнь прожить без шампанского, — и Слава опять переходит на стихи:
— Есть доля иронии в состоянии,
Когда никто и нигде не ждет.
Есть доля истины в том, что я идиот.
На самом деле, я просто отчаянный.
— Неплохо, — оценивает Нил. — Чьи это стихи?
— Бродский, разумеется, — внаглую врет Слава.
— А за шампанским еще успеваем? — спрашивает Нил, решив на всякий не подвергать сомнению ответ Славы.
Поднявшись на верхний этаж сталинки, они оказываются в просторной квартире. Ее стены сплошь покрыты картинами, а бесчисленные арт-объекты заполоняют едва ли не все горизонтальное пространство, практически лишая непривычного к такому изобилию красоты человека возможности перемещаться.
— Нихуясе, — тихо произносит Слава. — Это все твое?
За закрытыми дверьми, выходящими в коридор, слышатся голоса.
— Нет, у нас тут полная коммуналка худуёжников и дизигнеров, — отвечает Нил. — Чуть позже познакомлю.
Аккуратно протискиваясь вслед за Нилом, легко лавирующим зигзагами меж причудливых скульптур, Слава проходит в мансардную комнату, выкрашенную в белый цвет. Вдоль стен стоят чистые и уже расписанные холсты, коробки с красками и мольберты, на некоторых из которых и впрямь подсыхают флуоресцентно-акриловые абстракции. Шкафа у Нила нет, только покосившийся металлический рейл, заваленный вещами. На полу в несколько стопок свалены книги. Они же служат, видимо, кофейным столиком. Вместо кровати — матрас с полосатым сине-белым постельным бельем.
— Прошу прощения за нескромный вопрос, — говорит Слава. — А постельное белье тебе митьки шили?
Нил заходится смехом.
— А говоришь, в живописи не разбираешься! — качает он головой.
— Не разбираюсь, — отвечает Слава, рассматривая картину с разноцветными квадратами. — Но твои абстракции мне нравятся. Они жизнеутверждающие.
— Херня, — отмахивается Нил. — А теперь посмотри вот так!
Он выключает верхний свет и включает флуоресцентную лампу, и внезапно, когда цветные квадраты начинают светиться, на их фоне проступают темные линии, складывающиеся в портреты. Завороженный, Слава перемещается от одного холста к другому, разглядывая лица.
— Вау, — только и может сказать он.
— А то, — радуется реакции нового знакомого Нил, снова включая обычное освещение. — Вот такую штуку я придумал. Фишка в том, что здесь использованы два вида краски: флуоресцентная и обычная. При дневном свете их цвет совпадает, а при флуоресцентном обычная краска не светится. Вот и вся магия.
— Оставь, как было, — просит Слава.
— Ладно, — соглашается Нил, возвращая призрачный свет.
— Ты сегодня планировал отмечать новый год здесь? — спрашивает Слава.
— Да, а ты? — весело спрашивает Нил, собирая со стопки книг грязные кружки и тарелки.
— Думаю, я не планировал отмечать новый год у тебя. Но метро сегодня работает всю ночь, так что я могу уехать в любой момент.
— Резонно, — соглашается художник. — Кофе будешь, или сразу шампанское?
— Давай начнем с кофе, — предлагает Слава. — Надо бы немного протрезветь, а то к полуночи меня вырубит от переутомлений сегодняшнего дня.
Познакомившись с остальными обитателями квартиры и даже поучаствовав в нарезании салата, Слава на удивление обнаруживает, что ему до сих пор не хочется сбежать из шумной и совершенно чужой компании. Все ведут себя дружелюбно и, кажется, совершенно не спешат задавать лишних вопросов. Слава решает вести себя так, как будто ничего необычного не происходит, а все эти люди ему уже давно знакомы. И все негласно соглашаются подыграть ему. А к полуночи вся толпа идет к Нилу и выбирается через мансардное окно на крышу. Они выносят одеяла, несколько термосов глинтвейна и игристое и, сгрудившись покучнее, чтобы не соскользнуть и не замерзнуть, располагаются смотреть салюты.
Конец линии 10.
Санкт-Петербург, 2023
Бывший китаец послушно умолкает и, докурив, ретируется восвояси. Просмотрев цены на билеты, Слава понимает, что спешно покинуть планету не получится, и выходит на автобусную остановку. «Двойка», естественно, не хочет идти, несмотря ни на какие уговоры и напрасные попытки покурить, сыграв на законе падлости. Но вот приходит очередная «тройка», и Слава решает, что лучше проехать длинным путем, зато в тепле. Впрочем, печка в автобусе не работает, и Слава спрыгивает на Адмиралтейской, чтобы пересесть на метро. В метро Славу, конечно же, отправляют на досмотр, потому что именно так, видимо, должны выглядеть террористы. Несмотря на опустошенные карманы, противная арка продолжает звенеть, и Слава долго объясняет сотрудникам полиции метрополитена, что вытащить железные носы из ботинок и снять все молнии с куртки не получится. В конце концов, удостоверившись, что звенят именно ботинки, Славе все-таки разрешают пройти турникет.
Поразмыслив в пути, Слава решает выйти на «Кировском заводе» и зайти в дисконт, дабы обновить свой весьма повидавший виды гардероб. Взяв очередную черную толстовку и черные джинсы, Слава заходит в пивной бар, расположенный в торговом комплексе на первом этаже. Здесь, как и раньше, подают пиво в литровых кружках, а на бумажном меню с обратной стороны напечатаны поля для игры в морской бой. Всякий раз, когда сестра наведывалась к Славе в гости, они шли именно сюда: накупить ей шмоток по скидке и выпить пиво, затапливая корабли друг друга. Вот и сейчас Слава заполняет два поля кораблями и открывает на телефоне генератор рандомных чисел. Генератор выдает «9» и «8». Значит, «И8». Мимо. Переход на другое поле. «6» и «6». Значит, «Е6». Попал. Генерируем число от 1 до 4. «2» — Восток, значит, «Ж6». Попал. Дальше, соответственно, «З6», и трехпалубник убит.
— Вы играете в морской бой сами с собой? — раздается чей-то голос.
— Нет, — отвечает Слава. — С генератором случайных чисел.
— Научите? — спрашивает длинноволосый молодой человек в косухе, стоящий перед его столиком с такой же литровой кружкой пива.
«Вот и встретились два рокера», — с горечью думает Слава, а вслух выдает:
— Научу.
Молодой человек садится за столик, и Слава объяснят принцип игры в морской бой с рандомайзером.
— Сыграем вместе? — предлагает молодой человек.
— А почему бы нет? — неожиданно для себя решается Слава. — Все равно спешить некуда.
— А как же новый год, оливье, телевизор? — иронизирует новый знакомый.
— Смеешься? Я не видел телевизора уже лет восемь, и, надеюсь, и в будущем не увижу.
— Резонно. Но разве тебе не надо ехать домой или к друзьям?
— Нет. Меня никто особо не ждет, — пожимает плечами Слава.
— Кстати, я Нил, — представляется молодой человек.
— Слава.
Они пожимают руки.
— А полное? — спрашивает новый знакомый.
— Мстислав.
— А я Даниил. Странное у тебя имя, — хмурится он.
— Согласен, — вздыхает Слава. — Мне тоже не особо нравится. Но, если интерпретировать через Сенеку, то ничего, сносно...
— Прости, я в философии не очень шарю, — говорит Нил. — Что значит, интерпретировать через Сенеку?
— Он пишет: «Отомсти за себя, и время, что у тебя отнимали и крали, что зря проходило, собери и сохрани».
— Неплохой вариант, — соглашается Нил. — Ты философ?
— Только если переводить слово философ с английского, как feel sofa, то есть «чувствующий диван».
— Значит, лингвист, — предполагает Нил.
— Снова мимо, — ухмыляется Слава.
— Ага! — вдруг восклицает Нил, указывая на значок, прицепленный к толстовке Славы. — Это же HTML-коды цветов! Ты дизайнер!
— Тогда, скорее дазайнер, от хайдегеровского Dasein, но это тоже не совсем моя тема. Прости, сегодня был зачет по философии, так что с головой до сих пор не все в порядке. А вообще, я композитор.
— Песни пишешь? — наивно спрашивает новый знакомый.
— Нет. Симфонии, оперы и балеты, — обламывает его Слава.
— Ух ты! — восхищенно восклицает Нил. — А я художник.
— Да, так я и подумал, — говорит Слава. — Кроме вашей братии, никто не может догадаться, что написано у меня на значке.
— Ну, я тоже не помню коды всех цветов наизусть, — смущенно признается Нил. — Так что за цвета у тебя выписаны?
— Основные шесть цветов радуги. Их не так уж сложно запомнить... — начинает объяснять Слава.
— Вообще-то радугу обычно раскладывают на семь цветов... — перебивает его Нил. — А, я понял! Это радужный флаг! Хитрó придумано.
— Ты закончил живописать корабли? — переводит тему Слава.
— Да.
— Тогда Е3.
— Мимо.
— Интересно, а другие игры у них есть? — с досадой сминая проигранный бой, спрашивает Нил.
— У них нет, — отвечает Слава. — А у меня есть с собой колода таро. Можем сыграть в дурака. Или еще во что-нибудь.
— Серьезно? Ты на таро в дурака играешь?
— А что? Кто сказал, что нельзя? Те же карты, только с картинками.
— А на что играть будем? — спрашивает Нил.
— Проигравший покупает два шота, — предлагает Слава.
— Этак я совсем разорюсь, — хмурится Нил. — Я сейчас на мели.
— Не бойся. Проигрывать в карты — это моя участь. Или давай брать по одному шоту.
— Идет, — соглашается художник. — А как насчет закуски?
— Давай первую партию сыграем на гренки, — предлагает Слава.
— Необычная у тебя колода. Авторская? — спрашивает Нил, рассматривая карты.
— Да, досталась от сестры. Она тоже художница.
— Значит, в живописи ты разбираешься?
— Честно говоря, не очень. Но Поллока от Босха отличить могу, — пожимает плечами Слава.
— А Ива Кляйна знаешь? — спрашивает Нил.
— Нет, — честно признаётся Слава. — Расскажешь?
— Его называют художником одной краски. Потому что рисовал он практически исключительно синим. И еще людьми рисовал: обмазывал их краской с ног до головы и бросал на холст. Впрочем, я не думаю, что лить краску и рисовать человеками — единственно верный путь. Но, что мне нравится у Кляйна, так это движение, застывшая хореография. Ты буквально видишь, как художник бежал из одной части холста в другую, как он махал руками, приседая и подпрыгивая. В этом определенно что-то есть.
— Никогда не рассматривал живопись с точки зрения хореографии, — задумчиво поднимает бровь Слава. — А ты в каком стиле пишешь?
— Зарабатываю как монументалист. А сейчас увлекаюсь абстракцией. Накупил флуоресцентного акрила и радуюсь. Но буржуям это не нужно. Они все как один хотят жить в Сикстинских капеллах.
— Так ты Микеланджело? — ухмыляется Слава.
— Я неудачник, — вздыхает Нил. — Мне приходится делать то, что я умею, но чего не хочу, чтобы заработать на хлеб.
— Расслабься, — машет рукой Слава. — Мало кто из художников, в смысле, áртистов в целом, мог при жизни зарабатывать тем, что он хочет. Так или иначе, искусство — тоже товар. И нам приходится продаваться. Главное, чтобы оставались силы на собственное творчество.
— Так что, — указывая на кружку Славы, спрашивает Нил. — Стакан на половину пуст или на половину Поллок?
— Главное, чтобы не на половину Пруст, — ухмыляется Слава.
— А ты его читал?
— Пытался. Потом стошнило цветами, и я понял, что с меня хватит.
— Хех, — ухмыляется Нил. — Если тебе не нравится Пруст, значит, ты просто не умеешь его готовить.
— Думаю, Пруста было кому готовить, в смысле жарить, — каламбурит Слава. — А что касается стакана, то он просто стакан. Гласс. Филипп Гласс.
— А, это композитор-минималист, да? — врубает Нил.
Хорошо подняв градус и повеселев, новые знакомые все-таки покидают бар, выходят на улицу и закуривают, глядя на падающий снег.
— А хочешь мои картины посмотреть? — внезапно спрашивает Нил. — Я тут недалеко живу.
— Серьезно? Ты вот так просто приглашаешь едва знакомого человека к себе домой? — удивляется Слава.
— А ты вот так просто можешь пойти к едва знакомому человеку в гости? — отвечает вопросом на вопрос Нил.
— Могу. Если честно, мне все равно. На самом деле, я совершенно не доверяю людям, даже хорошо знакомым. Да и смерть может ждать за любым поворотом, но, если не рисковать, то можно и всю жизнь прожить без шампанского, — и Слава опять переходит на стихи:
— Есть доля иронии в состоянии,
Когда никто и нигде не ждет.
Есть доля истины в том, что я идиот.
На самом деле, я просто отчаянный.
— Неплохо, — оценивает Нил. — Чьи это стихи?
— Бродский, разумеется, — внаглую врет Слава.
— А за шампанским еще успеваем? — спрашивает Нил, решив на всякий не подвергать сомнению ответ Славы.
Поднявшись на верхний этаж сталинки, они оказываются в просторной квартире. Ее стены сплошь покрыты картинами, а бесчисленные арт-объекты заполоняют едва ли не все горизонтальное пространство, практически лишая непривычного к такому изобилию красоты человека возможности перемещаться.
— Нихуясе, — тихо произносит Слава. — Это все твое?
За закрытыми дверьми, выходящими в коридор, слышатся голоса.
— Нет, у нас тут полная коммуналка худуёжников и дизигнеров, — отвечает Нил. — Чуть позже познакомлю.
Аккуратно протискиваясь вслед за Нилом, легко лавирующим зигзагами меж причудливых скульптур, Слава проходит в мансардную комнату, выкрашенную в белый цвет. Вдоль стен стоят чистые и уже расписанные холсты, коробки с красками и мольберты, на некоторых из которых и впрямь подсыхают флуоресцентно-акриловые абстракции. Шкафа у Нила нет, только покосившийся металлический рейл, заваленный вещами. На полу в несколько стопок свалены книги. Они же служат, видимо, кофейным столиком. Вместо кровати — матрас с полосатым сине-белым постельным бельем.
— Прошу прощения за нескромный вопрос, — говорит Слава. — А постельное белье тебе митьки шили?
Нил заходится смехом.
— А говоришь, в живописи не разбираешься! — качает он головой.
— Не разбираюсь, — отвечает Слава, рассматривая картину с разноцветными квадратами. — Но твои абстракции мне нравятся. Они жизнеутверждающие.
— Херня, — отмахивается Нил. — А теперь посмотри вот так!
Он выключает верхний свет и включает флуоресцентную лампу, и внезапно, когда цветные квадраты начинают светиться, на их фоне проступают темные линии, складывающиеся в портреты. Завороженный, Слава перемещается от одного холста к другому, разглядывая лица.
— Вау, — только и может сказать он.
— А то, — радуется реакции нового знакомого Нил, снова включая обычное освещение. — Вот такую штуку я придумал. Фишка в том, что здесь использованы два вида краски: флуоресцентная и обычная. При дневном свете их цвет совпадает, а при флуоресцентном обычная краска не светится. Вот и вся магия.
— Оставь, как было, — просит Слава.
— Ладно, — соглашается Нил, возвращая призрачный свет.
— Ты сегодня планировал отмечать новый год здесь? — спрашивает Слава.
— Да, а ты? — весело спрашивает Нил, собирая со стопки книг грязные кружки и тарелки.
— Думаю, я не планировал отмечать новый год у тебя. Но метро сегодня работает всю ночь, так что я могу уехать в любой момент.
— Резонно, — соглашается художник. — Кофе будешь, или сразу шампанское?
— Давай начнем с кофе, — предлагает Слава. — Надо бы немного протрезветь, а то к полуночи меня вырубит от переутомлений сегодняшнего дня.
Познакомившись с остальными обитателями квартиры и даже поучаствовав в нарезании салата, Слава на удивление обнаруживает, что ему до сих пор не хочется сбежать из шумной и совершенно чужой компании. Все ведут себя дружелюбно и, кажется, совершенно не спешат задавать лишних вопросов. Слава решает вести себя так, как будто ничего необычного не происходит, а все эти люди ему уже давно знакомы. И все негласно соглашаются подыграть ему. А к полуночи вся толпа идет к Нилу и выбирается через мансардное окно на крышу. Они выносят одеяла, несколько термосов глинтвейна и игристое и, сгрудившись покучнее, чтобы не соскользнуть и не замерзнуть, располагаются смотреть салюты.
Конец линии 10.
Санкт-Петербург, 2023