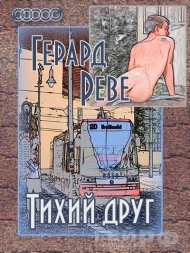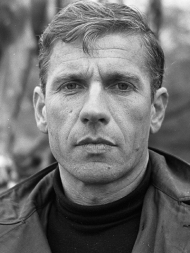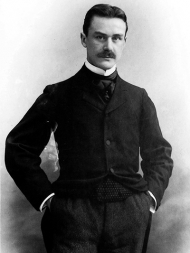Герард Реве
Тихий друг
Аннотация
Вернувшись после долгого отсутствия в Амстердам, писатель Джордж Сперман окунается в прошлое. Воспоминания о грешных молодых годах и нежных встречах с милым юношей преследуют его. До Бога высоко, и людям приходится обходится тем, что они имеют, - несовершенными телами и страстной обнаженной душой. Грустная и откровенная повесть классика нидерландской литературы о невозможной любви.
Перевод С. Захаровой.
Виму Б.
I
В ноябре 1981 года от Рождества Христова писатель Джордж Сперман несколько дней пребывал в родном городе Амстердаме, где не жил уже лет десять, потому что перебрался за границу.
Он остановился в квартире уехавшего в отпуск друга и заодно присматривал за имуществом и комнатными растениями. Квартира находилась недалеко от дома, где он прожил много лет, в том же б*ядском районе старого города. Его угнетали возвращение в прошлое и воспоминания о прежних временах.
Когда началась эта история, Сперман находился в вышеупомянутом жилище; им овладели мрачные мысли. Он и не подозревал, что в тот день случится нечто необычайное.
Вечерело. Сперман раздумывал, стоит ли прогуляться и зайти к кому-нибудь в гости. Может, позвонить сначала? Он терпеть не мог телефоны: стоит позвонить, и наверняка ничего не выйдет, или приходится встречаться гораздо позже или вообще на следующий день, и вот так все планы рушились. Нет, он решил пойти без предварительного звонка.
Уже начало темнеть, когда на остановку «Склад „Пчелиный Улей"» подошел трамвай № 25, следовавший от Центрального вокзала. Сперман уже сел в трамвай, но автоматические двери еще были открыты, когда мальчик, стоявший на остановке спросил:
— Извините, этот трамвай идет до отеля «Окура»?
Сперман не знал наверняка.
— Это может быть и четверка, — ответил он. — Спросите у водителя.
Он показал на трамвай № 4, стоявший сразу за тем, в который он сел. Мальчик тут же бросился к кабине водителя трамвая № 4, выслушал ответ, побежал обратно и успел запрыгнуть в вагон:
— Нет, все-таки этот.
Мальчик сел недалеко от Спермана, как раз наискосок, так что Сперман мог рассмотреть фигуру и лицо. Тут и случилось необычайное: мальчик по-чему-то показался Сперману знакомым. Откуда он мог его знать?
Это был худой, длинноногий мальчик или, скорее, молодой человек, потому что ему было, вероятно, чуть за тридцать. Судя по одежде, мальчик был не из богатеньких и ехал в отель «Окура» не в качестве постояльца. Нет, он работает там, подумал Сперман, — состоит в ночном легионе уборщиков и посудомоек: зарплата плюс, может быть, питание («объедки с царского стола», пробормотал Сперман), но ни малейших шансов сделать карьеру.
Внешность мальчика, походка и голос уже слегка возбуждали Спермана, но мысль о рабском нищенском труде породила сильное желание обладать этим телом.
У парня было худое, хитрое лицо терпеливого зверя, сильно выступающие скулы и рот, по мнению Спермана, «умоляющий о любви», с большими пухлыми губами. Нельзя сказать, что парень выглядел неопрятно, просто чуть неухожено: никто за ним не приглядывает, подумал Сперман, и он редко смотрится в зеркало. У него были непослушные светлые волосы, чистые, но взъерошенные, спадающие на лоб.
Он был в полосатом светло-сером пиджаке, поношенном, но из дорогого магазина: постоялец отеля оставил, подумал Сперман, или подарил за услуги — не будем уточнять, какие. Еще на нем были слишком широкие брюки цвета хаки и старые кеды.
Сперман заметил на одной руке — исцарапанной и огрубевшей из-за постоянного использования сильных моющих средств — три дешевых кольца со стекляшками. Парень поглядывал — у него были глубоко посаженные серые глаза — то на свои руки, то за окно, на прискорбную вечернюю активность большого города под моросящим дождем.
Освещение в вагоне было тусклым, но Сперман с удивлением заметил, что, несмотря на грубые руки, ногти у мальчика красивые и гладкие и явно отливают жемчужным блеском. Спермана это удивило, но очевидное, лежавшее, как на ладони, объяснение не пришло ему в голову.
Но почему бы, подумал Сперман, не подойти к мальчику и не позвать с собой, чтобы тот стал его слугой в чужеземных краях? Он получал бы зарплату — не слишком высокую, конечно, но все же настоящую, — бесплатную еду, да еще и вещи Спермана, которые тот больше не носил.
Он бы сперва сильно баловал мальчика, превратив его в эдакого лентяя, а потом поймал бы на краже якобы случайно забытых на столе денег и наказал, хорошенько избив, чтобы затем удовлетворить свою мужскую страсть со все еще всхлипывающим мальчиком. (Сперман придумал, что из-за плохого мыла и недостатка витаминов у мальчика на спине и бедрах были прыщи, которые тот покорно позволил бы выдавить.) Мальчик был беден и, по мнению Спермана, уже потому заслуживал регулярной взбучки. Может, он еще и сирота вдобавок, и тогда придется наказывать с удвоенной жестокостью — например, отхлестать обнаженного его собственным ремнем: Сперман поймал себя на мысли, что уже испытывал к мальчику определенную симпатию, это наверняка.
Все эти размышления увлекли его, но оставалась еще одна мысль: не знаком ли он с этим мальчиком?.. Но откуда, с каких пор?., может, когда-то, бог весть, в далеком прошлом между ними что-то было? Но его-то мальчик не узнал… «Это время, — подумал Сперман. — С годами меняешься и явно не в лучшую сторону». Что такое старость, Сперман еще не знал, но уже достиг возраста, когда хвастаться больше нечем.
Тут Сперман увидел вырисовывающийся сквозь тонкую завесу дождя бетонный шкаф отеля «Окура» и махнул мальчику. Тот кивнул и встал.
— Еще раз спасибо, — вежливо поблагодарил он.
На следующей остановке он вышел, достал сигарету английской дорогой марки из пачки в десять штук, прикурил и исчез.
Сперман тут же пожалел, что вечно не может решиться, пока не станет слишком поздно. Чтобы еще раз увидеть мальчика, ему придется дни напролет караулить возле отеля, если тот действительно там служил, а не заехал случайно, например, чтобы безуспешно попытаться устроиться на работу. А если он сделает запрос в администрацию отеля, они позвонят в полицию или психушку. Но, может быть, этот момент узнавания был заблуждением, и на самом деле они никогда не встречались прежде. И вполне может быть — Сперман зарычал от ярости при этой мысли — мальчик даже не был поклонником мужской любви.
Сперман решил вернуться к своим планам, но вдруг понял, что совершенно забыл куда и к кому собирался.
— Смешно, — пробормотал он.
Только подумать, что он вдруг столкнется в трамвае с кем-то, и тот спросит, куда он едет! «Видел в трамвае Спермана, так он даже не знал, куда едет». С ума ведь сойти. Ну, слава богу, вспомнил. И вовремя, потому что на следующей надо было выходить.
Сперман подошел к дому и позвонил. Квартира была на втором этаже, но электрический звонок звучал пронзительно и четко. Никто не открывал, и с каким-то безнадежным упрямством он позвонил еще два раза. И вот: дверь подъезда с силой распахнулась, громко ударившись в стену коридора.
— Их нет дома! — заорал сверху высокий женский голос. — Перестаньте трезвонить, весь дом трясется!
— Да, звук сильный, — пробормотал Сперман. — Простите, что я — совершенно неосознанно — причинил вам столько неудобств, — запрокинув голову, прокричал он как можно громче и закрыл дверь.
— Опухоль тебе за сердцем, чтобы доктор подольше искал, — прорычал Сперман сквозь зубы.
Вот так придешь к кому-то с самыми лучшими намерениями, а тебя облают почем зря! (Сперману нравилось время от времени строить сомнительные логические цепочки: ведь отсутствующий приятель со второго этажа не орал на него.)
И куда теперь? Обратно на трамвай? Нет, несмотря на морось, он решил хотя бы часть дороги пройти пешком. Трамваи обгоняли его, а он все шел. Ему не хотелось ехать на трамвае. Бог знает что за мальчик может там сидеть: одного трамвая с одним мальчиком за вечер ему хватило.
А вот чего ему хотелось — и как ему в голову пришла такая мысль, неизвестно — так это добрую порцию жареной рыбы. Но было уже полшестого, и магазины закрылись.
— Жареная рыба, — произнес он вдруг так громко, что испугался собственного голоса.
Ну да, точно: вот она, связь с прошлым, если, конечно, это был он, тот самый мальчик из прошлого: жареная рыба…
«Слушай, — сказал Сперман себе, — давай без предчувствий или метафизики, или как это там называется, будем размышлять эмпирически и математически». Сколько лет тому мальчику из трамвая? Тридцать два, тридцать три — ладно, тридцать четыре, какое совпадение, прям как Спасителю в год мученической смерти. И если так, то-с временной точки зрения-он вполне мог быть тем мальчиком из прошлого, которому было лет шестнадцать, семнадцать…
«Это он», — подумал Сперман. В доказательстве не хватало одного звена: мальчик не узнал его, Спермана, но разве это удивительно, после стольких лет? Эти ресницы, прищур, голос, кольца… Да, и ногти, точно: эти блестящие отполированные ногти… Неужели остается место сомнению?
Надо было заняться им, сейчас, да и тогда, упрекал себя Сперман, надо было пойти за ним. Он был одинок, о так одинок, этот мальчик, и неизвестно, что у него была за квартира, если он где-то и жил постоянно? Какой-нибудь угол, два на два метра, раковина в коридоре, не больше… Он ведь мог пожить у него, Спермана, в заграничном поместье… Временно? Нет, навсегда… Он стал старше, но тело осталось тем же, прежним, стало даже более несчастным и рабским, еще более предопределенным к рабству и подчинению… «Он признается мне во всем, что натворил за прошедшие годы, — решил Сперман. — Я покажу ему, что такое боль».
Сперман почувствовал такую печаль от утраты, что у него закружилась голова и чуть не затошнило, но он заставил себя вспомнить это неизменившееся, по-прежнему вожделенное тело в злотворной чарующей наготе: рабская шея и плечи, спина с несколькими прыщиками, а там, внизу, боязливая и все еще юная удвоенная штрафная площадка или как там это называется, бледное любовное седло, готовое к путешествию в страну любви… «Поэт есть поэт, — подумал Сперман, — тут уж ничего не поделаешь. Но боль заставит его признаться во всем, во всем… Нам некуда торопиться».
Разве Сперман не был немного странен?
— Высокочтимые господа, — пробормотал Сперман, — я человек плохой и грешный, живу на свете исключительно по милости Божьей, но этот мальчик мне действительно не безразличен. Я ведь не мучаю мальчиков, к которым равнодушен? Это грех, да, но не смертельный. Можете сами поискать в каких-нибудь книжках.
У Спермана пропали всяческие сомнения: это был именно тот мальчик, и Сперман даже вспомнил, как его звали: Марсель… Какая, кстати, наглость: нищий, почти наверняка сирота, а туда же: Марсель…
II
Еще несколько дней, а потом по дороге в свое пустующее заграничное поместье Сперман никак не мог отделаться от мысли о встрече в амстердамском трамвае и думал о связанных с ней делах давно минувших дней и странном стечении обстоятельств. Вспомнив другие события того же периода, Сперман смог точно определить, в каком году это произошло.
Да, все это случилось чуть больше двадцати лет назад. Шел 1962 год, и Сперман жил тогда в «трагическом одиночестве и вопиющей бедности» — как он это теперь торжественно именовал, — в одной норе на четвертом этаже в центре Амстердама, на Аудерзайтс Ахтербюрхвал.
Туда-то он и пригласил однажды вечером поэта или писателя, то есть ни того, ни другого, а просто барда из Гронинга или Фрисландии, которому Сперман — Господи, помоги — по доброте душевной предложил переночевать.
От бездуховного трепа этого барда у Спермана все сильней чесалась голова. Выпивки было мало, но Сперман разлил по стаканам то, что было, надеясь, что в опьянении и забытьи чесотка уймется. Но чесалось все сильнее. Выставить барда за дверь Сперман уже не мог. Отчаявшись, он решил прогуляться с бардом по городу. Денег у Спермана не было, но, к счастью, бард заплатил за пару кружек.
Но сколько ни шатайся по кабакам, рано или поздно нужно возвращаться домой. Кроме этой чесотки, Спермана беспокоила ужасная мысль, что бард может оказаться приверженцем мужской любви и высказать определенные желания, а Сперману не хотелось к нему даже прикасаться.
Недалеко от дома Спермана, по дороге обратно на Стоофстеех,[19 - Stoofsteeg (нид.) — Жаровенный переулок.] где восседала 74-летняя проститутка (продажная женщина), у которой дела все еще шли неплохо, бард-филолог изложил Сперману суть своей просьбы. Его знакомый гомосексуал-альбинос играл на баяне (аккордеоне), но не мог заработать на жизнь одними концертами. Не согласился бы Сперман посодействовать, чтобы альбиноса записали в очередь на субсидию Министерства культуры? У Спермана ведь столько хороших связей вообще, и в чиновничьей среде в частности?
— Я посмотрю, что можно сделать, — кротко заверил его Сперман, глядя на один из светящихся уличных фонарей, которые висели на натянутых между домами проводах: ночной ветер раскачивал их, и они будто говорили то «да», то «нет» — все зависело от того, во что тебе хочется верить. «Какая мука эта жизнь, — подумал он, — какой несовместимый с жизнью кошмар моя — моя — жизнь. За что? Что я сделал?»
Они дошли примерно до середины улицы и, освещаемые сбоку фиолетовыми лучами из вышеупомянутой конторы проститутки, находились как раз под средним уличным фонарем, когда из-за угла появился мальчик или молодой человек и зашагал им навстречу.
Сперман и до этого чуть запыхался во время праздного шатания по прокуренным, душным распивочным, но сейчас у него просто перехватило дыхание: это прозвучит банально, но легкая поступь юноши околдовала его. Сперману показалось что мальчик в коротком плаще цвета хаки и черных или темно-синих матросских брюках олицетворял совершенную мужскую наготу.
Юное лицо-на первый взгляд, мальчику было лет семнадцать или восемнадцать — обрамляли прямые волосы, и казалось, что мальчик сошел с флорентийского портрета эпохи Возрождения (для писателя Сперман неплохо разбирался в изобразительном искусстве), но, приблизившись и попав под более яркий свет, он стал походить, скорее, на персонажа гравюры какого-нибудь вдохновленного социализмом художника конца века, маскирующего жадную педерастию сочувствием к судьбе молодого рабочего. «Да, ужасно, как бесстыдный капитализм эксплуатирует милых мальчиков», мрачно подумал Сперман.
Подойдя вплотную, мальчик бесстыдно и отважно взглянул Сперману прямо в глаза. «Что это значит?» — вот и все, что Сперман успел подумать. Мальчик прошел мимо. Услыхав легкий шелест не слишком туго затянутого пояса на плаще, Сперман задрожал.
Он не смог удержаться и обернулся. И надо же: сделав несколько шагов, мальчик тоже остановился и оглянулся.
— Агнец Божий, спаси меня, — пробормотал Сперман.
И что теперь? Господи, да что он, связанный по рукам и ногам северонидерландским бардом, мог сделать? Он не мог позвать мальчика с собой. Было уже поздновато. Им придется ложиться спать, а дома только два спальных места, к тому же в одной комнате. И представить только, что этот бард потянет к милому принцу бородавчатые ручонки!..
Немедля договориться о встрече, но как?.. Сперман лихорадочно рылся в карманах слишком, в сущности, молодежной американской военной курточки. Только какие-то веревочки и бумажные катышки. Хорошо бы найти адресованный ему конверт или хотя бы огрызок карандаша, чтобы, быстро разгладив клочок бумаги, записать свое имя и адрес. Нет, ничего… Что за слепую неудачу опять подкинула ему жизнь…
Секундочку… Вдруг у него в руках оказалась почти несмятая бумажка — банковская квитанция, с указанным на ней состоянием счета: 23,66 гульденов. С этим нищенским клочком бумаги он подошел к мальчику. Времени на реверансы не было.
— Если захочешь зайти… — проговорил он, тяжело дыша. — Не сегодня вечером… Завтра… Или потом… Я почти всегда дома… Мое имя есть в телефонном справочнике… если захочешь позвонить… Вот здесь мое имя… И адрес… Я живу совсем недалеко отсюда… За углом…
Мальчик взял бумажку. Увидев его издалека и потом, когда он проходил мимо, Сперман чувствовал прикосновение к совершенству, но сейчас, когда мальчик стоял перед ним и вновь смотрел на него, Сперман яснее ясного осознал, как смехотворна и пуста его собственная жизнь. Он знал мальчика, хотя они никогда не встречались: это был принц из его снов, из детства, полного лишений: принц, которому он отваживался отдать свое сердце только во тьме, в одинокой постели; сказочный принц с цветных картинок книги, хранимой в шкафу с игрушками, за дверцей с треснутым витражом; следопыт с обнаженным торсом, который, согнувшись, разглядывает царапину на коленке — с картинки волшебного фонаря…
У мальчика было красивое, правильное и честное лицо. Судя по губам, он еще очень молод: может быть, и семнадцати лет. Ему, казалось, неведом стыд, он лишь несколько удивился прозаическому, даже вульгарному способу, которым Сперман пытался завязать знакомство.
— О. Да. Спасибо, — равнодушно произнес он.
Только услыхав его голос, Сперман — помимо почитания и обожания — испытал плотское, вопиющее желание.
Когда мальчик сунул бумажку в карман плаща и отступил на шаг, Сперман услышал позвякивание. Он что, нес за пазухой мешок с крадеными драгоценностями? Нет, решил Сперман, тогда бы он не остановился, а быстро пошел дальше.
Бесстрашный взгляд из-под слегка вьющейся, русой челки, спадающей на лоб, казалось, дразнил, и Сперман представил себе мальчика голым: на какую-то долю секунды одежды стали прозрачными, и Сперман ясно увидел его бестрепетный, выпирающий, смуглый уд.
— Сегодня никак не получится. В другой раз, — нагло повторил Сперман, будто мальчик наверняка пошел бы с ним, если бы Сперману было удобно.
На самом деле, Сперман был практически уверен, что мальчик никогда не постучится в его дверь и даже не остановится, если встретится с ним на улице.
— Хорошо, — спокойно ответил мальчик. — Увидимся. Приятного вечера. До встречи.
Это «приятного вечера» звенело у Спермана в голове, когда он вновь присоединился к своему проклятому, но живехонькому попутчику.
— Кто это был? — вдобавок спросил тот.
— Да… так… брат сестры, — ответил Сперман.
Слова, звуки… Главное, говорить: какая на хрен разница, что. Бард, казалось, был удовлетворен ответом и не заметил бессмыслицы.
Вскоре они вернулись домой, ну да, домой… Разве где-то на этом свете у него был дом?..
В такое время пора ложиться спать, но, несмотря на усталость, Сперман был бодр, а его мысли как-то мучительно ясны. Выпить, что ли? Пожалуй, только вот нечего…
— Выпить хочешь? — спросил Сперман, лицемерно шаря в пустых шкафах.
Да, бард «выпил бы еще по рюмочке».
— Деньги кончились, — озабоченно сообщил Сперман, — а то я купил бы в кафе за углом. У них там дороже, чем в магазине, но ненамного. Торговать не имеют права, но мне бутылку продадут, они меня знают.
Бард тут же извлек из кармана деньги. Сперман успел в кафе как раз перед закрытием и принес оттуда бутылку можжевеловой водки, которую ему продали, осторожничая и осматриваясь, завернув в газету и сунув в пакетик.
Прикладываясь к бутылке, бард без умолку болтал, а Сперман слушал, осознавая и понимая все — если вообще было что понимать, — но ему совершенно не удавалось скрыть отсутствие интереса. Он понял, что уже далеко за полночь, и что он слишком пьян, чтобы возражать барду и тем самым напроситься на неизбежную ссору. Поэтому он ограничился кивками и задумчивым хмыканьем. На самом деле его мысли были далеко, он думал о недавней встрече с волшебным принцем на Стоофстеех. Переулок стал символом темного унылого прохода, которым и была жизнь. То, что мальчик явился Сперману в лиловом свете порочного промысла семидесятичетырехлетней бляди, у которой (Сперман не знал наверняка) не было то ли ступни, то ли всей ноги, — парадоксальным образом доказывало его невинность и чистоту: что бы мальчик ни делал, грех не касался его и, конечно, не мог в него проникнуть. Или Сперман идеализировал свое видение? Однако, он, к примеру, понимал, что никогда не сможет вставить барду мозги, но что это доказывало? А вот эта встреча в переулке случилась неспроста, что-то в ней было. Рано говорить о доказательстве бытия Божьего — ни к чему заходить так далеко на первых порах, — но это явно был знак, вот что.
После четвертой или пятой рюмки женевера Сперману уже едва удавалось сдержать слезы: он ведь даже не знал, как зовут мальчика, значит, никогда не сможет, угождая одной рукой своей одинокой страсти, назвать его золотым, безгрешным именем. Тот, кто знал секретный код переулка, мог бы, пораскинув мозгами, расшифровать имя на основе нескольких слов, произнесенных мальчиком при встрече, но ему, Сперману, имя не откроется.
— Назови же мне имя, — произнес он вслух.
— Имя? Какая разница? — прокаркал бард в ответ. — Чернь падка на красивые имена.
Он как раз рассказывал, что пишет или собирается написать — что для него было, скорее всего, равнозначно-литературное произведение, в котором изобразит «все совсем иначе», с «другой точки зрения». Поэтому он называл это не «книгой», а «проектом».
— И каждый персонаж рассказывает свою историю о случившемся.
— Ну конечно, — поддакнул Сперман.
Не было никакого смысла что-то доказывать. Если не умеешь писать, всегда можно прибегнуть к раздробленности: рассказ в этом случае, может быть, и становится бессмысленным, непонятным и неудобоваримым, но отсутствие порядка и единства видения делает тебя неуязвимым для критики, которая естественно не может высказаться по поводу смысла рассказа или авторского видения по причине их отсутствия.
А если не умеешь рисовать, закончил мысль Сперман, то просто берешь и малюешь полотно полтора метра в высоту и двадцать два в длину, чтобы наверняка разругаться с директором музея и тем самым доказать, что ты — гений, изнасилованный тупыми бюргерами. (Истинно паразитическое, загодя субсидированное искусство-террор более позднего периода — вроде связанных корабельных мачт весом в тонну, продавливающих музейный пол, или «концерта для оркестра и восемнадцати роялей», — тогда еще не изобрели.)
— Умереть, — негромко, но все же вслух произнес Сперман. — Он должен умереть.
— Ты слишком часто говоришь о смерти, Джордж, — справедливо заметил бард. — С чем мы имеем дело — единственно, с чем мы имеем дело — это жизнь. Потому что это она и есть.
— Совершенно верно, — признал Сперман, — Один умирает молодым, другому дарована долгая жизнь. И кто знает, почему.
Бард выглядел очень нездоровым и неаппетитным, но вполне мог прожить до ста лет. Времени по горло, чтобы закончить свой новаторский прозаический проект, в котором «каждый персонаж рассказывает свою историю о случившемся». Сперман даже не думал вставать у него на пути. Нет, он не посмеет, да и кто посмеет, но в голосе барда слышалась горькая ненависть: ему мешали, ставили палки в колеса, он «нигде не находил понимания». Скорее всего, он вычитал в какой-нибудь Эн Ци Кло Педии, что большим художникам обычно не везло: или с женой, которая не хотела мириться с пьянством, или с публикой, которая не хотела их читать, или с поставщиками, настолько наглыми и бесчеловечными, что они требовали оплатить заказ; а порой не везло и с влиятельными чиновниками, которые могли посчитать наготу скандальной, а книгу — аморальной. У барда тоже были — или ему хотелось так думать — какие-то сложности с бюрократией, которую он, уже порядком запьянев, вместо инстанции временами называл дистанцией.
Но как такое могло быть? Сперман считал, что, создав литературное произведение, единственная проблема — это найти издателя, который услышал бы в этом мелодию: по одной из статей Конституции разрешение на то, чтобы открыть миру свои мысли или чувства при помощи печатного станка, не требуется — если все в соответствии с Законом, что само по себе разумно.
Между тем, Сперман был уверен, что еще ни слова из этой бардовской книги не было на бумаге. Чего он тогда хочет? И вдруг Сперман понял: была какая-то связь с тем альбиносом-гомосексуалом, который играл на баяне (аккордеоне) и которому по ходатайству Спермана Министерство Культуры должно было выделить субсидию. Бард, конечно, хлопотал за альбиноса, да, но, по мнению Спермана, половина добычи или даже большая ее часть предназначалась самому барду: вот оно что! Барду, который пишет книгу, еще можно отказать, но вот альбиносу, сочиняющему музыку — вряд ли: его было жалко, пусть хоть потому, что он — диковина, значит, можно без зазрения совести сказать министру: берегите то немногое, что у вас есть. Сперман с удовольствием вручил бы половину субсидии альбиносу, но отдавать другую половину барду — увольте. Что за грязное надувательство: использовать факт, что кто-то родился без пигмента в коже, с белыми волосами и красными глазами: это ведь чистый расизм! Он, Сперман, действительно займется этим делом, вот увидите, но плясать под бардовскую дудку не будет: завтра же он отправит письмо в Министерство Культуры, в котором полностью раскроет замысел, с точностью до миллиметра! А почему бы, кстати, Сперману самому не запросить субсидию? Он бы отдал ее альбиносу.
— Как зовут альбиноса? Который играет на баяне? — осторожно спросил Сперман. — Может, я его знаю.
Бард громко рыгнул в ответ. Бутылка опустела уже на две трети, и если Сперман еще хранил некую душевную ясность, то бард вдруг прекратил свою злобную агитацию и осоловел.
Пора было на боковую, и Сперман показал барду его кровать, которая, как и было сказано выше, находилась в той же комнате, где они сидели и разговаривали.
С трудом бард переместился на свое ложе и начал раздеваться. Спермана раздражало в нем совершенно все, но он не удержался и стал его разглядывать.
На барде была обычная, скучная одежда — чистая, но все же Сперману казалось, что каждая нитка пропитана чем-то мерзким: не удивительно, что от барда повсюду распространялась чесотка. С отвращением и страхом Сперман смотрел на только что показавшуюся кошмарную полосатую рубашку с длинноватыми рукавами и не смог отвести глаз когда бард обнажил торс и появилась шкура мертвой ощипанной птицы. Или Сперман преувеличивал? Он перевел дыхание, когда бард — к счастью, не снимая бежевые хлопковые трусы с перламутровыми пуговками — забрался под одеяло. Как раз перед этим Сперман показал, где туалет — на случай, если «приспичит» ночью. Лишь бы он потом на пьяную голову не забрался к нему в постель — Сперман решил забаррикадировать проход к своей кровати скамейкой и креслом.
А что делать с печкой? Комната обогревалась буржуйкой, огонь в ней почти потух. Печь следовало время от времени полностью вычищать, а Сперман слишком давно этого не делал. Было довольно прохладно, и он мог, конечно, почистить печку и развести огонь снова, но пока они будут спать, за огнем следить будет некому, и в комнате станет невыносимо жарко, так жарко, что бард может проснуться и решиться на какие-нибудь действия. Сперман ограничился приготовлениями к утру — положил перед буржуйкой старые газеты и щепки.
Бард уснул, но не храпел. По логике вещей от него должно было плохо пахнуть, но Сперман ничего не чувствовал — видимо, потому, что алкоголь притупил нюх.
Голова чесаться перестала. Благотворная и столь же зловещая ночная тишина объяла его, и никто не мешал покойно уснуть, но он все еще чувствовал себя слишком бодро и мыслил ясно. Он подумал, что надо попытаться привести в порядок мысли, блуждающие в голове.
Сперман выключил верхний свет, оставив лишь металлическую настенную лампу, взял бутылку, стакан и, поставив их рядом на пол, сел у окна. Снаружи, далеко внизу он видел черную поверхность канала с бесчисленными впадинками, возникающими от бесшумной мороси, которая началась, видимо, после того, как они вернулись домой. Вода в канале двигалась, быстро мчалась меж берегов из-за так называемого ночного водоспуска, унося с собой бутылки, ветки, пластик и другие неразличимые издалека предметы. Все течет, мудро вывел Сперман. Когда же и его подхватит? Вода — это уже само по себе страшно, неужели будет идти такой же беззвучный дождь?..
Но тот мальчик… молодой принц со Стоофстеех в золотых, шуршащих одеждах… может, он сейчас бродит под дождем?.. Или, не желая того, а лишь чтобы оказаться под крышей, он пошел с каким-нибудь мерзким, скверным мужиком, который сейчас… прикасается к нему, раздевает и трогает… Господи Боже мой… Нет, это был не бард, удостоверился Сперман, метнув взгляд на раскладушку. Но нужно учитывать все; скажем, и то, что бард мог, не надевая ботинки, тихонько сойти по лестнице, быстренько обуться внизу и помчаться на Стоофстеех, где по злой шутке судьбы золотой мальчик его мечты, с уже вымокшей головой, случайно пройдет второй раз и позволит барду утащить себя в отель. Это будет вопиющей несправедливостью, потому что Сперман любил мальчика, а барду тот был безразличен и нужен лишь для удовлетворения грязных помыслов.
В конце концов, Спермана осенило. Он спрятал ботинки барда в ящик с углем и поставил его в самый дальний и неприметный угол. Потом он, как и собирался, забаррикадировал проход к своей кровати и лег.
III
Проснувшись на следующее утро с первыми лучами солнца, Сперман тут же почувствовал некую угрозу.
— Новый день, полный надежд и ожиданий, — пробормотал он, но сразу понял, в чем дело: бард не ушел, он все еще находился в квартире.
«А все-таки он уедет, вот увидишь», — подумал Сперман, выбрался из-под одеяла и стал растапливать камин. Бард к тому времени тоже проснулся и, недовольно бормоча, стал одеваться, потому что, по его словам, должен был успеть на какой-то поезд в Лееуарден или Гронинген. Он оглядывался вокруг, будто что-то искал. Когда Сперман решил положить в камин угля, то — как раз вовремя — обнаружил в ящике ботинки барда и поставил их перед ним.
— По ночам звери обычно спят, — объяснил Сперман, так как бард наблюдал за тем, как он выуживает ботинки из ящика с углем, — но лучше убирать вещи с виду, когда ложишься.
Он сам с трудом понимал, что говорит, так сильно у него стучало в голове с похмелья.
— Не волнуйся насчет поезда, — продолжал он, — ты на него точно успеешь.
И все же Сперман не смог подавить в себе эту странную склонность усложнять, а не упрощать ход вещей:
— Ты можешь остаться подольше, — заверил он барда охрипшим после попойки голосом, — я схожу за хлебом и пожарю яичницу.
Он не знал, что будет, если тот согласится. Но нет, барду обязательно нужно было успеть именно на тот поезд, потому что после обеда в учебном центре на севере страны пройдет «формообразующее собрание», на котором без него никак не обойтись.
И оба, не умывшись и не побрившись, пешком отправились на центральный вокзал. Сперман задумался, зачем он, собственно, пошел провожать барда. Может быть, сказал он себе, если бард пойдет один, то просто прогуляется, чтобы потом вернуться и позвонить в дверь. «А если я ушел, то дома никого нет, и открыть некому», продолжал Сперман разговор сам с собой. Он был доволен прозорливостью своих логических построений, это давало ему чувство безопасности, так что, несмотря на похмелье, по дороге на вокзал он делал всякие остроумные замечания. «Бард уедет и больше никогда не вернется, — думал он. — А если вернется, я его отравлю. Яд достать легко».
У барда, казалось, похмелья не было. Он продолжил разговор на ту же тему, жалуясь, как и вчера.
К тому же он напомнил о судьбе гомосексуала-альбиноса, играющего на баяне (аккордеоне).
— Я всегда сначала делаю черновик, — объяснил Сперман, — и внимательно перечитываю. Но не позже завтрашнего дня я отправлю письмо министру. И, знаешь, мне пришла в голову хорошая мысль, — добавил он, зевая от скуки и с трудом скрывая в голосе ненависть. — Расскажи об этом сегодня на собрании. Тогда мы, так сказать, примемся за дело с двух сторон. С двойной силой, так сказать.
Поезд, на который нужно было успеть барду, уже стоял на перроне, и они пришли более чем вовремя. Спермана вдруг охватило дикое желание жить. «Он уедет, — подумал Сперман. — Будет ужасно, если этого не случится. Но, может быть, жизнь не так жестока».
— Не пропадай! — уговаривал он барда, прощаясь. — Надеюсь, увидимся еще?
— Да, надо поддерживать связь, — заверил его бард, растворяясь в толпе пассажиров.
Вернувшись домой, Сперман почувствовал в комнате сильную вонь: если вдыхать ее долго, перестаешь замечать. Он проветрил комнату и порядочно ее выстудил, но огонь в камине занялся хорошо, а как только он закрыл окно, воздух быстро нагрелся.
Сперман помылся и побрился, убрал в комнате, приготовил бумагу и ручку и сел за письменный стол. Был ли прошедший вечер хорошим материалом для рассказа? Бард — это всего половина истории, потому что он еще жив. Мальчик со Стоофстеех, взявший из рук Спермана банковскую промокашку с адресом, — тоже половина, потому что неизвестно, увидятся ли они еще раз.
— Время покажет, — пробормотал он мрачно.
Нет, рассказа тут никак не получалось, потому что из двух полурассказов целого не смастеришь.
«Пойду-ка сначала хорошенько просрусь, — решил Сперман. — Это уж я заслужил».
IV
Сперман решил сварить кофе, налил в кофеварку горячей воды, а кофе положить забыл — и только тут понял, что еще не совсем проснулся.
— И что теперь станет с миром? — произнес он вслух.
Варианта было три: пить, не пить или — лучше всего — начать новую жизнь, вознамерившись как можно больше работать. Последний вариант показался Сперману самым безопасным для общества и здоровья нации.
Карьеру писателя — если в случае Спермана вообще можно было говорить о карьере, — Сперман сделал на том, что убивал время на размышления, разглядывания, питие, и в итоге сочинял не рассказ или роман, а в лучшем случае письмо, в котором живым и пространным языком объяснял, почему его литературные труды развиваются медленно и как изменить мир к лучшему. За рассказ или роман можно было получить денег, пусть немного, но кое-что, а вот на письмо лишь уходило время и деньги за почтовую марку.
И это одиночество в придачу! В моменты трезвости Сперман осознавал, что сочинительство писем было столь же безнадежной, сколь и бесцельной попыткой контакта. «Это крик о любви, вот что», — уверял он себя.
Занимаясь искусством, можно — если чуточку повезет — завоевать признание, уважение, симпатию и щедрость богатых дам, в то время как сочинение писем превращает в объект насмешек, и любой готов тебя пнуть. «Может быть, я — изгой? — допрашивал сам себя Сперман. — Но как тогда получилось, что мое имя стоит в Эн Ци Кло Педии?» Его имя и вправду было в энциклопедии, пусть даже с пояснением всего в несколько строчек.
Если пить, то ничего не напишешь, это точно, и Сперман, как это часто бывало, сам себе запретил пить несколько суток.
Однако уже на следующий день, когда после обеда вроде бы стало солнечней и потеплело, дневной свет освещал все вокруг, но мир почему-то казался еще более безрадостным, чем обычно, Сперман не выдержал и сломался. Винная лавка была недалеко, и Сперман даже не потрудился закрыть дверь на своем этаже и не взял ключи, потому что дверь подъезда все равно всегда стояла приоткрытой, чтобы поставщики и клиенты мастерской по производству ремней, находившейся на втором этаже, могли зайти.
Он пошел в винную лавку на Аудеркеркспляйн за литром самого дешевого выдержанного женевера, но, взойдя на мост на Аудерзайдс Ахтербюрхвал, заметил одного мальчика: сперва тот шел навстречу, потом остановился недалеко от Спермана, чтобы изучить листок, который держал в руке. Вроде бы красивый мальчик, но было в нем нечто своеобразное, необычное, хотя с первого взгляда определить, что именно, Сперман не мог. Мальчик показался ему знакомым, но это могла быть игра воображения.
Но ведь это не…? Сперман слегка вздрогнул. Бумажка у мальчика в руках была того же формата, что и банковская с позавчерашнего вечера, и он по бумажке сверял номера домов…
Сперман находился вне поля зрения мальчика и потому мог спокойно его разглядывать. У мальчика были прелестные глаза и ресницы, а какие губы — изящной формы и глубокого влажного красного цвета! Но что это за круглые штуки у него на запястьях?..
Да-да: это должен быть мальчик со Стоофстеех, теперь Сперман был уверен. Бумажка была действительно той банковской квитанцией, но разве дневной свет мог так изменить мальчика, которого Сперман впервые увидел ночью, при свете фонарей? На какое-то мгновение он даже допустил такую неправдоподобную мысль, что мальчик со Стоофстеех передал бумажку другому — дружку или братику, похожему на девочку.
Он увидел, что взгляд мальчика остановился на номере его, Спермана, дома. И тогда он решил, что пора действовать и подошел к мальчику.
— Это ты, кажется, — сказал он, стараясь говорить как обычно, но голос у него немного дрожал.
— Да, я вижу, — ответил мальчик, в свою очередь таким вот эллиптическим манером давая Сперману понять, что узнал его.
Голос у мальчика был почти такой же, каким Сперман запомнил со времен на Стоофстеех, однако в этот раз Сперман расслышал в нем некую стеснительную или нежную нотку, которая свидетельствовала о желании отдаться или подчиниться. Это новое и незнакомое в голосе на мгновение погрузило Спермана в пучину страсти, но он сразу же собрался: следует быть осторожным.
Между тем Сперман разглядывал мальчика вблизи. Тот был похож на мальчика со Стоофстеех, только казался теперь худощавей и моложе. Было тепло почти жарко, и мальчик был одет легко: белая майка, а поверх нее — ярко-красная хлопковая рубашка с распахнутым воротом. И еще тонкие, с тщательно отглаженными стрелками брюки цвета хаки. Штанины были коротковаты, и Сперман видел голые щиколотки: мальчик был в сандалиях на босу ногу. На правой щиколотке было несколько металлических колец. Тут Сперман взглянул на его руки: на одном только правом запястье мальчик носил три браслета.
У него были прекрасные, густые, темно-русые волосы, слегка вьющиеся на затылке. В левом ухе висела длинная сережка с красным камешком.
Лицо мальчика было удивительно, по-детски моложавым, и безусловную, почти девичью красоту подчеркивал матовый мягкий цвет лица. У Спермана появилось подозрение: может, он… накрашен? И эти губы, пусть даже слегка, подведены помадой?
«Почему в жизни все так бесконечно сложно, — спросил себя Сперман, — во всяком случае, не так просто, как хотелось бы?» Это был тот же позавчерашний мальчик, но он был совсем другой, совсем не принц его мечты, которого Сперман короновал в своих воспоминаниях. «В следующий раз хорошенько рассматривай товар, прежде чем делать заказ», — подумал он.
В мечтах он полностью отождествлял мальчика, которого несколько минут видел на Стоофстеех, со своим идеалом, но идеал, будучи таковым, никогда не найдет воплощения в человеческом теле. Идеальный Мальчик, Золотой Мальчик, Лучший в Мире Мальчик (и т. д.) Спермана обладал слишком уж многими положительными качествами, которые мифически могли соединиться в одном смертном, но генетически — нет: храбрый, суровый блондин, наверняка из очень северного, германского племени (хотя временами Сперман допускал примесь заморской крови, например, малайской), но, несмотря на свою крутизну и отвагу, очень стеснительный и нежный, и, конечно, души не чаял в маме. Он был честен, невинен и храбр, — таким в комиксах изображают плененного и связанного мальчика с длинноватым каре и разорванной на груди рубашкой, которому лесные разбойники угрожают пытками. Воплощенная невинность, готовность пожертвовать собой и нежность — вплоть до каких-то девичьих черт, но это девичье с лихвой компенсировалось неимоверным Удом, размеров которого этот целомудренный зайчик даже немного стыдился!
Ну, а одет он был… Конечно, видавшая виды солдатская форма подошла бы ему, но единственный наряд, который смотрелся на нем достойно и передавал его двойственную природу человекобога, — это, по мнению Спермана, форма следопыта, точнее римско-католических морских разведчиков. Порой лишь Бог и римско-католические разведчики являлись для Спермана единственной правдой на земле. Видимо, двойственная природа формы морских разведчиков повлияла на мистическое видение: почти развратные короткие штанишки и украшенная многими кисточками блядская курточка.
(Уже много лет подряд Спермана волей-неволей тянуло к римско-католической вере. И если когда-то он обратится в эту веру, станет ее последователем, то любовь к форме католических морских разведчиков наверняка сыграет в этом не последнюю роль.)
Нет: в эту встречу, буквально за несколько минут, Сперману пришлось признать, что мальчик нисколько не похож на его, Спермана, Мирового Принца и Героя его Мечты, за исключением того, что он, несомненно, обожает свою мамочку.
Да, он был красив, но выглядел так странно! Сперман не припоминал, чтобы ему встречались такого рода мальчики. А тут он вынул другую руку из кармана, обнажив запястье, и Сперман увидел, что на этой руке у него было тоже несколько браслетов и, по меньшей мере, четыре кольца… А ногти… Сперман не был уверен, но ему показалось, что и ногти накрашены, хотя, может, блестели сами по себе. А на пальцах ног?.. Сперман осторожно бросил внимательный взгляд вниз: да, и ногти на голых пальчиках его ног предавали себя серо-голубым блеском, так что и они, должно быть, накрашены…
И все же… Он выглядел странно, но ведь не отталкивающе? Он такой еще ребенок и, кто знает, может, очень ласковый… Сперман попытался представить его без украшений и макияжа, а вслед, конечно, и без одежды. «Ты имеешь в виду, голым» — поправил он себя. Он будет милым, беззащитным, преданным братом в любви, разве нет?.. Сперман старался не поддаваться этому опьянению чувственной нежности: может, мальчик — просто бесхарактерная уличная шлюшка? Сперман очень плохо разбирался в людях. Вообще-то, он был чуждым миру, довольно подозрительным человеком, который чаще воздерживался или отказывался от любви, чем принимал ее, и все из-за сомнений.
Между тем, пора принять решение. Во всем смятении и опьянении Сперман знал одно: он позовет мальчика к себе, наверх.
Зачем он вышел? Ах, да, купить бутылку женевера. И что теперь? Взять мальчика с собой в винную лавку? Правда, в магазине, где частенько и с удовольствием сплетничают, Сперману будет стыдно за то, как мальчик выглядит. Попросить подождать у входа? Это будет еще подозрительней.
— Да, вот здесь я живу, — сказал он очень деловым тоном. — Зайдешь?
Они подошли к двери, но она оказалась закрытой: кто-то захлопнул. Сперман машинально пошарил в карманах. Ну да, точно: ключи остались дома. Он вспотел.
В доме, кроме него, жильцов не было, и единственная надежда была на мастерскую на первом этаже. Хозяин, который за компанию с двумя швеями пытался выжить посреди непонятных, пахнущих пыльным теплом машин, был замечательнейшим парнем, но боялся всего на свете: воров, отчуждения собственности, взлома, незнакомых посетителей, газетчиков, но пуще всего — пожара. Удивительно, подумал Сперман, что при этом он держит дверь приоткрытой, но ведь в каждом человеке кроются противоречия.
Если Сперман позвонит ему, придется выслушать хриплый, крадущий время бессмысленный монолог, но он понимал, что другого выхода нет. Он позвонил в мастерскую, и дверь открылась.
— Иди вперед, — прошептал он мальчику, — на самый верх, пока лестница не кончится.
— Спасибо большое, господин Стапперс, — прокричал Сперман, увидев на лестничной площадке хозяина, рано поседевшего от забот и страхов. — Вот же дурень — забыл ключи. Слава богу, вы дома.
Мальчик шел впереди и проворно дошагал до второго этажа. Сперман следовал за ним, а на сердце у него становилось тяжело — к добру ли задуманное им?
— Этот человек с вами? — поинтересовался господин Стапперс, когда Сперман тоже дошел до второго этажа, а мальчик, судя по шлепающим сандалиям, был уже у квартиры Спермана.
— Да, все в порядке, — ответил Сперман, запинаясь и краснея.
Что за вздор: разве он сам себе не хозяин?
— Я просто так спросил, — извинился господин Стапперс.
Неужели он все понял?
— Чего только не услышишь в наше время.
— Это точно, — поддакнул Сперман, — стоит только газету открыть…
«Да, — подумал он, — и что еще тут скажешь?»
— Хорошо, конечно, быть в курсе событий, — продолжал он, с отвращением слыша собственные слова, — но, знаете, я иногда предпочитаю газет не читать, а то такие сумасшедшие вещи вокруг происходят.
Сперман слышал, как наверху в доме раздавалось тихое ритмичное поскрипывание — мальчик нетерпеливо переступал со ступеньки на ступеньку. Или он выбивал чечетку?
— Я хотел вас кое о чем спросить, — начал господин Стапперс.
О чем? Попросить не приводить больше домой разукрашенных мальчиков?
— Конечно, господин Стапперс, — с готовностью ответил Сперман.
— Когда вы выходите, я имею в виду, уходите из дома, — начал господин Стапперс умоляющим и заклинающим тоном, — вы все выключаете?
— Я никогда об этом не забываю, — отозвался Сперман.
«Мне сильно повезет, — подумал Сперман, — если этот разговор когда-нибудь кончится».
— Уходя, всегда проверяю, выключен ли газ. Если в кухню светит солнце, пламя не всегда заметишь.
— Электрический рефлектор — это так опасно, — дополнил господин Стапперс свою молитву.
— Я всегда все выключаю, — поклялся Сперман, — и проверяю, перекрыт ли основной кран. А если уезжаю на некоторое время, то выключаю все из розеток. В старом доме никогда не угадаешь.
Господин Стапперс, казалось, несколько успокоился: его страх перед всем возможным, перед всем, что могло случиться, не прошел, но ненадолго утих.
— Хорошая погода, не правда ли? — сказал он примирительно.
— Да, удивительно тепло, — признал Сперман. — Почти не нужно топить.
Воспользовавшись паузой, он попрощался и поспешил наверх.
V
Неизвестно, что за странные звуки слышал Сперман: поднявшись на свой этаж, он увидел, что мальчик вовсе не выбивает чечетку, а спокойно ждет у двери, прислонившись плечом к стене. Вполне возможно, подумал Сперман, что он перенял эту позу из фильма про праздношатающуюся молодежь. Даже если мальчик и не стремился произвести впечатление, все равно эта поза ему великолепно подходила. Безотрадный дневной свет, падающий сквозь стеклянный купол над лестничной площадкой, придавал картине зловещую роскошь. Нет, убедился Сперман: мальчишка задумал что-то скверное, и ничем хорошим это не кончится. Но не мог же он теперь сказать, что у него возникло плохое предчувствие и что «в общих интересах лучше распрощаться». Страсть и жадность кипели в сердце Спермана, но в игру вмешивалось кое-что еще, хотя это, скорее всего, ничего не изменит. Разве он уже не влюбился в мальчика? Судьба проложила их путь, и возврата не было.
— Мог бы и зайти, — небрежно сказал Сперман. — У меня не заперто.
Он открыл дверь, пропустил мальчика вперед и предложил присесть. И теперь, стоя перед ним, Сперман вдруг почувствовал себя неуверенно и смутился. Обнять мальчика, приласкать? Мальчик спокойно разглядывал комнату: к счастью, здесь было, по мнению Спермана, чисто и убрано.
Сперман подумал о том, каким окажется мальчиков запах, когда они познакомятся ближе. Он знал: если мальчик пахнет прогретым солнцем брезентом, кедром, сеном или кожей, то ласкам Спермана не будет границ, и мальчика, настроенного, скорее всего, на получасовой ни к чему не обязывающий перепих, это просто-напросто отпугнет. Но, может, у него будет совсем другой запах.
Сперман все еще не знал, с чего начать. Он вдруг понял, что, несмотря на внешнюю самоуверенность, всегда был скромным и неуклюжим в любви. Нужно выиграть время.
— Подождешь несколько минут? — начал он. — Схожу куплю чего-нибудь выпить. Я как раз собирался в магазин. Ты никуда не спешишь? Я мигом.
Он решил, что неплохо все-таки купить бутылочку женевера и спокойно поразмышлять по дороге.
Мальчик едва заметно кивнул:
— Хорошо.
Или ему это было не по душе?
— Ну, так я быстро. Немного освежиться никогда не помешает, — подытожил Сперман, изобразив, как поднимают и опустошают стакан.
Спускаясь по лестнице, Сперман подумал: «В чем, собственно, смысл жизни?» Да, а ключи-то он опять забыл…
Вздохнув, Сперман вернулся наверх, на лестничную площадку, зашел в квартиру и только собирался открыть дверь комнаты, как засомневался. Может, постучать? Если он вот так неожиданно вернется через несколько минут, покажется, будто он хотел поймать мальчика с поличным. Но ведь это его квартира? Ну да, конечно…
Сперман решил пойти на компромисс: постучать и тут же войти. Но что за бред все эти размышления — стучать в дверь или нет?
Сперман громко постучал и сразу же вошел:
— Опять ключи забыл, — сказал он, сделав вид, что запыхался.
Мальчик уже не сидел, а стоял возле стула и, как только Сперман зашел, повернулся к окну. Зачем он встал? Может, как раз собирался обыскать квартиру? Сперман, не желая выдавать своих подозрений, поспешил взять ключи со стола. Прежде чем выйти из комнаты, он еще раз окинул мальчика взглядом. Дневной свет подсвечивал силуэт с чуть склоненной головой — будто, поднявшись, он собирался выглянуть в окно, — и Сперман почувствовал полную беспомощность перед судьбой: мальчик вошел в его жизнь, и теперь Сперман испугался, что, снова оставшись один, мальчик тут же уйдет. Этого случиться не должно. Или будет лучше, если он уйдет?..
В трусливой спешке спускаясь по лестнице, Сперман представлял, как мальчик, наклонившись, осторожно выдвигает ящики стола и роется в них. Что если Сперман, вернувшись, застанет его в такой позе? Может, мальчик копается в ящике стола лишь затем, чтобы его поймали на месте преступления и выпороли? Сперман тихонько застонал и сглотнул слюнки. Может, мальчик будет не против, если Сперман обхватит его за талию, перекинет через колено и выпорет на известный манер, как маленького?.. Торопясь в винную лавку, — где ему, слава богу, не пришлось стоять в очереди — Сперман собрал всю свою волю, чтобы следить за уличным движением.
По дороге обратно, дойдя до моста, он пристально оглядел обе стороны канала. Мальчика видно не было, и это почти наверняка означало, что он еще в квартире.
В этот раз Сперман зашел без стука. Нет, мальчика не было. Он все-таки ушел. Выбежать на улицу и прочесать окрестности, убедить его вернуться? Нет, может, так оно и лучше…
Сперман, вздохнув, поставил бутылку на пол, сделал еще пару шагов и встал у окна. Что там видно снаружи? Видно было мост, но вряд ли мальчик появится на нем снова, считывая адрес с бумажки. Как мелко это все…
Но почему мальчик взял ноги в руки? «Я слишком много пизжу», — подумал Сперман. Или мальчик прихватил что-нибудь без спросу и сбежал? Но что тут красть? Деньги — кроме мелких монет — Сперман носил с собой; разве что несколько исписанных страниц показались мальчику достаточно ценными, чтобы прикарманить. «Да пусть берут, что хотят. И меня в придачу, — мелькнула горькая мысль, — но кому я нужен?»
Однако ему пришлось признаться в том, что он с удовольствием застал бы мальчика на месте преступления, чтобы затем — исключительно по доброте душевной — схватить и перегнуть через колено. «Ради его же блага», — пробормотал Сперман. Никто не услышал бы, как мальчик плачет и просит пощады.
Но мальчик почему-то ушел, покинул его. «Мама умерла, и никто меня больше не любит, — повторял Сперман про себя, — я так одинок, у меня совсем нет друзей».
И что теперь делать? Он пожалел, что купил выпивку. Сильные люди покупают алкоголь и даже не открывают бутылку, но Сперман был слаб. Да, можно попробовать быть сильным — без капли алкоголя в крови написать великое стихотворение обо всем на свете: эта песнь обойдет всю землю, ее звуки до слез растрогают всех мальчиков, и они потянутся к нему.
Вдруг Сперман услышал не то попискивание, не то поскрипывание. Это он сам? Он повернулся, прошел по комнате и огляделся.
— Ну пожалуйста, — прошептал он.
На кровати, в стороне от окна, вытянувшись и склонив голову на руки, лежал мальчик. Ступни его свисали с кровати, и с левой ноги упал сандалий.
Это открытие сперва обрадовало Спермана, а потом в голове стали роиться мысли: а кто ему разрешил лечь на кровать? Или у него вдруг живот заболел? Ну нет: он пришел сюда именно для того, чтобы лечь в постель, неужели непонятно?
— Я подумал, ты удалился, — сказал Сперман, подойдя к кровати.
Удалился, ага: в который раз Сперман поймал себя на мысли, что никогда не говорит простым языком, а выбирает слишком книжные фразы, которые все только усложняют. Ведь все было проще простого?
Под весом мальчика матрас почти не проседал, отчего изгибы спины и бедер были четче. Может, отшлепать его? Сперман едва сдержался. Он присел на край кровати и стал осторожно поглаживать слегка волнистые, длинные волосы мальчика. Коснувшись шеи, он заметил, что его рука слегка дрожит. Что-то было не так, что-то выпадало из привычного арсенала опыта. Внешне этот ритуал был скучнейшей банальностью, и все это походило на неисчислимые, уже известные прежние истории. Но по существу все было по-другому и олицетворяло нечто цельное: мальчик пришел в его жизнь, чтобы стать ее частью, и Сперман не знал, к добру это или нужно приложить усилия, чтобы изменить ход судьбы. Или мальчик всегда, со времен сотворения мира принадлежал ему, или все это был безобразный грех, обрекающий на погибель. Спермана не отпускала настойчивая мысль, что он, подобно безжалостному и ловкому хищнику, должен зажать в зубах шею мальчика и прокусить.
— Звереныш, — прошептал он. — Звереныш.
Под ласками Спермана мальчик лежал неподвижно, не противился, но и не помогал. Сперман повернул его на бок и стал расстегивать рубашку, а потом и брюки. Мальчик смотрел на Спермана широко распахнутыми глазами с длинными ресницами, его губы чуть приоткрылись. Сперману показалось, что его дыхание участилось.
Увидев слегка приоткрытый рот и девственно белые, поблескивающие зубы школьника, Сперман страсть как захотел целоваться до бесконечности. Но чутье подсказывало ему, что не нужно пока слишком откровенной нежности, лучше ограничиться тем, чего требовал инстинкт размножения. Несколькими резкими движениями он стянул с мальчика брюки и обхватил любовное орудие. Неслыханные его размеры привели Спермана в ужас и восторг. Может, мальчик потому красится и обвешивается украшениями: чтобы скрыть крутизну и мужество? А может быть, он тайное божество?
Сперману не удалось сразу приступить к рутинным ритмичным манипуляциям, и, ложась рядом с мальчиком, он сперва провел кончиками пальцев по дрожащему от его прикосновений члену — снизу вверх.
— Тебе… нравится?.. — прошептал он. — Правда?..
«Опять говорю всякую ерунду!»
Только теперь он почувствовал запах мальчика. Он не пах нагретым брезентом, сеном, кожей или хвоей. От него исходил слабый аромат мальчишеского пота, теплой ткани и мыла, но все это перекрывал сильный запах, который Сперман уловил и раньше: чего-то жаренного на жиру или в масле. Однако этот тяжелый запах не казался Сперману несвежим или неприятным, скорее, напоминал о чем-то привычном, домашнем.
— Тебе приятно?.. Да?.. — спросил Сперман, прижимаясь пахом к попке мальчика. — Теплый зверь, звереныш, — прошептал он почти беззвучно.
— Можешь делать со мной, что хочешь, — ответил мальчик с хрипотцой, и все сомнения Спермана исчезли.
VI
Обнажая мальчика, Сперман думал только о том, чтобы не разорвать одежду, чтобы пуговицы не отскакивали, а упрямая молния брюк самым глупым образом не поломалась. Сперман отдавал себе отчет в том, что им руководила не только страсть: раздев мальчика, он мог быть уверен, что тот вдруг не передумает, не встанет и не уйдет.
Он взял себя в руки и аккуратно развесил одежду на стуле. И вряд ли было случайностью то, что он разложил рубашку и брюки так, что они более-менее передавали фигуру того, кому принадлежали. Ах, если бы Сперман мог оставить себе эту одежду и спрятать… Разве тогда мальчик не принадлежал бы ему навечно? Можно выменять ее, например, на что-нибудь из своего гардероба… Но они не походили друг на друга: у мальчика фигура была гораздо изящней.
Размышляя об этом, Сперман не отрывал взгляда от тонкого ремня, который все еще был вдет в петельки брюк; глядя на него и содрогаясь от наслаждения. Сперман представил акт насилия, который можно было сейчас совершить, однако заставил себя отвернуться и начал нетерпеливо раздеваться. Слава богу, огонь в печке разошелся, и в комнате было хорошо, тепло.
Тем временем мальчик снова повернулся на живот. И тут Сперман впервые увидел его со спины: беззащитным, нагим, как до этого пытался представить себе под одеждой. Он перебрал в памяти похожие картины, но не смог припомнить, чтобы когда-нибудь видел такую красоту и молодость, воплощенные в теле.
Вот так, со спины, мальчик вполне мог быть и девочкой, но это Спермана не беспокоило.
На запястьях и лодыжках у мальчика браслета по три, если не больше: рыночная алюминиевая бижутерия, крашеная или покрытая подделкой под финифть; а также полдюжины колец на пальцах: металлических или алюминиевых, с камешками из шлифованного стекла. Сперман не понимал, почему при виде этих безвкусных украшений он испытывал не отвращение, а, скорее, смешанную с сочувствием нежность, и почему время от времени поблескивающие жемчужно-золотые накрашенные ногти не отталкивали, а притягивали его. Может быть — раздумывал он, — такого сорта убранство шло мальчику: к его телу нечего было добавить, и только при помощи поддельного можно было чествовать настоящее.
Лучи вечернего света, заблудившиеся в волосах на шее мальчика, добавляли к страсти Спермана тоскливую нотку, чувство неутолимой потери или никому не ведомой печали. Ему показалось, что он никогда не овладеет этим телом, потому что не сможет достойно чтить его святость.
Мальчик — может быть, неосознанно — чуть шевельнулся, приподнял и опустил попу, и Сперману пришлось повиноваться слепой, теперь и вовсе неудержимой страсти, и он укрыл мальчика своим телом.
Вот теперь, лежа на обнаженном теле, он почувствовал совсем другой запах: не слабое веяние чего-то жареного, а только чистым мальчишеским пот, запах кедра и нагретого солнцем брезента, и это вызывало у Спермана какие-то ускользающие воспоминания о давно прошедшем: неслыханное наслаждение, безопасное и вечное счастье.
Мальчик снова, — теперь, кажется, уже нарочно дразнясь, — двинул попой вверх-вниз.
«Сам напросился», — мелькнуло у Спермана в голове, когда одним марш-броском он проник в мальчика полностью. Тот чуть приподнял голову и застонал. Он так выражает удовольствие, или Сперман сделал ему больно? Сперману нужно было знать наверняка.
— Тебе не больно? — спросил он, тяжело дыша, проводя губами по ушку мальчика. «А если нет, — подумал он, — то можно и глубже, глубже всегда можно».
В ответ мальчик застонал снова, громко и хрипло, потому что Сперман уже начал свою неудержимую скачку. Мальчику наверняка было больно, но он, видимо, не хотел подавать виду. «Держишься молодцом», — с нежностью подумал Сперман. Ему хотелось причинить мальчику боль, сделать ему как можно больнее, но в то же время совсем не хотелось ни сейчас, никогда… Да, было бы такое возможно: причинять кому-нибудь ужасную боль, но в то же время не причинять… Но такого не бывает, хотя на свете есть Бог…
Вдыхая запах теплого нежного тела, Сперман чуть было не начал шептать о том, как все было раньше, давным-давно, в вечернем свете, в гостиной у него дома… Мать, лежащая на диване с «раскалывающейся» головой… Бесконечная, шипящая, угрожающая тишина ранних вечеров… «Дом без солнца», — подумалось Сперману.
И тут он ни с того, ни с сего подумал, как все сложилось бы, встреть он тогда… не теперь, когда уже слишком поздно, а тогда… этого мальчика. И как мальчик одним таким ранним вечером в пустующем сарайчике в саду связал бы его, Спермана, и делал с ним все, что душе его угодно…
— Ты… мой господин… — прорычал Сперман и в тот же миг почувствовал, как вытек в мальчика его мужской сок.
А теперь что?.. Что дальше? Разве не должно и с мальчиком свершиться чудо? Сперман, в поисках мальчишеского уда, попытался настойчиво, но мягко повернуть мальчика на бок, но тот, сопротивляясь всем телом, оттолкнул руку, и Сперман понял, что мальчика, видимо, не интересовали такие ласки. Да, такое бывает: мальчики, которые хотят только сзади…
Но кто он такой?.. Что все это для него значит?.. Вдруг он всего лишь — скучающая бескорыстная шлюшка, даже не думающая о том, чтобы повторить, увидеться снова, продолжить отношения?..
Сердце Спермана сжалось при этой мысли, потому что с ним… все было иначе… Он понял, что удовлетворение страстного желания не погасило его чувств. Не было ни малейших признаков досады, скуки или разочарования, как часто случается после совокупления. Мальчик сразу показался ему милым, очень милым… И сейчас он находил его милым, таким милым, таким ужасно милым…
Но что все это значило? Сперман понимал, что это проявление слабости, а такая слабость может обойтись ему дорого, но не смог удержаться и со вздохом погладил мальчика по голове. Правда, ему сразу же удалось взять себя в руки: Сперман вытащил член, показал мальчику душ и туалет, пошел в кухню, стал на цыпочки и обмылся над раковиной.
VII
И вот тут, в кухне, Сперман полностью отдался трусливым сомнениям, совершенно безнадежным сомнениям, и опечалился. Что произошло на самом деле? А сам он — настоящий? В таком случае вполне возможно, что один из жильцов дома напротив видел Спермана голым, так как штор на окне не было. Сперман был стеснительным и даже слишком предупредительным в общении с соседями и не терпел сплетен или разногласий, если таковых можно было избежать. Поэтому он вернулся в комнату и быстро оделся: отчего-то ему не хотелось, чтобы мальчик, вернувшись из ванной, застал его обнаженным.
Вся его жизнь была сплошная путаница, подумал он, никакого порядка. Он решил, что если поступать по уму, надо быть строже к себе, покончить со всяким бредом и попытаться работать, то есть писать. Да, писать, но что и о чем? Если записать все, что сейчас произошло, выйдет ли из этого рассказ? Встреча с мальчиком на Стоофстеех — это ерунда, даже если разукрасить ее смехотворными дневными, вернее, вечерними грезами уже немолодого охотника за юностью. И красной нитью — присутствие барда с его «альбиносом»… Вот этот бард все портил и превращал написанное — все, от начала до конца — в нечто неудобоваримое и нечитабельное. Единственное, ну, скажем, «романтичное» в этой истории — та банковская бумажка, которую Сперман в последний момент сунул мальчику в руку, благодаря чему и нашел квартиру Спермана. Вот это уж, честное слово, великий ход, но именно потому его нельзя использовать — никто не поверит.
Размышляя, Сперман разглядывал рубашку и брюки, разложенные на стуле: своей неподвижностью они вызывали воспоминание о фигуре мальчика. Сперман прислушался: вода в душе еще шумела. Он подошел к стулу и потрогал сначала рубашку, потом брюки. Он уже хотел зарыться в одежду лицом, но тут вода перестала литься. Сперман отошел и сел за письменный стол. «Что происходит? — подумал он и попытался себя успокоить. — Ничего».
Он услышал, как открывается дверь душевой, а затем — приближающиеся шаги. Вот ведь, подумал он, я даже до сих пор не знаю, как мальчика зовут…
Сперман суетливо встал и отошел от письменного стола. Мальчик мог поинтересоваться, чем он занимается, а Сперман вечно краснел и заикался, когда ему приходилось рассказывать о своем писательстве или попытках писать.
Но кое-что давало ему настоящую надежду, через считанные секунды он увидит приближающегося по коридору мальчика совершенно обнаженным и, может быть, эта картина ему не понравится, особенно теперь, когда пыл страсти слегка потух и можно посмотреть трезвым взглядом. Да, Сперман тайком на это и надеялся: увидеть, что на самом деле мальчик был просто накрашенной одноразовой шлюшкой, маленьким смешным гомиком, который своей молодостью ненадолго вскружил Сперману голову…
Но вышло иначе. Мальчик оказался в комнате, в золотистых лучах, Сперман взглянул на него, и у него задрожали колени. О чем бы он ни думал до этого: один взгляд на это создание любому злому критику зашнурует рот. Фигура эта могла быть работой всей жизни какого-нибудь великого — любившего мальчиков или нет, неважно — скульптора. Но вообще-то дело не столько в красивом теле: у мальчика было такое милое лицо! На этом юношеском лике совершенно никаких следов избалованности, похотливости, подлости или чего-либо в этом роде. Господи, Боже мой, да какая разница, что на губах у него осталась помада? Это хороший мальчик. Это просто сама невинность…
И конечно, Сперман не мог оторвать взгляд от его паха, от беззащитного, но все же с королевским достоинством висящего члена. Для роста и возраста мальчика это был очень большой уд — Сперман, конечно, не удержался от мысленных сравнений со своим, но так и не пришел к однозначному выводу, — коронованный внизу нежным венчиком, на котором сверкали капельки воды.
Да, конечно, Сперман видел все так называемые украшения и слышал нежное позвякивание браслетов на руках и на ногах. Однако это совершенно не принижало ни образ, ни существо мальчика. Охваченный безграничной нежностью, Сперман даже подумал, что изящный, тончайший, пусть из самых дешевых бусин, поясок на бедрах или ожерелье, обрамляющее святой уд, украсили бы его еще больше…
Видение, которое показалось Сперману беспрекословным и мифическим, длилось всего мгновение. Мальчик сразу подошел к стулу и быстро оделся. И когда он, полностью одетый, стоял в комнате, Сперман пожалел, что ничего не сказал при виде его наготы, даже не подал какого-то знака, ничего…
Он понял, что должен был преклонить перед мальчиком колени, но, с другой стороны, следовать голосу сердца не всегда выгодно. Еще неизвестно, догадался ли мальчик, что Сперман — псих ненормальный, но опустись он перед мальчиком на колени, у того, наверное, мурашки побегут по телу.
И все же: нужно хоть что-то сделать. Только подумать… что с божьей помощью… он когда-то сможет охранять этого принца и заботиться о нем… Ну вот, опять, пожалуйста: Бог… Сперман считал, что любовь неотрывно связана с Богом, но попробуй заикнуться об этом, и в ответ будет многозначительное молчание, а люди станут тебя сторониться.
Молчание, да; но ведь и сейчас они молчали. Это плохо, тишину нужно как-то нарушить.
Мальчик стоял как раз между креслом и кроватью, на которой совсем недавно отдал свое золотое юное тело, и смотрел на Спермана, будто спрашивая, где ему сесть.
«Господи, — подумал Сперман, — я хочу еще раз». Если нагота мальчика вызвала у Спермана кратковременную эйфорию, возвышающую над любыми плотскими желаниями, то увидев его одетым, Сперман страстно захотел это тело вновь. Сорвать с него одежды… чтобы еще раз, и еще… Нет, не надо…
— Да, это старое кресло, — сказал Сперман, стараясь овладеть собой, и махнул рукой в сторону кресла, — но сидеть в нем удобно.
Мальчик сел, но не отводил взгляда, будто ожидая чего-то. Сперман показалось, что тот чувствовал себя не в своей тарелке.
— Выпьем по рюмочке? — предложил Сперман.
Он взял закрытую еще бутылку женевера, которая все еще стояла у входа в комнату, поставил на письменный стол и достал две рюмки.
— Ну давай, — ответил мальчик неуверенно.
Он огляделся, будто что-то искал.
— Который… который час? — спросил он вдруг.
Да, тут Сперман понял, что часов мальчик не носил. По бедности? И не был ли этот вопрос на самом деле предлогом, чтобы уйти как можно быстрее?
— Без двадцати четыре. — Сперман быстро наполнил рюмки, чтобы выиграть время: мальчик должен будет, по крайней мере, сначала выпить свою.
А теперь надо только продолжать говорить с ним, все время говорить…
Сперман и хотел говорить с ним бесконечно, хотел рассказать ему обо всем на свете, даже о том едином, что вмещало все, и с помощью этого он открыл бы мальчику свое сердце полностью. Но он сдержался.
— Как, ты говорил, тебя зовут? — спросил он, будто мальчик уже представился. — Меня зовут Джордж.
Или он уже назвался?
— Я Марсель, — ответил мальчик.
Несколько киношное имя, показалось Сперману, но произнесенное этим ртом с этими зубками и таким вот голосом, оно прозвучало волшебно, одни только звуки опьянили Спермана.
Он протянул Марселю рюмку и приподнял свою, чтобы тут же ее опустошить. Марсель сделал глоток и поставил рюмку на письменный стол.
И вот, расхрабрившись после первого глотка, искусно избегая слишком ученых формулировок и пытливых вопросов, Сперман попытался завязать разговор.
Марсель отвечал на каждый его вопрос, но коротко, не распространяясь на затронутые Сперманом темы. Молчаливый мальчик, решил Сперман.
Сперман даже не хотел спрашивать, сколько Марселю лет. Зато он узнал, что мальчик живет в Димене, а затем — что ему пора идти, так как в четыре часа ему надо было вернуться на работу в рыбную лавку. «В лавку, торгующую жареной рыбой?» — задумался Сперман. Знает ли он достаточно, чтобы потом найти Марселя? Спросить его фамилию?.. Нет, мальчики порой начинали паниковать после таких вопросов, будто собираешься звонить их родителям…
Но Сперман прикинул, что лавка, должно быть, где-то недалеко, раз Марсель мог дойти туда к четырем часам, а все же рыбных лавок в округе некоторое количество, но не так уж много. Надо выяснить наводящими вопросами, о какой лавке идет речь.
— У тебя там много работы? — спросил он. — Вы свежую рыбу продаете?
Марсель некоторое время молча смотрел на Спермана. Неужели он подозревал, с какой целью задавались эти вопросы?
— Мы продаем много жареной рыбы, — ответил он. — И копченой, разной. И деликатесы.
Последнее слово он произнес неправильно, по-деревенски, что Спермана очень тронуло. Но Сперман не получил определенного ответа: Марсель, в сущности, не сказал, что они не продают свежую рыбу — ведь тогда это была бы одна из тех немногих лавок с разрешением на торговлю до позднего вечера, которые считаются так называемыми ночными магазинами и открываются далеко после обеда.
— Да, мне пора, — сказал Марсель, поднимаясь. — Ты любишь жареную рыбу?
Сперман ожидал какого угодно вопроса или замечания, кроме этого.
— О да. Жареная рыба — это восхитительно. Да-да, — ответил Сперман, стараясь звучать воодушевленно.
Но он действительно любил рыбу.
— Ну, посмотрим, — сказал Марсель, сделав шаг к двери.
— Ты еще не допил, — заметил Сперман.
Более идиотской фразы придумать невозможно, вдруг понял он. Оставалась минута, может быть, даже меньше, и почему бы не использовать это время для того, чтобы высказать то единственное? Пан или пропал: если он, Сперман, решится сказать «да» — недвусмысленное «да», — то ведь это и был тот первый и, скорее всего, последний шанс, что «Марсель» (даже, когда Сперман мысленно произнес это имя, у него перехватывало дыхание) тоже подумает над тем, чтобы ответить «да»?
Он подошел к мальчику:
— Слушай, ты ведь еще зайдешь? — сказал он как можно более беззаботно. — Если я дома, всегда буду рад тебя видеть.
Да, вот это и все, что он смог из себя выжать, трус и бздун…
А теперь — коснуться его на прощание… Сперман и хотел, и надеялся, что осмелится прижать мальчика к себе изо всех сил, покрыть его лицо поцелуями, растрепать ему волосы и застыть так на целую вечность… Но, во-первых, оставалось меньше минуты, а во вторых — чрезмерное проявление чувств отпугнет мальчика, потому что он такого не знал, не испытывал никогда…
— Будет здорово («прекрасно», хотел он сказать), если ты заглянешь ко мне поскорее, — голос Спермана утих к концу фразы.
И тут он обнял мальчика, взяв его за плечи, притянул к себе. Но когда дело дошло до поцелуев, он лишь коснулся щек и поцеловал в ключицу, но не в губы. Вот и все, Сперман даже не успел понять, как и почему все закончилось. Это из-за его трусости? Нет: не целуя мальчика в губы, он хотел показать, что его любовь чиста и лишена страсти и похоти. Да-да, рассказывай…
— Да, хорошо, — вежливо пробормотал Марсель с мягкой улыбкой.
Дальнейшее произошло быстро и словно в тумане: Сперман очнулся, только закрыв за мальчиком входную дверь.
Вот так он снова оказался один в своей пустой — до того пустой, что сердце щемило — комнате, где, в сущности, остались только две рюмки и бутылка женевера. Сперман хотел — может быть, в качестве последней попытки завязать контакт — допить почти полную рюмку Марселя, но даже не прикоснулся к ней. Вообще-то надо бы убрать ее, прикрыв салфеткой, до тех пор, пока он не вернется. «Пока не вернется», да-да.
Сперман не знал, как провести остаток дня. Он налил себе еще и осушил рюмку одним глотком.
Да, любовь — это не шутки. Вообще-то у Спермана всегда возникали проблемы с любовью. Она была для него чем-то необъятным, могучим. И он никогда не мог понять, что есть люди, которые в зависимости от сложившихся обстоятельств могли допустить в сердце любовь — или то, что они звали любовью — или отказаться, будто ее никогда и не было, если она начинала забирать больше, чем давать.
Сперман часто задумывался, не было ли в нем каких-то отклонений, потому что каждый раз, когда его сердце воспламенялось любовью к какому-нибудь мальчику, тут же возникало чувство ответственности и желание заботиться, и мысли о том, что пора купить приданое. Он нередко размышлял о том, какой инстинкт здесь срабатывал — мужской или женский. В общем-то, эта проблема была надуманной, потому что денег ни на приданое, ни на что другое у Спермана никогда не было. Боже мой, да что мог он предложить сказочному принцу Марселю, даже если хватит смелости попросить его руки? «И к тому же я раза в два его старше, — проговорил он про себя. — Вклад получится неравноценным — так это, кажется, называется?» Он сделал хороший глоток из вновь наполненной рюмки.
«И все же, — раздумывал Сперман в последней, безнадежной попытке подвести итог, — не так уж я стар. Я еще вполне презентабельный мужчина, выгляжу моложаво». Эти рассуждения подвели его к вовсе дерзким мыслям: чтобы содержать Марселя и покупать ему разные красивые вещички, он будет торговать собой в каких-нибудь не слишком освещенных местах, в порту или на вокзале, одетый в молодящую и, в основном, кожаную одежду. Все деньги, до последнего гроша, все, все они будут для Марселя, ради его счастья и удовольствия…
И если Марсель — из ревности или презрения — станет бить и унижать Спермана всякий раз, как тот отдаст свое тело за деньги какому-нибудь матросу или солдату, то пожалуйста, если только Марсель поймет, что все это было сделано для него и для него одного… «Преданность через измену, — растрогавшись, думал Сперман. — Есть на свете грехи, угодные Господу».
Но как ни верти, все это сплошная теория: увидит ли он Марселя еще раз, станет ли реальностью большая («трагическая», подумал Сперман) любовь к невероятному мальчику, еще совсем молоденькому школьнику, который чистил рыбу в лавке?.. Рыбак, рыбачок, рыбачишка… Мелодия знаменитой, классической песни зазвучала у Спермана в голове.
Ну, а если Марсель больше не появится, имеет ли смысл пытаться найти его? Вообще-то нет, но после некоторых раздумий Сперман решил все же попробовать. Можно поспрашивать по местным рыбным лавкам: «Не у вас ли работает мальчик по имени Марсель? Голубоватенький такой, носит браслеты и кольца. И чуть подкрашивается тоже». А попадешь в нужную лавку, так Марселя сразу же уволят, чтобы не начались пересуды. Он останется без работы и не посмеет появиться дома, ему вообще некуда будет сунуться со своей накрашенной мордочкой, кроме как пойти к нему, Сперману, разве не вернется он тогда в отчаянии к Сперману?
Да… но ведь это было очень дурно, неслыханно скверным был этот вот план, с которым он сейчас играл — ходить и расспрашивать? «Скверно? Скверно?.. — размышлял Сперман, ловко опрокидывая внутрь очередную полную рюмку. — Не такой уж я и плохой. Для плохого я рожей не вышел».
И тут он взял все еще на треть полную рюмку «Марселя» и поднес ее ко рту, чтобы выпить медленными глоточками. Вкусом содержимое не отличалось от того, что он пил из своей рюмки. А чего он ожидал? «Выпить тебя… до дна… на коленях… стоя на коленях… — подумал он. — Марсель… милый, юный, жестокий мой повелитель… О, Господи…»
Он вернется?
— Он не вернется, — прошептал Сперман, — знаешь, кто вернется? Бард, да: бард вот точно вернется. Но Марсель — нет. Никогда…
Он выпил еще рюмку, и еще, но вопрос крутился в голове. Иногда ответом было «да», а потом вновь «нет». Запросто можно свести себя сума…
Сперман решил пойти на компромисс. «Он придет еще один раз, — подвел он, — он зайдет ко мне еще один раз. И больше не придет никогда» Сперман и не подозревал, что это окажется пророчеством.
VIII
Сперман был в смятении и пытался отвлечься, придумать какое-нибудь осмысленное занятие. После ухода Марселя он до вечера бездельничал и слишком много пил. Выпивая, записывал свои мысли, хотя и знал по опыту, что на следующий день окажется, что никакой ценности они не представляют.
Наутро, досадуя и стыдясь, он все перечитал: действительно — сплошная ерунда. Если Господу угодно, он вернется: записано, например, неровным почерком и с кляксами. Слово он — не с прописной, и, учитывая, что в таких случаях Сперман практически никогда не ошибался, он означало здесь Марсель, а не Бог. Ну, тут и думать нечего, это само собой.
Другая, гораздо более пространная и многократно правленая запись представляла собой нечто вроде наброска рассказа, в котором они с Марселем убили барда, так как он оказался Антихристом; юридически их оправдали, но потом отправили в очень хорошую психиатрическую больницу, где даже разрешили жить в одной комнате, и Сперман мог спокойно писать. Приятная, но неправдоподобная и слишком легкомысленная беллетристика.
— Негоже шутить со смертью, — пробормотал Сперман.
Сперман пролистывал вчерашние пьяные записки: они становились все более дикими и странными, все чаще речь заходила о Боге и Его намерениях. С нарастающим страхом читал Сперман, боясь, что, может быть, в грешной самости допустил письменное богохульство. Оказалось, это не так, хотя некоторые тексты содержали крайне вольнодумные пассажи.
В одном абзаце утверждалось, что Марсель послан самим Господом, с тем, правда, умыслом, чтобы проверить, сможет ли Сперман полюбить мальчика, который красится и носит бижутерию. Что-то в этом есть, подумал Сперман, и решил не упускать эту мысль из виду. В любом случае, у него гора свалилась с плеч: он не написал ни одного обидного слова о Господе.
(Спермана вообще-то беспокоило собственное отношение к Богу. Порой его охватывал острый безнадежный ужас, что Бог может отринуть его.
К счастью, такой панический приступ быстро уступал место разумным мыслям, и он осознавал, что, скорее всего, проблема была надуманной, это был плод самости: кто он, в конце концов, такой, чтобы Бог обратил внимание именно на него и отринул от Своего Царствия?)
Но было бы и в самом деле неплохо приняться за работу.
— Молодым людям полезно работать, — попенял сам себе Сперман.
Он как раз трудился над одной статьей: за нее заплатят немного, но не те гроши, которые он обычно получал за литературные труды. Статья была о том, как обращаться с котами, ухаживать за ними и кормить. Напустить в текст побольше воды, но не допустить ни одной фактической ошибки — вот главное, потому что иначе поступят жалобы. Сперману нравилось рабочее название статьи, гласившее: А стоите ли вы своего кота? «Что выросло то выросло», смиренно подумал Сперман.
(У него не было домашнего животного: он скорбел об исчезновении черного кота по кличке Брат или Братик — тот бесследно пропал несколько месяцев назад, — которому он вечерами читал написанное за день, чтобы понять, что нужно переделать или улучшить: порой, словно на бис, прочитывал не слишком трудный отрывок из Библии.)
На второй день после визита Марселя, как бы он ни старался сосредоточиться на том или ином полезном занятии, волнение едва не победило Спермана. Он почти уже не решался выйти за дверь, а если уходил, то очень ненадолго и оставлял записку: Я сейчас вернусь. Джордж С. Он, не имея на то оснований, решил, что если Марсель однажды постучится и не услышит ответа, то больше никогда не зайдет.
Ко всему прочему Спермана не отпускала мысль отыскать магазин, где работал Марсель. Рискованной стороной такого предприятия было, конечно, то, что как раз во время этих поисков они с Марселем могли трагически разминуться. Значит, все же подождать?
Прошел третий день и четвертый. «Может быть, сегодня что-то произойдет? — думал Сперман. — Должно произойти». Надо было взяться за дело, хоть и непонятно, за какое. При этом он был уже близок к истощению, потому что, постоянно думая о Марселе, многократно утешал себя вручную. Это было делом привычным, но в мастурбационные фантазии с Марселем в главной роли вкралось нечто необычное. Раньше такие образы почти всегда были связаны с властью и подчинением: обычно в них фигурировал почти голый любимый мальчик, которого Сперман, в обилии снабдив питьем, едой и игрушками, запирал в клетке на неопределенный срок, позволяя выходить только по крайней надобности: любимый мальчик был, разумеется, вечно обожаемым божеством, ради счастья и удовольствия которого Сперман готов был сделать что угодно; но при этом он навечно, навсегда становился рабом и пленником Спермана. (При том Сперману, бесконечно и безнадежно влюбленному, приходилось временами раздевать мальчика и бить, потому что без этого нельзя…)
Но в нынешних рукоблудных видениях почти не было привычных мечтаний и жестокости; осталась лишь сводящая его с ума нежность, полная картин, в которых он ласкал и баловал Марселя, и не было и речи о клетке. Это он, Сперман, был пьяным от счастья рабом Марселя, а не наоборот…
«Как такое возможно?» — беспокойно размышлял Сперман. Как это он, Сперман — будучи мужчиной, не так ли? — пожелал стать рабом позвякивающего бижутерией и накрашенного мальчишки, похожего на девочку? Может, это было великой и божественной тайной, но что с того? Еще удивительней, что в миг, когда его святая влага готова была извергнуться, когда восторг переходил все границы, он не представлял Марселя голым, а только трогал его внизу, между ног, через одежду. «Все нормально, — думал Сперман, — я люблю этого мальчика. Господь и Повелитель, спаси мою душу».
Сперман понимал, что дело не сдвинется с мертвой точки, пока он не примет решение. Или выбросить мысль о Марселе из головы, изгнать и проклясть его образ, или отправиться на его поиски, от лавки к лавке, даже, если понадобится, дойти до Димена, где он вроде бы живет: вряд ли это город; скорее всего, просто большая деревня. Да, может, стоит заняться этим прямо сегодня, ближе к вечеру-скажем, между пятью и шестью часами — пройтись по магазинам и, увидев его, зайти как ни в чем не бывало, купить что-нибудь для приличия, а, расплачиваясь, незаметно для остальных сунуть ему вместе с деньгами свернутую записку с признаниями во всем, во всем…
Сперман подумал, что пусть это и будет временным решением, хотя не был уверен, решится ли исполнить задуманное, но успокоился и начал перепечатывать черновик сочинения о котах.
Только пробило четыре, как раздался звонок в дверь. Спермана этот звук пронзил, наполнил леденящим ужасом. Он поднялся, чтобы выйти в коридор, и в дверь снова позвонили — дольше, чем в первый раз. После второго звонка слабая надежда, которую Сперман лелеял несколько мгновений, исчезла: это не мог быть он, Марсель… Должно быть, какой-нибудь идиот, шутник или торопливый курьер, припарковавший машину так, что она перекрыла движение… Да и вообще Сперман жил в странном месте, на улице красных фонарей: здесь какой-нибудь пьяный турист мог наудачу позвонить в любую дверь. Но все же… А вдруг это Марсель потной ручонкой случайно нажал на кнопку дважды?..
Сперман вышел в коридор, потянул за веревочку и открыл дверь подъезда.
— Да, кто там? — крикнул он.
Вместо ответа снизу прозвучал стон, будто кто-то, страдая от сильной боли, нуждался в срочной помощи, и этот человек кем бы он ни был, — издавая нечленораздельные звуки и постанывая, очень быстро побежал по лестнице наверх.
Сперман застыл. Что делать?.. Может, сюда мчится дикарь или пьяный одержимый, которым управляет похоть, превращая в опасного зверя?
— Кто там? — прорычал Сперман как можно громче.
И опять в ответ раздался такой же слезный стон и стремительно приближающиеся громкие шаги. Забаррикадировать, что ли, дверь?..
— Да кто там, черт возьми! — прокричал Сперман в последний раз, оглядываясь на дверь квартиры.
— Я… — прозвучал из глубины приглушенный голос. — Мар… сель…
О Боже, это был он; но что же произошло?.. Несчастный случай… на него напали… сбила машина… он ранен… Боже мой… Сперман чуть было не бросился вниз по лестнице, навстречу… помочь ему… Но не успел: в тот же миг Марсель появился на площадке. Согнувшись, он мчался к двери. Сперман распахнул ее, и Марсель устремился внутрь. На нем были другие, синие брюки и тонкая серая куртка до середины бедра. В комнате, он, все еще склонившись и постанывая, расстегнул курточку. На него… напали?.. Пырнули ножом?.. Избили?..
Марсель сразу же расстегнул белую рубашку под курткой и стал что-то ощупывать… Неужели у него в груди еще торчал нож?..
Нет, под рубашкой не было крови, но виднелось что-то белое и блестящее. Марсель ухватился за край и потянул. Раздался хлюпающий звук, будто что-то отклеивалось, как обои или упаковочный скотч.
Сперман боялся даже взглянуть, но постепенно до него стало доходить, что там, у Марселя на груди. У него на шее висел шнур с разноцветными бусинками. К шнуру была привязана веревочки, а к обоим концам веревочки — по узелку, которыми крепился плоский белый пластиковый пакет, как показалось Сперману — неужели он сходит с ума? — излучающий тепло. Марсель нагнулся ниже и полностью отделил пластиковый пакет от груди.
«Ножницы, ножик, — подумал Сперман, — но пока их найдешь…» Он ухватился за веревочку, привязанную к бусам, и за петельки на пластиковом пакете и дернул изо всех сил, так что веревка прорвала пластик. Марсель положил плоский пластиковый пакет на письменный стол Спермана.
— Рыба, — пояснил он.
Сперман потянул за уголок приоткрывшегося пакета. В нем лежала огромная жареная плоская рыба, еще горячая.
С рыбы, лежащей на столе в пакете, Сперман перевел взгляд на Марселя и увидел, что у того посередине голой груди — большое круглое пылающее пятно. Сперман был не дурак, неплохо умел подмечать и анализировать, но зачастую не мог провести самую очевидную связь. Однако в этот раз ему удалось мгновенно отследить причинно-следственную цепочку: в магазине Марсель пожарил или попросил пожарить самую большую и красивую рыбу, и (может быть, с помощью соучастника) сразу после жарки положил ее в пластиковый пакет, спрятал под одежкой на голом теле, чтобы тут же поспешить: к нему… И все тайком, иначе он мог просто положить рыбу в сумку. «Он украл ради меня…» — прошептал Сперман, пытаясь овладеть собой, потому что ему на глаза наворачивались слезы.
Но по дороге жар свежеприготовленной и только что вынутой из фритюрницы рыбы проник сквозь пластиковую упаковку, и, чтобы не обнажаться на улице, Марсель побежал быстрее, а рыба на груди горела все сильнее и все безжалостней распекала его мальчишескую кожу. Вот почему он так нетерпеливо звонил…
Но надо что-то с этим делать.
— Раздевайся быстрей, милый. Быстрей. Ожог выглядит неважно, — запинался Сперман, помогая Марселю снять курточку и рубашку. — Садись. Нет, ложись.
Он мягко подтолкнул Марселя к кровати:
— Пойду поищу что-нибудь. Нужно это помазать. Когда-то Сперман слушал курс про ожоги или что-то читал об этом; в общем, он знал, что если крема для ожогов нет, то нельзя мазать ни сливочным, ни растительным маслом, ни маргарином, ни майонезом, а лучшее решение — просто промыть чистой водой из-под крана. Он нашел чистое полотенце, намочил его, свернул так, чтобы оно покрывало ожог, и положил на рану. Хорошо бы вода была соленой, подумал он, хотя в любом случае, вода — уже неплохо.
— Больно? — спросил он, присев на край кровати.
— Нет, — коротко ответил Марсель.
Да, мальчик был не из говорливых.
Надо бы, подумал Сперман, каким-то образом закрепить этот водяной компресс на груди Марселя. Где-то был целый рулон лейкопластыря, который когда-то стащил и подарил ему один армейский медбрат. Сперман нашел рулон, ножницы и стал резать и клеить, прилаживая лейкопластырь к неповрежденной коже. И хотя это занятие требовало сосредоточенности и предельной аккуратности, его беспокоили диковинные мысли. Да, оказывая первую помощь, он думал совсем о другом. Мечтал, чтобы Марсель сразу же разделся и вместе с ним в божественной наготе пошел под душ. Там ведь лилась вода, чистая, из-под крана? Смотреть, как вода, поблескивая, гладит его, как становятся мокрыми волосы на его шейке и волосы там, внизу… да, там тоже… и погладить их…
Но сейчас они играли в доктора, и мечтанья эти не ко времени… И он не мог допустить другие, очень странные мысли: Марселю было больно — хоть он и держал себя в руках и отрицал это, — однако Сперман не мог оставить без внимания бушующее в душе желание несколькими решительными движениями раздеть Марселя полностью, стянуть с него брюки, перевернуть на живот — ожог там, на груди, или нет, больно ему или нет — и потом… взять его, овладеть им, чтобы ему было больно и спереди, и сзади… больно… «Люди ничего не понимают, — думал Сперман, — ничего… кроме боли. И еще мое имя. Я должен в него проникнуть глубоко своим, своим…»
Но, обработав ожог Марселя, он застыл в ожидании. Он хотел склониться к Марселю, но боялся ненароком надавить на рану. «Милый маленький Марсель, — думал он, — останься со мной?.. Зачем тебе эта дурацкая рыбная лавка?.. Мы справимся. Наверняка. Я сделаю, что угодно… Украду ради тебя, убью ради тебя…»
Он протянул руку, чтобы погладить Марселя по щеке — как и в прошлый раз, губы его были слишком розовыми, — и приготовился сказать то, что, наконец, должен был произнести, что бы потом ни случилось…
Но до того, как Сперман открыл рот, Марсель спросил с ощутимым беспокойством:
— Который час?
Было без двадцати пяти пять.
— Боже мой, мне пора, — Марсель тут же поднялся, так что Сперман даже не успел коснуться его лица.
Да, все происходило быстро, всегда в спешке, подумал Сперман. Или это он был слишком медленный, слишком неторопливый и всегда опаздывал?..
Да, тот миг, когда Марсель пришел, Сперман запомнит навсегда: каждый звук, луч солнца, жест, слово… Но когда Марсель покинул его, все происходило, как в трансе. Сперман все слышал и видел, но, казалось, что он наблюдает со стороны, издалека, бессильно, как парализованный, вот и сейчас: Марсель сперва натянул белую рубашку поверх временной повязки, потом курточку, и вдруг они опять стоят на лестничной площадке, а Сперман даже не может вспомнить, как они туда попали.
— Возвращайся… поскорей, — запинаясь, попросил он. — Обещаешь?..
Вот и все, что он сказал, зная, непонятно откуда, что большего выговорить не в состоянии. Обнять его?.. Нет, нельзя, ожог… Или все же?..
Дверь подъезда захлопнулась, и Сперман очнулся уже за письменным столом. Он машинально приоткрыл пластиковый пакет и стал рассматривать рыбу. Это была огромная камбала, и лежала она кверху боком с темноватой корочкой, которую Сперман любил больше всего, потому что у нее всегда был приятный горьковатый привкус. Все еще не в силах связно о чем-то думать, он так же машинально пошел на кухню за вилкой.
Орудуя вилкой, он отломил кусок еще довольно теплой рыбы и сунул в рот. Признаться, она была просто великолепна, и эту порцию он съел. Но больше ни одного куска проглотить не смог.
IX
Так сколько лет назад это было? «Да, давненько, — думал Сперман, после поездки на трамвае и прогулки вернувшись в свое временное амстердамское прибежище. — Если посчитать, то лет девятнадцать назад. Больше. Можно сказать, двадцать: двадцать лет назад, так и запомнить легче».
И какой в этом всем смысл? «Марсель» никогда, никогда больше не приходил… Заболел он или умер, что произошло?.. Люди ведь не растворяются вот так, в воздухе? «Может, и растворяются, — зло подумал Сперман, — но я о таком не слыхал».
И разве не искал он Марселя, перебрав все разумные объяснения, почему тот не приходит. Неужели его поймали за руку, то есть открылась кража — ведь он несомненно украл ту рыбу — и его поперли из магазина? Может, он сдуру просто вернулся в Димен, наплел родителям, что рыбная лавка закрылась, и он оказался на улице? Но почему бы не зайти к Сперману хоть раз? Может, заходил, и даже не раз, но в то время, когда Сперман вышел на пару минут в магазин за углом. А потом просто перестал заходить…
Это был один из вариантов. Но ведь экспроприация рыбы могла пройти незамеченной, и тогда не было никаких причин не появляться. Или тот ожог был намного серьезнее, чем показалось на первый взгляд: с осложнениями, инфекцией, больницей или чем похуже, Бог его знает, чем?..
Обо всем этом думал Сперман, после кратковременного пребывания в Амстердаме собираясь обратно в свой замок в дальних землях. Он уже не был беден, как прежде, но мог путешествовать по всему миру, сколько хотел.
«Да, самое странное в том, — думал Сперман, — что когда можешь позволить себе что угодно, то удовольствия от этого уже не получаешь. Можно упиваться шампанским, объедаться крабами и рассекать на яхте, но не хочется, совершенно не хочется. Милость — вот и все, на что остается надеяться».
Что касается поисков навсегда пропавшего Марселя, то Сперман тогда не сидел на месте. «Ни один человек в Западной Европе, — думал он за рулем автомобиля по дороге на далекий юг, который порой торжественно называл „самолично выбранным местом ссылки", — ни один человек в Западной Европе не обошел на пяточке земли за столь короткое время столько рыбных лавок».
Сперман прекрасно помнил зловещее сияние этих призывающих к обжорству заведений. Это было время, когда люди верили в зеркала: ими в таких магазинах завешивали большую часть стен: скорее всего, ради дармового моря дополнительного света. Причем зеркала были в основном бледно-розовыми или фиолетовыми, что смягчало эффект: клиенты наверняка не так пугались собственных отражений.
Но Сперману зеркала были только на руку: еще снаружи, через витрину, если она не запотела, он мог окинуть одним взглядом бесконечно размноженные отражения и увидеть всех, кто был в магазине.
Конечно, если Марселя не было видно, это еще ни чего не значило: он мог быть на кухне, в кладовке, в подсобных помещениях, или что там находилось на задворках.
Но Сперман не торопился, а каждый раз обходил магазины в разное время дня и ночи. Даже если Марсель попеременно работал то в лавке, то в подсобке, настойчивый Сперман наверняка бы его заметил.
Но как сказано выше: он больше ни разу не видел Марселя.
Так что оставался последний вопрос: тот мальчик с розовыми блестящими ноготками и дешевыми кольцами, который в трамвае спросил дорогу к отелю «Окура» — был ли это Марсель?
«В сущности, — размышлял Сперман за рулем, — есть два варианта. Это был он или это был не он. Но, по-моему, это был он, да, наверняка…»
Но разве должен был он, Сперман, почти двадцать лет спустя вновь сутками дежурить, но теперь не у рыбных лавок, а возле отеля «Окура»? И это при условии, что мальчик, увидев Спермана в трамвае, даже не узнал его?
Сперман ехал на далекий юг; солнце зачастую светило ему прямо в глаза, и даже козырек не помогал. Красное пятно, остававшееся на сетчатке, когда он отводил глаза, напоминало ему другое пятно — рану огненной формы на мальчишеской груди Марселя, тот ожог…
Он вспомнил, что ожог был необычной формы. Жареную рыбу, видимо, торопясь, засунули в пластиковый пакет неправильно, то есть — наоборот, хвостом вниз. Так что ожог был в форме безголовой рыбы и похож на лист, лист дерева с двумя круглыми долями и заостренный книзу. «Да, конечно, сердце, — подумал Сперман, — это я и так понял. Но куда только не заведет мысль… Но я не дам себе мозги запудрить… Религия — это прекрасно, но не стоит во всем искать высший смысл. Так можно продолжать до бесконечности».
Он сделал все, что от него зависело, не так ли? И рыбу съел, не за один присест, конечно, но целиком. «Для истинного любителя рыбы каждый день — Пятница, — рассуждал Сперман. — И хватит пиздеть».
Вскоре он доехал до места назначения, и повседневная жизнь — слегка одинокая, да — снова захватила его.
X
Однажды, после возвращения Спермана в заграничный дом, в расположенном неподалеку городке Б. начались военные учения. Сперман не мог их не заметить, потому что слышал эхо взрывов, а низко летавшие вертолеты сбрасывали шары на парашютах: медленно опускаясь на землю, шары эти сияли всеми цветами радуги, оставляя после себя рыжеватый дымок. «Началось? — подумал Сперман. — Давно пора».
Происходящее тянуло его как сильный магнит, и он поспешил к автомобилю, чтобы поехать и посмотреть: Сперман вдруг по-детски испугался, что опоздает и пропустит недолгое зрелище.
Приехав в городок Б., он понял, что учения еще в полном разгаре. По главной улице тянулась вереница армейских машин, изящно закамуфлированных только что срезанными ветками, а самый оживленный перекресток был забаррикадирован мешками с песком, за которыми лежали самые настоящие вооруженные солдаты.
Погода была прекрасной и теплой для этого времени года, и солдаты были в зеленой полевой форме, которая совершенно не скрывала изгибы лежащих юных тел. «Они герои, — подумал Сперман. — Они отдали свои юные жизни за нашу свободу».
Он стал считать и прикидывать в уме: не так уж их и много, даже… Он подумал, что мог бы купить на всех разных копченостей, вина, пива и даже сразу отнести коробки, в которых все будет упаковано, и предложить солдатам щедрые закуски и освежающие напитки. Это будет недешево, да, но не слишком много для человека, который, как это называл Сперман, получал приличный бюргерский доход.
Но что они скажут, эти лихие юные герои? «Убей приставучего пидора», например? С их стороны это будет нехорошо…
Якобы прогуливаясь, Сперман подошел как можно ближе, надеясь, что это не вызовет подозрений, и разглядывал молодых бойцов. У некоторых мокрая от пота форма прилипла к спине и бедрам, и для такого опытного наблюдателя, как Сперман, их нагота уже не была загадкой, а превратилась в почти осязаемую действительность.
Сперман тяжело вздохнул, замечтавшись о том, что могло бы произойти, если бы он заполучил в свои руки хоть одного из вооруженных мальчиков. У него глаза разбегались: непросто было выбрать кого-нибудь из толпы кричащих и ползущих по-пластунски бойцов. И только он готов был принять решение, как его опять охватывали сомнения. Волосы, глаза, губы, шея, плечи и солдатские взгорья — ни у одного из них все вместе не доходило до идеала, так, чтобы Сперман без колебаний предпочел его остальным.
«Но я сам виноват, — упрекнул он себя. — Они все такие милые. И вдали от родного очага».
Сколько им лет? Они все юны, но ни один из них не был призван из родительского дома пару дней или недель назад: это были не новобранцы, но мальчики, у которых за плечами немало тренировок, то есть — более-менее опытные бойцы. «Значит, им пора на фронт», — подумал Сперман.
И все же он — конечно, на безопасном расстоянии — продолжал придирчиво выискивать и, в конце концов, из всех солдат ему удалось выбрать того единственного с невинными светлыми волосами, широкими плечами и серыми чувствительными глазами, который приближался к идеалу. Это был не застенчивый восемнадцатилетний подросток, только что покинувший родительский дом; нет, ему, должно быть, двадцать три или двадцать четыре года. «Но все равно он ужасно милый, — подумал Сперман, — и очень, очень одинокий, хоть этого и не скажешь по его проказливой мордочке».
Образ этого мальчика овладел мыслями Спермана и зажил своей жизнью. У Спермана перед глазами появилась такая картина: вдали от дома и мамы мальчик невинно погиб — охваченный детским страхом смерти, приоткрыв рот, он звал мамочку, но умер в одиночестве. Представив себе это, Сперман почувствовал, что его уд увеличивается и крепнет. «Живой мальчик — это уже чудо, — подумал он. — Но умирающий — это чудо из чудес». Его обеспокоила эта мысль, и он попытался найти ей оправдание. «Я не имею в виду, что это хорошо, — бормотал он себе под нос, — но красиво и возвышенно. Это может привести к размышлениям, обращению в веру и к более ясному пониманию Бога. А в наше время это просто необходимо».
И все же это оправдание удовлетворило его не полностью, и по дороге обратно в машине он продолжал размышлять.
Разве нельзя помыслить, что, пока Сперман фантазировал, разглядывая этого милого избранного солдата, сам Бог находился рядом и видел и ощущал в точности то же самое, и когда представлял себе умирающего в одиночестве любимого и стекающую из уголка его рта кровь, Он почувствовал, что Его божественный уд креп и увеличивался?
«Нет, это не мыслимо, — думал Сперман, — это так и есть». Но что Бог при этом подумал бы? «Он подумал: „Это грешно", — размышлял Сперман, — Он подумал: „Во Мне грешная страсть и грех. Я должен вочеловечиться и умереть".»
Сперман кивнул. «Так все и было, — сказал он сам себе. — Так мы обрели спасение. Война все же была не зря».
При всем том он вынужден был признать, что война — это ужасное действо. «Она где-то начинается, но ведь не стоит на месте, — явилась ему мудрая мысль. — Она расширяется. Сегодня здесь, завтра — там». Военные учения — это, конечно, не военные действия, но все же Сперман был убежден, что они подчиняются одним законам.
Может быть, учения проводились по очереди в каждой деревне, подумал Сперман, и однажды деревню, где он живет, тоже захватят ради упражнений. И, может быть, каждый солдат должен будет в одиночку захватить по дому. И, может быть, — хотя вероятность была ничтожной, но была, потому что все возможно в этом божественном мире — именно мальчику из неслыханных и таких явственных мечтаний Спермана, который на самом деле не погиб, потому что Бог его уберег, именно ему будет приказано в одиночку захватить дом Спермана, и он ввалится туда со штыком.
И тогда, что скажет или прокричит его миленький?
— Мир вам, — скажет он на своем странном языке. — Будь вы даже поистине врагом, я не причинил бы вам вреда. Но я видел вас, когда вы, проходя мимо, глядели на меня. Я складываю оружие и хочу остаться с вами, навсегда. Я хочу всегда спать с вами в одной кроватке.
И с громким стуком он положит оружие на кухонный стол. И тогда, конечно, Сперману придется ответить, и от этого ответа будет зависеть все. Он скажет:
— Я ждал вас. Я ждал вас всю жизнь, как все мы ждем Единого, олицетворяющего мир. У меня есть только любовное оружие — с миром я хочу воткнуть его в вас, в любовную рану, с которой рождается каждый мальчик и которая безболезненно распахивается навстречу силе Любви. Подарите мне милость вонзить любовное орудие, мое единственное орудие в вашу глубокую рану. Чтобы сбылось Слово начертанное: «Бог будет все во всем».
Оружие они оставят или, если понадобится, продадут, сбудут с рук за пару ящиков вина, но это пусть мальчик решает сам, это его оружие.
И время от времени, тайком и только дома мальчик разрешит Сперману носить геройскую, еще пахнущую потом форму.
XI
Совпадение это было или нет, но через несколько дней в деревне, где жил Сперман, действительно проводились военные учения. Тут были солдаты из другой войсковой части, видимо, связные, которые разбивали биваки, протягивали телефонные линии, готовили еду на костре и копали выгребные ямы. «Чтобы самим научиться какать», подумал Сперман, почувствовав сильное беспокойство.
В этот раз военные учения были не столь масштабными, без камуфляжа и хорошо организованы. И солдаты не походили на бойцов, проводивших маневры в городке Б. несколько дней назад. «Такие услужливые мальчики, — думал Сперман, по дороге из дома к деревенской площади, куда он отправился якобы для того, чтобы бросить письмо в ящик. — Эдакие тихони. Но все равно герои».
На баскетбольном поле — оборудованном по решению муниципального совета, но не используемом — он увидел группу солдат: они открывали консервы или черпали из алюминиевых котелков. Все это было похоже на обычные душевные посиделки на природе. Впечатление усиливалось за счет того, что все они казались совсем молодыми, гораздо моложе тех солдат на учениях в городке Б.; скорее всего это были только что призванные новобранцы.
У каждого была простая, металлическая походная фляжка с держателем крышки. «Но где же они берут питьевую воду?» задумался Сперман. Поблизости не было ни машины, ни прицепа с цистерной.
Ах, какие же милые мальчики! Они даже не были вооружены, да и зачем — кому придет в голову причинить им вред?
Вдоль баскетбольного поля Сперман шел очень неторопливо, потом остановился и поздоровался. Солдаты очень вежливо поздоровались в ответ. «Вот, так и должно быть», подумал Сперман, но вдруг заметил, что дрожит. К чему бы это?
Когда солдат, сидевший ближе всех, поднял голову и взглянул на Спермана, тот почувствовал, как им овладевает некое воспоминание, против которого он был совершенно безоружен: он никогда не вспомнил бы об этом по доброй воле, но и остановиться теперь был не в силах…
Нет, в общем-то, не воспоминание, а дежавю, видение или как это называют. Это был тот солдат и никто иной: юный солдат из прошлого, лет сорок восемь или сорок девять назад, почти полвека тому…
Как такое могло быть? Это не мог быть он, однако это был именно он: его тело, едва созревшая юность, его взгляд, цвет волос и стриженый затылок… И он такой же хрупкий, застенчивый и все же отчаянный и одинокий… Это был он, тот солдат из прошлого…
Это был он и никто иной: тот же солдат, что сорок восемь или сорок девять лет назад вдруг подошел к Сперману на улице и пригласил в кино. Они сидели в полупустом темном зале на плюшевых стульях или даже на одном стуле — может быть, солдату не пришлось платить за маленького спутника, — и солдат притянул Спермана к себе на ко лени и обнял, и ласкал его так нежно.
Нет, солдат не делал ничего плохого, грешного или запретного; по крайней мере, Сперман такого не помнил. Все было совершенно восхитительно, просто какое-то неизъяснимое счастье. Из фильма маленький Сперман не запомнил ничего, кроме сцены, в которой некто звонит в дверь и вручает прозрачную коробку с дорогими цветами. В памяти остались только ласковые руки солдата; как он прижался щекой к щеке Спермана; запах солдатских волос и шеи; его тихий голос, шепчущий неслыханные тайны, вроде «милый», «милый мальчик», «мой милый мальчик»; и «тебе ведь нравится, да?». Слова, истинное значение которых тебе не известно, но которые даруют блаженство и кружат голову.
А куда потом пропал этот солдат? Что было дальше? Сперман ничего, совершенно ничего не мог вспомнить.
Сперман понимал, что не может, не вызывая подозрений, тупо стоять и глазеть на жующих Солдат. Нужно было или идти дальше, или что-то сделать или сказать. Но его вдруг охватило сильное сомнение: стоит ли поддаваться тому, что могло быть просто игрой возбужденного воображения? В книгах, да, напыщенных, полных фантазий книгах определенного сорта такое случалось, но Сперман всегда презрительно поглядывал на подобные сочинения.
Из-за долгих колебаний Сперману — если он не хотел навлечь на себя беду — нужно было как-то выкрутиться и что-то сказать, а сказать было нечего. «Ты ведь можешь говорить что хочешь? — услыхал он голос в голове. — Даже если тебя побьют, что с того? Трус…»
Безотчетно Сперман протянул руку и похлопал солдата по плечу. Верх неприличия, особенно в этой стране, дотрагиваться до человека, еще не заговорив с ним; это Сперман понимал.
— Если пройдете со мной, — услышал Сперман собственный голос, — я покажу, где набрать воды. Вон там мой дом, — Сперман махнул рукой, — а с той стороны, снаружи есть кран, чтобы поливать сад. Можете набрать там воды или помыться. Я покажу.
Редко бывает в жизни так, что все случается, как ты хочешь; но солдат поднялся и пошел за Сперманом к дому и садовому крану. Сперман слышал себя, беседовавшего с солдатом о маневрах и биваках, так сказать, со знанием дела; но сколько лет назад он сам отслужил? Он даже испугался того, как правильно изъясняется на чужом языке, который так никогда и не стал ему родным.
Солдат отвечал очень вежливо и очень спокойно и, кажется, ничего не заподозрил.
А Сперман, беседуя с ним, разглядывал лицо, но никак не мог одержать победу в борьбе с сомневающимся разумом. Слова из чужого языка произносил все тот же голос из прошлого, из темного кинозала, и губы, выговаривавшие слова, были те же. «Но существуют ведь понятия времени и места?» — думал Сперман. И он сегодня даже ни капли еще не пил…
— Вот, здесь вы можете набрать воду и помыться, если хотите, — сказал Сперман, вновь удивляясь тому, как спокойно течет речь.
Он открыл кран и пустил воду, будто солдат был полным дебилом.
— Спасибо, сударь, — вот и все, что тот сказал в ответ.
И Сперману оставалось только попрощаться и уйти, обогнув угол, он зашел в дом. Он побрел в гостиную, подошел к нише, днем и ночью освещенной маленькой электрической лампочкой, и посмотрел на белую фарфоровую статуэтку Матери с Младенцем.
— Да, — пробормотал он, против воли опуская очи долу, — я понимаю, что все это во благо, но зачем весь этот… этот бред?..
И, едва сдерживая слезы, он вышел из гостиной, поплелся по лестнице на чердак, высоко в доме, и бесшумно открыл окно.
Он посмотрел вниз, на вмонтированный в стену кран. Вокруг уже собрались солдаты с фляжками и ждали своей очереди, потому что солдат, что пришел со Сперманом, еще умывался под краном.
И Сперман, увидев его мокрый лоб, снова понял, что это тот самый человек…
Сперман закрыл окно, вернулся вниз, зашел в гостиную и сел в кресло напротив ниши. Он хотел подойти к Статуэтке, но это могло закончиться плачем и криками.
Вместо этого он тихо сидел и смотрел на освещенные нежным светом строчки над нишей и под нею, сложенные из коричневых пластиковых заглавных букв: такие можно купить в магазине игрушек и приклеить или привинтить на модель лодки. Mater Divinae Gratiae стояло там и: Ora Pro Nobis. Сперман знал, что в переводе с латыни это означало: Матерь Божественная Милостивая и Помолись за нас.
— Да-да, — пробормотал Сперман, — но что это даст?
Он тут же одернул себя, потому что не любил богохульничать, тем более без особой надобности. Солнце все еще светило, и он ведь мог пошутить с Нею чуток, не обижая?
— Армия сделает из тебя мужчину, — произнес он вслух. — Что скажешь? Теперь и женщин берут в армию. Ты знала?
Но все эти молитвы… За скольких Ей приходилось молиться, если задуматься, и от кого только она не выслушивала постоянно мольбы, просьбы и ебаные жалобы?.. И когда на одной стороне Земли ночь, то на другой — с которой, хоть Земля и шар, люди почему-то не скатываются — белый день, то есть молитвы не прекращаются, и Она выслушивает их все время… Кто такое выдержит?..
То ли из-за того, что он легкомысленно позволил себе расслабиться, то ли из-за той шутки, но, так сказать, новое воспоминание Спермана было про службу в армии. Очень, очень странно, что ни учения в городке Б., ни события сегодняшнего дня не напомнили ему сразу столь волнительные переживания… Видимо, по какой-то причине он держал эту живую картинку глубоко в памяти, почти позабыл обо всем на долгие годы…
Почему? Может, потому что это напоминало ему о грехе, который он отказывался признать за грех, но который рано или поздно, а в этом случае здесь, перед Ее образом и троном, не мог оставаться в тайне, ведь для Нее каждое сердце — открытая книга?
— Индию потеряли, бед себе напряли, — прошептал Сперман. — Война, с ней шутки плохи.
XII
Все время вот эти подсчеты: сколько лет назад это произошло… О, были бы у него какие-нибудь записи, чтобы уточнить… Где-то тридцать шесть, тридцать семь лет тому, ну да, что-то вроде… Одно всплывшее воспоминание казалось не похожим на другое, но разве это не просто видимость? Разве эти красочные «воспоминания», которые он наколдовывал, не заканчивались всегда одним и тем же?..
Это случилось в «нашей — как это называл Сперман — Индии», где он служил под флагом Ее Величества тогда еще старшим лейтенантом: его взвод оказался недалеко от Танджонг Морава на острове Суматра. Никаких четких приказов не было; в сущности, они находились не на линии фронта, и неуютная тишина и безделье действовали подавляюще. Порой Сперман пробовал разогнать тоску в войсках вечерними посиделками у костра и рассказами. Он устроил такой вечер раз, два, а потом «его мальчики» на это дело подсели.
— Лейтенант, а вы вечером еще почитаете вслух?
— Как я могу читать вслух, если здесь нет ни одной книжки?
— Нет, ну, почитайте без книжки, лейтенант.
— Ты имеешь в виду: рассказать что-нибудь?
— Да, лейтенант: рассказать!
— Ну, хорошо, расскажу. Пусть Гусик сядет рядом.
Военнообязанный Гусик садился на землю рядом со Сперманом и склонял белокурую голову на плечо своему лейтенанту. «Я тогда вообще ничего не боялся, — подумал Сперман. — Куда же делась моя храбрость?»
При первой же встрече «Гусик» — светловолосый, худенький, похожий на девочку звереныш — и Сперман почувствовали неодолимое притяжение, и Сперман, с непонятным ему теперь безрассудством, ночью оставлял мальчика спать у себя в палатке. Он припоминал, что, увидев мальчика и услышав его голос, он совершенно терял осторожность. И нужно учитывать, что военная дисциплина — это не шутки, нежностей там не прощают… Почему же не было страха? «Потому что сознавал, что вокруг царит смерть», понял Сперман сейчас.
Для остальных все это оставалось тайной совсем недолго, но, как ни странно, никаких дисциплинарных последствий не имело. Правда, временами солдаты запевали песенку, которую сами сочинили Солдата Гусика на самом деле звали Ганс ван Доммелен.[20 - Dommelen (нид.) — дремать.] Он сейчас вспомнил эту дразнилку:
На Засоню Гусика
Лучше не глазейте:
Он всю ночь играет
На лейтенантской флейте.
Лицо мальчика в палатке, при свете керосиновой лампы, в тропической ночи…
Порой Сперману казалось, что у мальчика два лица, точнее, что за одним лицом скрывается другое. «За его лицом только лицо вечности», сказал Сперман сам себе, и еще он вспомнил, что мысль об этом почему-то была ему неприятна: несмотря на жару, его знобило.
Так чем они там занимались? «Всем понемножку», подумал Сперман. То, чего хотелось ему, Сперману, не случалось: самым заветным его желанием было, чтобы было темно, и Гусик сидел в полном обмундировании в мягком кресле, и можно было устроиться у него на коленях и нежиться в его объятьях. Но там не было кресел или чего-нибудь в этом роде, и потом Сперман был старше на год или больше, и довольно мускулистый, и потому тяжелее Гусика, так что какой из него «малыш на коленках»!
Перед сном Гусик обслуживал Спермана, зарывшись лицом тому в пах, но прежде всегда спрашивал:
— Лейтенант, а если я буду плохо себя вести, вы ведь меня отшлепаете? Да? Отшлепаете, лейтенант?
Уже тогда у Спермана в голове бродили всякие неслыханные мысли и мечтания, но чтобы прилюдно наказывать Гусика — нет, такого рода желаний еще не появлялось.
Пока Гусик — согласно словам из солдатской песенки — играл на флейте Спермана, тот гладил его пышные, светлые, девичьи локоны, шею и ушки и согласно отвечал на жадные и настойчивые вопросы:
— Да, мальчик, конечно, я тебя отшлепаю.
Недостаток был в том, что Гусик тогда прерывал любовную службу и тем же ротиком умолял Спермана рассказать подробней, где и как будет происходить наказание. Этот наивный неуч не обладал даром красивой речи и даже самые страстные любовные желания выражал с трудом. Но все сводилось к обещанию Спермана, что он перед всем взводом перегнет Гусика через колено и хорошенько надает по попке.
— Вы правда так и сделаете, лейтенант? Завтра, да?
И все будут смотреть? Завтра? Лейтенант… лейтенант… они ведь все увидят, как вы со мной расправитесь, правда ведь, а?.. Завтра?..
И как заевшая граммофонная пластинка, Сперман раз за разом подробно описывал то, о чем умолял Гусик; ротик ненадолго замолкал, а страсть, наконец, достигала пика.
Любовное орудие Спермана выстреливало не благодаря мечтаниям о пытках, а, скорее, из-за раздражающего, слишком уж нежного сочувствия, с которым он боролся, или даже довольно скрытого презрения и желания когда-нибудь избавиться от Гусика, то есть от своей привязанности к Гусику.
То, что солдат даже здесь, в палатке, обращался к Сперману на «вы», было признаком, что все это ненадолго, хоть Сперман и понимал, что «ты» столь же неуместно.
В свою очередь — не ртом, а рукой — лаская и удовлетворяя Гусика, он поневоле вновь и вновь машинально говорил о том, как он публично его отшлепает, но в это была уже самая настоящая нежность: свободной рукой Сперман с отвращением, но и с любовью, да, заботливо гладил Гусика по лицу, кончиками пальцев нащупывая под кожей очертания костей. В этом не было, в сущности, ничего особенного: лежа рядом с мальчиком или мужчиной, Сперман почти всегда наблюдал или осязал контуры его черепа. Так что никакой звоночек не зазвенел, ничего предвещающего Сперман тут не увидел.
Гусикова «кончина» случилась довольно быстро: он был единственный погибший из взвода…
Сперману тогда выпала честь написать письмо родителям, но у него ничего не получалось, и он передал задание другому. Единственный сын, Гусик, к тому же — всего один ребенок в семье… Его родители держали табачную лавку в Зейсте, Билтховене или где-то в округе… То, что он был единственным ребенком, само по себе ужасно, но за что еще и табачная лавка: у Спермана это вызывало неописуемую грусть, он пытался понять почему, но тщетно. Сперман встал и подошел к освещенной нише.
— Это все я виноват, — пробормотал он, ненадолго задержавшись взглядом на неподвижном, бледном лице Статуэтки. — Я не любил его по-настоящему. Я согрешил.
Сперман знал Писание: человек мог согрешить мыслью, словом и делом, но кроме этой троицы, был еще четвертый грех: халатность.
— Я не отшлепал его. Вот он и погиб.
Потому что так все было устроено, по мнению Спермана. Если бы он любил Гусика по-настоящему, то должен был набраться храбрости, чтобы принять любовную исповедь и причастить его, отшлепать перед всем взводом.
— Это было все, о чем он просил, — бормотал Сперман.
Разве Гусик хотел чего-то еще? Денег? Сигарет? Дополнительный паек пива или пару пользующихся большим спросом тропических сапог, в которых ноги, несмотря на жару, не разлагались? Нет, ни разу… ничего подобного Гусик никогда не просил, только лишь этого покаяния в любви к нему на глазах всего взвода…
— Почему же я его не наказал? — прошептал он. — Тогда бы он не погиб. Это все я виноват, сильно виноват, виноват больше всех. Я не отшлепал его. А Ты… Ты не могла бы его отшлепать?.. Надавай ему посильнее по его солдатской попке… Он ведь не повзрослел ни на день.
И вот сейчас, в отличие от прежних дней, похотливые мысли об обещанной, но так и не претворенной в жизнь, но теперь, может быть, еще возможной пытке Гусика — нагнувшегося, с обтянутой брюками попкой — возбудили Спермана: он расстегнул штаны и потрогал голый уд. Нередко случалось, что — время от времени, в Ее честь и у Нее на глазах — он трогал себя, стоя подле образа Ее и мечтая о мальчиках, чаще всего о таких мальчиках, которые непочтительно говорили о Ней, и потому их нужно было хорошенько наказать; и его мужская влага проливалась к подножию алтаря. И в этом не было ничего безнравственного или предосудительного, и не могло быть, если все это происходило во славу и честь Ее.
Но сейчас Сперман ощутил близость чего-то более святого, чем само это действо, и ему удалось выпустить из рук свое любовное орудие. Да, Гусик о чем только не пиздел, но никогда, ни одного непочтительного слова в Ее адрес не сказал, в этом Сперман готов был поклясться.
— Знаешь, что?.. — заговорил он, приводя в порядок одежду. — Ты… не помолишься за него?.. За Гусика?.. Понимаешь, — продолжил он, — ну за кого еще молиться?.. За того барда?.. За него не надо, он наверняка еще жив, о да, он-то еще не скоро умрет. А Марселя я недавно видел в трамвае. Ну а тот солдат снаружи, — он махнул в сторону, где на улице должен был находиться встроенный в стену кран, — с ним все будет в порядке. Ему надо быть осторожней с маленькими мальчиками, которых он водит в кино, но в остальном с ним все будет хорошо… А я?.. — здесь он засомневался и опустил глаза. — Я, конечно, в определенном смысле еще жив, это да… Но все же, понимаешь… Не могла бы Ты… помолиться… за меня? Нет, не за меня… Ну да, я хотел сказать: за нас обоих?.. Гусик мертв, а я жив, но это все моя вина, вот я про что…
Он вновь поднял голову и взглянул на Статуэтку.
— Я хотел признаться Тебе, — он старался, чтобы голос не дрожал, — эта история про Гусика, я все придумал… Хорошая история, не так ли, но ни слова правды… Короче, Ты сама знаешь… Ноги моей не было в нашей Индии. Я ни дня не служил в армии. Наверное, потому я так живо интересуюсь молодыми солдатами мужского пола. Ну да, есть вероятность, — продолжал он как можно равнодушней, — что это не мое воспоминание, а чужое, какого-нибудь невезучего тезки, что-нибудь такое. И что Гусик на самом деле существовал. Ведь это был все же чудесный звереныш… И как я уже сказал: он никогда ни слова неприличного или некрасивого о Тебе не произнес, этот Гусик… И вообще, это было нечто, знаешь: ночь, палатка, керосиновая лампа… И звуки ночной жизни, доносящиеся в темноте из тропических непроходимых джунглей. Так и стоит перед глазами. Никогда в жизни этого не забуду.
Он пристально вгляделся в лицо Статуэтки, но оно оставалось каменным.
— И что касается греха: я виновен только в четвертом грехе, а разве он относится к смертельным? Да ладно… Только халатность, ожидание, сделаю то, сделаю это, но ничего, ничего: только трусость. Хочешь кое-что услышать, Сударыня? Я мог все сказать Марселю, все, второй раз уж точно, когда он пришел с той горячей рыбой, но ведь не сказал Нет, а почему? Потому что бежал обязательств, вот почему… И потом, в трамвае: вообще-то я сразу понял, что это был он. И если все действительно было так серьезно, то я пошел бы его искать и нашел бы, пожалуй…
— Ты слушаешь? — продолжал Сперман, повысив голос и заговорив чуть быстрее. — Если уж я вчера или позавчера, или когда там и впрямь так хотел великодушно угостить солдат вином, пивом и сигаретами, то почему я этого не сделал?.. Потому что я слишком скуп, Милостивая Госпожа. И если бы угостил, то разве сказал бы тому солдату: я хочу еще раз увидеться с тобой и поговорить? Вот и нет, для этого я слишком труслив, вот в чем дело… И тот зайчик снаружи — Сперман снова махнул в сторону крана, — со всем его культурным прошлым… Ему-то я тоже мог сказать, что богат, что отдам ему все и все буду разрешать, лишь бы он остался со мной… и время от времени раздевался передо мной, а я бы только смотрел на него и иногда дотрагивался… А он ведь наверняка технарь и разбирается в электричестве, в этом я уверен. И если в доме что-нибудь сломается, все связано и где-то заземлено, это мне электрик сказал всего пару дней назад… Несчастный — это да, и дурак, к тому же — робкий и трусливый как заяц, но грешен ли я?..
Сперман почти кричал.
— Черт возьми, я хотел бы хоть раз, хоть раз в жизни действительно, по-настоящему, от души согрешить всерьез, согрешить так, чтобы пути назад не было… — он говорил все быстрее и громче, — чтобы грехи мои были «краснее крови» и чтобы только Ты, Ты могла по исправить! Я имею в виду заступиться, чтобы сделать их «белее пуха». Так ведь написано или нет?.. Почему Ты молчишь?..
И, понизив голос, он продолжал:
— Но и моей жизни еще ничего не случалось. В моей жизни совершенно ничего не произошло. И что Ты можешь сделать для меня?.. Что Ты можешь сделать для того, кто не способен пасть к Твоим ногам, так как не грешил по-настоящему?..
Он покачал головой, еле сдерживая рыдания.
— Нет, — медленно произнес он, опуская глаза. — Я не хочу обижать Тебя. Не хочу богохульствовать… Зачем?.. Я знаю, что Ты — Матерь наша, навечно… Да, я покричал чуть… Прости… Но, пожалуйста, милая Матерь, не забудь того, кому нечего, совершенно нечего рассказать тебе, не забудь того… того…
Его голос охрип, он чуть не плакал:
— Ты… Ради Христа, помолись за меня… Ну да, за меня?.. Я хотел сказать: за всех нас, и за меня заодно?.. Тебе же не трудно?.. Ты… — задыхался он, — Матерь!.. Матерь Слова… Матерь Воскрешения… Святая Матерь Господня… помолись за всех нас… за всех… всегда… всегда… Молись же за нас… Молись за нас, грешников, сейчас… сейчас и в час нашей смерти… Аминь…
1984 г.