Герард Реве
Язык любви
Аннотация
Роман "Язык любви" создан по модели мощного и брутального "Тиля Уленшпигеля", пересказанного в стилистической манере скандально известного французского писателя Жана Жене.
Роман "Язык любви" создан по модели мощного и брутального "Тиля Уленшпигеля", пересказанного в стилистической манере скандально известного французского писателя Жана Жене.
В романе присутствуют и неправдоподобная смесь тем и интонаций; нетривиальные человеческие отношения, пародия на "общие места" культуры и эксплуатацию высоких ценностей.
Первая часть дилогии "Милые мальчики".
Глава первая
Здоровый образ жизни
I
12 августа 1969 года, ровно в двенадцать часов пополудни, в прожаренном солнцем чистом поле заключил я сделку с г-жой Жерменой X. тэ Ф., проживающей в квартале де ля Пэн, владелицей неполных пяти гектаров земли, именуемых хутором Овернье; согласно договору я сделался обладателем обширного участка площадью в 14 980 квадратных метров, состоявшего из раскинувшегося на высоте 742 м над уровнем моря горного плато, развалин заброшенного около сотни лет назад дома и поросшего лесом косогора; участок этот врезался клином между дорогой и речным руслом. По окончании сделки я обнял Жермену, смахнул слезу и отправился в путь пешком, невзирая на удушающую жару. Примерно в километре от хутора, на вилле голландского издателя Ван О., в свое время представившего меня Жермене, а также послужившего посредником в упомянутой сделке, меня ждал Тигра[1 - Тигр, или Тигра — Виллем Бруно ван Альбада, возлюбленный Реве в 60–70 гг. (здесь и далее — прим. перев.)]. Сам Ван О. пребывал в то время на родине, но дом его находился в нашем распоряжении, и мы на время приютили у себя Петера З. — немецкого юношу, родом из Польши, и Джованни Л., швейцарца итальянского происхождения. (И с именами этих двоих на страницы сего повествования вступают Одиночество и Смерть.)
Я добежал до развилки трех дорог, где путь пересекало иссушенное зноем речное русло, проломился сквозь буковую рощу, немного освежившую меня своей прохладой, выскочил из нее на другом краю, рысцой пронесся вдоль усадьбы Роже X., племянника Жермены; вдали, справа от дороги, на лавандовом поле, приметил и его самоё в обществе четырнадцатилетнего сына Жана-Луи, чье худощавое, загорелое юношеское тело, облаченное, по обыкновению, в мешковатые, вечно распахнутые и зияющие дырами одеяния при всяком визите или случайной встрече пробуждало во мне безграничное вожделение; помахав на бегу им обоим, обогнул трансформаторную будку и здоровенный стальной фонарный столб, с которого два года назад упал и насмерть разбился монтер из ведомства энергосбыта; пробежал мимо огромной, уже лет так тринадцать пустующей фермы, последний обитатель которой, сорокасемилетний холостяк Жан О., по трагической случайности — или же неслучайности — разнес себе голову из собственного охотничьего ружья; и, язык на плече, добрался до дома Ван О., где около машины Петера стояли Тигра, сам Петер З. и Джованни Л., готовые к немедленному отбытию на экскурсию в Вэссон ля Ромэн[2 - Город в Провансе.]. Все еще задыхаясь, я выпалил главное: «Купил. Подписал. Жермену облобызал. Это — для всех нас».
Усевшись на камне, я потребовал чего-нибудь выпить и приступил к изложению событий. По ходу рассказа, который я из уважения к нашим гостям время от времени прерывал комментариями на немецком, я пожирал глазами Джованни и, несмотря на его чудовищную, по нынешней весенней моде, цветастую куртку из искусственного шелка и синие шерстяные, ребячески короткие брючки, был обуреваем столь же бурной плотской нежностью, как и за два дня до этого, когда они оба только-только явились к нам и он впервые предстал моему взору.
Я не собирался ехать с ними на эту экскурсию — я был «слишком стар и устал, слишком болен душой». Мне хотелось остаться одному, чтобы побродить в окрестностях виллы, поразмышлять и, возможно, немного поработать.
Когда вся троица уехала и шум мотора замер за ближайшим склоном, я уселся за письменный стол в большой гостиной и попытался хоть что-нибудь накропать. Я никак не мог решить, взяться ли мне за письмо к Ван О., к нотариусу Б. тэ Д., к сестрам М. тэ Г. или же за первое предложение, первый абзац, первую четверть страницы моей новой книги.
Я вновь наполнил стакан, который захватил в дом, хотя вначале намеревался отнести его на кухню вместе с только что откупоренной, специально для меня, бутылкой плохонького красного вина. Я рассеянно осушил его, наполнил снова, вышел из дома, прихватив бутылку, которую оставил в холодке на террасе, и отшагал дюжину-другую шагов вниз по тропинке, ведущей к постройке, которая ныне служила хлевом, а некогда принадлежала мсье Готье, который не стрелял себе в голову, не слетал кувырком с электростолба, а попросту тихо допился до донышка.
Было тихо. Стоявшее почти в зените раскаленное солнце, как ни странно, не утомляло меня, несмотря на то, что у меня не было никакой защиты от его лучей. Я уселся на большую каменную глыбу, бывшую прежде частью горной стены, осушил стакан и поежился. Во Фрисландии у меня был дом без усадьбы — разве что так можно было назвать те несчастные 150 кв. метров, собственно, и занятых домом; здесь же я сделался владельцем земельного надела в 15 000 кв. метров — но без дома… Я поставил стакан на землю возле камня, доплелся до террасы, забрал бутылку и налил себе еще. А было бы славно, кабы та самая эскадрилья бравых ангелов, что древле исхитрилась из-под самого носа подступающих турок выхватить хибарку Девы Марии и по воздуху оттранспортировать ее из Назарета в землю италийскую с промежуточной посадкой на острове Сицилия[3 - Согласно легенде, домик Марии был перенесен ангелами по воздуху из Назарета в 1295 г. Домик находится в Лорето (Италия), на территории быв. Галилеи.], могло оказать мне такую же услугу с моим фрисландским домом «Трава»!
Вчера, в полдень, я и Джованни Л. стали одной плотью[4 - «…и будут два одной плотью…» (Быт. 2:24)], и сейчас я в который раз терзался вопросом: было ли это дурно и грешно с моей стороны — но, впрочем, спрашивать себя об этом не имело никакого смысла, ибо я прекрасно знал, что это было именно так.
В том году мне исполнилось сорок шесть. Кому же мне все-таки писать? Я не верил в Бога, Которого тем не менее искал неустанно, но Который еще ни разу за всю мою жизнь не позволил мне ни увидеть, ни услышать себя, и Который, несомненно, допустит, чтобы я оставил сей мир, так и не познав его и не сделавшись частицей его. Из-за нашего же соития с Джованни этой вновь приобретенной земле на три, по меньшей мере, года, а то и на все семь лет суждено было сделаться обителью злосчастья.
Бутылка была пуста. Отнеся ее на виллу, я откупорил на кухне еще одну, вернулся под палящим солнцем на то же место, снова наполнил стакан, поставил вторую по счету бутылку на землю, на всякий случай укрепив ее тремя камнями, и вновь причастился крови Господней, которая в новой бутылке, невзирая на мое несколько притупившееся осязание, была точно такой же терпкой, мерзкой кислятиной, что и в предыдущей. На что же еще человеку жаловаться? Я опрокидывал стакан за стаканом. Когда должны вернуться мальчики? Мне было страшно. Я так ничего и никому не написал.
II
(Порой мне случается беседовать с людьми в кошмарнейших интерьерах, под самую крышу забитых бесчисленными подушками, думочками, витражами, bibelots[5 - безделушками (фр.)], étagères[6 - этажерками (фр.)], книгами на фризском языке, поддельным антиквариатом, поддельным фарфором, поддельными монастырскими столиками и поддельными ковриками; при этом мне постоянно приходится извлекать из себя некие звуки, долженствующие означать мое участие в разговоре, дабы не повисло молчание, воспользовавшись которым собеседник заявит мне: «Вы должны остаться здесь навсегда». Напряжение достигает невиданной силы, и тогда я несу что попало: клекочу, точно какой-нибудь страус или птица киви. Жить — означает давать и брать.
И в конторах тоже довольно часто ведутся оживленные беседы, во время которых чего только не наслушаешься. Так, в офисе поэтессы X. М[7 - Ханни Михаэлис, бывшая жена Реве.]. работала некая госпожа Пасма, которая поведала, что ее муж «занимался этим сам с собой», а домашний врач, у которого она консультировалась, заявил, что «ни с чем подобным в своей практике не сталкивался». (Но это еще мелочи по сравнению с тем, о чем мне предстоит здесь написать.)
История нашего знакомства с Петером З. — благодаря которому примерно год спустя мне суждено было встретить Джованни Л. — одна из тех, что ни в какой в конторе не услышишь; история, которую, в сущности, и рассказать-то никому нельзя, и которой тебе непременно начнут колоть глаза, если ты поместишь ее в книжку. Но я знаю только одно: я должен записать эту историю одиночества, иначе мне вообще больше не стоит заниматься моим ремеслом.
Она, эта незначительная история, началась летом 1968 года, когда мы — Тигра и я — жили на Плантаж Керклаан, где целых несколько месяцев я совершенно искренне полагал себя счастливым. Напротив нашего многоэтажного дома был вход в Зоопарк — я состоял членом общества его «друзей», а Тигр, как студент, пользовался правом бесплатного входа. Как-то в августе, в пятницу днем, завершив покупки на рынке, что на Дапперстраат, мы решили вернуться домой через Зоопарк — южный вход его вел также и к зданию Аквариума; главный же, западный вход располагался практически напротив нашего дома. Стояла солнечная, теплая погода и, войдя в южные ворота, мы, вопреки первоначальному намерению, не отправились сразу же в сам Зоопарк, а тени и прохлады ради завернули сперва в здание Аквариума. Там оказалось ненамного свежее, чем снаружи, и было довольно-таки людно: школьники бродили там целыми классами; в бесчисленных группах подростков попадалось очень много красивых Мальчиков, и волшебное мерцание невидимых подводных ламп омывало их ясным, не оставляющим теней светом, очерчивая лица, волосы и рисунок бедер так четко и тревожаще, как никогда не бывает при дневном освещении. Один юноша, с белокурыми короткими волосами, лет примерно двадцати, в легком шерстяном свитере навыпуск и в сероватых, спущенных на бедра тесных брюках, несколько мгновений пристально смотрел на нас, но потом пошел дальше, не проявляя больше никакого видимого внимания.
Я пытался смотреть на все что угодно и думать о чем угодно, кроме Мальчиков, но вдруг совсем рядом, перед одним из аквариумов поменьше — в котором, по всей видимости, никогда не водилось ничего живого — я заметил мальчугана лет тринадцати-четырнадцати, с длинноватыми, закрывающими ушки русыми волосами, — низко склонившись над стеклянным ящиком, он, казалось, изучал повадки каких-то морских рачков, обитавших в самом дальнем его углу. Он стоял, скрестив ноги, отчего его брюки — без всяких сомнений бархатные, — сильно натянувшись в паху, врезались в неописуемую тайную ложбинку, обозначившуюся меж его крутых, округлых мальчишеских ягодиц. Я попытался направить свои мысли на что-нибудь, имеющее большее отношение к Аквариуму или Зоопарку, но, пока мальчик продолжал стоять вот так, наклонившись перед маленьким аквариумом, не мог думать ни о чем другом, кроме того, как схватил бы его и, заставив затянуть брючный ремень на две-три дырочки, нагнуть еще сильнее вперед, а потом — столько, сколько Тигр этого возжелает — стегать его темно-красным хлыстом через туго натянутые брюки — так, чтобы они клочками полетели с его бедер, со светлых его, бархатистых юношеских холмиков… Страшная усталость вдруг охватила меня.
Мальчик выпрямился и пошел прочь; когда он проходил мимо меня, я отчетливо и ясно увидел его горло и этот рот, из которого во время бичевания неслись бы звуки хриплого, перепуганного юношеского голоса, — но через мгновение он исчез в темном углу зала, слившись с толпой посетителей.
Мне подумалось, что Зоопарк набит различными совершенно бесполезными сооружениями, примечательными своей откровенной никчемностью, но Аквариум — это другое дело. В Зоопарке, например, имелись какие-то мелкие постройки в виде минаретов, определенно необитаемых; огромная бронзовая скульптурная композиция, изображающая свору собак, задуманная уж явно не для привлечения посетителей; а над задумчивым прудом возвышался внушительных размеров бронзовый Будда, хотя какой там из Будды зверь. И я подумал: понастроить бы побольше подобного вздора, чтобы упрятать туда всю скорбь человеческую. А вот во всем зале Аквариума не было ничего, что можно было бы назвать неуместным.
Я не знал, как объяснить все это Тигру. «Устал я что-то, — сказал я ему. — Хочешь еще побродить? Тогда давай мне покупки, и я пойду». Так мы и сделали. Увешанный пакетами, я уже дошел было до стеклянных дверей Зоопарка, как вдруг повернул назад. «Запомни: ни с кем, никуда, ясно? — прошипел я. — Домой приводи кого угодно, но по чужим хатам — ни-ни! Я-то сам раньше не особо задумывался, когда херогузничал, да кабы знал тогда, на что мог нарваться! А за тебя вот боюсь теперь, слышишь? — мой голос сорвался на крик. — Приводи с собой кого угодно, только домой, домой!» Теперь я говорил в полный голос, и Тигр смущенно оглянулся. «Это важно во всех отношениях, — то, что я тебе сейчас сказал, — продолжал я шепотом. — Что-то мне страшно. Страшно мне!»
Выйдя из Аквариума я, нога за ногу, потащился с полными сумками через зоосад домой. Далеко впереди, по правую руку, заметил я громадного бронзового Будду, восседающего у своего пруда, и ясно различимое сквозь просветы в листве большое плоское бронзовое кольцо вокруг его головы. Эта статуя, неописуемо несуразная, могла бы, пожалуй, вместить столько горя, что раскалилась бы и в конце концов расплавилась. Но еще несколько таких готовых к восприятию мировой скорби архитектурных недоумков в Зоопарке и окрестностях — и этой опасности, хотя бы на время, можно было бы избежать.
Через главный, западный вход я покинул Зоопарк, пересек улицу и поднялся в нашу квартиру на третьем этаже, которая, как и все наши былые пристанища в Амстердаме, было просто-напросто дырой. Вначале она являла собой разгороженную клеть, но мы сломали перегородки, и все жилое пространство превратилось в одну большую комнату, простиравшуюся от двух громадных окон, выходящих на улицу, до единственного окна во двор, зажатого между двумя флигельками — туалетом и кухней соответственно. Приблизительно посередине комнаты был сужавший ее на несколько метров выступ — за стеной была лестничная площадка. Вдоль этой стены, в пространстве между выступом и противоположной стеной, в направлении кухни, за высоким стальным книжным шкафом со сплошной задней стенкой я устроил себе нечто вроде берлоги, достаточно просторной, чтобы вместить сколоченные моими собственными руками узкие деревянные нары.
В стальном шкафу, развернутом открытыми полками к стене, помещался телефон и все мои остальные принадлежности. Высокий шкаф, выступ лестничной площадки у изголовья и внешняя стена дома с трех сторон надежно ограждали мой закуток. (При желании можно было и совсем отгородиться: для этого надо было бы всего-навсего укрепить в изножье кровати занавеску и протянуть ее между стеной и шкафом.)
Я забрался в свой уголок, улегся на бок в узкой дощатой кровати и призвал к оружию свой Сокровенный Отросток, возвращаясь мыслями к образу того тринадцати-четырнадцатилетнего Мальчика в лиловых — точно, лиловых — брюках, которого я видел в волшебном свете ламп склонившимся над маленьким пустым аквариумом; и я воображал, как, завлекши его к нам — для Тигра — быстрым, неожиданным движением заверну ему руки за спину, на шейку — ошейник, запястья — веревкой к ошейнику, веревку затяну туго-натуго, так, чтобы руки его болезненно вздернулись вдоль спины и он не смог бы прикрывать ими во время истязания свою — о, такую дерзкую — попку…
Я задышал тяжелее, но между моими грезами — в которых светлая шейка и влажный, еще детский рот Мальчика виделись мне даже яснее, чем недавно в Аквариуме — и моим разумом было нечто, что смущало меня, и прежде всего это были колебания: я не знал, оставить ли на гибком юношеском теле лиловые брюки или спустить их; я пребывал в нерешительности по поводу наиболее подходящего орудия наказания; и внезапно мной овладело самое тяжелое из сомнений: только ли ради Тигра хотелось мне терзать мальчугана, или же, в действительности, еще и — в основном? — совершенно? — ради моего собственного сладострастия? Я должен преодолеть эту нерешительность. «Я его пальцем не трону, — прошептал я. — Только чтобы покрепче его держать. Зажму его шею между ног, а хлыст отдам Тигру. Пускай сам насчет штанов решает».
Содрогнувшись, я выпалил в стену божественной влагой — там она засохнет, скроется в свое время под новым слоем побелки, сделается из почти незаметной совсем незаметной и тем самым либо принесет этому дому благословение, либо навлечет на него погибель.
Мне не удавалось избавиться от сомнений и, хотя я ощущал смертельную усталость, душа моя продолжала метаться. (Ведь надо же будет ему что-нибудь купить? Придется мальчишке, после того как с него снимут веревки и ошейник и оботрут ему слезы, пройтись со мной в город, где я куплю ему палатку — не какую-нибудь дорогущую, конечно, но все-таки новенькую — не синюю или оранжевую, какие, сдается, нынче в моде, а палатку для настоящего мужчины — парусиновую, грязновато-белую или цвета выгоревшего хаки, и он, судорожно дергая пушистым кадыком, еще пару раз легонько всхлипнет в магазине, и продавец бросит недоуменный взгляд на его вытянутую, зареванную физиономию, но Мальчик в конце концов с трудом изогнет губы в улыбке при виде подарка — палатки, достаточно большой, чтобы спать в ней вдвоем, и все-таки вполне подъемной для одного.)
Надо бы, — размышлял я, все еще лежа и приводя в порядок одежду — где-нибудь в квартире отчистить от грунтовки кусок стены, обколоть штукатурку и выложить из кирпичей потайную раку, в которой можно будет поставить статуэтку Богородицы и зажечь перед ней свечи. Многия печали, а может быть, и вся скорбь мира сможет вместиться в эту раку, и она не раскалится, а лишь едва заметно потеплеет. Нужно будет посоветоваться с Тигром насчет подходящего местечка для ниши.
На лестнице раздались шаги по меньшей мере двух человек; они поднимались наверх и уже миновали второй этаж. Я торопливо задернул старую зеленую штору, которой — если ее одним уголком зацепить за книжный шкаф, а другим — за гвоздь посредством большого медного гардинного кольца, можно было прикрыть проем в изножье моего лежбища — и, затаив дыхание, вытянулся на своих нарах.
В замке повернулся ключ, и только что поднимавшиеся по лестнице вошли в квартиру, приглушенно, неразборчиво переговариваясь. «Вот тут мы и живем», — услышал я голос Тигра; он говорил по-немецки. Хотя ключи были только у нас двоих, и было весьма маловероятно, что дверь мог открыть кто-то чужой, звук голоса Тигра немного успокоил бешеное биение моего сердца. Другой голос, неуверенный и даже слегка испуганный, отвечал неразборчивым шепотом. По остальным звукам я заключил, что Тигр привел только одного посетителя. После того как ключ вновь повернулся в замке, я услышал, как оба они направились в правую переднюю половину нашего жилища, к окруженному стульями низкому столику. Тигр, все так же по-немецки, предложил гостю присесть. Незнакомец, видимо, не знал никаких других языков, иначе Тигр не выбрал бы для общения немецкий, которым, по сравнению с двумя другими иностранными языками, на школьной скамье не блистал. Теперь он спрашивал, что мог бы предложить гостю, и обстоятельно перечислил все имеющиеся в доме напитки, причем, насколько я мог судить, не сделал ни единой ошибки в падежах.
Посетитель к тому времени немного освоился и заговорил чуть громче. Его немецкий звучал по-юношески ясно, и на какой-то миг, как в затмении, я вообразил себе, что это мог быть тот самый мальчик, стоявший перед аквариумом с рачками, но его выбор — джин с вермутом — делал это предположение сомнительным. Должно быть, он был гораздо старше, и я попытался представить себе его наружность. После того, как Тигр принес ему его напиток с кубиками льда из морозилки, посетитель заговорил чуть менее приглушенно, но в голосе его, кроме юношеской ясности, оставалась, как мне показалось, еще некая настороженность, почти испуг, словно он любой ценой старался избегать слов, способных вызвать хоть какое-то недовольство.
Наступило непродолжительное молчание. Я услышал, как посетитель все тем же нерешительным, колеблющимся тоном заметил, что, дескать, наше жилище расположено весьма удачно, поскольку из окон открывался вид на Зоопарк. Бокалы были допиты, и, судя по звукам, Тигр и его гость встали, — вероятно, для того, чтобы вместе полюбоваться панорамой из одного из больших фасадных окон. Раздались какие-то слабые, глухие звуки. Кто-то отодвинул стул, однако легкого скрипа садящегося на него тела не последовало. Отдаленный уличный шум постоянно заглушал происходящее в комнате. Я изо всех сил напрягал слух, дабы по-прежнему пребывать в уверенности, что в комнате не происходит ничего опасного или угрожающего, и в то же время не мог отделаться от размышлений о своей жизни. Любил ли я Тигра? Способен ли я вообще кого-нибудь любить? Чего я, собственно, искал? Очевидно было только одно: никто не мог помочь мне, скорчившемуся сейчас в слаженном собственными руками уголке, покорному некой воле, что была могущественней и величественней, чем я когда-либо смогу осознать, и внимающему звукам, которых я ожидал и надеялся услышать и отсутствие которых сделало бы мою жизнь бессмысленной. «Ладно, задерну», — услыхал я голос Тигра, и в следующее мгновение фиолетовые полупрозрачные шторы из искусственного шелка закрыли окна, выходящие на улицу. Нежный, просеянный сквозь ткань полуденный свет окрасил потолок надо мной в удивительный оттенок, в котором было, как ни странно, больше охры, нежели сирени.
Я отчетливо слышал, как снимают одежду. Звуки переместились в сторону широкой, массивной кровати, собственноручно сколоченной мною из досок от стекольных ящиков: я узнал шорох стягиваемого покрывала. Хлопнула дверца настенной аптечки над кроватью.
Постель приняла тяжесть тел, и я попытался внимать энергичному скрипу и вздохам — сначала при этих звуках меня окатила волна необъяснимого страха, но затем он отступил, сменившись ощущением наиострейшего, наипронзительнейшего счастья. Я бы с наслаждением вновь расстегнулся и потискал бы себя кое-где, однако остался лежать недвижим, застегнутый на все пуговицы, бесшумно втягивая воздух широко раскрытым ртом, стараясь не пыхтеть, и вслушивался, чтобы не упустить ни звука.
Скрипы и вздохи на какое-то время смолкли, уступив место тихому разговору. Внезапно из слов посетителя я разобрал нечто вроде того, что Тигр желает проделать с ним такое, чего еще «никто с ним не делал». Я расстегнул брюки, вновь выудил свою Штуковину и осторожно принялся за дело, стараясь не выдать себя скрипом или другим случайным звуком. Еще несколько мгновений в постели явно, однако неразборчиво препирались, затем внезапно все стихло. Огромная кровать заскрипела еще сильнее, и вот вновь наступила полная тишина. Я дал руке отдохнуть и вслушался, широко раскрыв глаза. Было все так же тихо. Медленно, очень осторожно, чтобы не звякнуть пряжкой, я вытащил из брюк кожаный ремень и прикусил, посасывая, его сужающийся, истрепанный кончик. Все так же прислушиваясь, я застегнул брюки и уселся, настороженный, с ремнем в руке на краю лежанки. Посмей только незнакомец так или иначе пригрозить Тигру, нахамить, сказать какую-нибудь гнусность — мне понадобится доля секунды для того, чтобы, не дав ему времени опомниться и прикрыться, подскочить к нему и хорошенечко огладить ремнем. Я судорожно глотнул. «Тебе, видно, еще ни разу твою блядскую задницу не драли, — беззвучно прошептал я. — Ну так я тебе покажу кузькину мать».
В широкой кровати кто-то тяжко перевалился всем телом. Вновь наступила кратковременная тишина. Затем послышались отрывистые, хриплые выдохи и болезненные стоны на немецком. Я понял, что посетитель решился подвергнуться наивысшему испытанию, и что Тигр тешит с ним свое ретивое. Я расслабился, откинулся навзничь и вновь задумался о своей жизни. (Я написал книги, которые одни считали грязными, другие же, напротив — прекрасными. Дети в школах изучали мою жизнь и творчество. И ни то, ни другое, казалось, не противоречило тому, что я лежал сейчас в укрытии за шкафом, с ремнем наготове, тайно охраняя то, что было мило моему сердцу. Человек не может постичь всего, и не стоило повторять эти попытки до бесконечности. Наверно, нужно просто положиться на Господа, который и сам предавался глубоким сомнениям и которому, когда он утопал в пучине отчаяния, был ниспослан Ангел, дабы укрепить дух его.)
С просторного ложа теперь доносились скрипучие, слегка постукивающие звуки этого диковинного на-месте-шагом-марш, этого нелепого биения крыл в попугаичьей клетке или обувной коробке, этой любовной прогулки по хлюпающему лугу на покалеченной машине без мотора — всего того, над чем можно глумиться бесконечно и что все же есть благо, любезное Господу.
Я встал, сжимая ремень в руке, пролез под натянутой шторой и, ни малейшим движением не производя шума, проскользнул мимо моего спального закутка к входной двери, открыл ее, беззвучно закрыл за собой и спустился, затратив на это немало минут, на второй этаж, после чего уже позволил себе более беспечную походку. На улице я поразился тому, что царившая там неслыханная какофония на этот раз совершенно не раздражала меня. Я снова продел ремень в петли брюк и принялся прохаживаться перед дверью, убивая время. В лавке, которую мы всегда считали чрезмерно дорогой и поэтому никогда в нее не заходили, я купил пачку кофе и коробку сахара, — кто знает, а вдруг мы уже все извели. Я попросил какой-нибудь пакет для покупок, на что в другой раз нипочем не решился бы — получил и пакет.
Минут через двадцать пять я вновь поднялся наверх, шумно потоптался в дверях на лестнице и, наконец, открыл дверь. Тигр и его гость, полностью одетые, сидели за низким столиком и пили чай. Постель была заправлена.
Гость оказался молодым человеком с коротко стриженными светлыми волосами, в дорогом грубом белом свитере и серовато-коричневых брюках в обтяжку с низким поясом. Когда он собрался привстать и подать мне руку, я быстрым, коротким взглядом окинул его ягодицы, двумя пухлыми сдобами уложенные на деревянном сиденье стула и дерзко, высоко выпячивавшиеся под его сутуловатой спиной. Он был сравнительно невысок, и наружность его была бы совершенно мальчишеской и даже трогательной, если бы не глаза, неуместные на этом лице: чересчур маленькие, чересчур светлые, с нескрываемым выражением жесткости. Мы уселись, и я попытался завести беседу.
«Он из Германии», сказал Тигр, когда я заговорил по-нидерландски. Я перешел на немецкий.
Звали его, как выяснилось, Петер; работал он в Цюрихе, жил в Саарбрюкене, а родом был из ныне потерянной немцами части Западной Польши. Началась бессмысленная болтовня обо всем и ни о чем, не затрагивавшая лишь темы профессии, о которой пока что, как обычно, умалчивалось. Я непрерывно издавал какие-то звуки, производившие видимость разговора, а сам смотрел на его рот, изрекающий слова, и ненавидел его, и нащупывал рукой ремень, но если Тигр все еще заводится от него, прекрасно; на что-нибудь да сгодится. Кто знает, доведется ли мне его когда-нибудь высечь, но уж палатки-то ему от меня в любом случае не видать.
Между тем я следил за гладким течением беседы. То, о чем я размышлял и рассказывал, всегда было достаточно интересно. Языками я владел вполне прилично. Жить — это давать и брать. И я клекотал, как какой-нибудь страус. Как птица киви.

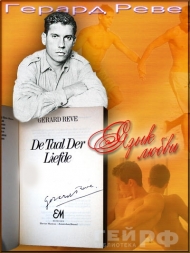
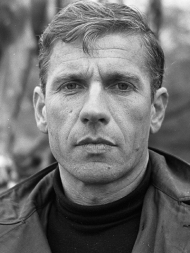


1 комментарий