Marbius
Рассвет
Аннотация
Всецело отдающий себя работе в детской больнице, заведующий отделением Панфилов, совершенно неожиданно оказывается отстраненным от своей должности. Выброшенный на улицу, вначале он теряется, не видя себя ни в какой другой роли, тяжело страдает от несправедливости и чиновьего произвола. Одиночество в пустой квартире тоже не добавляет ему радости. Как ни странно, едва ли не единственным человеком, открыто поддержавшим его, оказался неопытный специалист Валентин Еникей, молодой, еще не знакомый с шершавой изнанкой "подковерных боев". И Панфилов решил не сдаваться.
Всецело отдающий себя работе в детской больнице, заведующий отделением Панфилов, совершенно неожиданно оказывается отстраненным от своей должности. Выброшенный на улицу, вначале он теряется, не видя себя ни в какой другой роли, тяжело страдает от несправедливости и чиновьего произвола. Одиночество в пустой квартире тоже не добавляет ему радости. Как ни странно, едва ли не единственным человеком, открыто поддержавшим его, оказался неопытный специалист Валентин Еникей, молодой, еще не знакомый с шершавой изнанкой "подковерных боев". И Панфилов решил не сдаваться.
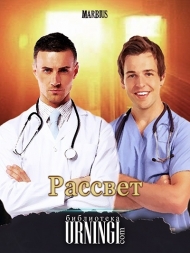 Больничный городок гудел похлеще иного растревоженного улья, даром что для мерзкой октябрьской погоды метафора была слишком анахроничной. Новостей было две: визит федерального министра и отставка заведующего отделением. До первого события оставалось еще две недели, к нему лихорадочно доделывали ремонт в детской онкологии и диагностическом корпусе, второе обрушилось на головы посторонних и непосредственно заинтересованных в нем два дня тому назад.
Больничный городок гудел похлеще иного растревоженного улья, даром что для мерзкой октябрьской погоды метафора была слишком анахроничной. Новостей было две: визит федерального министра и отставка заведующего отделением. До первого события оставалось еще две недели, к нему лихорадочно доделывали ремонт в детской онкологии и диагностическом корпусе, второе обрушилось на головы посторонних и непосредственно заинтересованных в нем два дня тому назад. Ремонт в принципе обсуждать было не особо интересно: вначале все были рады, тем более это нужно было сделать лет пятнадцать назад, но то бюджет, то финансирование, то согласование, то иные нужды. Затем, с назначением нового заведующего, ремонт просто взлетел, оказалось, что и финансирование, и подрядчики, и воля начальства слились в гармоничном единстве, и даже руководство области поглядывало на очень увесистые расходы бюджета с одобрением. За успехом столь значительного проекта следили напряженно, а некоторые — с затаенным злорадством. Потому что, как любили повторять многие, большие шкафы громко падают. А заведующий отделением, Максим Владимирович Панфилов, должен был упасть очень громко. Что, собственно говоря, и составляло суть второй самой горячей новости октября. Этого самого Панфилова сняли с должности очень неожиданно, со странной формулировкой «в связи со служебным несоответствием», хотя даже самые яростные злословы признали: если есть кто на территории больничного городка, соответствующий занимаемой должности на сто сорок шесть процентов и даже с половиной, так это Панфилов. Его уважали, пусть и побаивались подчиненные, благоговели родители, обожали дети, обитавшие в отделении. Говорили — пусть и неуверенно и со скептически сведенными бровями, — что и в администрации области, а то и выше у него хорошие связи. А иначе как бы он добился ремонта? Но факт оставался фактом. Его сняли. Внезапно. В течение суток, считай. В среду он орал на прораба, прыгал в машину, чтобы ехать к губернатору, а в четверг вечером стоял перед отделением в незастегнутом полупальто, запрокинув голову, сунув руки в карманы, и, постояв так несколько минут, развернулся и пошел к выходу.
Это, скорее всего, было несправедливо — в каком-то высшем, слишком великом для обычной областной больницы смысле. Панфилов отдал отделению больше двенадцати лет жизни, даже когда был рядовым врачом, он готов был дневать и ночевать на работе, не задумывался ни секунды, чтобы отправиться на стажировку, на конференцию, на симпозиум за свой счет, использовал личные связи, чтобы достать необходимое, требовал, настаивал, уговаривал, чтобы добиться своего, интриговал — не без этого, конфликтовал что с начальством, что с коллегами, и упорно шел к цели. Он был отличным врачом, замечательным администратором, и если был кто достойный во всей больнице, чтобы возглавлять детскую онкологию, так это Панфилов. Но, наверное, было в этом увольнении и некое кармическое милосердие — по отношению, в первую очередь, к простым сотрудникам, что Панфилова убрали. Всем хотелось работать, желательно вдали от боевых действий, пусть в болоте, пусть в средненьком коллективе, но стабильно. Без резких взлетов, но и без падений, не привлекая внимания общественности, не становясь притчей во языцех, просто тихо отрабатывая свою зарплату, не будя лихо.
Равнодушие к судьбе Панфилова никак не значило, что никто не интересовался, что с ним происходило. В его родном отделении о нем говорили, как об умершем: тихо и разве что не оглядываясь. Это усугублялось тем, что исполняющий обязанности заведующего Панфилова очень не любил, называл выскочкой, охотно обсуждал с администрацией больницы непомерные амбиции и отнюдь не провинциальный размах — а платить за него, а то и расплачиваться якобы приходилось всем остальным, иногда в ущерб своим прямым обязанностям. Он как-то сразу начал насаждать свои уставы, и в этом, наверное, была высшая хитрость: чем меньше мелочей напоминают рядовым сотрудникам о предшественнике, тем проще справиться с бунтарскими настроениями. Поначалу чуть ли не все отделение негодовало, ходили и к главному на прием, и писали петиции в областную администрацию, и даже порывались обращаться в федеральное министерство. Но очень эффективной оказалась угроза лишения премии, еще более зловещими — долгие, почти чувственные рассуждения пока еще исполняющего обязанности заведующего отделением о трудовых контрактах и особенностях их расторжения. И оказалось как-то, что непосредственные подчиненные Панфилова не особенно знали, чем он существует, наполняет свою жизнь за пределами отделения. Коллеги, осторожничая, тоже предпочитали не особенно часто контактировать с ним; это оказывалось все проще — сам Панфилов предпочитал придумывать какие угодно поводы, лишь бы только избежать ненужных и болезненных встреч. Так что больница очень скоро переключилась на куда более важное событие — завершение ремонта детского онкологического отделения и, возможно, сопряженный с ним визит министра.
Панфилов еще раз пришел в больницу. Охранники на КПП пропустили его без проблем, долго извинялись, что вынуждены заносить имя и адрес в журнал, выписывать временный пропуск, хотя знают его уже столько лет и всегда относились с самым большим уважением, но инструкции, служба и все такое. Панфилов хладнокровно кивнул и невозмутимо сказал: «В таком случае все должно соответствовать инструкциям». Ему вернули паспорт, он кивнул и поблагодарил и неспешно направился в главный корпус.
В кабинете главврача он провел чуть больше двух часов. На время к ним присоединился и исполняющий его обязанности. В административном корпусе воцарились настороженные, даже опасливые настроения. Не то чтобы кто-то из заседавших был известен своими кровожадными наклонностями, но поместить в одном кабинете Панфилова и Кромника, уведшего у него должность, по другую сторону стола посадить человека, не пошевелившего пальцем, чтобы защитить одного из лучших своих работников, и рассчитывать, что все закончится мирно? Панфилов не боялся ни черта, ни дьявола, и теперь, когда его не обременяли должностные обязанности и необходимость заботиться об отделении, он вполне мог бы набить Кромнику морду. И это было бы объяснимо и понятно. И этого не произошло. Кромник выскочил из кабинета, вытер пот, фыркнул на секретаршу и поспешил в отделение. Через пять минут вышел Панфилов, тихо закрыл дверь и застыл. Через полминуты, в которые неизвестно что проносилось в его голове, он посмотрел на секретаршу и кивнул, натянуто улыбнулся и вежливо попрощался. Она потом клялась и божилась, что голос у него не дрожал, но в нем слышна была та трещина — как в хрустальной вазе, ее не заметно совершенно, но ваза не звенит больше, а дребезжит. И можно обращаться с ней сколь угодно осторожно, не двигать, пыль вытирать максимально бережно, ни в коем случае не ставить цветы или что такое, но в один прекрасный день то ли от солнечного лучика, то ли от легкого, почти неуловимого сквозняка ваза просто разваливается на две части. И все. Секретарша потом призналась в отделе кадров: «Как его жалко-то! Если бы еще жена была, так справился бы. А так…». В отделе кадров долго обсуждали это, но пришли к выводу, что даже если бы он все еще был женат, так не факт, что из этого что-то получилось бы. Ходили слухи, что Панфилов не угодил кому-то из регионального минздрава, а этот кто-то был близок с губернатором. И перерасходы на ремонт, анонимные жалобы якобы родителей пациентов и врачебные случаи, которые пытались представить как халатность, — это всего лишь повод для этого «кого-то». Кромник был куда более удобным администратором. Во что превратится отделение, мало кого интересовало. Главное, чтобы показатели были представлены должным образом, а в этом Кромник был докой.
Панфилов, идя к выходу, подсознательно замедлял шаг. Ему не хотелось прощаться, напротив: тянуло проверить, как обстоят дела с ремонтом, как у детей, как лечение, не было ли кризисов, поговорить с коллегами из соседних отделений — дел была уйма. И все они отныне к нему никакого отношения не имели. Собственно, даже сотрудники вели себя как-то иначе. Здоровались, интересовались наигранно-бодрыми голосами, как дела, наигранно же хмурили брови и озабоченно качали головами, а потом извинялись, жали руку и спешили по своим делам. И каждый раз в груди начинала кровоточить еще одна рана.
Почти у ворот его окликнули — настойчиво и повторили, когда он прибавил скорости. Он оглянулся, и его тут же схватили за руку.
— Валентин Сергеевич, что за праздное настроение? Что вы делаете посреди бела дня в противоположном от отделения направлении? Вам на рабочем месте делать нечего? — мрачно спросил Панфилов.
— Максим Владимирович, — Валентин выдохнул и тряхнул его руку. — Я очень, очень рад! Очень здорово, я сначала не поверил, когда Мария Дмитриевна сказала, что вы в административном, а это точно вы.
Он замолчал, беспокойно, не мигая, глядя на Панфилова, держа его руку обеими своими, плотно прижимая ее к ладони. Облизал губы, вздохнул и пожал плечами.
— Нам очень не хватает вас. Очень. И самое дурацкое — никто не может дать нам толкового ответа, что именно происходит. Мы все надеемся, что вы все-таки вернетесь. Вы же вернетесь. Да?
Панфилов попытался сглотнуть комок в горле. Не удалось. Он просто прижал Валентина к себе и рвано выдохнул. Не особенно пытаясь задуматься о собственных эмоциях, плотнее прижался щекой к его голове и застыл на несколько секунд. Заставил себя отстраниться и пожал плечами с деланной небрежностью, при этом голову поднял к небу, надеясь, что никто не заметит, как блестят его глаза.
— Не могу обещать, Валя. — И повторил беззвучно: — Не могу.
— Мы будем сражаться за вас! — с горячностью, совершенно не свойственной сдержанному обычно Валентину, воскликнул он. — В нашем отделении заведующим должны быть вы, я уверен, все образуется, все разрешится, все обязательно закончится самым лучшим образом!
Он все еще держал Панфилова за руку — обеими своими, ритмично встряхивал ее и пытался заглянуть в глаза. Панфилов вздохнул и положил руку ему на плечо.
— Я очень благодарен тебе. А теперь иди работай.
Он пошел к выходу. Правда, даже выйдя за ворота, он ощущал на своей спине взгляд Валентина Еникея. Удивительно, но бессмысленная, беспомощная, неловкая встреча подняла настроение, позволила улыбнуться. Панфилов, став у машины, хмыкнул, покачал головой, еще раз посмотрел в сторону больницы — и тяжело вздохнул. Едва ли только оптимизм молодого, неопытного совсем в подковерных боях сотрудника — пусть в его искренности сомневаться не приходилось — сможет что-то изменить. Даже если работники отделения, возможно, других отделений, не побоятся распрощаться с премиями и, возможно, рабочими местами, даже если родители, узнав о кадровых изменениях, решат, что их детей непременно должен лечить Панфилов, начнут писать требования, пикетировать и что угодно иное, едва ли это остановит те жернова, в которые он попал.
Через две недели это стало настолько очевидным, что Панфилов, зайдя в продуктовый, завернул в отдел со спиртным с твердым намерением купить чего-нибудь покрепче. Это могло и должно было расцениваться как слабость, ему самому было неловко перед собой — считал себя сильным человеком, был уверен, что никогда не будет сдаваться, прогибаться под давлением извне, а гляди-ка, как последняя шавка бежит за бытовой анестезией. С другой стороны, дилетанту и тому было бы ясно, что у Панфилова очень хороший повод выпить.
Разумеется, Панфилов потребовал аудиенции у губернатора. Конечно же, ее добиться не удалось. Сотрудница администрации, с которой он лет пятнадцать поддерживал приятельские отношения, призналась в телефонном разговоре, что губернатор очень хотел не столько поставить Кромника на место Панфилова, ему, наверное, старый мерин с бельмами на обоих глазах был бы приятней. Он злопамятен и очень ревниво отнесся к тому, что некоторые проблемы Панфилов решил разрулить через его голову и на ином уровне, на котором он сам не так чтобы сильно уверенно себя чувствует. Что ремонт просто взорвал рамки бюджета, тоже не пришлось по нраву, и отношение к трудовой дисциплине в отделении тоже вызвало у него ряд очень негативных оценок, и самыми цензурными из них были «фашист» и «гребаный уездный князек». Она признает и поддерживает решительность, с которой Панфилов настоял на увольнении нескольких работников или, по крайней мере, их переводе куда подальше, но среди них были родственники кое-кого значительного, и он очень недоволен. И как вишенка на пирожном — магазинчик, которым Панфилов владеет совместно с бывшей женой: это насколько необременен рабочими нагрузками оказывается зав отделением, что у него находится время на всякие бизнесы — не в ущерб ли основной занятости? Так что она от чистого сердца сочувствовала Панфилову, но совершенно серьезно предлагала попытать счастья где-нибудь подальше, предпочтительно в соседних регионах.
Адвокат согласился подать заявление в суд, но не смог сказать ничего обнадеживающего. Все формально соответствует букве закона, и, кроме того, суды как гражданско-правовой институт независимы только в границах, которые выставляют как закон, так и политические потребности. И даже если все кончится самым лучшим для Панфилова образом, может пройти просто-напросто очень много времени.
И много еще перебирал в уме Панфилов, идя к рядам со спиртным. Проректор сообщил, что в связи с существенными изменениями в его служебном положении они вынуждены расторгнуть контракт. Пусть это было всего ничего часов и ничтожная сумма в итоге, но сам факт жег хуже соляной кислоты. Панфилов перебирал в уме людей, кому мог бы предложить посидеть на кухне, распить по сто пятьдесят, поругать начальство, скрывая за бранью растерянность и — чего греха таить — беспомощность и хотя бы в такой малости поискать утешение. И понимал: ни с кем он не сможет. У всех если не семья, так иные хлопоты и заботы, и сам он не мог опуститься до того, чтобы признавать собственное поражение таким банальным образом. Ни городские стены не пали, ни личная гвардия не четвертована на его глазах, а просто: выставили за дверь, как плешивую дворнягу.
Панфилов стоял в очереди к кассе, раздраженно поглядывая на часы, когда услышал сзади: «Максим Владимирович!». Валентин Еникей собственной персоной, в дурацкой желтой шапке с глазами, в ярко-красной куртке удивленно смотрел на него.
— Брось смотреть, как на второе пришествие, — раздраженно приказал Панфилов. — Я не небожитель и питаюсь не амброзией.
Валентин скептически поднял брови и скосил взгляд в тележку. В ней рядом с двумя мрачно-зелеными огурцами, хлебом и несколькими упаковками мясной нарезки лежала бутылка водки, которая, очевидно, и привлекла его внимание.
— Вполне качественный продукт. — Панфилов пожал плечами.
— Совершенно бессмысленный перевод денег и здоровья, — недовольно заметил Валентин.
— Подумать только, сколько в совершенно посторонних людях деликатности и заботы о моем здоровье.
— Не стоит недооценивать посторонних, — буркнул Валентин и надулся.
— А ты не хочешь позаботиться о моем здоровье путем изничтожения бытового яда? — спросил Панфилов. Валентин недоуменно посмотрел на него, Панфилов потянулся, выхватил пакеты с овощами и упаковку молока и бросил их в тележку, а Валентина подтолкнул вперед. — Двигай давай, не задерживай очередь.
Валентин пытался заплатить, но присмирел на пару секунд, когда Панфилов рявкнул на него. Попытался потом впихнуть ему деньги, на что тот закатил глаза и наградил его оплеухой.
— Иди к машине, балбес, — бросил он, не позволяя Валентину забрать пакет. — Не делай из меня немощного старика.
Идея, возможно, была не самой плохой, но собеседник выбран не самый удачный. По крайней мере, так казалось поначалу. Панфилов сам ощущал эту дурацкую неловкость: спуститься с трона, по-приятельски болтать даже не со зрелым врачом — с парнем, который совсем недавно выпустился из ординатуры, и делать вид, что ничего особенного в этом нет. Покрикивать на Валентина, мнущегося у двери на кухню, рявкать, чтобы он не вскакивал при любой попытке дотянуться до ножа с разделочного столика, стакана или чего-то еще и мучительно придумывать вопросы, чтобы только не висела в кухне эта удушливая, тяжелая тишина. Возможно, причиной этому было категорическое нежелание обоих говорить о работе. Валентин боялся заводить об этом разговор, чтобы не бередить рану, и Панфилов не желал этого — хотя, по правде сказать, именно о работе он хотел говорить.
Дело пошло на лад после первых двух рюмок. Панфилов неожиданно вспомнил случай из студенческой жизни, связанный с одним из профессоров, Валентин, фыркнув, признался, что нечто подобное случалось и с ними, но куда более гротескно, ибо старость профессора имярек прогрессирует, и это же подтверждают студенты, отирающиеся в отделении.
— Его, похоже, с кафедры вынесут только вперед ногами, — буркнул Валентин и забросил в рот ломтик огурца.
Панфилов хмыкнул. Признаться, это едва ли могло считаться худшим завершением карьеры в несколько десятилетий. Он, наверное, был бы не против помереть на рабочем месте. В этом было что-то безудержно романтичное, правильное, наверное. И именно об этом ему остается только мечтать. Он скривился, налил еще водки.
— Мне еще домой добираться, — жалобно произнес Валентин, уныло следя за горлышком бутылки.
— Переночуешь у меня, утром отправишься прямо на работу. — Панфилов оценивающе осмотрел его, прикидывая размер. — Запасной комплект белья и джемпер выделю. Не боись, студент, справимся.
Увы, о том, чтобы отправляться спать, речи не шло. Валентин начал рассказывать об отделении, и Панфилов начал забрасывать его вопросами. Ответы не всегда удовлетворяли его — во всем, что касалось профессии, в наблюдательности, компетентности, сообразительности визави сомневаться не приходилось. Но его интересовало другое: как уверенно чувствует себя Кромник, как часто бывает у главного, как его принимает коллектив. Насколько силен страх администрации перед министерским визитом, о чем именно говорят в областной администрации. Насколько устойчивы кресла под ними, и прочее — то, чего для Еникея и не существовало пока. И тот терялся все больше, говорил заплетающимся языком: «Да откуда я это знаю, Ваксим Владивирович… то есть Максим Младивирович», громко смеялся над собственной оплошностью, и Панфилову не удавалось сердиться на него.
Было за час ночи, когда Валентин тяжело вздохнул и сказал, неуклюже пытаясь подняться:
— Мне пора спать. Что-то я устал.
Панфилов, Максим Младимирович согласно кивнул, встал и протянул ему руку:
— Пойдем покажу твой угол.
Валентин неловко ухватился за его руку и неуверенно встал. Панфилов потянул его на себя — он повалился вперед и уперся рукой в грудь Панфилову, и тот развернул его и легонько подтолкнул к двери. Валентин вышел было в гостиную и оглянулся, недоуменно глядя на него; его рот был приоткрыт, словно он хотел что-то очень важное спросить, но боялся получить какой-нибудь нелепый ответ. Панфилов положил руку ему на плечо, погладил и снова толкнул.
— Вперед и налево, — негромко приказал он.
Валентин подчинился — а как иначе, привычка подчиняться Панфилову прочно въелась в его плоть. Он следил за тем, как достают постельное белье для него, а взгляд против воли все возвращался на лицо Панфилова в попытках отыскать насмешку, злорадство или что угодно еще. Панфилов проводил инструктаж в ванной, и Валентин решительно сжимал в руке зубную щетку, размашисто кивал — и по-прежнему не сводил с его лица взгляда. И даже когда Панфилов заставил его проверить будильник на смартфоне, они пожелали друг другу спокойной ночи и он ушел, Валентин вслушивался в звуки в квартире, приподнявшись на локте, и на лице его царствовала все та же глупая мина: круглые от неверия глаза и растерянно приоткрытый рот. Наконец Валентин рухнул на спину и скрестил на груди руки. «Нифига себе», — прошептал он и растерянно усмехнулся. Он хотел верить, что еще долго не сможет заснуть, смакуя минуту за минутой совместно проведенного, не обремененного никакими иерархическими сложностями, очень душевного вечера, но меньше, чем через полминуты спал.
Панфилов прибрался на кухне, подумал было выйти на балкон — курить не курил, но свежего ночного воздуха глотнуть захотелось — и передумал. Прислушался к звукам: Валентин молчал. Поколебался: вскипятить воды на чай или заварить кофе — и подставил под кран стакан, из которого потом долго, мелкими и смакующими глотками пил невкусную водопроводную воду.
Что бы то ни было сделать с собой оказывалось невозможным: Панфилов проснулся в рань несусветную, варил себе кофе, жевал хлеб и прислушивался, когда в гостиной на диване зазвенит будильник. И с каким-то неожиданным удовольствием, убедившись, что младший товарищ Еникей спит сладким сном, несмотря на оголтело вопившую мелодию будильника, Панфилов безжалостно растолкал его.
— Да что такое, — вяло отбивался Валентин, но послушно садился, тер глаза подушками ладоней, поджимал пальцы на ногах и ежился. — Да успею я…
— Конечно успеешь. Если на автобус не опоздаешь. Давай быстро в ванную и завтракать, — велел Панфилов.
Валентин поморгал немного, пытаясь стряхнуть остатки сна, и оторопело уставился на него.
— Это я что тут делаю? — выдохнул он.
— Сидишь, — раздраженно воскликнул Панфилов. — А сейчас поднимешься и пойдешь в ванную. Я ждать не буду. Бегом!
Валентин робко протиснулся на кухню через пятнадцать минут. Волосы надо лбом и на висках у него были сырыми, глаза — с красноватыми белками. Щетина — до трехдневной не дотягивала, так и сойдет. Панфилов критически осмотрел его, кивком указал на стул и поставил кружку с кофе. Сам уперся ногой в другой стул и скрестил на груди руки. Валентин лихорадочно запихивал в рот бутерброд, боясь поднять глаза на него, пытался залить в себя горячий кофе, но у него получалось сделать совсем маленькие глотки, и Панфилов беззвучно хмыкал, наслаждаясь развернувшимся перед ним действом.
Валентин уже натянул шапку и вдруг вскинул голову.
— Максим Младивирович… тьфу! Максим Владивирович… ой, извините!
— Да перестань, — перебил его Панфилов. — Давай уже по имени и на ты. После столь интимно проведенного времени я вообще обязан взять тебя в любимые наложники.
Валентин робко протянул руку.
— Наверное… — Он пожал плечами. — Ну как-то… я не знаю.
Панфилов хмыкнул и отвернулся.
— Иди ты… — Скрипнув зубами, он продолжил: — Иди ты на автобус уже, Еникей. Не трави душу.
Валентин ухватил его за предплечье.
— Я позвоню. Можно?
Панфилов молча вытолкал его за дверь и энергично захлопнул ее. А затем долго стоял, уперевшись в нее лбом, и слушал: на лифте поедет или пешком поскачет? Он пошел к окну — невесть за чем. И увидел, как Валентин, приплясывая на месте, смотрит на его окна. Помахал ему и усмехнулся, когда Валентин заулыбался в ответ, замахал и, постояв немного в очевидной растерянности, побежал на остановку.
Дни сливались для Панфилова в одну вязкую, серую кашу с однородным, склизким и невыразительным вкусом. Он упрямо делал, что и до этого: связывался с адвокатом, писал жалобы, пытался найти новую работу в городе — и все безуспешно. Адвокат объяснял ему, что жалобу приняли, у нее есть определенный срок, до истечения которого он должен получить ответ, и едва ли следует рассчитывать, что бесконечные требования Панфилова это изменят. Начали приходить ответы из общественных приемных: где-то сообщалось, что его письмо зарегистрировано под таким-то номером и будет рассмотрено в кратчайшие сроки, где-то — что оно уже рассмотрено по существу и не найдено ошибок в принятом решении. Помимо этого, оказалось, что ему, опальному, найти работу невозможно, хотя Панфилов знал наверняка: вакансии есть. Просто кто-то не желает позволить ему занять их.
Единственным, что худо-бедно спасало его от погружения в бездны уныния, был магазин, который он с бывшей женой открыл лет пятнадцать назад. Панфилов хотел было отдать и его, но она воспротивилась, заявив, что не сможет заниматься еще и этим магазинчиком и не мог бы он и дальше заниматься им. В принципе, Панфилов был не против: какая-никакая, а прибавка к жалованью. Когда стало очевидно, что никакие его усилия не приведут ни к чему толковому, Панфилов попытался, к ужасу сотрудников, изобразить рачительного хозяина. И отчего-то вечером ему было совсем тошно.
Он задумчиво листал список контактов — и хмыкнул, когда на него выпрыгнуло «Еникей В.». Палец задержался на этом контакте, начал было скроллить дальше, но вернулся. «Не желаешь отведать оладий по фирменному панфиловскому рецепту?» — написал он и начал ждать — это у него получалось все лучше. Тот ответил через полчаса: «Только что поужинал». «А элитного армянского коньяка, лично рекомендованного проверенным человеком?» — «Во мне уже три коктейля, а кофе у вас наливают?».
— Еще как наливают, — облегченно засмеялся Панфилов.
Меньше часа прошло, они сидели на кухне, перед Валентином стояла чашка, в которой кофе было все-таки меньше коньяка, а перед Панфиловым — бокал. Валентин рассказывал о новостях отделения и сплетнях, которые до них доходили из административного корпуса, и второе Панфилов просто внимательно выслушивал, а на первое реагировал очень бурно. Он уничтожающе критиковал добрую половину решений, людей, их принявших, ругал от души, а ту половину, которая принимала худо-бедно удовлетворявшие его решения, хвалил сквозь зубы, так что лучше бы и не хвалил. Это раздражало: Валентин с трудом сдерживался, чтобы не рявкнуть в ответ что-нибудь неприятное, ранящее, но стискивал зубы. Он не мог не признавать правоту Панфилова, но принять его мнение не мог: они работали и контактировали с пациентами, они несли ответственность и вынуждены были принимать во внимание сотни самых разных деталей, в том числе и мало связанных с их прямыми обязанностями. Он одергивал себя, когда желание огрызнуться было почти невозможно сдержать: ядовитые настроения Панфилова можно было понять, достаточно представить себя в подобном вакууме, чтобы на лбу выступила испарина страха. К этому добавлялось сочувствие, и Валентин сносил очередную порцию желчи, предназначенной не ему — ни в коем разе, но оказавшейся на его коже.
И снова времени было за полночь. И Панфилов сказал:
— Куда потянешься на ночь глядя? Утром отправишься к родным пенатам на самом раннем олене. Твое все тебя дожидается.
Оба они продолжали сидеть. Валентин не выдержал поединка взглядов, отвел глаза, схватился за стакан, попытался осушить его, недоуменно сморщился, поняв, что стакан пуст — и Панфилов усмехнулся. Потянулся, взъерошил его волосы.
— В кого ты такой бестолковый только, — пробормотал он, поднимаясь. — Хочешь чаю?
Валентин растерянно пожал плечами и отвернулся.
Панфилов ухватил пальцами его подбородок и поднял.
— Так чай делать? Или кофе?
Он усмехался — неожиданно добро, почти ласково, его палец неторопливо поглаживал подбородок, взгляд изучал физиономию Валентина. Тот подозрительно смотрел на него, затем, очевидно колеблясь, положил руку ему на запястье и отвел ее. Панфилов ухмыльнулся и выпрямился, демонстративно кряхтя при этом.
— Тебе какой? — бросил он через плечо.
В ответ — молчание. Панфилов обернулся, удивленно вскинул брови. Валентин все так же подозрительно смотрел на него.
— Ты чего? — спросил Панфилов, подходя к нему.
Валентин пожал плечами и отвел глаза.
— Эй, студент, — окликнул его Панфилов, мягким, кошачьим движением положил руку ему на щеку и повернул к себе. — Я здесь. И честное слово, не собираюсь предпринимать ничего противозаконного или радикально аморального. Клянусь любимой брошью моей тетушки.
Валентин непроизвольно усмехнулся.
Рука Панфилова переместилась ему на затылок, пальцы осторожно ласкали кожу под волосами. Валентин глубоко вздохнул и чуть нагнул голову вперед, словно подставляясь — словно напрашиваясь на ласку. Панфилов положил обе руки ему на шею, помассировал плечи, снова шею — Валентин затаил дыхание и прикрыл глаза, его плечи напряглись, руки дернулись, но тут же сжались кулаки, и он откинул голову, судорожно вздохнул и облизал губы. Панфилов, помедлив немного, провел по ним языком. Валентин вздрогнул, медленно, с усилием поднял руки, словно к ним были прикованы двухпудовые гири, положил их ему на ягодицы.
— Та-а-ак, — шепотом протянул Панфилов, ухватил его за ворот джемпера и вздернул. Валентин повис на нем, прижавшись щекой к его шее, часто дыша, легко, почти незаметно касаясь губами кожи. Панфилов руками забрался ему под джемпер, провел по горячей, влажноватой коже, схватил за задницу и больно сжал руки. Валентин только застонал в ответ, нащупал его рот и жарко, жадно поцеловал.
Панфилов чувствовал где-то под желудком, что они стоят на очень зыбкой черте, по-за которой что-то иное узнают о себе — он точно, Еникей, вполне возможно, эту межу уже переступил. Возможно, это имело отношение к эстетическим пристрастиям, возможно — к чему-то помимо этого. Едва ли дело было в простом удовлетворении, этого добра у них обоих хватало, но что-то другое он собирался найти в себе, это точно. А еще ему было любопытно: бурлили ли, выгорая, в Валентине остатки благоговения, почти обожествления, которое секретом не было ни для кого, или что-то другое заваривалось, куда более осознанное и устойчивое, способное существовать на куда более устойчивом основании, чем пылкие юношеские чувства поклонника к кумиру. С другой стороны, возможно было, что Панфилов от недостатка впечатлений извне просто придумывает себе сложные конструкции, а дело всего лишь в пикантности ситуации и отчаянной, безудержной вседозволенности. А еще Еникей, отрешенный, замкнутый, иногда угрюмый, иногда рассеянный, замечательно целовался. И он не торопился, как сам Панфилов, отстранялся изредка, переводил дыхание, словно набирал воздуха в легкие перед тем как нырнуть под мостки, и снова целовал. Панфилову пришлось прикрикнуть на него, пока он расстилал кровать, Валентин обнял его сзади, прижался, заурчал блаженно и начал легонько прикусывать кожу у него на спине. Это отвлекало — и это было куда более приятно, чем обыденный ритуал.
— Твоя кожа офигенно пахнет, — выдохнул Валентин, гладя его по бедрам. — Просто офигенно…
Панфилов выпрямился, поднял голову вверх, наслаждаясь его ласками, горячим дыханием на коже, его словами — самим ощущением собственной значительности, нужности.
Он хмыкнул, шумно принюхался к плечу, засмеялся, толкнул Валентина на кровать.
— Какую херню ты несешь, Еникей, — скривившись, посмеиваясь, сказал он, нависая. — Или у тебя ум за разум зашел, кругом зима, а в твоей душе март?
Валентин обхватил его ногами и притянул к себе.
— Слышать от такого высокообразованного человека подобную чушь несколько удручает, Максим Младими… тьфу, да чтоб его! Мессир Панфилов. Вы еще сведите все душевные порывы к биохимическим реакциям.
Панфилов молчал, вглядываясь в его лицо.
— А ты иначе считаешь, Еникей? — после долгого молчания спросил он.
— Да фиг его знает, — Валентин пожал плечами. — Возможно. Или нет.
Он нагнул голову Панфилова ниже, медленно закрыл глаза и поцеловал его, почти благоговейно, с сосредоточенностью, которая не была незнакома посторонним. И, наверное, это было правильно — будет время, будут другие песни, а пока следовало довольствоваться малым. Или, возможно, пытаться охватить нечто слишком большое, неподъемное.
Утром за завтраком оба делали вид, что ничего особенного не произошло. Говорили немного о политике, немного о том, какой завтрак считают оптимальным, немного о том, где лучше покупать продукты — ничего больше. Только когда Валентин застегивал куртку, стоя у входной двери, поглядывая в сторону Панфилова, но не решаясь ничего сказать, тот потянул его к себе за нагрудный карман и коротко поцеловал в губы, пробежал пальцами по губам, уперся лбом в его лоб. Валентин облегченно вздохнул, обнял его и тихо произнес:
— Я на выходных собирался уехать. Родственников навестить. Если хочешь, в воскресенье вечером загляну.
Панфилов поморщился и отстранился.
— Не надо. Я занят буду. Потом позвоню. — Он помолчал немного и приказал: — Иди.
Валентин поколебался немного и все-таки обнял его.
А время то тянулось, то летело. И каждый раз вело себя непредсказуемо. Дни бывали бесконечными, а иногда пролетали незамечеными по несколько подряд. Иногда Панфилов вынужден был не только на часы смотреть, не только изучать настройки в смартфоне, но и сверяться со страницами в интернете, чтобы определить дату, иногда — мог поминутно расписать день. И никто нигде не желал дать ему внятный ответ. Он согласен был на любой, какой угодно — главное, чтобы это была не простая отписка, а нечто по существу, к сожалению, именно этой драгоценностью его не желали одарять. Чтобы как-то занять себя — магазина для этого было слишком мало — Панфилов решил оживить свой аккаунт в живом журнале. Это, конечно, походило более всего на реанимацию остывшего трупа, но иные социальные сети не привлекали его, не вызывали желания поделиться чем-то личным, даже интимным, тем более у него, по здравом размышлении, оказывалось припасено достаточно историй и все усиливалось желание вырваться за пределы пузыря, в котором оказался. В первую ночь у Панфилова вышло два абзаца, не больше. Затем он просто перечитывал старые посты, вспоминал, что за люди прячутся за никами комментаторов, знакомился с новыми, громко, с наслаждением ругался в адрес идиотов, придумавших идиотский интерфейс, и читал собственные старые посты. Удивительно — или не совсем: ему нравилось. Кое-что казалось наивным, почти инфантильным, полным детского самолюбования и уверенности в собственном всемогуществе. Кое за что было почти стыдно, Панфилов морщился, возвращался на главную страницу и шел еще за чашкой кофе. Иные вещи оказывались интересными, и — вдохновляюще — плодотворными были комментарии под ними. Панфилов плюнул наконец на попытки написать пост — а ведь было дело, несколько вордовских страниц, за две тысячи слов сочинения на вольную, не связанную с работой тему для него было написать плевым делом.
Вечером, правда, пришлось признаться: дело не только в закостенелости привычек, но и в юношеской беспечности. Знали бы коллеги про его журнал, читали бы они его — обид было бы не обобраться. «Док_поток» был тем еще ублюдком, охотно рассказывал о сомнительных интеллектуальных способностях высшего начальства, раздолбайстве и безразличии коллег. Даже о высококлассном разрешении ситуаций сообщал таким тоном, что главным героям впору было утопиться в ближайшей речке. Панфилов попытался представить себя объектом рассказа — и застонал, спрятал лицо в ладонях и покачал головой. Ухмыльнувшись, кое-что перечитав, кое-что закрыв от посторонних глаз, Панфилов решил все-таки дописать новый пост.
Он писал, стирал, чертыхался, однажды раздраженно отодвинулся от стола и пошел в прихожую с твердым намерением проветрить мозги. В десять вечера — он глянул на наручные часы, плюнул и привалился спиной к стене. В квартире было темно, только на полу отсвет грязно-белого света от фонарей, светивших в окна. Он потянулся за смартфоном, привычно нашел контакт Валентина, но нахмурился и все-таки натянул ботинки и набросил пальто. Вернувшись через полчаса с пакетом молока и нарезкой колбасы, Панфилов с новым азартом принялся за пост.
Удивительно, но это — праздное занятие, которым даже хобби не назвать, которое никогда ни во что серьезное не выльется — помогало Панфилову справиться с неопределенностью, с ощущением гложущей пустоты, угнетавшим его тем более, чем меньше надежды у него было не то что восстановиться в прежней должности, а найти место, худо-бедно соответствовавшее его квалификации — даже не собственным представлениям о возможном рабочем месте. Его отказывались брать в частных клиниках, хотя Панфилов был уверен, что они куда более независимы и могут позволить определенное своеволие. Но даже там он считался персоной нон грата. Скорее, вынужденно, чем добровольно, и ему намекали, что знакомы с репутацией, знают, на что он способен, взяли бы с распростертыми руками, но это повлечет за собой столько проблем, что потом вовек не разгребешься, но его это не особенно утешало. Старый приятель из соседнего региона позвонил, уточнил, правда ли, что его уволили, узнал о статье, ставшей для него основанием, обещал перезвонить, но через четыре дня написал мейл: прости, но не рискнем, да и переезжать тебе, осваиваться — лишние хлопоты. По большому счету, оставалось надеяться, что губернатору не придет в голову додавливать Панфилова и в мелочах и, например, затравливать магазинчик, который оставался, по сути, его единственным источником пропитания. Это было унизительно — это было необходимо.
А еще удивительнее было, что новое занятие увлекло Панфилова не на шутку. Не просто как способ отвлечься и развлечься, а как вполне себе самостоятельное занятие — и дополнительная возможность еще раз пережить какие-то ситуации, еще раз изучить их, чтобы признаться: был прав, — или установить: дурак дуракович, был тупицей. Вспомнить пациентов, сдержанно и сквозь зубы поблагодарить коллег. И — показать средний палец администрации. Потому что Панфилов, в полной мере ощутивший собственную невидимость — социальную, что ли, карьерную, когда ты и не существуешь больше, как специалист, а только как некий шаблон с минимальными потребностями в социальной статистике, — понял, что, коль скоро терять ему нечего, так и развлечься можно в полной мере. И он начал рассказывать не только о случаях из врачебной практики, но и об административных. Благо о них он знал тоже. На некоторые вещи вынужденно закрывал глаза, когда главврач использовал его отделение в том числе, чтобы получить региональные и федеральные субсидии, которые потом рассасывались, ни в коем случае не соответствуя результатам. Охотно он рассказывал и о манипуляциях нового завотделением, благо даже куцых фраз, полных недоумения и непонимания, которые он слышал от Валентина, которые были подпорчены его блаженным неведением, для Панфилова оказывались очень многозначительными. Это все старательно скрывалось под псевдонимами, о месте, где такое происходило либо могло происходить, неожиданно для него самого разгорались нешуточные споры, он хмыкал, сдерживался, чтобы не ввязаться в полемику, и увлеченно писал пост на совершенно иную тему — погода, например, или климат. Или работа коммунальных служб — о эта благодатная тема!
Были вечера, которые Панфилов проводил почти по-семейному. Валентин приходил поздно вечером, иногда уставший и почти впавший в депрессию, иногда раздраженный и взвинченный. О причинах он не рассказывал, но Панфилов все же поддерживал контакты, пусть абсолютно спорадически, с другими коллегами, от которых знал, что новый завотделением превратился в благодатную мишень для сплетен, что часть отделения — его бывшего отделения, черт возьми, — его принимать отказывалась, относилась с пренебрежением и охотно поливала грязью за спиной. И были другие, ценившие руководителя просто за то, что он смог занять руководительское кресло. Последние активно поддерживали новые порядки, громогласно заявляли, что он куда лучше, чем предыдущий. И с этими последними Валентин регулярно ввязывался в перепалки. Однажды он даже явился к Панфилову с разбитой губой.
— Поскользнулся, упал, очнулся — гипс? — флегматично поинтересовался тот, усадив Валентина на стул, чтобы обработать рану.
Валентин дернул головой, сморщился и отвел взгляд.
Панфилов ухватил его пальцами за подбородок, словно клещами, и заглянул в глаза:
— Честь какой дамы защищать изволил, рыцарь?
Валентин гневно замычал, ударил его по руке, чтобы избавиться от захвата, и надулся.
— Неужели все пытаешься доказать, что лучше бывшего хуже нет? — невесело усмехнувшись, предположил Панфилов. — О личном деле думай. Я бы тебе выговор влепил, неизвестно, что тот крысеныш сделает.
Валентин пожал плечами, виновато взглянул на него и вздохнул. Затем неожиданно обхватил и уткнулся лбом в живот.
— Ты должен быть там, это твое место, оно без тебя… — Он покачал головой и прижался еще крепче. — Плевать, что мне сделает этот маразматик, все равно его скоро скинут.
— Кто говорит? — резко спросил Панфилов, дернув его за волосы.
— Ну… — Валентин пожал плечами и беспокойно посмотрел на него. — Он хреновый завотделением и средненький спец. Это позор для нас всех, что он у нас работает.
Панфилов опустился перед ним на корточки и обхватил лицо ладонями.
— Дурак ты, Еникей. Большой, но романтичный дурак. Это никогда не было критерием для увольнения, скорее наоборот. Это на главврача его бы никто не поставил… хотя я уже ничему не удивлюсь. Вдруг он тихой сапой с кем-то в области породнился, а мы и не знали. И тогда, мил человек, даже это возможно.
Он бережно поцеловал Валентина в губы и потерся лбом о его лоб. У него отчего-то защипало глаза и нос: от дезинфектанта, не иначе.
Совершенно неожиданно в середине февраля Панфилову позвонила бывшая жена. Не то чтобы они расстались врагами — напротив, развод был исключительно мирным, отношения после него — приятельскими, Панфилов и Елена изредка перезванивались, поздравляли друг друга с днями рождения и даже, о ужас, с годовщиной свадьбы и развода. В самом факте звонка не было ничего необычного, но Панфилова поставил в тупик ее категоричный вопрос:
— Док_поток, говоришь? Жив, бодр и очень ядовит? И что, правда, что тебя уволили, потому что ты не отказался договариваться с кем-то за спиной главного?
— Что за чушь, Елена Петровна? — осторожно уточнил Панфилов, садясь на диван и кладя ногу на стол. Он даже брови поднял от удивления.
— Я не в вакууме живу, Макс, — с упреком откликнулась Елена. — Не то чтобы меня интересовали интриги при вашем дворе, но когда Док_поток печет новые посты, словно пирожки, и только в семидесяти процентах содержатся врачебные случаи, а остальное козни злобных канцлеров и прочая дрянь, я не могу не заинтересоваться. Семнадцать, да даже десять лет назад таких случаев было бы сто процентов. И я совершенно случайно знакома с парой людей, которые мне охотно рассказали, как внезапно и неожиданно для всех ты оказался безработным. Кстати, ты не интересовался, министр остался доволен ремонтом? Кому жал по этому поводу руку? Кто получил благодарность?
— Да брось, Лен. Не ты ли говорила, что моя гнусная натура наверняка приведет к тому, что я слечу вверх тормашками с самого высокого этажа хрустальной башни?
— Не я. Мама. Н-ну… она много говорила. Она и сейчас говорит. Но иногда совершенно случайно оказывается права. И что ты делаешь, чтобы исправить ситуацию?
— Делаю, угу. И все просто счастливы обеспечить торжество справедливости.
— Давай по существу, Макс, — велела Елена.
Он нахмурился, но рассказал. Она хмыкала, иногда уточняла. Затем спросила: обращался ли к тому и тому. Панфилов скривился: с чего бы?
— С того, милый друг, что его племянница в этом году сдает ЕГЭ. А ей одно время больше полугода жизни не отмеряли, а потом она попала в твое отделение.
— И?
— И он с оптимизмом смотрит в сторону Москвы, и оттуда на него тоже. У тебя его телефон есть?
Панфилов не удержался — засмеялся. Громко и фальшиво.
— Заткнись, — фыркнула Елена. — Я с Филимоновым поговорю, у него наверняка найдется пара соображений. Слушай, а насколько твои постики правда? Ну вот про эти финансовые схемы и прочее? Он может этим очень заинтересоваться.
— Лен, помилуй! — Панфилов помассировал переносицу подрагивавшими пальцами. — Ты меня не знаешь как будто! Ты спроси меня о раке, и я тебе расскажу много, предложу еще больше и оскорбленно заткнусь, когда ты меня об этом попросишь. Но чтобы такие схемы проворачивать, меня мало. Терпеть эту дрянь не могу и придумать что-то такое вообще не в состоянии. Только с чужих слов.
Она угукнула.
— Ладно, посмотрю, что Филимонов скажет. Авось заинтересуется. У них тоже план, им такие вещи очень даже в тему приходятся.
Она потребовала у Панфилова обещания, что он обратится к тому и тому, и отключилась. Панфилов сидел в комнате, не включая свет, и наблюдал за сумерками, сгущавшимися в ней.
«Тот и тот» сам связался с Панфиловым. Он звучал безразлично, даже недовольно, и разговор с ним длился минут десять, не более. Панфилов только пожал плечами, решив, что ничего толкового из этого не выйдет. Но буквально через несколько дней с ним связался адвокат, чтобы сообщить, что по его иску установлены некие обстоятельства, которые, вполне возможно, приведут к неким изменениям и не хотел бы Панфилов прийти к нему, чтобы обсудить это. Через двое суток он сидел в кабинете адвоката, в кои-то веки в костюме и при галстуке, и слушал. Тот объяснял ему, что в связи с некими загадочными изменениями в неких загадочных актах его иск будет рассматриваться, но немного не так, как он планировал. Есть возможность также внесудебного разрешения спора, и на ней настаивают некие инстанции, к чьему мнению прислушивается в том числе и суд. Это походило на злобную сатиру, но Панфилов выслушал речитатив адвоката, зачитывавшего ему новое заявление, подписал, что от него требовалось, и отправился в магазин. Он нашел в интернете репортажи об открытии центра после ремонта, внимательно просмотрел все, что ему предложил яндекс, и даже сдержал желание расколотить монитор. Он попытался найти что-нибудь посвежее, упоминания бывшей больницы, например, за последнюю неделю, но ничего удовлетворительного не обнаружил — все сайты госзакупок да какие-то невнятные записи на околомедицинских форумах.
Совершенно неожиданно к нему в магазин пришли двое людей с неброской внешностью. Представились, показали удостоверения. У продавца приоткрылся рот, Панфилов только склонил голову, вопросительно глядя на них. Эти двое предложили посидеть в кафе. Они, оказывается, были знакомы с Филимоновым, вторым мужем Елены. И их очень заинтересовало несколько постов в живом журнале Панфилова. И уже через десять минут он понимал все яснее, что совершенно зря считал себя ушлым типом и недаром принижал финансовые способности перед Еленой. И что Кромник едва ли был в состоянии в одиночку обустроить дела в отделении таким образом, чтобы, например, региональный минздрав согласился с необходимостью расширения штатов, не особо проверяя, как и кем эти новые единицы были заняты, были ли фактически заняты вообще и если нет, то куда идут зарплаты, что приемная комиссия не по собственной инициативе руководствовалась совершенно странными номенклатурами при оценке ремонта, которые только условно подходили под специфику отделения, и что едва ли бы он самостоятельно смог заменить высококлассное, почти новое оборудование, бюджет на которое Панфилов лично выбивал не один месяц, другим, значительно дешевле, а предыдущее списал и отдал непонятному фонду, чтобы его потом оценили странные конторы и по этой необъяснимой цене продали в ближнее зарубежье. И так далее. Панфилов только и мог, что присвистывать и качать головой время от времени. Много сказать он не мог, но кое-что подтверждал либо уточнял.
Поздним вечером он отослал Елене сообщение: можешь говорить? Она позвонила. Отмахнулась от тысячи благодарностей, которыми рассыпался Панфилов, сказала только, что будет рада, если ему это поможет, и посоветовала не слишком высоко задирать нос в будущем. На его просьбу поблагодарить Филимонова она только засмеялась, сказав, что благодарности от него — это последнее, что тот хочет услышать уютным семейным вечером, но первое, чтобы у него обострилась язва желудка, а это ей не нужно совершенно. После звонка Панфилов сидел, задумчиво вертя смартфон в руке, и грустно усмехался.
Валентин порывался несколько раз приехать к нему, но Панфилов отвечал: занят, нет времени, еду туда, уезжаю по делам, буду поздно. Это не были отговорки, Панфилов действительно был занят, но они возымели неожиданный эффект: сообщения от Валентина прекратились. Панфилов и не заметил этого, увлеченный собственной войной.
И свершилось: в середине марта ему позвонили из секретариата больницы с просьбой явиться тогда-то во столько-то часов. Главврач встретил его кривой гримасой, которая, очевидно, должна была обозначать улыбку, пожал руку и предложил сесть, затем, помолчав немного, начал свою речь. Неожиданного в ней не было ничего: человек не идеален, возможны ошибки, иногда они могут оказаться слишком тяжелыми, но в наших силах относиться к происходящему с оптимизмом и некой долей юмора, тем более ничего непоправимого не случилось, примерно так же построил бы ее и Панфилов. Главврач готов восстановить его в должности и даже выплатить компенсацию за время его вынужденной безработицы в размере соответствующего количества месячных окладов. Панфилов поинтересовался: а как же Кромник? Главврач сухо ответил, что тот согласился на перевод в районную больницу. Панфилову очень хотелось спросить о бюджете, ремонте, о многом, многом другом, но он промолчал. До поры до времени, как он отметил про себя. И наверняка Док_поток не заткнется так просто.
Утром первого рабочего дня после долгого перерыва Панфилов стоял перед родным отделением, засунув руки в карманы полупальто. Он вдохновлялся. Он любовался. Он хотел, но не мог стереть гнусную, злорадную, торжествующую улыбку. И он отлично понимал, что работы после нескольких месяцев отсутствия ему предстоит очень много.
На импровизированном собрании работников отделения в самом начале рабочего дня нашлось несколько людей, бросившихся Панфилову на шею, двое прослезились, стояли, промокая платком глаза, и подшучивали друг над другом и над теми, кто посмеивался над ними. Кто-то натянуто улыбался, но хлопал в ладоши, когда все разразились аплодисментами. Панфилов был счастлив — он наслаждался этим ощущением полноценной, мощной, пусть и непростой жизни, которое так оскудело за пределами отделения. Не на всех он обращал внимание, не до этого: Валентин сидел у дальней стены, послушно хлопал со всеми, но не поднимал взгляда. И, наверное, у кого-то, но могли бы возникнуть сомнения: Еникей, самый страстный защитник бывшего, а теперь снова настоящего завотделением, был неожиданно хмур, хотя должен был радоваться. К сожалению, тем более на него не обращал внимания сам Панфилов — он был занят тем, чтобы настроить отделение в соответствии со своими представлениями о том, как все должно быть.
Правда, на смену эйфории пришли иные чувства. К репутации Панфилова добавилась еще одна характеристика: скандальный. К нему относились куда осторожнее, и нет-нет, да и звучало: дыма без огня не бывает, не может быть, чтобы действительно вот так ни за что уволили, что-то наверняка было, но он ловок, раз смог перекроить ситуацию под себя. Приходилось бороться еще и с этим, и люди, раньше настроенные вполне благосклонно, смотрели на него с подозрением, реагировали на его предложения, его слова предвзято, а иногда враждебно. Помимо этого, вне работы на Панфилова накатывала какая-то подозрительная пустота. Он было вызвал контакт Валентина, прочитал последние сообщения — и раздраженно крякнул. За такое следовало бы морду набить, это факт. А на ночь глядя отправляться к нему — да Панфилов, как ни странно, не помнил, не знал его адреса. А увидеть его хотелось.
На следующий день Панфилов бросил властно, не утруждаясь глядеть в его сторону:
— Еникей, в четырнадцать ноль-ноль зайди ко мне.
Тот мрачно угукнул.
У Панфилова застучало сердце: дурацкая и неожиданная реакция. Пришлось даже останавливаться и переводить дух. Потом Панфилов снова шагал по отделению, исчезал в других корпусах и объявлялся снова. Взгляд при этом искал циферблаты на стенах: сколько часов осталось? Сколько минут?
В 13:55 Панфилов не пытался дурить себя: имитировать рабочую деятельность не хотелось совершенно, притворяться перед Валентином — особенно. В 13:58 тот постучал и зашел.
— Можно?
— Заходи, садись. — Панфилов кивнул, следя за ним: Валентин не поднимал на него взгляда, а усевшись, принялся изучать ногти. — Кофе хочешь?
— Нет, спасибо, — тут же отозвался Валентин, не поднимая головы.
Панфилов поднялся, обошел стол, встал за спиной Валентина и положил руки ему на плечи.
— Я действительно был очень занят. У меня и сейчас совершенно нет свободного времени, — напряженно произнес он.
— Конечно, — откликнулся Валентин.
Панфилов скривился: это прозвучало очень едко, хотя едва ли таков был умысел.
— Не хочешь приехать ко мне? — спросил он, наклоняясь и целуя волосы Валентина. Они отросли, рассеянно отметил Панфилов, и ему шло, и вообще он выглядел как-то иначе, строже, что ли, суше.
— Я буду занят, — уворачиваясь, огрызнулся Валентин.
— Ну не сердись! — в сердцах воскликнул Панфилов.
— Я не сержусь, с чего вы взяли. И вообще, вы чего-то существенного хотите, или… если это все, то мне пора работать. — Валентин встал и отступил от него.
Панфилов уперся в спинку стула руками.
— Это все, — мрачно признался он, суя руки в карманы брюк.
Валентин развел руками и ушел.
Панфилов так и стоял с руками в карманах, пока стук в дверь не выдернул его из мрачных мыслей.
— Да! — рявкнул он, обрадованный возможности переключиться.
Вечером пятницы Панфилов задумчиво изучал полки со спиртным в супермаркете. В тележке, как бы смешно ему самому от этого клише ни было, уже стояла коробка с набором пирожных и пакетами с апельсинами и киви. Полная глупость — но отчего-то казавшаяся совершенно уместной. Отчего-то у него создалось впечатление, что Валентин не дурак съесть сладкого, хотя клясться на крови Панфилов не рискнул бы: в конце концов, до последнего времени он не особенно задумывался, чем именно живет Валентин за пределами больницы. Спроси его кто, не вспомнил бы адреса, о семье так и вообще ничего не сказал — он другое помнил, о чем в приличных компаниях ни в коем случае не говорят вслух, и легкость, с которой Валентин поглощал печенье, тоже. Он положил бутылку в тележку и отправился к кассам, но к машине пошел, только купив букет.
Только у подъездной двери Панфилову пришло в голову, что Валентин не обязан быть дома. Но — судьба была полна благосклонности, после полуминуты в динамике домофона раздался его глухой голос. Не сразу, но Валентин все же впустил его. Панфилов поднимался по лестнице, пытаясь прикинуть оптимальную стратегию, но любая модель поведения казалась ему совершенно глупой. И сам он казался себе законченным дураком: с коробкой с пирожными, с вином, с букетом цветов. К сотруднику в гости, одного с ним пола. И самое паршивое при этом: с намерениями далеко не легкомысленными, и отчаянно боясь, что его выпнут вон.
Дверь была приоткрыта, Панфилов стукнул по ней и вошел. Валентин маячил в прихожей, демонстративно держась на противоположном ее конце и со сцепленными за спиной руками, благо расстояния было не меньше трех метров. Панфилов закрыл дверь, протянул ему пакет и приказал:
— Возьми.
— И за каким хреном вы приперлись?
Панфилов подошел к нему.
— Не прикидывайся глупеньким котиком, Еникей, тебе не идет. Можешь и это взять. Ваза есть? — он протянул букет.
Валентин поднял на него хмурый взгляд.
— Валь, у меня действительно не было времени.
— А теперь есть? И надолго?
Панфилов сжал челюсти.
— Очевидно, — процедил он. И прошептал: — Валь, не сердись. Пожалуйста. Сам же понимаешь, что в этом… — он поставил пакет на пол и положил рядом букет, затем положил руки ему на плечи, — в такой обстановке трудно что-то говорить. Я могу обещать, могу подтвердить, что все правда серьезно и важно для меня, но ты сам понимаешь, что вариантов тут…
Валентин отвернулся от него, но отстраниться не пытался.
— Напоишь чаем? — ласково спросил Панфилов.
Тот только выдохнул и обнял его и поцеловал.
— Ты такая скотина, ты знаешь? — шепотом воскликнул он.
В ответ Панфилов пожал плечами.
— Знаю, каюсь, осознаю. Не уверен, что смогу исправиться, староват, знаешь ли, но буду стараться. — Он сбросил пальто, отстранился, стянул джемпер и отправил его на пол. Прижав Валентина к стене, он неторопливо, чувственно поцеловал его, вслушиваясь в его ощущения и собственные. Удивительно было ощущать, как затихает тревожный колокольчик где-то внутри, который трезвонил все то время, когда Панфилов колебался, решался и собирался осуществить это намерение, и не распознать было не только звука, но и вибраций, странно было наконец стряхнуть все волнения и беспокойство, просто открыться чему-то новому, неожиданному и почти незнакомому, и невероятно возбуждающе вздрагивали мышцы под его руками и рвано втягивал воздух Валентин. Панфилов оторвался, запустил руки в его волосы, жадно вгляделся в лицо. Валентин свел брови к переносице и ухватился за его запястья; Панфилов спросил: — Куда идти?
— На кухню, — ухмыльнувшись, сказал Валентин.
Панфилов засмеялся и спрятал лицо на его плече.
— А не подождет? — жалобно произнес он.
Валентин гладил его по спине и улыбался.
— Я как раз собирался есть лазанью, — прошептал он Панфилову на ухо.
Странным оказалось, что им не о чем было говорить. Панфилов стоял у окна, то спиной к нему, то рассматривая улицу под ним. Валентин расставлял тарелки и бокалы, выкладывал вилки и ножи, открывал вино. Он застыл, сложил на груди руки, и Панфилов спиной ощутил его желание спросить. Оглянулся, вопросительно поднял брови.
— Как у тебя получилось так быстро? — спросил тот.
— Я не уверен, что сам понимаю, — честно признался Панфилов. — Я даже не уверен, что причиной такой энергичной пертурбации была моя невообразимая харизма и категорическая незаменимость.
Валентин фыркнул и сел.
— Скорее, твоя сверхъестественная покладистость и невероятная скромность, — согласно покивав, заметил он.
— Разумеется, — невозмутимо отозвался Панфилов, усаживаясь напротив. — Но… некие знакомые знали иных знакомых, а тем в неких интригах нужны жертвы и марионетки. Жертвой, на мое счастье, оказался не я. Но вот насчет марионетки не буду ничего заявлять. – Валентин налил вина себе и ему и отставил бутылку. — Валь… — И Панфилов произнес его имя еще раз, словно наслаждаясь им, смакуя: — Валя, я… я даже не уверен, что меня долго вытерпят на этом посту. — Он положил руку поверх его руки, легонько сжал, затем поднес ко рту и несколько раз поцеловал ладонь, прижал ее к своей щеке. — Я просто знаю, что без тебя у меня не нашлось бы сил со всем этим воевать дальше.
Он опустил голову, рассеянно водя подбородком по его ладони.
— Это сказано для того, чтобы я был готов снова выступать штатным вдохновителем и побудителем? — полюбопытствовал Валентин.
— Нет. — Панфилов нахмурился и взял бокал, поднял его в шутливом салюте. — За тебя. Это сказано, потому что я буду осторожней и внимательней. И… — Он чокнулся бокалом о его бокал. — Нам нужно быть осторожней и внимательней.
Валентин отпил вина.
Панфилов смотрел на него, откровенно любуясь, улыбаясь растерянно и нежно, изучая каждую его черту. Валентин нахмурился и потер подбородок.
— Тебе идет, — тут же сказал Панфилов. — И прическа.
— Прическа, — фыркнул Валентин, ероша волосы. — Ее отсутствие.
— Какая разница, — улыбнулся Панфилов, проводя костяшками пальцев по его скуле.
После ужина он расположился на диване с бокалом, Валентин пытался определиться с местом для букета. Наконец, усевшись рядом, вплотную и опустив голову Панфилову на плечо, он вздохнул и обмяк.
Панфилов задумчиво перебирал его волосы, иногда целовал их, допивал вино и вслушивался в звуки незнакомого дома. Внезапно Валентин подскочил и оседлал его, уперся руками в спинку дивана и угрожающе нахмурился.
— Так каковы ваши планы на сегодня, Максим Владимирович?
Панфилов медленно отставил бокал и многообещающе ухмыльнулся, опуская руки ему на ягодицы:
— Самые порочные, Валентин Сергеевич.
Валентин склонился еще ниже, заглядывая ему в глаза, словно пытался прочитать мысли. Едва ли у него получилось, но он удовлетворенно улыбнулся и прижался щекой к щеке Панфилова.
— Мне очень нравится ход ваших мыслей, шеф, — прошептал он.
Панфилов проснулся, когда было еще темно. Светало уже совсем рано, но свет этот был зыбким, серым, зараженным все той же непогодой, которая царствовала за стенами уже который день, он совершенно не наполнял оптимизмом и не вдохновлял выбираться из-под одеяла. Панфилов проверил время: было без малого шесть. И в кровати он был один.
Валентин обнаружился на кухне у окна с огромной кружкой травяного чая. Панфилов опустился рядом на корточки и обхватил его за талию.
— Только не говори, что ты терзаешься сомнениями и готов спрыгнуть куда подальше, — пробормотал он.
— Да что ты. Я даже готов на работе и дальше играть недовольного начальством и вечно брюзжащего типа.
— Тогда в чем дело?
Валентин молчал. Панфилов нахмурился.
— Да не обращай внимания, — улыбнулся Валентин. — Ты просто никогда не замечал меня.
Панфилов недовольно хмыкнул.
— Ну хорошо, замечал, но не выделял. И даже когда выделил, не особо обратил внимания. Я, кстати, пирожные отполовинил, тебе всего ничего осталось.
Панфилову захотелось сделать что-то этакое: застучать кулаками о свою грудь или откинуть голову и издать торжествующий вопль.
— Но вот розы терпеть не могу.
— Лилии? — деловито уточнил Панфилов. Валентин недовольно заворчал. — Астры? Что еще, герберы?
— Фрезии. — Валентин усмехнулся. — Ты серьезно собираешься… — Он ошеломленно посмотрел на сосредоточенного Панфилова, захохотал, едва не разлил чай, чертыхнулся и поставил кружку на подоконник.
— Так что случилось-то? — спросил тот, поднимаясь. — Чего ты встал?
— Проголодался, — беспечно отозвался тот. — Заодно решил и чайку попить.
Панфилов хмыкнул и подошел к холодильнику. Он вернулся с бутербродом и уселся за спиной Валентина, тесно прижав его к себе. Отчего-то он подумал, что действительно не замечал, а если замечал, то не выделял его из студентов, интернов, ординаторов. Понадобилось что-то исключительное, чтобы Валентину сделать что-то неожиданное, чтобы ему самому посмотреть на него внимательней.
— Я не думал, что ты придешь, — тихо произнес Валентин. — Был уверен, что все закончено.
— Валь! — Панфилов сморщился. — Мне вздохнуть некогда было, правда! Мне чуть ли не в Москву приходилось ехать, и все это срочно, спешно, немедленно… — Валентин повернулся к нему, Панфилов воспользовался этим, чтобы поцеловать. — Собственно даже теперь я не уверен, что у меня будет много времени, но оно все — твое.
Валентин обнял его, улыбнулся и сказал всего лишь: «Хорошо».
Панфилов спрятал лицо у него на затылке, чтобы скрыть предательски увлажнившиеся глаза. И, наверное, впервые за много месяцев он поверил в то, что все у него — у них — хорошо.
И на востоке в прорехе между облаками тускло, но очень настойчиво вспыхнуло солнце — Панфилову даже пришлось прищуриться. Стены кухни оказались залиты красным рассветным цветом, а окна, как ни странно, засветились золотым.
Панфилов встал и хлопнул Валентина по плечу.
— Пойдем досыпать, Валь.
Валентин взял его за руку и послушно поднялся.
Панфилов нежно провел рукой по его щеке, любуясь, как пропитались солнечным золотом его волосы, как мерцали бархатные глаза, как касалась губ задумчивая, мечтательная улыбка. И Панфилов не мог не подумать, что в незаметном на первый взгляд Валентине Еникее жива частичка кого-то из древних волхвов: сказал он ведь, что все закончится самым лучшим образом, и так и вышло. Панфилов хмыкнул своим сентиментальным мыслям и потащил его в спальню. Досыпать.




1 комментарий