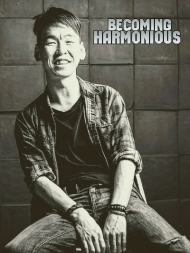Cyberbond
Под себя
Аннотация
Именно «под себя», под свои воспоминания и фантазии, дорогие лично автору. Смесь египетской «Книги мертвых», романа И. Ефремова «На краю Ойкумены» и угорелой все еще подростковой фантазии пишущего.
Именно «под себя», под свои воспоминания и фантазии, дорогие лично автору. Смесь египетской «Книги мертвых», романа И. Ефремова «На краю Ойкумены» и угорелой все еще подростковой фантазии пишущего.
 Когда я был совсем почти маленьким, я очень, таинственно от других, любил книжку Ефремова про «На краю Ойкумены». Собственно, обожал я даже не текст, а прекрасно сделанные, во всех подробностях, тела юношей, на рисунках щедро представленные. Я думаю, художник и сам юношей обожал, фруктово-ягодную манкость их разноцветных тел.
Когда я был совсем почти маленьким, я очень, таинственно от других, любил книжку Ефремова про «На краю Ойкумены». Собственно, обожал я даже не текст, а прекрасно сделанные, во всех подробностях, тела юношей, на рисунках щедро представленные. Я думаю, художник и сам юношей обожал, фруктово-ягодную манкость их разноцветных тел.Там были море, пальмы и мышцы, их крутые бугры — я имею в виду плечевой пояс и грудь антикормилицы, отважно рельефную, и эти упрямо мощные шеи, которые полушутя полусогнул беспощадный рок (они ж там все в рабство сперва понапхалися).
Текст начинался с того, что какой-то досужий матросокурсант приперся в Эрмитаж, хлопая клешами по промозглому невскому ветродую, и увидел в витрине зеленый полупрозрачный камень. На камне обнялись трое именно уже юношей, вроде азиятец, негра и грек. И курсантоматрос решил в своем то ли лукавстве уже, то ли еще неведении (времена-то были — сталинизм примороженный) — короче, решил этот совковый романтик в казенном тельнике, что трое эти — друзья по жизни, бой расизму и миру мир. Почему не подумал как-то очевидное, что они и любовники? Батя Сталин не подсказал? Но тельняшечник все равно про такие дела узнал бы: палуба — лучшая школа жизни в самом нашенском ЭТОМ смысле.
Короче, матроскин кот, вонявший мылом хозяйственным и фатовски флотскою ваксою, затаил дыхание над приветом из космоса времени, так зазывно светившимся морской глубиной (но не самой глубинною). И в башке его книгочейной возникла вся эта умомрачительная история.
Только чур, я уйду вот тут от дрочибельности… Нет, не уйду! Нет — попытаюся… Ну, не знаю, за чем я тогда пойду, а куда уж выйду — не мне судить.
Итак, я тотчас представляю себе…
*
Я тотчас представляю себе маленький дворик, навес из горячего камыша и там, в тени под ним, трое болванов, молодых и четко, всюду накаченных. От них несет сыром, потом и спермою. Под ветхой тряпицей, как хлеба кус, у каждого хер притерт, благодаря возрасту не скукоженный, яйца бритые (хозяин велит), волосы каждого стянуты по лбу узкой розовой ленточкой. И эта изящно девчачья ленточка — трогательней всего. В остальном же — амбалы и сволота без чести, стыда и всяких ошметков совести.
Где-то там царит очередной греческий Птолемей со своей женосестрицею, кто-то кого-то где-то там во дворце пришил, кто-то кому-то подарил при свежей этой оказии драгоценный статуй, мысль или рукопись.
Но здесь, у Яхмоса, никаких рукописей и ваз, а мысль лишь одна — дождаться, ребяточки, вечера. И только Богиня-Ночь согнется по небу дугою созвездий над уснувшим в прохладе городом, эти все четверо (если взять и хозяина) — тут как тут.
В смысле: не «тут» как раз, а «там», далеко-далеко за Великой Рекой, за уснувшим давно дряхлым этим человечьим становищем.
Но не стану карты тотчас вам раскрывать. Конечно, они чистят гробницы, конечно, и на большой дороге кого-никого пару раз за ночь-то шуганут — душу вместе с богачеством вытряхнут, а то и за деньги, за мелкий монетный сор, купцу-скупцу-скопцу или юнцу в кабачке подставятся: античная рабья вольница!
Золотое времечко, господа!.. (И еще не до тебя, угрюмый ты всякозаветный господи…)
И вот, стало быть, при свете дня я почти уж представил их, а при свете ночи они снялись и в темноту ушли, и это для нас, между прочим, сейчас самое главное.
*
Первым шел Грек, потому самый цивильный, любезно бойкий, по-грецки грецкую стражу всегда уболтает-уговорит проныра бесстрашнейший. Затем — гигант Черносливина (негра числили, если не выпьет, то добряком, особенно нищие потаскухи мосластые). Затем еще по возрасту несмышленыш Сир, мальчик щупленький, азиятец, но такой ведь шнырястый и многоопытный!.. Замыкал шествие сам хозяин, Яхмос его зовут, вот он плоть от плоти сын этой Живородящей Земли, а значит, здесь он хозяин кровный, доподлинный, надменный в душе страж местной вечности.
Пасти пивом прополоскали все четверо, чтобы разило, чтобы, в случай-чего, принимали только за пьяненьких, и помолились Сету ослиноголовому — богу зла вороватому. Ночная птица, словно со вздохом, словно судьба, тяжело снялась с ветки невидимой и летела над ними, ссыпая с крыльев пыль и какая бандитам на кудлатые головы.
Они двигались в той запутанной нищенской темноте, где люди еблись на голой земле, горячей за день и навеки, как проклятой, — проссанной. Грубая радость жизни кишела клопами, вшами и тараканами, и это тоже были свои мелкие боги, наверно, но им пока неизвестные, хоть и сполна всеми четырьмя накормленные.
Не раз при звяке впереди щитов и поножей парни замирали, вжимаясь в ноздрястый известняк теплых, точно живущих, стен. Но жирная птица, что на них серила, явно обороняла их в ту ночь от всякой напасти-опасности.
Таким барельефом, чередой надроченных азартом и страхом тел, они словно гибель свою грядущую репетировали — или обычное перед сном (а сон тоже ведь репетиция смерти) соитие. Хотя — если соитие, то Сир должен быть там впереди всегда, чаще на корточках, а Черносливина сзади даже хозяина. А Грека Яхмос ебал в жопень, мстя белокожим захватчикам своей родины, и сзади не допускал. Но Грек-то знал, что если он сам ебет того, кто ебет хозяина, то и хозяин, стало быть, ебом им, Греком, на все на сто!
Греки, короче, завсегда и рулят и царствуют!..
Фореве, короче, Греция!
*
Замирая во тьме, а затем перебежками они добрались до крепостной стены. У пролома скучали два стражника. Сир знал свой маневр:
— Радуйтесь, господа могутные воины!
— Не спишь, говноспуск? Еще не нахавался?
Вместо ответа мальчишка, хитро вздыхая, хихикает.
— Ну ладно, потрох, по-быстрому!
Вздохи, охи и чмоканья.
Искренний Черносливина разбухает, невзначай мажет собой Грека чуть ниже пояса. Грек «равнодушно» глядит в сладко сосущую темноту, в звучные переливы хмурой солдатской радости.
— Долго, долго он, ДОЛГО КАК!.. — шепчет Яхмос, впиваясь в локоть пахучего, как горячий зверь, Черносливины.
Птица сидит на зубце стены. Из всех она одна четко видит происходящее.
Щиты и копья, наконец, брякнули праздной кучею на сторону.
Взвизг Сира, теперь совершенно искренний. Это какой же у воина?.. Или сразу, вдвоем?..
Хрипы, визги совершенно щенячьи, молящие.
Три тени промелькивают мимо трещащего факелка.
Птица на стене устало чистит мелкие под крыльями перышки.
*
Они спускаются к Реке. Незримо и мощно мимо идет вода. Здесь несет травяной гнилью и мясным разложением, запах залепляет глаза разума. В условленном месте Грек с черномазым копают песок. Загодя припрятанный плотик кажется утлым для четверых.
Нервно ожидают мальчишку. Можно отплыть без него (на обратном пути заберем, типа-того), но гробница особая, узкий проход. Нужен, еще нужен этот сопляк!
Хромая и хлюпая то ли жопой, то ли и носом, он, наконец, появляется.
— Идти можешь?
— Угу! — испуганно.
Лишь бы не бросили…
Громоздятся на плотик, жмутся друг к дружке.
Мерный и вкрадчивый плеск весла.
Птица летит над ними. Яхмос слышит треск воздуха под крылом. Не время, но он вспоминает сон этой ночи: прекрасная дама с телом белой совы явилась к нему, взмахнула крылами, оттуда вылетело три золотых шара. Ослепив Яхмоса, они понеслись на него, нетерпеливо подпрыгивая. Он тотчас проснулся, уверенный, что задуманное удастся: странная уступчатая гробница на том берегу никем еще не раскопана.
Но вход — к сокровищу может быть узкий лаз!
Черносливина чует птицу тож. Он поднимает руку, он хочет схватить ее. Птица лупит его крылом. Азарт охотника разгорается в Черносливине. Он убирает руку, потом, упредив пернатый вираж, резко вскидывает руку опять.
— Оставь! — испуганно велит Яхмос.
Но негр не слышит его, он чуть не схватил когтистую лапу, шершавую, точно дерево.
— Оставь, говорю! — Яхмос почти кричит.
И, словно разбуженная им, чернота слева вдруг тяжко всплескивает. Крокодил!
До берега всего ничего, но мощная Смерть с легким плеском рядом движется, уверенная в близкой сытной победе. На берег вместе — и что тогда?..
Плотик дернулся, вроде и сбросив их.
Но вроде и берег…
Сейчас-сейчас рептилия дернется в точной судороге атаки… «Кого он возьмет?..» — думает Яхмос, остывая заранее.
Негр выхватывает дубину из-под лохмотьев: он не сдастся за просто так!
Но Смерть остается пока в воде. Не помня себя, четверо бегут к гробницам.
Жизнь!
Жизнь опять!..
*
Они бегут что есть силы в черноту опасную из черноты сейчас смертоносной. Ночная мелкая нечисть снует и пищит из-под ног, непуганая. Сир отстает и садится на землю. Ночь охватывает его, Яхмос думает — навсегда. Птица, сделав над Сиром круг, догоняет их.
Чудовищная преграда встает перед ними боком змЕя Апопа. Бок горяч, в нем бушует проглоченный Ра, конечно.
Горячий Черносливина лезет первым. Разбежавшись, он прыгает, грохот металла вверху. Краткий вопль негра растворяется в черноте.
Грек и Яхмос дрожат. Что-то говорит — пути назад нету им.
Свернув налево, они крадутся вдоль покатой стены, и Яхмос совершенно теперь уверен: это он, Апоп!
Яхмос обращается с горячей молитвой к жуткому демону, которого язык не повернется назвать божеством:
— Апоп дорогой милый Апоп возьми меня под свое покровительство сделай сделай меня собой сделай ДАЙ! свою силу… дайдайдай…
Яхмос бормочет все громче, уверенней. Демон услышал его и лениво, по крохам, делится с человеком своим ночным несказанным могуществом:
— Когда Ра, чье имя подлинное не знаем, в ладье приходит в нутро твое, и жжет тебя изнутри, но ты так могуч, что все терпишь, а он рыжим котом терзает твои кишки, но ты терпишь, великий терпила Апоп, который ничего не боится, который меня спасет… Скажи-скажи, что тебе нужно, чем тебя накормить еще, ты же взял уже мальчишку, ты взял Черносливину с членом, что сильней моего кулака, ты теперь видишь, мне ничего ведь не жаль для тебя, терпила Апоп, величайший из демонов, временный пожиратель самого Ра, имя которого мы не знаем… Да свершится, как я сказал!..
Яхмос дрожит, потный от ужаса и полный не своей уже силы, и бок Апопа сыто, свойски возле вроде шевелится.
— Вот! — Грек останавливается. Он нащупал что-то, но Яхмос, чье зрение обострилось, как у кота, уже видит, что именно.
— Это же… — Грек хочет повернуть к хозяину изумленное лицо, но не успевает и со стоном падает Апопу под бок.
— Возьми! Возьми и его, могучий демон! Я, теперь Яхмос-Апоп, благодарю тебя…
Яхмос бормочет что-то еще, стряхивая кровь с ножа под бок Апопа.
Потом хватается за перильца и легко переваливает сухощавое тело свое через демона, сытого теперь уж наверняка.
*
Он тотчас понимает, что сделал не то, поспешил с новой пищей вечно голодному недо-все-таки-божеству. Грека надо было бы сохранить; на обратном пути уж лучше…
Чернота все так же густа и здесь, в новой стране или даже — ну, да, возможно, в наступившем для Яхмоса царстве Осириса, в манком и загадочном мире растворившихся в вечности. Но надо идти вперед, и Яхмос-Апоп твердит про себя молитвы, положенные при встрече с государем Осирисом:
— О, ты, который… О, ты, которого…
Он вдруг слышит шорох над головой. Это птица, она плотно села на воздух, но крылья сложены у нее. Здесь нет движенья, в этом конце преисподней, хотя Яхмос-Апоп передвигает ноги из последних сил, а в груди словно мотыгу ему провернули, и пот выжрал глаза.
Слева он видит скопище огоньков. Это глаза шакалов, что явились из пустыни кормиться грешниками. «О, господь мой Осирис, твой суд все уж решил… Не попустил ты меня вспомнить молитву тебе, о, Осирис… И слово умерло для меня…»
Яхмос падает и лежит ничком, ожидая, что каждый миг превратится в клык.
Он лежит невыносимо и сладостно долго, забытый всеми настойчивыми богами. Услышав шаги, поднимает лицо из земли. В отсвете огоньков он видит на стене изображение Последнего бога. С четырьмя крылами и всякой телесной оснасткой из клювов-рогов и тоненьких перемычек он так похож на аэроплан «этажерку», но Яхмос не знает про это, он покорно лишь ужасается. Он думает: вот и мир закончился вместе с ним!..
Не замечая птицы, он поднимается и машинально бредет на свет. Все слова угасли в его мозгу, тело похоже на канат, раскисший и измочаленный.
Он — он ли или кто-то другой за него? — видит впереди облезлую невысокую стену. Откуда-то сверху ее заливает бестрепетно мертвый голубоватый свет. Он сглаживает пестроту трепещущих на стене розовых, желтых и белых язычков с объявлениями. Вдоль стены лениво бредет толстый человек в странной одежде, блестящей, как кожаный щит. Щеки его дрожат, редкие усики, похожие на грязь над губой, шевелятся. Круглые тоненькие очки довершают сходство с котом, возомнившим себя хозяином.
Какие-то клочки он равнодушно срывает, но достает из кармана и приклеивает новые. На них жирные буквы и размытые лица:
«Козлов Петр Николаевич, 12.8.1928 — 8.6.2005», «Яковлев Леонид Викторович, 9.12.1935 — 8.6.2005», «Микулина Мария Карловна 11.12.1948 — 8.6.2005».
Сорванный клочок щекотно садится Яхмосу на потную щеку:
«Яхмос Осип Савватеевич, 5.12.310 г. до н. э. — 8.6.2005».
Яхмос снимает клочок со щеки, задумчиво жует его и равнодушно вспоминает, наконец, последнюю для человека молитву Осирису.
26.03.2012