Cyberbond
Пашка
Аннотация
Полуфентэзи на староармейскую (теперь всё, слава богу, не так) тему.
Какое счастье, что те времена позади!..
Полуфентэзи на староармейскую (теперь всё, слава богу, не так) тему.
Какое счастье, что те времена позади!..
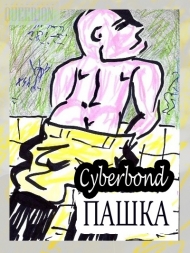 (Огромное спасибо Егору Атылину за помощь в работе над этим текстом и за вставки в него!)
(Огромное спасибо Егору Атылину за помощь в работе над этим текстом и за вставки в него!)Пашку опустили 8-го, да, ноября, в красный день календаря (петушиный ведь цвет!). Накануне праздник Великого Октября отметили местным парадом в городе. Солдаты месили мерзлую, липучую грязь, мечтая лишь о праздничном обеде с пирожками, с конфетами. Никакого «праздничного» настроя ни у кого не было, — лишь повальная злость на пронзительный ветер, который через набухшую шинель и белье пробирал до костей.
После обеда по телеку в клубе гнали «Человека с ружьем». Солдаты мутно смотрели на бородатого мужика, который бестолково метался по коридорам не с ружьем, а с мятым чайником, и вместо кипяточка судьба продала ему щедро Ленина. Многие спали.
Оглядев воинов, Краснов тщательно оправил ремень и вышел из зала. Пашку он нашарил в одном из классов. Тот сосредоточенно выводил фломастером звезду в аккуратном альбомчике. Рядом, навалившись всей тушей на стол, торчал Униканов и зачарованно следил за работой. Пашка ваял Униканову дембельский альбом. «Дед» Униканов заранее полнился тихой, ревнивой гордостью. Он походил на огромный бурдюк, под завязку налитый мутной какой-то жидкостью. «Бочка с квасом — с пидарасом», — отметил про себя тотчас сержант.
— Ай, молодца-а! — восхитился Краснов и пролетел пальцами по шее Паштета с вороватым почти сладострастием. — Ай ты, лядь, какая у нас талантливая девочка ПикассО! Пикассо-пососо, эбать…
Краснов уловил: Пашуля брезгливо чуть дернулся. Жутко захотелось снова пронестись пальцами по этой нежной шее; прям до капельки на хере зачесалось. Но Краснов одернул себя.
— Уникальный, перетереть надо бы, — Краснов кивнул на дверь в коридор.
«Уникальный»! Год назад еще т е «деды» этого офёздла деревенского кликали Толкановым, Толканчиком. Ну лады: заслужил таперича — в ы с л у ж и л.
— Слышь, короче, такие дела, Уникальный. Посылка из дома пришла, там джины офуенные мне под дембель мать подогнала. «Монтану»! А я купил уже. Уступлю?
— Мне-то не подойдут.
— Ты брату хотел. Он с меня.
— Млядь, а скоко?
— Да не млядь, а скоко, — усмехнулся Краснов. — Так-то они полтора стольничка.
— Млядь!
— Не млядь, говорю, а скоко. Тебе — нискоко. Смори, подарю.
— Офуеть! Пасип…
— Ты какой-то грубый, военный! Что ни шаг, то мат. А ведь с девушками общаешься.
— С какими девушками?! Мохнатку год уж не драл.
— А что ты сейчас — скажешь: не с девушкой был? А с кем?
— С кем? С этим… с Паштетом.
— Ну, а он-то кто?
— Вроде пацан.
— А ты про-верь! На что тебе руки рабочие, мозольные, дадены?.. Родина учит нас, партия, сука, учит нас: доверяй — но проверяй! Теория суха, мой друг, но древо жизни — что?..
— Че?
— Зеленеет!
Краснов постучал пальцем Униканова по широченному лбине:
— Бал-дой ку-ме-кай! Сме-кай!
Униканов напрягся и вдруг взъярился:
— Че те надо-то?!!
— Уникаша, — Краснов приобнял Униканова за плечо, приблизил лицо к его груди доверительно, — сдается мне, что в наши ряды затесался не только педрик, но также и стукачок.
— Да ладно?! И кто?
— Да эб… Мы про кого говорим? Про Паштета.
— А… А второй кто?
— В смысле?
— Ну, педрик типа он, ты говоришь, а стукач-то кто?
— Коля, ты ж службу вроде просёк давно, не один мешок «дробь шестнадцать» съел, а послушать тебя — словно пирожки домашние не высрал ещё. Напряги свою социалистическую бдительность! Сам прикинь, ты когда на губу залетел в августе?
— Ну, девятого.
— А кому ты сказал, что вы в самоход к бабам намылились?
— Никому. Знали лишь сами мы: я, Глущенко, Петросян.
— А кому Пикасса тогда альбомчик-то рисовал?
— Ну, этому — хохлу, Глущенке.
— А вы про самоход при Пашенции говорили? Обсуждали с ней?
— Ну, Глущенка типа сказал… Млядь, ну да — при мне: типа базарили, где там в городе зачетные биксы ваще тусуются.
Униканов вздохнул глубоко, почти с нежностью:
— Такие в общаге сисястые есть, у текстильщиков!..
— Девять суток на всех вы схлопотали тогда! По трешке на рыло! И повязали вас сразу же у дыры. Вы с фуем наперевес — вам по фуям-то и надавали, чтоб зазря не топорщились
— Обидно, ага… А Паштет причем?
— А Паштет притом, что портрет замполита тогда ж малевал. Видно, и сказанул ему — может, конечно, по глупости…
— Паштет не лох.
— Не лох. А вам из-за его длинного языка по фуям нашиздячили, с оттяжечкой. И потом вы из нарядов, с кухни, не вылезали до сентября! И велел мне вас так потомить — кто конкретно?
— Кто?
— Замполит! А Паштет тем временем в город так и шастал то за красочками, то за кисточками, детсад, эбать, оформлял. Вадьке с больнички, обратно, альбом мазюкал. Да ты на клешни его позырь — и на свои; сравни, у кого как служба идет. А ты ведь — «дед»! А он-то кто? Да мы в «слоны» эту суку не перевели еще, забыли — это вот мой косяк. ПризнаЮ! Исправишь?
Нечто булькнуло внутри Униканова, душа заметалась. Прав сержант: закон для всех един — нужно перевести. Нехорошо, конечно, выходит, но альбомчик уже сегодня будет готов… Да и че он ему еще хорошего сделает, этот Паштет? А ниче, только вот альбомчик намалюкал — дык это ему, как два пальца… А так-то, про службу, Краснов ведь прав… Да и лучше уж, чтоб он, Николай Униканов — за альбомчик уж как-нибудь пощадит жопу нежную.
Он тяжело, подневольно вздохнул:
— Исправлю… Всыплю как-нить, любя…
— Ну, лады… Я еще Мамедова позову.
— А это… а джины?
— А джопсы — особь разговор, Уникалушка! Это, если ты ему за тот косяк его, за губу, за о б и д у свою, по-пацански, лядь, объяснишь… Паштет тебе теперь по жизни должен, прикинь. Пусть ответит! Тогда тебе за так, грю, чисто из уважения, от всей души отдам…
Униканов поморщился. Оно, конечно, Паштет — дрищ городской, и слушок про него ползет, что пидоватенький, но так-то пацан вроде невредный… И альбомчик — да, вот вышел ведь зашибительский! А с другой стороны — с хера ли? Может, и настучал…
Униканов вдруг вспомнил все свои неудачи с бабами. Их было много, неудач. Может, не меньше, чем нормальных баб, которые, козы, летят на его на рост да на косую сажень в плечах, а как дело до дела доходит — съэбывают или всяко его тормозят, динамят. Одна даже дураком в глаза назвала — это его, Униканова!..
— И чё я делать-то должен? — Униканов мрачно вздохнул.
— А жопу ему намылить, че ж ещё? Порвать очко на британский флаг.
— Ты че?! Он же пацан…
— У пацана жопа — чтобы срать, а не эбаться. Вот, ты ему это и объяснишь. Попу-лярно.
— Так точняк Паштет пидр, что ли?! Не гонишь?
— А ты сам вот прикинь… Не заметил разве, он на тя косяка давит? Весь взвод, мля, над вами двумя уссывается…
— Чего?!
— Ага! Как девка на тебя зыркает! Да хочет тебя Паштета-Полетта наша, только сказать стесняется. А по ночам небось и дрочит на тебя, в мечтах своих распропидарских.
Униканов набрал воздуха полную грудь и не сразу выдохнул. От такого стрёмного разговора сделалось ему и стыдно и почему-то сладко одновременно, «волнительно». Кровь ударила в голову, шея вспотела. Он провел по ней под воротником предательски дрогнувшей лапищей.
Краснов вздохнул:
— Ты, помнишь, рассказывал, как бабе в попец присунул? Разъемы в спешке спутал, ага. Она от тя сдристнула, бортанула тебя, богатыря злоэбучего — но ведь, лядь, ощущения! Повтори опыт! Че, слабО Паштету распечатать дупло, как следует?.. Ты и то прикинь: какая тя еще в жопу с твоим шиздопробойником впустит, а? Шанс!..
Униканов задумался. От Красновских слов мысли его, и без того путанные, совсем затуманились.
Краснов хлопнул его по плечу:
— Да покатит ему! Не боись! Влюбится в тя еще!
Униканов вздрогнул и выдохнул жарко, всем потрохом, жалобно:
— Мля-адь!..
— То и оно! Мне про него такое Галушкин порассказал… У Пикассихи там уже скважина рабочая пробурена. Не видал еще? А я заметил — он в бане вечно в уголок ныкается, чтоб дыру свою не светить.
— Иди ты!
— Я-то уйду, а ты с чем останешься? Ему сватают и удовольствие и хабар, а он… Эх, зассал ты, Уникашечка, такие классные джинсики! Задаром, да…
— Ой, мля…
— Думайте, короче, военный! На то вам и тыква, чтобы зубы носить. А я, не боись, всегда эти джопсики с наваром пристрою… Вон хоть Мамедову, например.
*
Первое, что после всплывало в Пашкиной памяти о том незабвенном дне, были руки. На разводе Пашка узнал, что его назначают в котельную. И тотчас чьи-то ладони, неширокие, почти не мужские, легли на его задние полушария и нежно, обещающе сжали их… А он ведь, дурак, не поверил еще — верить не захотел! Подошел к Краснову выяснять, за какой косяк его в кочегарку отправили.
— Не понял, военный. Ты присягу давал или только сейчас с-под мамкиной юбки вылез? — напустился на Пашку сержант. — Смирно! Читай текст присяги.
— Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил… — забубнил Пашка.
— Громче, рядовой! Враг не дремлет, не бойся его разбудить.
— Принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, стойко переносить все тягости и лишения воинской службы…
— Во-от, — оборвал Краснов, — с т о й к о переносить все тягости. Усёк? Вольно! Если Родина приказала — кочегарь топку! Грей, сука, товарищей. Заодно и переведем тебя сегодня. Радуйся! Готовиться к наряду шагом марш!
— Есть…
— Не слышу бодрости в голосе!
— Есть, товарищ сержант!
— Пора уже в службу врубаться, военный! А то одна выжипись на уме. Лично приду процесс проконтролировать. Что ты занял положенное тебе место в рядах… Цени заботу, лядь!
— «Вот оно что, — понял Пашка, — лупить по жопе будут. И, конечно, сержант обставит дело со всей, сволочь, тщательностью. То есть, поглумится — да, от души… Ладно, пусть. Все через это прошли. Не съедят ведь…»
Паша живо представил, как распятый ничком Краснов извивается под ударами солдатского ремня. Картинка! А полужопия-то у сержанта накаченные. Как мячики. «Деды» его наверняка от души по этим мячикам отделывали…
Все остальное всплывало резкими, лихими фрагментами.
…Вот он натягивает подменку: ветхий ватник чуть не времен войны, ватные шаровары, в которых двое поместятся. От непривычной неуклюжей одежи чувство, что оковали его. Увидев Пашку таким, Краснов подавил смешок и обвел его взглядом внимательно любящим.
— Партизанен пух-пух! — Краснов «расстрелял» Паштета из двух пальцев.
Нет, Пашка не верил, не верил еще. В главное вот не верил! Ну, отмахает он им этот наряд, чего ж…
Потом путь, серая снежная слякоть. Краснов беспечно насвистывает «На недельку до второго я поеду в Комарово». Униканов деланно как-то, жалко гыгыкает:
— Слышь, поют: «На недельку до второго закопаем Горбачева. Откопаем Брежнева, будем пить по-прежнему»! Задрала ваще ихняя эта борьба с алконавтами! Нормальному мужику и в праздник не фуя тяпнуть…
— Отставить говнить линию партии! — шутливо, но обрывает Краснов.
— Да я че ж?.. Я — как народ.
— Жопа ты, — довольно добродушничает Краснов.
Мамедов хрипло, прерывисто ржет.
В котельной не так, говорят, и хреново, думает Павлик. Чумазо лишь. Покидал уголька — и спи. И душ есть, внеурочная баня. Нормуль!.. Если что, Уникальный поможет, подскажет за альбомчик-то. Он кочегар опытный…
Потом да-да — была вот эта самая. Ну, котельная.
Ещё на подходе она обозначилась утробным гулом вентиляторов и насосов. Будто в этом месте пробивалась к поверхности подземная река, невидимая и мрачная. Внутри звук стал выше, словно густой комариный рой. Даже в пасмурных сумерках зев двери в кочегарку зиял чернотой. Мощные ртутные лампы, если на них смотреть, вышибали слезу из глаз, но прямой их свет тонул в бездне, не отражаясь от стен.
Прежняя смена: тихий, кроткий узбек Фаршит, долговязый вялый Шутко и земляк Мамедова, чуть не двойник — Гамидов. Наглый Гамидов — чистенький: Фаршит и Шутко всю смену ломили.
— Ну че, мужики?! Греться пришли вот к вам. И вы погрейтесь-ка с нами! Спешить некуда, — Краснов подмигивает Мамедову.
Тот что-то, жарко клохча, шипит Гамидову. Земляк, присвистнув, ослепительно лыбится.
— Вижу, вижу: службу знаете, — Краснов отодвинул смотровое окошко, заглянул в топку. От оранжевого света лицо его на миг приобрело выражение нечеловечески энергичное. Глаз блеснул, как у зверя, взявшего след. — Тебе оно как, Уникаша?
— Еще пару тачек чучмек подвалит — и хорош, — оценил Униканов содержимое корыта с углём. Фаршит мычит недовольно в сторону что-то своё.
— Отставить неуставные выражения! — непонятно кому приказывает Краснов. — Рядовой Хайриддинов, выполнять!
— Зачем ругаешься? — Фаршит кинул в тачку шахтерку, толкнулся в двустворчатую дверь к угольной площадке, — Я тебе плохо делал, Уникан?
— Ты по-русски сперва базлать научись, чтобы с «дедушкой» разговаривать, — Униканов помог ему легким пинком под зад.
— Кому вера не позволяет, а нам совесть не велит, — из глубин бушлата Краснов извлек сверкающую поллитру «Экстры».
— О-о! Вот и грев! — оживились бойцы.
— Закусь-то найдется?
— Столовские макарошки с мясом остались. А по такому случаю и сальце домашнее найдется! — радостно объявил услужливый Шутко.
— Эх, всё, что есть в печи — на стол мечи! Давайте мужики, резче, резче…
*
Бойцы по одному протолкнулись в комнату отдыха. Страшненькое, почерневшее от угольной пыли помещеньице вмиг оживилось. Радостные возгласы, хлопоты. На краю длинного стола защелкала на электроплитке сковородка с макаронами. На тумбочке рядом с эбонитовым телефоном вяло грелся чайник, в который Гамидов ссыпал целиком пачку грузинского чая. Шутко резал черный хлеб и сало сиротскими ломтями. Мамедов пытался столовой ложкой раздолбить в банке из-под кофе слипшийся насмерть сахар. Пашке досталась посуда.
Было жарко. Краснов скинул с себя бушлат на топчан, упал рядом, откинулся на стену, закурил.
— Кружек только четыре, — доложил Пашка о содержимом тумбочки. — И стакан.
— Больше-то и не надо. Девушки и дети водку не пьют, — расслаблено заявил сержант.
— В смысле? — весело не врубился Шутко.
— Разберемся, — туманно ответил Краснов. Он отмерил содержимое бутылки граненым стаканом и разлил водку по остальной посуде. — По сто, как в аптеке!
— Так, мужики, — Краснов задавил бычок в консервной банке, служившей пепельницей, — праздник у нас сегодня двойной. Во-первых, дембель приближается неуклонно, как коммунизм. А во-вторых, у Паштета именины. Рядовой Николай Униканов, по праву старшего, млядь, товарища, посвятит рядового Павла Есипова в «слоны». За это и пьем!
Пашка напрягся, хоть и был уже морально готов. Краснов подмигнул ему, смешному, без бушлата и в этих широченных штанах, и опрокинул в себя содержимое стакана.
— Чего застыл, как невеста на выданье? Портки скидавАй!
— Давай, давай! — в рифму оживились Мамедов с Гамидовым.
Пашка плюхнулся задницей на топчан. Скинул сапоги, потом снял х/б. Здесь, на голом залатанном дерматине, кочегары отдыхали обычно, кемарили прямо в чумазом хламье, не разуваясь. Дерматин от грязи был черный и жирненький. Форму Пашка сложил на скамью у стола и замер.
— Че ты возишься? Бельё тоже сымай. И носки, — командовал Краснов, — Не боись, все свои.
Пашка снял толстые вязаные носки, стянул нижнюю рубаху через голову, непроизвольно вильнув бедрами. Теперь он стремался некоторых своих привычных движений. Подогнул одну ногу, скатав штанину кальсон, чтобы не запачкать о загаженный пол. Потом так же и вторую — и остался голым под разгоряченными взглядами притихших солдат.
— Ложись-ка давай! — подтолкнул Пашку в плечо Униканов.
Прикосновение к вот этому теплому и гладкому через ладонь шарахнуло Николаю в голову не хуже водки. Плечо такое округлое, шея тонкая… Тело Униканова помнило и отозвалось напряжением в паху. Дрочил ли Пашка на Униканова, хер проссышь. Но душа Коляхи на Павлика дрочила второй уже день угрюмо, неистово. Если Паштет точно пидар — а Красный божится, что так — то и нефуй стесняться. Пускай отработает и губу его, и что контачил Коляха с ним, с петушарой. Пуска-ай! Колян покажет ему небось — никуда, сука, не денется…
Пашка вжался щекой в липковатый дерматин, обхватил топчан руками, весь вытянулся.
— Якши мальчик, да? — весело толкнул Мамедов Гамидова, указав пустой кружкой на два Пашкиных холмика, которые единственные здесь отражали неоновый свет.
Униканов сложил ремень вдвое, сжал концы и резко дернул до щелчка. Не впервой! И одновременно не похоже на то, что раньше… Беззащитное тело на топчане было совсем чужим здесь, сказочным подарком вольной житухи среди казенного скудного быта. Как оно оказалось тут?.. Трогательно торчат Пашкины лопатки, талия явная, не мужская, булки полужопий упитанные, полновесные, без выемок сбоку. Шея длинная, ноги стройные, гладенькие. Ногти на руках и ногах аккуратно подстрижены. А ещё и две крошечные ямочки с двух сторон от копчика. Там, где аккуратная ложбинка позвоночника срывается в тёмную глубину. Кривая линия, по которой Униканов ездил сейчас взглядом туда-сюда — во внезапном тревожном сомнении.
И Шутко, и Мамедов с Гамидовым, наклоняясь вперед через стол, задышали неровно; Шутко громко глотал слюну. Краснов исподлобья глядел, как Униканов приноравливается. И если бы кто заглянул сейчас сержанту в глаза — тут же и сгинул бы в их бездонности. Пашка почувствовал взгляды парней, как и когда-то в другой, гражданской жизни. Будто лебединое перышко скользит вдоль спины вниз, не касаясь, а лишь тревожа движением воздуха.
Дверь распахнулась, натянула пружину басовой струной, и вместе с гулом кочегарки на пороге комнаты явился Фаршит.
— Тебе чего, военный? — недоуменно оглядел его Краснов.
— Приказание выполнена… — робко промямлил узбек, скосив глаза на вытянувшегося на топчане Пашку.
— Выполнено… Какого фуя?! Ты не видишь: дедушки отдыхают? Потеряйся, утырок!
Фаршит неловко выскользнул в дверь, и та, на тугой пружине, гневно бухнула в косяк.
— Считай пробоины, Паштет, — успел услышать Фаршит голос Краснова и в сочувствии покачал головой, вспоминая, как его самого тут же три недели назад переводили земляки.
— Раз! — вскрикнул Пашка под первой вколоченной пряжкой.
Униканов не спешил, равномерно распределяя удары по половинкам. Ремень со свистом резал воздух, и солдатская выгнутая бляха гулко впечатывалась в содрогающуюся мякоть.
Уже на втором ударе Пашка невольно стал подтягивать бедра и выгибать спину.
— Давай, Униканов! Бей! Мужчина вообще, Униканов! Джигит! Давай! Опа! — галдели дагестанцы, а с ними и скромник Шутко втянулся, словно это футбол на стадионе, где каждый удар по мячу взрывается буйными воплями трибун. Некрасивое лицо его сияло веселеньким, злым азартом.
Краснов смотрел вовсю, как Пашка подпрыгивает на топчане, как сотрясается его плоть, и гладкая кожа на заднице меняет нежный цвет на грубый, багрово-малиновый.
— Т-три-и!.. — в срывающемся крике Пашка оторвался от топчана на вытянутых руках. Но Краснов подскочил и вернул его обратно, придавив плечи коленями.
— Мочи, Колян, мочи его! Ай, к-крас-сава! — надрывались «болельщики».
— Чет-тыре! — проорал Пашка, скользя зубами по грязному топчану. Навали
вшийся сверху сержант не давал вздохнуть. И на следующем ударе Пашке не хватило этого воздуху. Крик получился жалостный, плаксивый, словно женское придушенное рыдание. — П-пя-ать, ы-ы…
Униканов прицелился и нарочно промахнулся на последнем ударе. Свистящий упругий воздух обдал Пашкины ягодицы, подарив на миг предательское облегчение. Краснов слез с него и Пашка машинально начал приподниматься.
— Куда? Назад! — Краснов схватил его за шею, ткнул носом в замызганный дерматин. — Лежать, с-сучка! Руки убрал!
Пашка перестал ёрзать и замер, в покорном ожидании последнего удара. Он зажмурил глаза, утонув в обманчивой багряной полутьме с искрящимися вспышками. В висках стучало: последний, последний, последний…
— Н-на! — рубанул воздух на выдохе Униканов. И Пашка заранее заорал под дружный хохот парней. Но Униканов опять обманул его, не дав пряжке долететь до судорожно сжавшейся плоти.
— Н-на! — ещё раз повторил Униканов свой фокус.
Пашка просто уже скулил непрерывно, извиваясь на топчане, поднимая и опуская бедра и болтая ногами в воздухе.
Внезапно, безо всякого предупреждения пряжка вонзилась в его задницу. Боль обожгла разрывной гранатой.
— Ше-есть… — проскрипел Пашка сквозь сжатые зубы. И тут же пришло облегчение. Пусть жопа и горит, как топка у котла, но это всё. Всё!
Всё уже кончилось…
Краснов отпустил его, но Пашка продолжал лежать, елозя щекой в лужице собственных соплей, слез и тягучей липкой слюны. Было унизительно и оставаться так, и страшновато — подняться перед озверевшими самцами. Тело не слушалось.
— О, гляди, — ткнул Мамедов пальцем в багровое пятно на Пашкиной жопе. — Видишь?
— Где? — не понял Гамидов. — Нэ вижу!
— Вот сэрп, молот, а вот пять лучей от звэзды!
— А, точно! Вижу теперь, — обрадовано кивнул Гамидов.
— Млядь, чем несет? Рыбу что ль чистили… — прохрипел Униканов.
— У них тоже, как у бабья, но только в жопе смазка, — Краснов двумя руками обхватил Пашкины половинки и грубо раздвинул их в стороны, чтобы всем стало видно полураскрытую щель очка, истекающего соком. Жар ударил Пашке в голову, он с ужасом понял: он же ну да — п о т ё к!..
— Смотри, Коляха, смотри! Что я тебе говорил…
— Что-то вот не врубаюсь я, — оживился Шутко, — какое бабьё?
— А ты у Паштеты нашей спроси. — Краснов сел на спину Пашки и игриво шлепнул его по заднице, — Паштета-Полетта. Ну, что, Полетта, соскучилась по фуям? Хочешь настоящего солдатского фуйца? Хочешь ведь, млядина двусветная…
— Пидарас он, сука, — сглотнул Униканов вдруг скопившуюся во рту слюну.
— Ага, точняк! Че притихла, Полетта? Ты ж до армейки по сортирам шарахалась, очко подставляла желающим! Короче, мужики, Ивана Галушкина помните? В прошлом июне дембельнулся казак. А он ведь его земеля. Как-то подвалил тут по старой памяти, типа проездом был. Ну, перетерли с ним. Я ему между всем про нашу Пикассу расписал, с гордостью за талант. А он мне — что Пикасса точняк простипома распидарская. Он на одной улице живет с этим вот дырованием. Как-то зашел в сортир, а там его двойной тягой наяривают с района какие-то. Пацы гоняли эту суку так, что он на другой конец города к тетке своей уэбал на целый год. Прятался! Перевелась в другую, млядь, школу Полетта наша. Полетта-Бабетта! Ну че, Бабетта, пришла на войну?
Краснов встал над Пашкой, и тот нервно сжался в комок, сунувшись пятерней себе в промежность. Испуганно глядя на обступивших его парней, Пашка молчал: слова улетучились. Это ведь правда. Грубо, пОшло, грязно преобразованная Красновым, но ведь ПРАВДА же!..
— Че скажешь, нет? У, губищи-то нажрала! Как у Брижитки, у вафли, да…
*
Пашка молчит. И все молчат тяжело, словно набухает в них что-то. Может, гнев. Может, ярость. Может, похоть. Может, и ярость похоти… Пашка чувствует, что летит под откос — до спазма под ложечкой чувствует. И с изумлением за себя замечает: он и сам ждет дальнейшего!..
Краснов поворачивается к Шутко. Шестерке своей с навек, кажется, удивленной нескладной ряхой:
— Шуток, покажи ноги этой биксе, как тебе, реальному мужику, служится — и как эта шалава в армейке шалит, прохлаждается!
Шутко готовно тянет с себя сапог. Лента пятнистой портянки больничным бинтом падает на угольный пол.
— На! — Шутко ставит ногу на топчан под нос Пашке. — На, смотри! Гля, рубцы! У меня все ноги в язвах таких. Заживо здесь гнию! А ты в носочках, мля, рассекаешь, ага?..
Пашка, морщась от запаха, пытается отстраниться, но Краснов, схватив Пашку сзади за шею, вдавливает его головой в топчан.
— Нюхай, нюхай, как мужиком реальным разит! Тебе ж в кайф, ага? Ниче, скоро в колготках будет у нас ходить, сволота педикюрная!.. Шуток, убирай свое химическое оружие…
У Пашки слова пузырятся в голове. Пузыри вспыхивают — и ни одно не может из него сейчас толком вылететь. Он ловит себя на том, что видит всё со стороны и даже с жадностью наблюдает — ну, как-то приметливо.
Кивнув как бы себе, Краснов на Униканова переводит взгляд:
— И ведь всех нас законтачило петушило это пробитое! А оно же ж ещё и стучит втихаря! Уникаша трое суток с Глущенкой и Петросяном из-за этой вот падлы на губе чалился!
— Неправда! — сипло выкрикнул Пашка. — Ты сам…
— Что «неправда», шалашовка сортирная?! Не трубил, что ли, из-за тебя Уникашка с парнями на губе трое суток, а ты за портрет замполитский и срач свой словесный в городе жопкой вертел, ммудя проветривал? Сука манерная! Ты пацам и поэбон ведь тогда сорвал, реальный! Да, Уникан?
Униканов тяжко сопит, даже мучительно. Он все для себя решил. Трещат, пуговицы, летит на лавку куртка х/б. Из прорехи штанов Коля бережно, не без гордости, извлекает сопревший в жаркой тесноте свой знаменитый хуило.
— Соси давай, не выэбывайся, — басит сурово, сдержанно Униканов. И вдруг, схватив Пашку за шкирку, тычет его лицом в свою выпрыгнувшую из шкурки, спелой сливой налившуюся залупу.
Уникановский фуй, почуяв свободу, восстал, изогнулся кривою саблей — хоть дрова им руби, хоть гвозди им заколачивай. Мокрая елда ткнулась Пашке в губы, он увернулся. Фуй скользнул влажным следом по щеке, и Пашка утонул носом в густых джунглях Уникановского паха. Фуило мечется по Пашкиному лицу, как ищущая большая дворняга, горячий, настырный. Запястья у Пашки тоньше, чем эта зверюга.
— Что, млядища, по сортирам вафляться в охотку было, а отсосать нормальным мужикам впадлу тебе? — завёлся Униканов. Пашкины манёвры ещё больше распалили его. — Ты ж мне по жизни должен, сучка пробитая, форшмак эбаный! Отрабатывай!
— На бутылку! На бутылку пидара! — сипло, будто из брюха, вскрикнул Шутко.
— Погоди, — остановил Краснов разбушевавшуюся стихию. Сержант сидел на лавке перед топчаном и лениво поигрывал ножичком, которым вот сейчас, еще несколько минут назад аккуратный Шутко мирно резал хлеб.
— Не врубаешься, сучка? Мы же сейчас кончим тебя здесь и в топку засунем. Ничего от тебя не останется. Ну, с недельку будут дезертира искать… Сдристнул, тягот службы не выдержав… — Краснов говорил тихо, по-деловому. Словно заранее составленный документ зачитывал. — А так, станешь удовлетворять нас как женщина. Дело для тебя родное, знакомое. И главное, падла, живым останешься! И даже целым. Почти…
Пашка рванулся из лапищи Униканова, спиной в стену вжался:
— Сс… Сам ты сука!
— Чего-о?..
— Давай! Режь, жги! Не буду я у вас сосать, сами у себя сосите, сволочи!
— Так значит? Да?.. — Краснов встал и с силой вогнал нож в столешницу. Ножик в автопарке делали. Из рессоры. — Давай бутылку, Шуток!..
Мамедов с Гамидовым наваливаются на Пашку, обхватывают. Из объятий вылетают острые, угловатые словно камни удары: поддых, в сердце, в живот. Он кричит, выгибается — удар в солнечное сплетение впечатывает его во тьму…
…Дагестанцы поставили обмякшее тело раком на топчане. Держали, чтобы не заваливался. Пашка елозил ногами еще, но уже не брыкался. Вдруг замер, когда горлышко бутылки грубо ткнулось ему в очко.
— Дай-кося я, — забрал Униканов у Шутко бутылку.
Николай смотрел сейчас на ладную раскрывшуюся попку и прикидывал: ну да, пожалуй, всякая девчонка такой заднице позавидует. Если б Паштет ещё своей ладонью яйца прикрывал, чтобы картину не портить…
Когда ж у него на Пашку встало-то в первый раз?.. Тогда, в темноте ночной казармы, после слов Красного, что Пашка петух? Или только сейчас над изгибавшимся телом Коляхин фуй улетел в пупок и остался там, разливая липкую, томительную слезу?..
Униканов ввел горлышко бутылки по плечики, надавил. Паштет замычал что-то неразборчивое. Николай стал Пашкину жопу короткими быстрыми тычками поэбывать. Внезапно дырка поддалась, расширилась. Паштет ойкнул, взвизгнул, задницей крутанул.
Николаю странно такое сделалось: как это — толстая бутылка в очке! Любопытно ведь…
Он выдернул бутылку. Дыра у Пашки осталась раскрытой. Мокрая вся, словно шиздища с побагровевшими половыми губами, кольцом набухшего жома по краю оторочена. По промежности ниже очка капля крови сорвалась и на внутренней стороне бедра оставила бдедно-розовую дорожку, смешавшись с потом и смазкой. Коля посмотрел на бутылку — горлышко от смазки блестит, и только.
Простодушный такой богатырь. Тренируется…
— Ну, теперь, Уникан, самое сладкое?
Униканов раздвигает коленями Пашкины ноги. Одной рукой в поясницу ему давит, а другой направляет. Как и горлышком бутылки, несколько раз толкнулся настойчиво в очко. Поддалось легко. Пашка завыл. Выл он непрерывно, пока Николай свой фуй в него рывками проталкивал. Мамедов, а, может, Гамидов, попытался Пашке рот зажимать.
— Не! — урчит Униканов, — Кайф, когда баба от фуя, сучка, визжит…
Униканов дерет Пашку сначала на коленях, поддерживая рукой снизу. Сперва вопросительно, потом жестко по нарастающей. Входит в ритм, наваливается всем телом, вжимая трепещущее тело добычи в топчан. Он не замечает: Пашка проссался и хлюпает животом в луже своей мочи.
— Да, мля, горячо! Как в топке прям… Ой, мля! Ой, мля! Ой, хорошооооо-то кааак!.. Уух… Ууууу!.. — Пашкина жопа обхватывает фуй Униканова по всей длине шелковым нежным объятием и словно утягивает его в себя. — Круче! Круче чем… у бабы… в шизде!..
— То и оно! — поддерживает Краснов. — В шизде — не в жопе. В шизде ж, как в кирзовом голенище: шершаво и холодно… Наддай, Уникаш, а то болт стоять заэбётся.
— Ах-ха…На, мля! На, мля! На, мля!..
Теперь они одно неуклюжее, сложно слитое существо. Словно гигантская черепаха, изнемогая под тяжестью панциря, лезет на берег, но сила океанской волны всякий раз утягивает ее назад.
Пашка хрипит. Уникахин плуг весь в его заднице, чуть не в кишках. Теперь крестьянин в сто пятом поколении Николай Униканов всей душой чует зов жирной, ползучей под плугом, живой и родимой почвы. Ее нужно мотыжить и боронить, и — сеять, и — сеять, и — сеять… Раззумное! Дддоброе!.. Ввечноеееее!..
Пашкина простата сжимается под мучительно долбящим напором, и Униканов словно вниз летит, кувыркаясь в спазме захватившего дух восторга:
— Кла-асс, мля!.. Ооох… Ууффф… И говнища только на кончике!..
— Ты куда, Униканушка? Пусть сама тебя вымоет. Эбач у нее на что? Напакостила — исправь! На то он и женщина!..
— Эбач — для эбли, — вдруг роняет Шутко застенчиво.
— Мудро, хоть неожиданно!.. — смеется Краснов.
Гамидов с Мамедовым толкаются у Пашкиной задницы, выясняя, кто из них следующий. Пашке все равно, ведь каждый т а м взмах — как ожог кнута…
…По лицу возят чьим-то говняным хером, по сжатым назло всему миру губам. Но нет, не назло: теперь все едино ему — просто не хочется как-то еще здесь двигаться. Словно сон… Лето, каникулы… Медленно ползут над ним серо-белые облака…
Жопа горит. Пусть сгорит: лучше не двигаться.
Его дергают за волосы на лобке, за яйца, лупасят по щекам, словно заботливо желая в чувство вернуть. Их холодные, острые, проворные пальцы и каблуки. Иногда ему кажется: над ним колдуют врачи. Только эти врачи теперь чумазые и уже не веселые — озабоченные.
Где-то плывут гордые облака?..
— Будет, будет, сука, говнище жрать!
— Больно ты изысканный, Уникал!
— Да мля!..
Униканов дорвался до чего-то такого в себе, что и Краснову, может, уже тошнёхонько.
…Кто-то там рядом вскрикивал. Рядом — да — кого-то прижигали вроде бы сигаретами, всё в одном месте: типа, сам обжегся, ведь са-а-ам же, са-ам… Он вдруг словно о спичку споткнулся: вспомнил, как однажды, лет в пять, потерялся в чужом городе возле моря. Вообразил: мама никогда не найдет его. Он зарыдал горько-горько, безудержно — съезжая губами на сторону. В него пихали настойчиво что-то горькое — конфету?.. — чтобы утешить. Но все они были чужие вокруг: они не умели, не смогли бы ему помочь, никогда…
Никто на этом свете ему уже не поможет… Никто!
И на какие-то вопросы со стороны, будто шли они с неба — машинально, невнятно он повторял:
— Буду… сосать… глотать… жрать… хочу… хочу… эби меня… в жопу… прошу…
Наконец, улетел в черноту. Людей больше там не было.
*
Очнулся он в лазарете. Во всяком случае, четко помнил именно это — про лазарет. В широкое окно светил бессонным зеленоватым светом фонарь. Казалось, свет был когда-то пушистым, со множеством лепестков, но вот его ободрали до тупой, бессмысленной сердцевины, до кукиша, и кинули в ночь. Палата была просторная, совершенно пустая. Нет: он в ней был. Он был в ней один.
Открыв глаза, подумал сперва: в казарме. Но верхнего яруса коек не было. По свободному потолку шарили тени веток. Значит, ветер, подумал он. Наволочка под ним захрустела, как наст. И одеяло такое до невозможности белое, аж скользкое от своей чистоты. Нет, это ж пододеяльник! Только пододеяльник!.. Одеяло внутри там казенное, синее, тощее, как в казарме. И все здесь, как в казарме. И будет хуже еще…
Дверь в коридор отворилась. Явился Ливанов, фельдшер. Вадька Ливанов был верткий, веселенький срочник. У него с Пашкой теплые были всегда отношения.
— Ну, живые мы? — он ловко выдернул из-под мышки Пашули градусник
В глаза ударил свет лампы. Пашка зажмурился.
— Ну, чего, боец? Температура — почти о’кэй. И все будет заэбись — это я тебе как врач говорю! Да и все когда-нибудь кончится.
— Там… чешется.
— Ясно, чешется, раз живой! Заживает, значицця. Я там два шовчика наложил. Жопа крепче станет, радуйся! Будешь ей орехи колоть… Да фигня все это! Всё фигня в этом мире — ты это понял теперь?
— Что со мной?
— Шок с тобой был. Глы-бокий. Нерь-вы-с. Шок с тобой — хер со мной…
— Шок?..
— Ох, тяжко с вами, с ммудаками! — Вадька сел на койку напротив. — Слышь, Паш, я те честно скажу: не вздрючивай ты себя! Не бери в голову, бери на полметра ниже. И не возникай — мой те совет. Так статью они, суки, тебе пришьют, а так… Ну, дослужишь уж как-нибудь.
— Меня?.. Под суд?!..
— Ну, ты сам прикинь! Если будешь возникать, заведут, конечно, дело. И выяснят, в общем… Сам знаешь, что выяснят. Краснов тут уже всем пылит, шакал… Что ты типа не в ту дырку любишь смотреть. И выйдет, что это ты их совратил, бедненьких. Ну, и?..
— Ни фуя себе!.. — выдохнул Паша.
— Вот: уже материшься! Значит, на поправку пошел. Пойми, Павлик, никто не станет из-за тебя сажать трех отличных бойцов и потом сам еще звезд лишаться. А так все всё уже поняли. Перекантуешься здесь у меня малька, отдохнешь, подкормишься — а после определим тя как-нить, чтоб без Краснова. Да он и свалит в апреле уже. А до того он к тебе близко не подойдет! Прыскать станет в кусты при одном твоем только голосе!
Ливаныч помолчал.
— Ты пойми, Пашуль, это не мои слова. То есть, и мои тоже, но далеко не в первую очередь… Короче, усек? Ты обещаешь — и тебе гарантируют…
Ошеломленный, Паша молчал.
Ему почему-то снова вдруг захотелось плакать.
Вадька глянул внимательно на него:
— Есть еще один ход: в психушку тебя отправить. Полежишь этак месяца полтора, понасмотришься — комиссуют потом. Гуляй! Только то притри к носу, что дадут тебе волчий, по сути, билет. Туда нельзя, сюда нельзя, везде те жопа. Оно тебе надо? На заре-то жизни, Пашуль?! Пошли ты все на фуй! Поверь — лучший выход всегда…
Вадька смотрел на Пашулю с нескрываемым сочувствием. У Пашки глаза зачесались от этого, и он не заметил, что губы Ливанова шевельнулись без звука, скорбно. «Сломали», — прочел бы он.
Вадим положил руку Пашке на грудь:
— Паш, поверь, лучше всего, если ты сейчас снова поспишь. Просто — тупо уснешь. Выспишься.
И добавил себе под нос:
— Сволочи…
Пашке сделали укол, сунули демидрол. Он снова ушел во тьму, такую блаженно пустынную.
*
Первые дни в лазарете он почти беспробудно спал. Будили его только пожрать, еду приносил лично Ливаныч.
— Слышал? Каспаров чемпион мира! В двадцать два года!.. — Вадька тарахтел про новости, про политику, искренне увлеченный, однако ж за больным наблюдал пристально. Пашка чувствовал это. Он был и благодарен Вадику за его сочувствие и особенно за уколы — но хотел, чтобы поскорее тот свалил со своими Горбачевым и Рейганом, с этим нарочито простецким, свойским тоном, за которым скрывался умный, приметливый соглядатай.
Потом уколы изменились, наверно. Пашка больше не спал, как сурок. Ливаныч принес ему «На Западном фронте без перемен» и «Три товарища». Постепенно Пашка увлекся. Там был другой мир. Круто приходилось и героям Ремарка, но отношения между ними были человечные, какие-то настоящие. Таких в жизни реальной, может, и не бывает почти.
Он сказал об этом Ливанову.
— Подожди, Павлик! Настоящие или реальные? Если в реале таких нет, значит, они ненастоящие, выдуманные. Думаешь, аффтыр их из пальца высосал? Но они ведь тебя увлекли, убедили, ага?
Пашка пожал плечами — впрочем, вполне утвердительно.
— Значит, такие есть! — заключил Вадим. — Ну, может, пока тебе и не встретились. Дык какие твои годы, военный?..
Пашка кивнул со вздохом: лишь бы отделаться.
Похожие отношения у него имелись как раз, только давно, и людей этих рядом с ним не было уже несколько лет. Может, потому и не было больше их, что стал он бесповоротно взрослым?
Прошлое кусками лезло в память. Порой сомневался: а его ли оно теперь?..
В детстве у Пашки тоже была СА — советская армия. Только совсем другая. Бойцы в этой армии служили большие и добрые. Попросту говоря, отец пускал сына мыться в солдатскую баню. Гулкое, тесное помещение, звуки здесь слипались в какой-то неровный рев. Отдельные вскрики выпрастывались из общего гула, как руки пловцов из волн. Солдатня ухала, прыгала, озоруя и хулиганничая. И Пашкина душа подпрыгивала вослед их причиндалам, то увесистым, то кокетливо прятавшимся в капюшончиках крайней плоти.
Пашка и сам не промах: его Буратинка торчал так, что он вешал на него мочалку. И свободными руками лупасил, хлестал изо всей силы по гладким, шершавым, костлявым и пухлым мужским жопеням. Вот «старое» солдатское тело в полукомбезе черного кучерявого волоса — до спины сзади и до шеи спереди — прижало щетинку усов к ноздрям, изрыгнув одобрительно:
— МужЭЭЭк!
И щедро, пузырчато умыло Пашку пенистой лапой.
Память о солдатской бане была необычайно жива… Это видение всегда бодрило, как доброе обещание, как убежище. Но сейчас ему тяжко стало вспоминать про это. Все такое, вояцкое, казалось теперь обманом и зловещим предвестием.
*
Тут как тут в памяти всплыл и лучший друг детства — солдат Егоров. Он по хозяйству всяко там приходил: резал грохотавшие обои, душисто красил и шпаклевал, — дембельский аккорд отбывал в новой квартире товарища майора. Добродушный, спокойный, рукастый — все умеющий как бы домашний бог. Они задружились: Егоров вдохновенно рассказывал Пашке про всякие механизмы, словно это были сюжеты приключенческих книг. Пашка млел и не хотел думать (и вспоминал с горечью), что через месяц Егоров уйдет на дембель, исчезнет из его жизни, скорей всего, навсегда. Это был его первый «роман» — такой, посерьезке, когда дыхание замирает при звуке его голоса и ладони потеют предательски, когда все это большое тело — вот оно, рядом, а прикоснуться не смей; страшно бывает ведь и глаза поднять…
Между прочим, тогда Пашка задал Егорову принципиально важный для подростка вопрос: пидарас — это должность или звание? Вопрос был не праздный, он рос из жизни: просто Пашка услышал, как младший сержант Чибичян назвал рядового Корнилова пидарасом. Что он имел в виду? Егоров хмыкнул лукаво и озадаченно:
— Ну это… который нехороший совсем человек. Сношается через задницу, не по-людски…
Пашка живо представил себе, как русого молоденького Корнилова, только что попавшего на губу, трахают в задницу. Например, трахает его тот же богатырь Егоров. Пашка Корнилову жарко так позавидовал!.. Ему хотелось бы, мечталось бы каждую минутку быть возле Егорова…
Однажды Пашка подглядел Егорова в летнем душе. Пришлось ползти и карабкаться, чтоб увидеть… Солнце пролезло в закуток — крыши там не было — и весь Егоров, его узкий торс, широченная грудь, мускулистые плечи и мраморно-темный кудлатый от мыльной пены пах словно вспыхнули веселым телесным пламенем, навсегда отлившись в Пашкиной памяти. Кулак Егорова ходил, точно поршень. Пашка понял: человек — самый могучий механизм, который создала природа… Есть, есть для чего жить! Смысл жизни — вот же он, между ног и всегда, всегда под рукой…
Почти наступила зима, а с ней и минута прощания. В тот день Пашка проведал, что Егоров сегодня на дембель идет, и вызвал «голосом отца» машину из гаража.
Когда в арке показалась армейская «шишига» Пашка выскочил из дома в одной куртке, без шапки. Запрыгнул в тёплую кабину. Егоров выключил мотор. Он, мотор, теплый, живой под кожухом между ними. Пашка хотел кинуться к своему Егорову, но уже понимал — нельзя, ну никак н е л ь з я.
— А я на дембель иду: всё, кончилась служба! — нарочито радостно сообщил Егоров.
— Когда? — потерянно задал Пашка бессмысленный вопрос.
— Сегодня. В ночь колонна идет в Ростов. Документы я уже забрал. Доеду на старушке (это он про «шишигу»), представляешь, как удобно? Почти до дома! В комендатуре отмечусь, машину сдам и — свободен…
— Ладно, — сказал Пашка, — спасибо, что заехал. Ну, прощай тогда. Да? — и дернул за ручку двери.
— Погоди! — успел Егоров. — Чуть не забыл…
Он достал ножик, выкидной, с рукояткой в виде женской ножки в зеленом чулке. Полированное оргстекло, крашенное в массе. Туфелька на ножке белая, перламутровая. Кнопочка металлическая, капелькой блестящей такой. Положил на кожух мотора.
— Это тебе, на память. Только не поранься: пружина очень мощная.
Павлик взял ножик, посмотрел. Осторожно погладил кнопку. Зажал ручку ладонью, большим пальцем на кнопочку надавил. Лезвие выскочило с такой силой, что ножик чуть не выпрыгнул из ладони.
— Ого! А обратно как?
Егоров взял нож и закрыл его двумя руками.
— Держи!
— Спасибо.
— Ну, всё! Бывай? — протянул он ладонь.
— Бывай, — пожал Паша её.
Он открыл дверь, спрыгнул на накатанный снег. «Шишига» взревела, скрипнула шестеренками коробки передач и басовито тронулась, увозя Егорова от Павлика — теперь навсегда.
Когда машина скрылась в арке, Павлик упал на колени в сугроб и заорал от отчаяния, задрав голову в серое тусклое небо. Мамаша, гулявшая с коляской рядом, тут же бросилась к нему.
— Мальчик! Что с тобой? Ты ударился? — наверное, она видела, как Пашка выпрыгивал из кабины.
А у него слез никаких не было, глаза сухие. Он просто орал, вытаращив глаза.
Отдышался:
— Ага, ударился. Но уже прошло…
— Ну, что же ты?! Надо быть мужчиной! Ты же уже большой, скоро в армию…
— Сама ты… пошла в армию! — выкрикнул он и сжал изо всей силы нож. И потрясся: левая ладонь пустая, а в правой — вдруг ножик раскрытый. Дама шарахнулась, завизжала пронзительно:
— Хулиган! Я сейчас милицию позову!
Подгребли люди. Пашка зажал ножик в руке и побежал от них всех…
А вопрос Егорову про пидараса притворный был, чисто теоретический. Знал Пашка и это слово, и что оно означает. На практике уже знал. То есть как? Во-первых, пацы сказали ему, что вон в том доме гомосек живет. Во-вторых, жил в том доме друг его лучший Генка, жил во всех смыслах со своим отчимом. Про такое Генка Пашке по секрету сказал. Но отчиму Генка был как закуска — не более. За их домом начинался лабиринт гаражей: дикое место! Там, говорят, такое творилось… Там кипела — кишела — жизнь, жирно смазанная продажным сексом, свободным от семейных и милицейских уз.
Как-то после летних каникул, после моря и санатория в Евпатории Пашка первым делом махнул к Генке. И увидел обугленную дверь с казенными сургучами. И Генка, и отчим его бесследно исчезли. Соседи сказали: отчима забрала милиция, а Генку сдали в детский дом. При слове «сдали» Пашке представилось, будто веселого его, беззаботного Генку из огромного ковша скинули в общую кучу малу голов, рук и ног, куда-то на свалку…
*
…Хоть и старался Ливаныч быть свойским парнем, он оставался, прежде всего, врачом, который на Пашку смотрел, как на пациента — этим, может, сознательно отделяя себя от него.
— Прекрасно! — рапортовал Ливанов из-под Пашкиной задницы.
Но наконец раскололся:
— Знаешь, Павлик, до экспертизы тебе и впрямь лучше не доводить. Понял меня?
Пашка хихикнул — невольно.
Меж ними установились шутливо-фривольные отношения. Пашка (иной раз, казалось обоим, всерьез) провоцировал Вадика.
Он понимал: Вадим все (или почти все) докладывает наверх, такова его участь здесь. Но ему, Пашке, сочувствует от души.
Свое прошлое и настоящее Паша — при всем старании — собрать воедино не мог, не получалось пока. Может, лекарства тормозили его, а может, душа набиралась сил для нового испытания.
Тогда-то и примерещился ему этот самый Витек. В первый раз — силуэтом на широком окне. Среди ночи открыл Пашка глаза — сидит кто-то в углу подоконника, ногу в палату свесил в тяжелом, кажется, сапоге. Что-то на нем мешковатое, вроде черное. Не видно лица, ни глаз. Вроде подросточек-хлипачек.
— Ты кто? — Пашка спросил.
— Я — ты, — ти-ихо ответил тот.
— Не ври! Тебе лет-то сколько?
Парень на подоконнике, пробурчал что-то.
— И вообще, ты бичара какой-то, а? — жестко, чтобы навь отогнать, заключил Паша.
Витька громко шмыгнул носом — и подчеркнуто грубо, шутовски утер нос кулаком. Буркнул что-то про Промывайлова. Это был прапор при складе, пузатый, мордатый, красный, будто сварили его, белесые глазки бегают — штамп и классика! Пашка ловил взгляд этих глазок на себе, когда однажды отрядили его с другими сгружать шинели и валенки. Пашка понял: с в о й. Стало на миг тревожно — но и смешно. Тартила, блин…
— Дядька мой! — вдруг громко и ломким баском изрек тот, на подоконннике.
— Трахаетесь? — догадался Пашка.
Но призрак исчез. В пустом окне цвел блекло-зеленоватым светом фонарь.
Пашка полежал, глядя в подвижную муть потолка. Подумал: тот, на окне, пригрезился.
И, успокоившись, лег на дно черного, без видений, сна.
*
Навестил как-то Пашку непосредственный командир — лейтенант Ерохин. Он был похож на дворового хулиганистого мальчишку: синеглазый, с белесой коротко стриженой, как бы квадратной упрямой башкой. С Пашкой теперь, после э т о г о, он смущался, как девушка. Краснел, не знал, о чем говорить и свалил на обсуждение новых недавно полученных тягачей. Вздохнул с облегчением, уходя: отбыл порученный номер.
Пашка понял: визит сюда вменили отцу-командиру в качестве наказания. Но Ерохин ничего не решал — да и виноват-то он, по сути, ни в чем перед Пашкой не был.
Когда Ерохин ушел, Пашке подумалось: а классный, в общем, пацан этот Ерохин! Интим представил с ним сперва неотчетливо; после, разгорячившись, в сизых и перламутровых жемчужно-блескучих подробностях. Удивился себе: восстановился!.. Ого!..
Не сказать, что Пашка монахом жил, как только стал плац топтать. В первом увале город осваивал, во втором — сразу к сортиру в парке двинул. Было лето, жара, все цвело и сладко-сонно, настырно пахло. Сортир оказался капитальным, каменным. Прохлада жила в нем, как эхо вечности — и никого. Городишко маленький, пиплу, видно, не до утех. Хотя… На пустой скамейке напротив входа чернела изящная надпись: французское «либерте» — «свобода». Значит, и здесь н а ш и тусуются.
Может, на вокзале есть кто?.. Но там бомжатиной все, наверно, сильно разбавлено…
Он сделал круг по аллеям и снова зашел в сортир. В дальнем отсеке кто-то шуршал и с уханьем филина, как-то даже и удало, тужился. Дверок в кабинках не имелось.
Он прошелся по помещению в легких — с непривычки уже — ботиночках. «У солдата выходной, пуговицы в ряд. Пидарасы на него с лавочек глядят…»
Подумалось: бог ты мой, как бы у него там, на малой родине, в областном центре, народ на это все налетел! Как бабочки бы, вокруг закружились… Был грех: десятиклассник Павлик и в школьной форме туда ходил — тоже успех обеспечен был ненавистным (так-то) синим, грубой стеклянистой ткани пиджаком с пуговицами из, что ли там, алюминия. «Люблю форму и фирму», — как было над одним толчком честно утверждено.
Но здесь в последнем отсеке сейчас помещался огромный от жира лысый дедище. Нет, не Ромео, он реально здесь просто срал. Пашка хотел язык ему показать — ну, так просто: мальчишка в нем, часто еще, особенно при обломе, промелькивал. Но старец опередил: шорхнул языком по губам себе и потом вздул языком же щеку. Мля — и э т о на что-то надеется?!..
Дед пер на него взглядом сквозь тяжелые, как наручники, толстенные очки. Бесцветные глаза словно плавали в линзах, живые, умные и безумные.
— «Может, поговорить? А фули…» — Пашка здесь никого не знал, а дед явно был ветераном. Че-нить и присоветует Нестор-летописец. Или Пимен?.. Один, впрочем, хрен: древний Мафусаил…
Хрен и облом. А часики тикают!..
Дед закряхтел: видно, хотел обратиться к солдатику первым. Учуял, пират, что тот не так просто тут ладной жопкой красуется.
Пашке остро вдруг захотелось этого «либерте», сексуальной привычной разрядки. Он готов был, на край, и этому чуду из преисподней кинуть на клык его многоопытный… Или хоть жопу полижет, а Пашка вздрочнет, стенку умоет здесь спермаком, обтрухает настенную местную «жопись»..
Вдруг кто-то тронул его за локоть. Пашка вздрогнул. Перед ним стоял мужик где-то уже за тридцатник, востроносый, пеговатый и весь какой-то как бы недорисованный. Нечто было в помятом лице его и во всей фигуре хронически виноватое. Или нерешительное?
Он протянул Павлику сигареты. Кажется, даже «Кемел». Паша обрадовался: может, удастся сегодня на кровати, по-человечески, поэбстись, глотнуть воздуха привычной (когда-то?.. хотя три месяца только прошло, как кончилась…) гражданской сладостной расслабухи.
— Вы с части? Не проездом здесь?
— Лишь бы не пролетом… Да, служу здесь вот отечеству.
— А… — мужик явно хотел задать какой-то еще вопрос и не осмелился.
— «Ну, рожай же, рожай!» — подгонял Пашка мысленно.
Мужик юлил, явно хотел что-то важное для себя спросить, но вместо этого завел обычный за службу, за малую родину осторожный предварительный разговор.
Разговор странным образом замирал.
В Пашке к недоэбку этому досада проснулась. Что ему надо, вообще? Не мычит, не телится. Вот ведь чмо! Павлик ввернул что-то злое, ехидное. Мужик тронул ноздрями воздух и боком скользнул в кусты.
Ммудак недоделанный!..
Настроение у Павлика стало совсем говно. Отъэбошить, что ль, этого деда по роже, по плеши полным хером — обоссать! Приколоться хоть… Так ведь тому ж и в кайф!
Пашка вспомнил, как год назад, еще на гражданке, по просьбе Лагунова Бориськи, Лагуны, местного мазоха и знаменитости, гораздой на всякие чудеса изврата, он и еще шесть парней в подворотне обоссали в семь смычар этого мазоха — Лагунище и ящик пива подогнал для такого ответственного события. Чернявенький худышка Лагуна стоял на коленях в луже, ловил струи языком, отфыркивался. Рожа зажмуренная сияла блаженством. Ветхенькие джины на нем почернели от ссанья, крупные яйца вылезли из прорехи — по ним теперь и лупили струями, не только чтоб в пищевод. Белая, вмиг ставшая желтой футболка залипла в пупок, в ключицы.
А жил Лагуна в пяти остановках от плешака.
— Как ты пойдешь по городу такой весь облизанный? — удивился Пашка.
— Доплыву-у-у! — широко, как ласты, развел руки беззаботный Лагуна. Голос у него был глубокий, красивый альт, совсем не по щуплому тельцу. В подпитии Лагуна классно изображал певицу Людмилу Зыкину. Вот и сейчас, на пике счастья, он запел глубоко и истово, точно многодетная, многомудрая, многотонная матушка:
Из далека долго-о
Течет река Волга-а…
И парни подхватили дружно, переиначив лишь «мне» на «тебе»: «Тебе уж тридцать лет»…
Лагуне как раз в тот день стукнул тридцатник.
Над Лагуной потешались, держали за утырка, как бы отстой. Но Пашка знал: там, в ложбиночке языка, есть особый такой рецептор. Попав на него, струя замыкает электрическую дугу тонкого, острого удовольствия. Да и кто из тех семерых про это уже не знал?..
Пашка приблизился к дедушке аккуратненько. Старец весь закряхтел — дряблый жир противно, мелко затрясся: бессильная мелкая рябь. И, глядя Паше в глаза насмешливо, прожурчал:
— «О вьюноша, со взором горящим, что ищешь ты в краю далёком?»
Черные пронзительные глаза, линзами увеличенные, неожиданно молодые, лукавые, словно вобрали Пашку в себя со всем потрохом…
*
…Нет, что-то случилось с Пашей там, в котельной, фундаментальное. Шифер немножко просыпался. Он ловил на себе аккуратный взгляд Вадика. Отвернувшись к окну, Вадим хмурился. Пашка чувствовал: что-то не так — пусть и деланная, но беззаботность из фельдшера улетучилась.
И тут, как назло, явился к Пашику замполит части майор Кривошеев. Впрочем, уже подполковник. Усталый серый дядька, весь из мослов и хрящей. Кажется, он не рад был ни повышению, ни уж, тем паче, созерцать Пашкину физию.
Павел подняться хотел.
— Лежи, б о л ь н о й, — хмуро и со значением сказал Кривошеев. Тяжко опустился на белую табуретку. Он не снял шинели, фуражки. Командир весь словно состоял из уныния. И взял сразу тон ворчливого дедушки:
— Вот что нам, старикам, с такими, как ты, делать прикажешь, а? Ведь все для вас: пионерлагеря какие вам отгрохали, жрать вполне есть чего… Одеты, обуты, магнитофон, мотик у каждого. Живи — не хочу! Только честным будь членом общества: честно работай, честно учись, честно служи. Партия — слышал? — новый разгон берет, ускорение. А ты?! Даже не хочу в грязь в эту влезать. Только запомни: таких, как ты, народ наш не любит. Очень не любит: ты убедился сам! Мой тебе совет: одумайся, Павел, пока не поздно!
— В каком смысле? — Паша немного растрогался этим полусемейным ворчанием. Но словно в споре, вдруг взбудоражился.
— Во всех! — Кривошеев рубанул ладонью перед собой. — Стань полезным членом общества, прежде всего! И брось эти… г-глупости…
На слове «глупости» Кривошеев с омерзением дернул ртом.
— Какие именно?.. — а Пашку на озорство пробило. Жутко захотелось ему, чтобы этот казенный мерин выдал про… ну про это вот самое. Про главное четко сказал — это слово бы произнес, наконец. Хоть так-то разбить сонный туман скучной его души…
Кривошеев зыркнул на Пашку, и тому стало не по себе:
— Знаешь сам! Под статью захотел? И что тогда тебя т а м ждет — будто не ведаешь? Что здесь у нас ЧП, там у тебя каждый день будет, да еще и похлеще…
— «Говно из параши зубами станешь тянуть!» — хотел процитировать Паша Краснова, но промолчал. Ясно: дядька этот, может, и добра желает ему, но очень по-своему, машинально, как честь отдает. Заэбали солдаты его.
Кривошеев снял фуражку, провел ладонью по седоватым реденьким волосам:
— Так что, хлопчик, берись-ка за ум, пока не поздно. А мы поможем. Лады?
— Лады… Трищ подполковник, а можно вопрос?
— Давай!
— Трищ подполковник… А где он, ум у меня, не подскажете?
— Не понял?.. — Кривошеев замер с фуражкою на отлете. Словно вслушивался, не веря своим ушам.
Пашка вздернул руку к виску и звонко отрапортовал:
— Трищ подполковник! Разрешите поздравить вас с присвоением очередного воинского звания — подполковник!
Кривошеев резко воздвигся, напялил фуру на нос по козырек:
— Дурак ты, военный! И шуточки у тебя… военные…
— Трищ подполковник!.. Трищ подполковник!.. — кричал Паша в длинную и, показалось ему, скорбную серую спину.
Хлопнула дверь.
— «Зря я…» — подумалось. Но доволен был.
Влетел Вадик, алый, как мак:
— Ты чем думаешь, идиот?! Те статья реально, блин, светит — не вчухал еще? Голимая 121 часть 1. Лет восемь, если судья добренький! По ней, коль не вскроешься — выйдешь в чистом поле одуванчики обсирать. Родители от тебя откажутся, работы ты не найдешь, жилья тоже. Дорога те одна и, как кишка, прямая — в петлю!
— Все одно заяву в прокуратуру подам, — равнодушно промямлил Паша. Ему стало вдруг все едино, как тогда, после «перевода» в котельной — Вы ж э т о г о ссыте все? А мне терять, значит, нечего…
Матерясь семиэтажно, Вадик вкатил укол демидрола. Паша привычно рухнул во тьму.
*
Он проснулся не сразу, постепенно вылезая на свет. Всё ему виделись как бы фигуры — точнее, контуры голых плеч, рук и шей — напряженно лепные. И дыхание, прерывистое, словно пузырьки воздуха лопались на губах с легким шипением, почти чпоком, — это тоже там фоном шло. Сон был невнятен и приятен одновременно. Щекотный сон.
Открыв, наконец, глаза, Паша оказался в сером дне. Постепенно сознание нашарило обстановку: три койки напротив. Пустыня казенной стены.
Вечер уже или утро? Он потерялся в темном брюхе времени. Пашка себя уютно почувствовал, точно его пледом укутали, но понял вдруг: он не один. От окна тенью метнулся к нему человек. Вонь сопревших тряпок, грязного пота, кирзы: запах немытого пятничного «душарки».
Витек!..
Витька часто дышал.
— Ты? — спросил Паша и повернул голову к Витьке. — От кого бежал?
Витька хмыкнул:
— Идет!
— Не понял?..
— Он сюда идет, щас!
— Кто-о?!..
Витька махнул длинным не по росту рукавом ватника и скрылся под Пашиной койкой.
Дверь скрипнула — и Пашка глазам своим не поверил. Вот оно, тугое скуластое лицо Краснова.
За спиной сержанта мелькнул тревожно вопросительный Вадька:
— Спит?
Паше жутко хотелось зажмуриться, показать, что он ну да, отъэбитесь: спит. Но он не успел.
— Не-а… — Краснов вошел хозяином.
— Поосторожней! — сурово ввернул Вадим.
— Я без оружия, — Краснов поднял растопыренные пальцы, словно Вадик должен был сейчас натянуть на них резиновые перчатки.
— Короче, я рядом, — то ли Пашу, то ли Краснова предупредил Вадим.
— Не убью, — пообещал Краснов и заботливо задраил дверь, рукой по косяку аж провел.
— Не ждал, военный?
Пашка молчал. Эх бы, лягнуть сейчас эту тварь прямо в тугое рыло!..
Краснов на всякий случай остался у двери.
— Знаю, чего ты хочешь. Лежи смирно, а то порвешься опять… Вся часть на ушах из-за тебя стоит. Следак приехал…
Паша молчал.
— Приехал, — кивнул себе Краснов утвердительно. — Нас к нему, сука, уже таскали. Короче, не стали ребята за тебя ни колоться, ни вписываться, на парашу садиться. Ты один: запомни! Ты всегда будешь т о л ь к о о д и н т а к о й, выродок! А если че, у меня письма есть от Ерохина, как ты в колхозе, на картошке, топырился. Как тебя чпокали всей бригадой там в обе дыры студентики. Все расписано и подписано! Так что, в случай-чего, учти: вещдоки при мне, свидетели будут тоже. Ты педерастическая млядь, Есипов! Понял? Радуйся, если на парашу кукарекать не сядешь. Наша родина — не для таких, как ты! Усек?
— У меня на тебя тоже, Краснов, нарыто, — во рту пересохло, слова лезли с трудом. — Я, может, на парашу, да, загремлю. Но и ты, тварь, не отвертишься! Я знаю про твоего Алексея, про мазоха…
Краснов простучал костяшками пальцев по косяку:
— Кто?!.. В первый раз слышу! Бред у тебя…
— А сортир в парке! И ты туда шастал, тварь! Пегий мазох. Алешка…
— Ты срач свой дрочильный… да им хоть, млядь, захлебнись! Кто те поверит-то? Сова кони двинул. А этот…
Краснов замолчал. И как приговор решительно выдал:
— Не знаю такого! Эти ваши пидарские разборняки мне не шей! Я от вашей параши дальше, чем твоя жопа от луны. Болит жопа-то?
Паша молчал. Сова, тот очкастый (во всех смыслах) старик, — да, он помер в конце августа. А Лешка-мазох…
— Боли-ит! — с чувством удовлетворения кивнул Краснов. — А как еще трещать будет!.. И как не трещать ей, если хозяин такой ммудак?.. Ты и то, военный, пойми: начальство и свою жопу прикрывает, следака щас, млядь, обрабатывает. А он тоже под погонами: ему зафуй честь мундира марать? Сказанешь на нас — оформим как бред. Да он, поди, сам тебя станет упрашивать, чтобы волну не гнал.
— А я подниму! — прохрипел Пашка с ненавистью.
Краснов снова пробежал костяшками пальцев по косяку:
— Мое дело тебя упредить, военный! Письма уже у него, в смысле — копии. Так что ты как моральный урод ему со всех сторон обрисован. Он, млядь, так обрадовался, письмам-то! Теперь кипеш любой тебе же в сраку войдет паяльником. Усекла, сучка эбливая?
Паша молчал. Только теперь он со всей ясностью осознал: заговор!.. Круговая порука. За окном, среди серой слякоти небес, натужным зеленоватым светом внезапно воскрес фонарь.
— Лады, — Краснов поглядел на фонарь, а на самом деле в себя куда-то глубоко. Кивнул, повторив. — Лады…
И снова простучал костяшками пальцев по косяку.
Исчез, не прощаясь.
Минут через десять явился к Пашке следак: молодой капитан с резким пробором, похожим на розоватую щель в иссиня-черных, словно лакированных, волосах. Ловкий и аккуратненький.
— Ну, боец-огурец?! Заявление пишем?..
Паша кивнул решительно.
Следователь вздохнул:
— Пишем, пишем… А если, Павел, подумать, а? Понимаешь, не все так просто. Буду предельно честным с тобой. Можешь ты и «дедам» жизнь обломать, и звезды крупные из-за тебя за горизонт — да, посыпятся… Но тебе оно надо-то, вообще? О своих интересах подумай, боец! На твою заяву — они объяснение. Про статью знаешь сам. Доказательства у них, Павел, к сожаленью, железные. Железобетонные! Вот, читай…
Серый листок с напечатанным на машинке текстом задрожал в Пашиных пальцах. Это была копия письма Ерохина о Пашкиных художествах там, на картошке, год назад. А следак перечислял сокрушенно, будто за Пашу читая:
— Канкан в пьяном и голом виде на койке — раз! Призывы с твоей стороны к гомосексуальному контакту, обращенные к пятерым твоим товарищам — два! Твое хвастовство всякими там умениями-отверстиями — три! Понятно: выпил лишнего человек, с кем не бывает? Но ведь вы там потом недели три жили одной дружной шведской семьей! Причем, ты заметь, без женщин! И подумай еще: всё, что этот Ерохин расписал сержанту, услышат твои родители на суде. Мать услышит! Отец!.. Знаешь, жаль мне тебя! Жалко — да, а их жальче во сто крат: я же и сам родитель. Для них это смерть, Павлик, может быть!.. Мать-то сердечница? И каково ей будет в глаза соседям смотреть? А про то, что на зоне тебя ждет, замнем уж для ясности, эх… То есть, твое заявление — выход, прямо скажу и сам видишь: говенненький…
Следак ноздрями тронул воздух. Витькин дух из-под койки учуял.
Пашка молчал. Что возразишь и против подвигов, блин, в колхозе, и против того, что да — мама, отец…
Капитан помолчал тоже, словно и он думал об этом.
— Я те как взрослый мужик скажу. Сам, повторяю, отец, хоть у меня и мелкий пока что бегает. Лучше всего замять все это! Ляжешь в дурку. Не сказать, что сахар, но всё ж: не восемь лет, месяц всего. Ну, полтора. Экспертиза, комиссия. Комиссуешься по статье. Статья зашифрованная, только спецу понятная. Вернешься к мамке с папкой. К домашним пирожкам и цветочным горшкам с геранью. Может, даже в институте восстановишься. Ты на кого учился-то? А… Нет, это вряд ли.
Следователь забрал у Паши листок с показаниями Краснова. Спокойно, рассудительно продолжал:
— Ну да, будут ограниченья в правах. Как без этого? К оружию тебя и близко не подпустят теперь. Права водительские тоже не дадут. Все, что связано с транспортом… Ну, видишь, я честно тебе ситуацию, Павлик, обрисовал. Но живут же люди и так! И ничего, из окна не выбрасываются…
Он снова потрогал ноздрями воздух.
— Что-то пахнет у вас хреново. А лазарет!
— У меня сапоги там, портянки, — молвил Паша задумчиво.
— Во-от! А так через полтора месяца — мамкины пирожки!..
— А они, стало быть, правы? Герои, да?! — спросил Пашка, скривившись.
— Какие герои, ты что?! С нарядов до дембеля не вылезут, твари. Это я тебе гарантирую. Но там только у Краснова мозг, остальные — пшено. Биомасса.
— А Краснов — ценный кадр?..
— Сержант твой — то еще говнецо, — капитан вздохнул честно. — Будем надеяться, сломает шею когда-нибудь… Хочешь мстить? И цену готов заплатить собственной, прости, Пашик, задницей? Тебе ведь уже показали ее, зону-то, тогда, в котельной. А там такая котельная — ежедневно, только топку знай открывай. И?..
— Мне это говорили уже.
Капитан кивнул:
— Потому и говорили, что выхода два! И поверь, дурка — лучший вариант для тебя.
— Д л я в а с, — усмехнулся Паша уныло. Он шмыгнул носом: глаза-предатели солоно зачесались.
— Для всех! — рассеянно сронил капитан, роясь в бумажках. — Для всех, рядовой. Вот, короче, характеристика на тебя. Нормальная, кстати, вполне. Никто на гражданке не подкопается. Никто и не вспомнит, если сам ковырять не начнешь… Ну, что решаем-то?
Пашка отвернулся к окну:
— Я подумаю.
Следователь вздохнул. Ясен корень: сюда, к пеньку этому, не наездишься…
Паша удивлялся себе: он читал, понимал мысли этого человека, будто тот вслух их сейчас проговаривал! Павел понял: выхода нет.
— Я согласен, — сказал он, не поворачиваясь.
*
После следака Вадим не стал мельтешить, не лез со словами, с уколами. Понимал: Пашке нужно подумать, собраться, себя заново, может, свинтить.
Паша лежал в полутьме наступившего вечера. За окном хлестала метель, свет фонаря словно прыгал в ней; носились тени по стенам, по потолку. Он не замечал ничего, забыв и о Витьке и даже о следователе. Что-то не так было в нем самом — не только в этой их, блин, Системе! С Системой все ясно: она просто монстр, чугунная печь, куда сваливают людей лопатами, их жизни, их живые тела, их души, которым лучше бы еще до тел умереть. Но ведь и то правда, что он — да, белая ворона, «педерастическая млядь», на самом-то деле, по сути-то… Этот шакал правду ведь сказанул! И может, он, Краснов, имеет право так вот с ним говорить: откинув голову, свысока, хотя сам сантиметров на пятнадцать ниже.
Он вспомнил клятый тот совхоз, что ли, «Рассвет» — год назад. Павлик там был самым младшим и как-то сразу почувствовал: прищурились на него ребята. Это, скорей, волновало, чем настораживало… Наконец, возникла эта нога, босая мужская ножища с кривыми ногтями и рыжими волосками у самых пальцев. Классическая нога пирата. Он с полными ведрами должен был переступать через нее, нога в любой миг могла снизу его подсечь, а он — упасть с плеском и грохотом. Ну да, был же ведь банный день! Он, Пашка, голяком выскочил из бани с ведрами к колонке, а эти двое, тоже студенты, но уже мужики отслужившие. Там, в предбаннике… Курят, яйца почесывают и на него с наглым интересом глядят. Типа: «О. мля!» И эта вот стремная ножища — того, который с бородкой, самый рослый-взрослый из всех… Может, Пашка как-то не так метался с этими ведрами, по-женски вихлялся, манерничал? Но они и раньше за ним послеживали, косяка-то давили, он чувствовал.
Меченый атом, да…
И опять: нечего всё на других, на судьбу! Он же сам усмехался тем мужикам. Такая то-онкая была на губах черточка, резвая складочка. Но думал — игра, игра. А они — что согласен, зовет. Да и плевать им было, что он себе там думает. У них жженье в ммуде и пидарас возле свободно мечется…
Дальше весь этот «Рассвет» тоже фрагментами вспоминается.
В конце второй или начале третьей недели вяжут его в пустом коровнике, полиэтиленовым шпагатом вяжут в позиции стоя на коленях и голове. Спускают штаны. Эбут. Ржут в голос. Говорят: мы теперь всем про тебя расскажем, что ты пидарас. Ливерный дух навоза стоялого. Зеленые мухи, живые, жгущие по осенней щедрой теплыни пока…
Их двое там было, в коровнике. Вот эти самые, бывшие дембеля. Тут начальство совхозное должно было как раз нагрянуть. Они приссали, что Пашка сгоряча нажалуется. Спрятали его в колодец распределительный. Глубина метра три, стенки из бетонных колец. Сверху тяжелый люк. Каземат!
Подвели, двое подхватили за подмышки и спустили вниз. Отпустили. Состояние невесомости. Сердце в горле. Плюх…
Один, как раз бородатый, слез по скобам — проверить. А Пашка ничего, молчит, руками крутит, как бы освободиться все норовит; смотрит непримиримо. Там не так, чтобы светло было, но и не темнота совсем. Всё видно. Хрукт этот бородатый, мля, лыбится. Берет конец шпагата, которым у Паши руки-то связаны, на скобу накидывает, что из стенки торчит. Шпагат подтянул — Павлик не совсем, как на дыбе, оказался, но ведь твердо не встать, всей ступней. Бородатый вылез. Люк задвинули, да, со скрежетом. Темнота.
Сколько прошло времени, Пашка не знал. До конца рабочего дня, наверно. Он пытался шпагат об скобу как-то перетереть. Лишь запястье порезал себе до крови.
Когда вытянули на свет — свет уже мерк: рыжий вечер вовсю.
— Ну, ты как?
— Шизда вам, мужики, — через паузу он сказал.
— А че так? — деланно безмятежно.
— Это изнасилование!
— Да мы ж шутя, понарошку. Че ты в самом деле! Обиделась, что ли, машк?
— Я заявлю!
— Тебе же хуже! Родня узнает, соседи: сплетни пойдут.
Тут его как гирей по голове шарахнуло — ПАПА узнает! Как же он, единственный сын, и так подвел-то его? Продолжатель ведь рода, блин! Почему не отбился, зубы им всем не повыбивал? Следствие, экспертиза — и все его похожденья на плешке вскроют…
— Да и о чем ты заявишь-то? — усмехается бородатый. — Ничего же и не было. Виталь, скажи!
— Ну да! Не было ничего, — дергается второй, Виталя.
— Мужики, вы что-нибудь видели? — это бородатый другим пацанам.
— Не, не видели.
— Ну, вот! — щерится бородач.
Пашка молчит, ситуацию прикидывает.
— Ладно, не заявлю. Развяжите меня.
— Вот, молодец! Всё чики-пуки! Так, маш, и надо, мля…
Его развязывают, он руки к груди прижал, пальцев совсем не чувствует. Как будто вместо кистей рук у него деревяшки какие-то…
И вдруг — что было духу рванул в черную, в глухую от ночи степь, такую теплую, беспредельную, бездонную, непроглядную…
Но догнали, охомутали. Успокаивали. Дали водки щедро, полную кружку.
А с водкой у Паши беда: сразу крышак летит. Он им — да, и канкан на койке, голый, отплясывал, и все желанья их с жадной щедростью исполнял… Прописали Пашку за машку общую, но без глума, без членовредительства: все — будущая интеллигенция. Даже порой приятно было после и вспомнить те теплые последние дни бабьего лета, почти привольные. После работы — в кружок, на скамеечке курят. Он на земле между ними прижопился. Бородатый Игорь или Виталя кирзачом через треники его, блин, лукаво потискивает. Все тепленькие, веселенькие — всем по-своему свободно так, хорошо… И звезды на небе — обвал ярких, прямо декоративных звезд!..
А Ерохин… Он же земеля Краснова… Ну да, ну да: был там и он, щекастый очкарик…
Вот те и прилетело!
Эх — машка и есть!..
Паше вдруг вспомнились детство и они с Генчиком совсем мелкие. На диване, в трениках друг у дружки копаются. Тут папа пришел. Пока шинель и сапоги в коридоре стягивал, они в порядок себя привели.
— Че делаем, ребяточки?
— А ниче!
— А мордочки-то, ох, мордочки!.. Сорванцы!.. — отец засмеялся, мотнув головой, и сфотал их. Фотка глянцевая ч/б там, дома, в альбоме. У обоих лукавством исходят рожицы. Кто бы подумал!
И кто говорит, что грех?!..
Эх, знал бы… Эх…
Знал бы — все т о ж е ведь было бы!..
*
Вадик ужин принес. Первые два дня в лазарет так и шастала солдатня под разными там предлогами — лишь бы на Павлика посмотреть. Вадька резко это все прекратил, спасибо ему.
Есть не хотелось — да и опасался Павлуша есть. В жопе саднило. Как таким очком на горшок? Швы еще разойдутся…
Вадик прикрыл шлемкой картошку с рыбой и удалился. И для него весь этот день на нервах прошел.
Паша лежал, закрыв глаза от света лампы, резкого и ненужного. Что теперь освещать? Все уже решено… Дня через три — его в дурку.
Блин! Вот и всё…
Какая уж месть. И зачем? Что он докажет им?
А главное, что себе он докажет теперь — вот ведь главное!..
Зря не попросил, чтобы Вадик укол засадил. Забыться — и заснуть. Как сказал этот… Пушкин?.. Лермонтов?.. Ну да, ну, конечно, Лермонтов. А Пушкин и раненый в живот, лежа в крови, стрелял ведь в этого… в красавчика, в пидараса!
Паша непроизвольно хрюкнул, но со слезой. И тут же услышал звяк шлемки на тумбочке. Витька! Скинув телагу с длиннющими рукавами, он уписывал хавчик, вскряхтывая от удовольствия. Но взгляд Пашки он поймал и на мгновенье остановился, как воришка застуканный, как хомяк со щеками, пищей раздутыми.
— Лопай уж, — усмехнулся Паша. — Только это… только чай мне оставь.
Витька бодро кивнул и снова начал точить, от жадного удовольствия взрыкивая.
— «Я «к мамкиным пирожкам» вернусь, — подумал Паша, — а этот куда? На помойке он, что ли, ночует? Одет, блин, как с зоны откинулся… Спецуха солдатская, под ней серый, как мышь, свитерок. Или ватник?»
— Че, тя Промывайлов совсем не кормит?
Витька кивнул: то ли возражая, то ли и утвердительно.
— Не кормит, не моет! Хули ты вообще с ним живешь?
Витька проглотил последний кусок и сытым басом изрек:
— Родственник.
— Родная душа! — Пашка прокомментировал. — А сдается мне, говняный он человечишка! Может, похлеще Краснова, только старик. Че, прав я: трахаетесь?
— Шошу, — деловито сообщил Витька. — Д р у г о г о не делаю.
— Да… А мне вот другое… со всей дури засадили, млядь, — Паша вздохнул.
У Витьки мордочка неожиданно скуксилась. Не успел Павлик опомниться, и Витькина башка уже встопырила его одеяло. Витька начал лизать Пашин член и яйца — так жадно, что подумалось: эх, проглотит же!..
Но видно, практика у Витьки неплохая была: язык и губы не мельтешили, действовали метко, рачительно.
Паша сунул руку под одеяло, гладил колючую бугристую Витькину голову.
— «Блин, вшей напустит каких-нибудь, блох!..» — подумалось, но как-то и удало. Он уже был на взводе, то в горячем горле трепетал, то мягкое нёбо ощупывал. Пашке сделалось радостно-шухерно, прямо как с Генчиком. Понял вмиг: этот Витька — как Генчик, на все готов и всем жадно интересуется. Хе! Только идеи ему подкидывай…
Пашка вздохнул глубоко и слился в Витьку толчками — слепыми и сладкими, густыми, стоялыми.
— Вот, значит, и познакомились, — сказал Пашка, освобожденно смеясь.
Витька вылез наружу. На носу — мутная капелька.
— Пошли! — он кивнул на окно.
— Куда?
— Метель кончилась.
Ветер улегся, но снег все еще валил длинными мокрыми хлопьями.
— Пошли-и!.. — Витька когтисто впился в руку Павла.
— Как? В чем?!..
Витька нагнулся, вытянул из-под койки туго набитый вещмешок.
— «Ого! — обалдел Павлик. — Прижился там, окопался, гад…»
Витька раскрыл зев мешка. На Пашку пахнУло спертым, уже родным: волглый, горький дух брезента, кирзы, каптерки. Пашины вещи были в шкафу у Вадика заперты. И вот, всё Витька предусмотрел! Наверно, у дядьки со склада спер, сучок запасливый…
Охнув, Пашка сел. Смена положения отдалась режущей болью в заднице. Каждое движение расцарапывало очко.
Кое-как Паша оделся, морщась. Все было сильно б/у: шапка прожженная, прокуренная, латаный, а где-то и рваный бушлат в масляных пятнах. Ремня не было! Возвращение в форму Пашика не радовало. Но одеваясь, он себя в привычном почувствовал: жопу саднит, а пальцы ловко работают. Встал, ногами притопнул. Боль — она словно нашла себя: не отпустила, но пронзительнее не сделалась. Как бы на свое место, кусачая, улеглась.
Паша подумал: чьи шмотки-то? Может, тот, кто их носил, и не жив уже, а он вот в оболочку его вошел, на себя его судьбу или силу сгреб. Почему так решил — и сам не знал…
Витька тем временем свирепо отдирал полоски бумаги с рамы. Резко вдруг распахнул окно.
Пашку обдало влажным и свежим воздухом. Длинные хлопья снега закружились вокруг.
— «Вот она, ВОЛЯ!» — подумалось.


