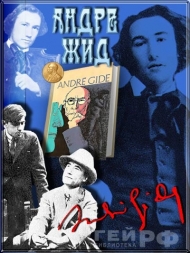Андре Жид
Коридон
Аннотация
В 1918 году Андре Жид влюбился в молодого человека по имени Марк Аллегре. Под влиянием этого чувстваон создает "Коридон". Эссе "Коридон" – диалоги в защиту однополой любви, написанные наподобие диалогов Платона.
В 1918 году Андре Жид влюбился в молодого человека по имени Марк Аллегре. Под влиянием этого чувстваон создает "Коридон". Эссе "Коридон" – диалоги в защиту однополой любви, написанные наподобие диалогов Платона.
VI
Слишком новая для меня его теория сперва привела меня в замешательство, но я быстро с ним справился:
— Черт побери! Вы смеетесь! Отрицать половой инстинкт, Коридон! Я не большой знаток естественной истории и не особенно склонен к наблюдениям, но в деревне, где я осенью хожу на охоту, я видел, как псы проделывали километровый путь из соседнего села и проводили ночь под моим забором, посылая любовные призывы моей собаке...
— Это, должно быть, тревожило ваш сон.
— К счастью, такое длится лишь определенный период.
— Вот как? Почему же?
— Потому что, слава богу, у моей суки не долго продолжается течка.
Я тут же пожалел о сказанном: у Коридона появилось такое насмешливое выражение лица, что мне стало боязно. Но я зашел слишком далеко и не мог перестать отвечать на его вопросы. Он спросил:
— Сколько же времени она продолжается?
— Примерно неделю.
— И как часто?
— Два-три раза в год...
— А в другое время?
— Коридон, вы несносны! Что вы хотите, чтобы я сказал?
— Что в другое время года кобели оставляют суку в покое, как вы прекрасно знаете. Что вне периодов течки кобель не может совокупиться с сучкой (а это, кстати, не так просто и в благоприятный период, отметим мимоходом) — во-первых, потому что сучка его не подпускает, а во-вторых, потому что кобель не испытывает ни малейшего желания (Прим.: «В данном случае, как всегда у животных, спаривание происходит лишь в период, когда у самок течка. В другое время они не подпускают самца» (Samson. Zootechnie (Lutte des ovides). II. P. 181).
— Вот видите! Разве не половой инстинкт предупреждает их, что в это время оплодотворения не произойдет?
— Какие образованные твари! Разумеется, ваши ученые собаки предаются воздержанию в обычное время, движимые исключительно добродетелью?
— Многие животные спариваются только в период течки.
— Вы хотите сказать, что их самки допускают спаривание... Если, выражаясь поэтическим языком, существует пора любви, то не для самцов (в частности собаки, о которых мы говорим, и вообще домашние животные не придают большого значения времени года). Для самца подходит любой сезон, а вот для самки — только период течки. И только тогда ее желает самец (Прим.: «Инстинкт размножения пробуждается у самца только под влиянием запаха, который издает самка в течке. У самки он появляется обычно в определенное время в результате овуляции. После оплодотворения инстинкт размножения исчезает у нее на весь период вынашивания и частично на период кормления потомства. У большинства наших домашних животных этот период длится в течение года» (Samson. П. Р. 87).). Не специфический ли запах, который издает самка, притягивает в это время самца? (Прим.: «Наступает активный период деятельности вагинальных желез, их выделения издают специфический запах, который сразу распознает нюх самца» (Samson. V. P. 181, 182).). Не этот ли аромат, а не ваша сука, привлекал из соседнего села кобелей с тонким нюхом и заставляла их бодрствовать, хотя они не могли к ней подойти?..
— И то, и другое. Поскольку аромата не было бы, не будь суки...
— Позвольте с вами не согласиться. Установив, что сука возбуждает кобеля свои запахом, мы установили затем, что этот запах возбуждает кобеля независимо от конкретной суки. Не провести ли нам experimentum crucis (решающий эксперимент (лат.), которым остался бы доволен Бэкон?
— Что еще за эксперимент вы предлагаете?
— Тот самый, о котором столь откровенно, то есть точно, повествует Рабле во второй книге «Пантагрюэля» (глава XXII). Мы узнаем, что Панург, желая отомстить одной даме за ее холодность, поймал суку, у которой была течка, поджарил ее, вырезал у нее яичники
и, хорошенько растерев их, посыпал этим порошком платье жестокосердной дамы. Далее передаю слово Рабле.
Коридон, встал, взял с полки книгу и прочел мне следующий отрывок:
— Все это, быть может, просто выдумка.
— Которая не может нас убедить? Но природа беспрестанно предлагает нам столь же убедительные примеры (Прим.: вот что сообщает Фабр: самка шелкопряда притягивает
множество самцов. Бабочки осаждают сетчатый колпак, под которым заключена самка. Она же равнодушно сидит на веточке в центре колпака. Если на следующий день Фабр заключает самку в другую клетку, то именно прежняя клетка и в особенности веточка, на которой сидела самка, пропитанная тонким запахом, привлекают претендентов. Хотя им прекрасно видна самка, которую Фабр помещает у них на пути, они оставляют ее без внимания, стремятся к ветке, затем облепляют то место, где она находилась): этот запах так сильно привлекает, так волнует животных, что превращается во что-то большее, чем
стимул к совокуплению: он охмеляет, словно возбуждающее средство, не только самца, но и других самок, пытающихся как-нибудь приблизиться к самке в течке (Прим.: Я знаю одну сучку, которая прекрасно ладит с кошкой и котом. Когда кошка в течке, сучка возбуждается и порой пытается взобраться на нее подобно тому, как это делает кот).
Фермеры выводят из стада корову в течке, потому что ее осаждают другие коровы (Прим.: «Можно даже увидеть, как коровы в течке залазят друг на друга. Быть может, они провоцируют таким образом самца, а, быть может, под влиянием визуального образа пытаются подражать желаемому акту»,— пишет г-н де Гурмон, который замечает несколькими строками выше: «Вообще, аберрации животных следует объяснять как можно проще». Затем он добавляет: «Это замечательный в силу своей абсурдности пример двигательной силы визуальных образов». Боюсь, он более абсурден, чем замечателен («Физика любви». С. 229-230))... Короче говоря: если самец испытывает половое возбуждение от запаха, периодически издаваемого самкой, то оно возникает только в это время (Прим.: «Некоторые животные затевают любовную игру с самцами своего пола»,— довольно загадочно пишет Монтень в «Апологии Раймонда Себонда»).
— Некоторые утверждают, и не без основания, на мой взгляд, что самец, унося запах недавнего соития и, следовательно, воспоминание о самке, может возбудить других самцов.
— Было бы странно, если бы этот запах, исчезающий у нее так быстро, «сразу после оплодотворения», как пишет Самсон, сохранялся, будучи передан кобелю (Прим.: Даже г-н де Гурмон знает, что «в нормальных условиях покрытая самка должна сразу же перестать издавать свой возбуждающий запах» («Физика любви». С. 179))... Но дело не в этом! Уверяю вас, что я видел, как кобели преследовали своей любовью других кобелей, девственников, и это при каждой новой встрече, в любое время.
— Если излагаемые вами факты верны — а я не сомневаюсь в их точности...
— Еще бы!
— То как вы объясните, что они до сих пор не фигурируют в Великой Книге Науки?
— Ну, прежде всего потому, что «Великой Книги» не существует; затем по той причине, что вещи, о которых я вам говорю, очень мало изучены; наконец, потому, что хорошо изучать — такая же редкость, как хорошо думать и хорошо писать. Достаточно быть хорошим наблюдателем, чтобы стать великим ученым.
Великий ученый — такая же редкость, как и любой другой гений. Зато многочисленны полу-ученые, принимающие традиционную теорию, которая их направляет или сбивает с толку, во всяком случае, они «изучают» природу в согласии с этой теорией. Долгое время
все подтверждало мнение, согласно которому Природа боится пустоты, все наблюдения. Все подтверждало и то, что существует два разных электричества, притягиваемых друг другу благодаря своего рода половому инстинкту. И до сих пор все подтверждает теорию полового инстинкта... Вызывает смех изумление некоторых животноводов, констатирующих гомосексуальные наклонности у своего вида. Все эти скромные «наблюдатели», не желающие видеть ничего другого, кроме того вида, которым они занимаются, констатируя подобные нравы, торопятся объяснить их как чудовищное исключение. «Представляется, что голуби в особенности (!) склонны к половым извращениям, если верить М. Ж. Байи-Мэтру, знающему птицеводу и хорошему наблюдателю» (Прим.: Этот факт был замечен столь давно, что в старом «Словаре домашнего хозяйства» Белеза можно прочитать в статье «Голубь»: «Порой случается, что выводок, о котором должна заботиться супружеская пара(?), оказывается на попечении двух самцов или двух самок. О наличии двух самок можно судить по двум кладкам светлых яиц, о наличии двух самцов — по беспорядку в голубятне» (?!)), читаем в книге Хэвлока Эллиса, а Муччоли, «авторитетный ученый в области изучения голубей (J) утверждает, что у бельгийских почтовых голубей можно наблюдать любовные игры между самцами, проходящие даже в присутствии многих самок».
— Так что же, значит басня Лафонтена «Два голубя»?!.
— Не беспокойтесь, это французские голуби. Другие наблюдают подобные же нравы среди уток, так как именно их они выращивают. Лакасань занимается жеребцами и констатирует эти нравы у жеребцов. А Бувар и Пекюше разве не усматривали их у куропаток?.. Да нет ничего смешнее этих робких наблюдений, разве что вывод, который из них делают, или то, как их объясняют. Доктор X, констатируя частые спаривания самцов майского жука, объясняет все эти мерзости...
— Да, знаю: тем, о чем я только что говорил: только недавно спарившийся с самкой самец, весь пропитанный ее запахом, может стать приманкой для другого самца...
— Уверен ли доктор X в том, что он утверждает?
Действительно ли только после спаривания самцы подвергаются в свою очередь осаде? Проводил ли он тщательные наблюдения? Или, может быть, это его предположения? Предлагаю провести следующий опыт: я хочу знать, не будет ли лишенный обоняния кобель осужден на...
— Однополую любовь?
— Во всяком случае на холостяцкую жизнь, на полное отсутствие гетеросексуальных желаний... Но из того, что кобель желает сучку только тогда, когда она издает определенный запах, не следует, что в остальное время его желания спят. Отсюда следуют частые гомосексуальные игры.
— Позвольте мне в свою очередь спросить вас: проводили ли вы тщательные наблюдения? Или это только предположения?..
— Вы сами могли бы это заметить. Но я знаю, что в большинстве случаев те, кто видит спаривание двух собак, делают вывод о том, какого пола каждая из них соответственно занимаемой ими позиции (Прим.: «Самцы часто предаются таким же играм, раскачивая
тулозище и хватая лапами бока другого самца. В то время как тот, кто сверху, делает быстрые вращательные движения, находящийся снизу, остается недвижим. Порой появляется еще третий рассеянный (?!) и даже четвертый, и залазят на первую пару. Тот, кто на самом верху, качается и быстро перебирает передними лапами, другие не двигаются. Так они на мгновение утешаются после того, как им отказала самка». (Fabre. Cerocomes. Т. III. P. 272). О, Фабр! Терпеливый наблюдатель! Вы действительно наблюдали, что эти гомосексуальные игры начинаются после отказа самки? Вы уверены в том, что самцы спариваются только после того, как их отвергли? Быть может, они предаются этим играм спонтанно?). Позвольте рассказать вам один случай. Дело было на одном из парижских бульваров. Две собаки, совокупившись тем жалким способом, который вам известен, пытались затем оторваться друг от друга. Их разнородные усилия весьма смущали некоторых зрителей, другие сильно веселились. Я подошел поближе. Вокруг этой пары бродили три кобеля, видимо, привлеченные запахом. Один из них, более смелый или наиболее возбужденный, потеряв терпение, попытался взгромоздиться сверху пары. Некоторое время он проделывал сложные акробатические трюки... Нас было несколько человек, наблюдавших за этой сценой по тем или иным причинам. Но бьюсь об заклад, что я один заметил следующее: кобель хотел оседлать только самца, на самку он не обращал внимания. Поскольку самец был прикреплен к самке и не мог сопротивляться, осаждающий кобель уже был близок к цели... но тут появился полицейский и быстро
разогнал актеров и зрителей.
— Позвольте и мне спросить вас, не предшествовала ли теория, которую вы излагаете и которая, очевидно, соответствует вашему темпераменту, вашим странным наблюдениям и не подвержены ли вы той же слабости, в которой так резко упрекаете своих коллег: не наблюдаете ли вы ради того, чтобы доказать?
— Сперва надо признать: трудно предположить, что наблюдение может быть случайным, что оно предстает уму как непредвиденный ответ на вопрос, которым вы не задавались. Главное — не форсировать ответ. Удалось ли мне это? Надеюсь, хотя и не утверждаю: я могу так же ошибаться, как и другие. Я просто требую, чтобы те ответы, которые мне нашептала или прокричала Природа, были проверены. И я отмечаю, что на вопрос, поставленный по-иному, она ответила мне иначе (Прим.: Какие наблюдения казались более точными, более проверенными, чем наблюдения терпеливого Фабра над пчелами из рода осмия? А между тем ныне они полностью опровергнуты, во всяком случае, поставлены под сомнение Маршалом).
— Нельзя ли задавать ей вопросы не преднамеренно?
— Что касается нашей темы, мне это представляется особенно трудным. Сент-Клэр Девиль, например, пишет, что он наблюдал за тем, как козлы, бараны и псы, помещенные вместе в отдалении от самок, начинают волноваться и испытывать «сексуальное возбуждение, которое не зависит от законов спаривания, и заставляет их совокупляться». Обратите внимание, прошу вас, на этот изысканный эвфемизм: «которое не зависит от законов спаривания»! И Сент-Клэр Девиль добавляет: «Достаточно привести самку, и порядок будет восстановлен». Уверен ли он в этом? Действительно ли наблюдал такое? Он убежден в том, что утверждает, но это еще не означает истины... Приведенный пример взят из отчета, представленного Академии нравственных наук и посвященного «интернату и его влиянию на воспитание юношества». Говорит ли Сент-Клэр Девиль как ученый или только как педагог? И наконец, эта спасительная самка, которую он хочет привести на псарню или в стойло, где не действуют «законы спаривания», непременно должна быть в течке, иначе, как мы знаем, кобели к ней не приблизятся. Пусть приведет хоть два десятка сучек, псы будут продолжать преследовать друг друга, не обращая ни на что внимания.
— Сент-Клэр Девиль, быть может, с самого начала вел неправильные наблюдения.
— О чем вы говорите! Он с самого начала прекрасно заметил гомосексуальное поведение животных.
А дальше начинается его очевидный вымысел. Если бы он продолжал свои наблюдения, то заметил бы, что появления одной или нескольких самок вовсе не достаточно, чтобы «восстановить порядок», разве что в течение одной недели в году, когда самки возбуждают самцов. В остальное время года гомосексуальные игры продолжаются «даже в присутствии многих самок», как писал Муччоли.
— Быть может, вы называете сладострастными играми самые невинные жесты.
— Хотя эти игры весьма красноречивы, можно отметить, что животные не находят в них полного удовлетворения или находят его очень редко. Каким же властным должно быть желание, которое влечет их тем не менее к гомосексуальным играм.
— Вы, наверное, знаете,— сказал я неосторожно,— что и сучки, даже когда они в течке, не всегда охотно исполняют желание самца. Сука, о которой я рассказывал,— породистая. Я хотел иметь щенков. С большим трудом мне удалось подобрать подходящего кобеля, но сколько хлопот стоила случка! Сперва моя собака убегала, кобель выбивался из сил, преследуя ее, затем она казалась покорной, но все равно отвергала его... Только через пять дней она понесла.
— Но позвольте,— ответил он с улыбкой,— разве это против моей теории? Отступать было некуда.
— Мои беспристрастные наблюдения должны послужить изучению вопроса.
— Спасибо... Да, все животноводы и птицеводы знакомы с этими трудностями. На фермах часто приходится устраивать случки, и Половой Инстинкт предстает тогда в виде пастуха.
—А каков он в природном обличье?
VII
— Я уже битый час объясняю вам, почему мужской элемент столь многочислен. Ваш знаменитый «половой инстинкт» предлагает изобилие вместо точности. В домашнем хозяйстве оставляется только строго необходимое количество самцов, и человек должен управлять спариванием, иначе есть риск остаться без потомства. В курсе зоотехники Самсона не меньше девяти страниц посвящено случке лошадей (Fabre. Op. cit Т. 1П. Р. 214—223), ибо жеребец, объяснял он в Гриньоне своим юным ученикам, «часто сбивается с пути», и потому, «как только он встал на дыбы, конюх должен схватить его пенис и направить куда следует» и т. д.
Но, как вы сами заметили, трудность состоит не только в неловкости самца; самка со своей стороны упирается и спасается бегством, приходится ее держать. Такой поразительной строптивости дают два объяснения: первое состоит в том, что самке приписывают чувства Галатеи, которая возбуждает самца притворным бегством; второе объяснение заключается в том, что Галатее приписывают ощущения самки, которая одновременно желает и испытывает страх...
— Разве вам не кажется, что данные объяснения имеют много общего?..
— Уверяю вас, что некоторые этого не замечают, и г-н де Гурмон предлагает второе объяснение, противопоставляя его первому.
— У вас, конечно, есть третье.
— Разумеется. Вот оно: у самки половой инстинкт столь же расплывчат, что и у самца... Да, она почувствует себя довольной, только будучи оплодотворена. Но если она предрасположена к оплодотворению в силу тайной работы внутренних органов, то желает-то она, пусть смутно, наслаждения, а не самца. Так и самец со своей стороны желает не самку, а еще меньше — «продолжения рода», но просто наслаждения. Оба стремятся насладиться, и больше ничего.
Вот почему мы так часто видим, как самка убегает от самца и все же не может устоять перед наслаждением и возвращается к самцу, который один может доставить ей удовольствие. Я согласен с тем, что они могут испытать полное удовлетворение только благодаря друг другу (во всяком случае самка — только благодаря самцу) и что только при совокуплении их органы находят совершенное применение. Но они об этом как будто не ведают или ведают очень смутно, ибо смутным является обычно любой инстинкт.
А чтобы произошло оплодотворение, надо хотя бы один раз слить воедино два смутных желания. Потому возникает тот притягательный запах, который в благоприятное время издает самка, или еще более тонкий аромат, различимый лишь усиками насекомых и порой, как в случае с некоторыми видами рыб, издаваемый не самкой, но икринкой: оплодотворение происходит после кладки икры и оплодотворяется непосредственно
икринка. Самка же не знает любовных игр. Такова единственная, на время и едва приоткрытая дверь, и через нее должно просочиться будущее. Ради столь трудной победы над беспорядком, над смертью расточительность позволена тебе, Природа! Быть может, здесь нет «неумеренных трат», ибо, учитывая количество неудач, победа стоит такой цены...
— Вы сказали «неудач»?
— Да, неудач с точки зрения конечной пользы. Но благодаря таким неудачам расцветают искусство, философия, торжествует игра. И как противостоят друг другу анагенетическая и катагенетическая силы, так противоположна приверженность самки к своему виду, а самца — к своему искусству, спорту, пению. Есть ли драма прекраснее, чем та, в которой столкнутся эти две привязанности, породив возвышенный конфликт?
— Не тема ли это нашей завтрашней беседы? А мне бы не хотелось расстаться с естественной историей, не задав вам еще несколько вопросов. Например, такой:
утверждаете ли вы, что гомосексуальные наклонности встречаются у всех видов животных?
— У многих, но не у всех. Здесь мне не хватает знаний... Тем не менее я сомневаюсь, что эти наклонности встречаются у тех видов, у которых процесс совокупления носит особенно трудный, усложненный характер и требует максимум усилий, как, например, у стрекоз или у некоторых пауков, осуществляющих своего рода искусственное оплодотворение, или наконец в том случае, когда сразу после или даже во время спаривания самка пожирает самца... Повторяю, здесь я ничего не утверждаю, я только
предполагаю.
— Странное предположение!
— Быть может, для его подтверждения достаточно констатировать, что у тех видов, у которых совокупление носит акробатический или опасный характер, пропорциальное количество мужского элемента меньше.
И здесь меня поражают слова Фабра: «Только во второй половине августа я начинаю обнаруживать взрослое насекомое... С каждым днем все чаще встречаются беременные самки. Их тощие спутники, напротив, встречаются редко, и мне часто не удается составить пару» (Там же. Т. V. Р. 291). Речь идет о mantis religiosa, которая всегда пожирает своего супруга.
Уменьшение мужского элемента перестает казаться парадоксальным, если оно компенсируется четкостью инстинкта. Если любовник приносится в жертву любовнице, необходимо, чтобы желание, влекущее его к совокуплению, было властным и четким, и как только желание становится четким, избытка самцов уже не требуется. И наоборот, количество самцов (Прим.: Я хочу сказать, пропорциональное количество мужского элемента: изобилие семенного материала возрастает, как только совокупление перестает грозить гибелью самцу) должно возрастать, как только инстинкт ослабляется. А инстинкт ослабляется, как только наслаждение перестает быть связанным с опасностью, во всяком случае как только достижение наслаждения становится легким. Таким образом, следующая странная аксиома: число самцов уменьшается по мере того, как усложняется
процесс совокупления,— является лишь естественным следствием того, о чем я уже говорил: избыток самцов (или изобилие мужского элемента) компенсирует нечеткость инстинкта или, если хотите, доказательством нечеткости инстинкта служит изобилие мужского элемента или еще...
—Я понял.
— Позвольте мне уточнить еще раз:
1. Инстинкт тем более четок, чем сложнее совокупление.
2. Количество самцов тем меньше, чем четче инстинкт.
3. Отсюда следует: количество самцов уменьшается по мере усложнения процесса совокупления (это относится к самцам, которых самка приносит в жертву любви). Очевидно, если бы был другой способ испытать наслаждение, эти самцы отказались бы от гибельного совокупления, и вид исчез бы. Но, видимо, Природа не дает им больше никакой возможности достичь удовлетворения (Прим.: Следует отметить, что именно у вида богомола обыкновенного (mantis religiosa), несмотря на малое количество самцов, самки пожирают их без всякой меры. Они всегда готовы к совокуплению и притягивают самцов даже после оплодотворения. Фабр наблюдал, как одна самка спарилась с семью самцами, которых поочередно сожрала. Властный и четкий половой инстинкт превосходит свою цель. Я, естественно, задаюсь вопросом: быть может, у тех видов, которые отличаются меньшей пропорцией самцов, большей четкостью инстинкта и, следовательно, меньшим количеством неиспользованного материала, «подверженного вариациям», диморфизм служит женскому полу? Иначе говоря: не является ли внешний вид самцов этих видов менее блистательным, чем внешний вид самок? Так вот, именно это мы можем констатировать на примере вида mantis religiosa, самец которого, «маленький, тощий, бесцветный и непримечательный» (это эпитеты Фабра), не может конкурировать с «призрачной красотой» самки, когда она разворачивает свои широкие, прозрачные, с зелеными прожилками, крылья. Фабр, впрочем, никак не комментирует это необычное распределение внешних качеств, которое подтверждает мою теорию. Я помещаю мои соображения в сноске, так как они отклоняются от основного сюжета, но
мне бы не хотелось, чтобы они остались незамеченными: на мой взгляд, они представляют очень большой интерес. Радость, которую я испытал, когда, завершив построение столь новой и, признаюсь, столь дерзкой теории, я неожиданно нашел ей подтверждение, можно сравнить с радостью искателя сокровищ из рассказа Эдгара По, который, копая землю, находит ящик с драгоценностями именно на том месте, где он должен был находиться согласно его расчетам. Быть может, я однажды опубликую другие наблюдения на ту же тему). Повторяю, что это лишь предположения.
— Надо будет их обдумать. Чем лучше я вас понимаю, тем яснее вижу, что ваши выводы намного превосходят ваши изначальные посылки. Я благодарен вам, признаюсь, за то, что вы заставили меня размышлять о вещах, в которые обычно предписывается верить именно так, а не иначе. Итак, вот какое заключение я делаю. Несмотря на ваши утверждения, половой инстинкт существует и обладает властной и четкой силой. Но только в определенное время он ведет к соединению двух разных элементов. Для того чтобы поймать момент благорасположения самки, желание самца должно быть постоянным. По вашему мнению, самец действует бескорыстно, а самка — полна заботы о будущем. Только гетеросексуальные отношения (животных) ведут к оплодотворению.
— И самец не всегда удовлетворяется только ими.
— Мы давно не говорили о вашей книге. Делаете ли вы какие-нибудь выводы в ее первой части?
—Да, и мой вывод я адресую сторонникам финализма: если, несмотря на почти постоянный преизбыток мужского элемента, природе требуется столько средств, столько ухищрений для того, чтобы обеспечить продолжение рода, удивительно ли, что нужно столько разного рода препятствий, чтобы удержать человечество от тех наклонностей, которые вы объявляете «ненормальными», что нужно столько разного рода советов, примеров, призывов и убеждений, чтобы сохранить в человеческом обществе желаемый коэффициент гетеросексуальное™.
— Позвольте мне верить, что эти стеснения и убеждения приносят пользу.
— Я не стану вас переубеждать, но только до завтра. Завтра мы рассмотрим наш вопрос не с зоологической, а с человеческой точки зрения, и подумаем, не намного ли превзошли меру все эти запреты и призывы. Признайте все же, что гомосексуальные вкусы уже не кажутся вам столь противоестественными, как нынче утром. На сегодня мне этого достаточно.
ТРЕТИЙ ДИАЛОГ
— Я много думал о нашем последнем разговоре,— сказал я Коридону, войдя к нему на следующий день.— Позвольте спросить, твердо ли вы верите в ту теорию, которую мне вчера излагали?
— Во всяком случае я твердо убежден в реальности фактов, которые лежат в ее основе. Что касается их объяснения, то я далек от того, чтобы считать его единственно возможным или наилучшим. Но, если позволите, это не имеет большого значения, на мой взгляд. Я хочу сказать, что значение предложенной новой системы, нового объяснения некоторых явлений измеряется не только точностью, но также и в особенности тем стимулом, которые новая теория дает уму, побуждая его к новым открытиям, новым выводам (пусть даже они подрывают ее). Она прокладывает новые пути, убирает препятствия, дает новое оружие. Важно, что она предлагает нечто новое и в то же время противостоит старому. Сегодня нам может показаться, что сами основы теории Дарвина колеблются, но будем ли мы отрицать, что дарвинизм способствовал развитию науки? Можно ли сказать, что Де Врис опроверг Дарвина? Нет, как нельзя сказать, что Дарвин или даже Ламарк опровергли X.
— Послушать вас, так и Галилей...
— Позвольте заметить, что есть разница между уточнением фактов и их объяснением. Объяснение всегда несколько расплывчато, но оно часто предшествует новым выводам, а не следует за ними. Иногда и даже зачастую мы видим, как теория опережает наблюдения, которые лишь впоследствии подтверждают смелое предположение ума. Примите мои соображения как гипотезу. Я буду рад, если вы всего лишь признаете их новыми. Повторяю, факты налицо и их нельзя отрицать. Что касается моего объяснения, я готов отказаться от него, как только вы предложите другое.
I
Вчера мы установили,— продолжал он,— ведущую роль обоняния, этого чувства, активизирующего инстинкт животных. Благодаря обонянию неопределенный инстинкт самца направляет его к самке — и исключительно к самке в течке. Не преувеличивая, можно сказать, что «сексуальность» самца (говоря современным языком), его инстинкт продолжения рода заключены в чувстве обоняния. Самец не выбирает самку; как только она начинает издавать специфический запах, самец просто бросается к ней, и при этом нос служит ему проводником. Лестер Уорд в одном из пассажей, который я вам не читал, настаивает на том факте, что «все самки для самца едины», и, действительно, они все одинаковы, как мы видели. Только самец подвержен вариациям и отличается теми или иными особенностями. У самки есть только одно средство привлечь его — запах, другого ей и не нужно. Ей не надо быть привлекательной, лишь бы запах был соответствующий. Выбор — если только на самом деле он не означает победу самого ловкого — выбор остается привилегией самки. Если она выбирает согласно своему вкусу, то тут начинается область эстетики. Уорд утверждает, что именно самка отвечает за естественный отбор, способствует тому, что он называет «расцветом самца». Покамест я оставляю в стороне вопрос, не имеет ли место и в человеческом обществе то превосходство красоты самца, которое, благодаря хорошему вкусу самки, сохраняется в мире насекомых, птиц, рыб и
млекопитающих.
—А я как раз жду разговора об этом.
—Тогда, раз вам не терпится, отметим сперва следующее: самец соловья расцвечен не более самки, но она не поет. Расцвет самца состоит не обязательно в красивой внешности, это прежде всего роскошь, и она может проявляться как пение, особая ловкость, наконец большой ум. Но позвольте мне придерживаться той последовательности, которую предлагает моя книга, а в ней я касаюсь этого вопроса позднее.
— Разумеется, я вас понимаю. Вы откладываете как можно дальше самые сложные для вас вопросы. Будем надеяться, что вы до них дойдете. Я не оставлю вас в покое, пока вы не выскажете все ваши соображения, не исчерпаете все ваши доводы. Теперь же скажите, с чего начинается вторая часть вашей книги.
— Прежде всего я констатирую, что обоняние, играющее столь важную роль в случках животных, не имеет никакого значения, разве что побочное, в сексуальных отношениях людей.
— Какой интерес представляет такого рода констатация?
— Это различие представляется мне очень важным, и у меня вызывает сомнение то, что г-н де Гурмон, никак не упомянув о нем в своей книге, никак не учитывая его при уподоблении человека животным, действительно ничего не заметил. Быть может, он просто решил не касаться этого различия или скрыл его для собственного удобства.
— Между тем, возражения, насколько я знаю, никогда не смущали мга де Гурмона. Быть может, он просто не придал этому обстоятельству того значения, которое придаете ему вы.
— Надеюсь, вы согласитесь со мной, когда я опишу вам последствия. Итак, женщина больше не привлекает мужчину периодически возникающим во время менструаций запахом. Видимо, его заменяет что-то другое, другие чары, естественные или искусственные, не зависящие от периода времени, от овуляции. Желанная женщина остается желанной в любое время. Скажем больше: если самец желает самку, а та подпускает его только в период течки, то мужчина, напротив, обычно воздерживается от соития в период, когда у женщины месячные. Они не только не привлекают, но даже в какой-то мере отталкивают, не важно, по каким причинам: физическим или нравственным. Что бы ни лежало в этом временном отвращении, которое вызывает плоть: пережиток древних религиозных предписаний или рациональные соображения — в этом пункте человек резко отличается от животного. И у человека сексуальное вожделение, оставаясь столь же властным, что и у животного, ничем не ограничено. Если у животного обоняние служит как бы коротким поводком, то человеку предоставлена полная воля. Это первое освобождение влечет за собой другое. Любовь (я не хотел бы употреблять это слово, но приходится) тотчас же превращается в игру — причем в игру без правил.
— Надеюсь, это не означает, что каждый волен играть в нее, как захочет.
— Нет, ибо желание не становится менее властным. Но игра может стать разнообразнее. Императив, оставаясь категорическим, обретает в каждом отдельном случае некоторые особенности. К тому же мужчина теперь испытывает влечение не к любой особе женского пола, а к определенной женщине.
«Нежные чувства животных так же отличаются от нежных чувств людей, как отличаются природа животного и природа человека,— говорит Спиноза и далее продолжает, имея в виду уже только людей: — Насколько отлична натура одного человека от натуры другого, настолько разнится характер их наслаждения — adeo gaudium unius a gaudio alterius tantum natura discrepat, quantum essentia unius ab essentia alterius differt».
— После Монтеня и Паскаля — теперь Спиноза. Вы умеете находить сторонников. Мне ничего не говорит ваш «gaudium unius». «Я чувствую сильное опасение»,— как говорил Паскаль... Продолжайте.
Он на мгновение улыбнулся, затем снова заговорил.
II
— С одной стороны— постоянная привлекательность, с другой — отбор, совершаемый теперь не самкой, но мужчиной... Не здесь ли ключ к тому, что женская прелесть необъяснимым образом превосходит мужскую?..
— Что вы хотите сказать?
— Что на всей лестнице живых существ мы констатируем явное превосходство красоты самца (чему я пытался дать вам объяснение) и что неожиданное нарушение этой иерархии на стадии человека должно нас весьма озадачить. Что причины, которыми пытались объяснить это явление, маловразумительны или просто неверны. Некоторые скептики утверждали, что красота женщины — это следствие желания мужчины и что... Я не дал ему договорить. Для меня было такой неожиданностью, что он присоединился к доводам здравого смысла, что поначалу я не понял его мысль. Но едва она стала мне ясна, как я поспешил заговорить, чтобы не дать ему возможности отказаться от нее.
— Вы вывели нас из затруднительного положения, и я вам благодарен. Теперь я понимаю, что «постоянная привлекательность» женщины начинается там, где кончаются ее непостоянные чары. Быть может, немалое значение имеет тот факт, что влечение возникает у мужчины не вследствие запаха, но вследствие другого, художественного и менее субъективного чувства — зрения. Вот что служит развитию культуры, искусств...
Не переставая радоваться торжеству здравого смысла, я уже не мог остановиться.
— Весьма забавно, что именно уранист дает здравое объяснение «превосходящей красоте прекрасного пола», как вы говорите. Признаюсь, что прежде я только смутно об этом догадывался. Теперь я могу смело прочитать отрывки из речи г-на Перрье в Академии, которую вы дали мне вчера...
— Какие отрывки вы имеете в виду?
Вытащив брошюру из кармана, я прочитал:
«Когда видишь, как в лучах летнего солнца или в свете канделябров на балу переливаются красками парадные платья (далее следует описание)... можно подумать, что украшения — это изобретение исключительно дочерей Евы... Мне думается, что, украшая их, серебро, золото (перечисление), бриллианты (перечисление), цветы (перечисление), перья (перечисление), крылья бабочки... мужчины еще не дерзнули «изобрести» все эти украшения, олицетворение женского кокетства: их изысканные, хитроумные, грандиозные
шляпы...»
— Вы должны его извинить: он наблюдал женщин в собраниях.
— «Таков резкий контраст: в то время как, по крайней мере в наших цивилизованных странах, растет и развивается извечная любовь женщин к украшениям, мужчины становятся все более чужды всяким изыскам...»
— Я же вам говорил: расцвет самца не обязательно проявляется в его внешнем виде.
— Дайте мне дочитать: «...темный костюм третьего сословия и тот кажется слишком обременительным: его облегчают, укорачивают, верхняя часть превращается в простой пиджак, и на торжественных собраниях мы в присутствии женщин кажемся неприметными личинками на роскошных цветах».
— Очень любезно с его стороны.
— «Данная эволюция весьма характерна; она отличает человека от высших животных, как никакие другие физические или психические особенности. Эта прямая противоположность тому, что мы видим в животном мире. Там мужской пол наиболее облагодетельствован природой, что проявляется уже на стадии низших живых существ, наделенных хоть какой-то активностью».
— Вас смущал этот пассаж? Позвольте спросить, почему?.. Мне кажется, он, напротив, должен был вам понравиться.
— Не надо изображать невинность! Как будто вы не понимаете, что Перрье, якобы восхваляя прекрасный пол, на самом деле хвалит лишь его внешнее убранство (Прим.: Но столь же наивны и несколько строк Аддасона из «Спектейтора» (Spectator, № 265):
«Известно, что в мире птиц природа в особенности позаботилась об украшении самца, у которого очень часто мы видим красивейший головный убор: гребешок, хохолок, пучок перьев или одно перо, торчащее наподобие шпица. У нас, напротив, всеми прелестями природы украшена женщина, и вдобавок она старательно пользуется искусственными
средствами украшения. Гордо выступающий петух не расцвечен так ярко, как убранство британской леди, когда она появляется на балу или на именинах...» (пер. с англ.) Где
здесь ирония?).
— Ну, да, то, что я назвал «искусственной привлекательностью».
— Это выражение с подвохом, но я понимаю, что вы хотите сказать. Думаю, что наш ученый муж не слишком учтиво настаивает на этом пункте. Сказать женщине: «у вас очаровательная шляпка» не то же, что сказать: «вы прекрасны».
— Поэтому чаще всего говорят: как эта шляпка вам идет! Но разве вас больше ничего не смущает? Я припоминаю, что в конце своей речи Перрье переходит от убранства к его носительнице. Дайте-ка книжку... Вот:
«Вы победили, милые дамы, и эта победа — блеск вашей кожи, кристальная чистота вашего голоса, мягкость и изящество ваших движений и грациозные очертания, вдохновившие нежную кисть Бугеро». Что может быть приятней? Почему вы не прочитали эти строки?
— Потому что вы не любите Бугеро.
— Вы слишком предупредительны!
— Перестаньте насмехаться и скажите, что вы об этом думаете.
— Признаюсь, что столько искусственных средств, призванных на помощь природе, меня беспокоит. Я вспоминаю Монтеня: «Не столько целомудрие, сколько расчет и предосторожность руководят нашими дамами, когда они запрещают нам входить в их кабинеты прежде, чем они украсят и принарядят себя, готовясь явиться в обществе». И я сомневаюсь, не приведет ли откровенный показ женских прелестей, обычай ходить повсюду обнаженными, как об этом мечтает Пьер Луис в «Трифеме», к результату, противоположному тому, который он предсказывает, а именно: не охладит ли это в значительной мере желание мужчин. «Хотелось бы знать,— писала мадемуазель Кино,— не стали бы вы холодно и спокойно взирать на все то, что, будучи скрыто от взора, рождает в вас столько прекрасных и возмутительных мыслей, если бы вы могли постоянно созерцать все потаенное; ведь тому есть примеры». Наконец, на земле есть места, и очень красивые, где мечта «Трифема» осуществлена (во всяком случае, так было лет пятьдесят тому назад до появления миссионеров), например, Таити. Там в 1835 г. побывал Дарвин. На нескольких страницах он описывает красоту местных жителей, замечая, в частности: «Должен признать, что женщины меня несколько разочаровали; они далеко не так красивы, как мужчины...». Затем, отметив, что женщины восполняют недостаток красоты украшениями (Прим.: «Тем не менее у них есть милые обычаи, например, обычай носить белый или красный цветок на затылке или в проделанных в ушах отверстиях» («Путешествие натуралиста»), Дарвин заключает: «В общем, мне показалось, что женщины выиграли бы гораздо больше мужчин, если бы носили какие-нибудь одежды».
— Я не знал, что Дарвин был уранистом.
— Кто вам это сказал?
— Разве его фраза не достаточно ясна?
— Неужели я должен воспринимать всерьез то, что пишет г-н де Гурмон: «Воплощением красоты является женщина. Всякое другое мнение всегда будет звучать как парадокс или восприниматься как следствие самой плачевной сексуальной аберрации».
— Наверное, это «всегда» задевает вас за живое?
— Впрочем, успокойтесь. Насколько мне известно, Дарвин был уранистом не больше, чем многие другие путешественники, которые при виде нагих дикарей восторгались красотой молодых мужчин. Так, например, Стивенсон, рассказывая о полинезийцах, признает, что
красота мужчин намного превосходит красоту женщин. Вот почему мне важно их мнение, и я полагаю не как пуританин, но как художник, что женщинам подобает целомудрие, что покрывало им вполне подходит — «quod decet».
— Тогда о чем же вы мне раньше говорили? Я имею в виду ваше, на мой взгляд, верное замечание о прелести прекрасного пола.
— Я хотел вместе с вами попытаться рассуждать следующим образом: если самка делает выбор и производит естественный отбор, то это идет на пользу самцу; если же выбирает мужчина, то, вероятно, это должно идти на пользу женщине.
— Поэтому женская красота превосходит мужскую, именно так я и понял.
— Вы слишком поторопились, я даже не успел закончить свою мысль. Я как раз хотел обратить ваше внимание на следующее: если в мире животных красота самца может быть передана только самцу, «женщины передают многие свои черты, в том числе красоту, своим детям обоего пола» (цитирую Дарвина «Происхождение человека»). Сильные и крепкие мужчины, беря в жены красивых женщин, способствуют расцвету своего рода, появлению на свет одинаково прекрасных дочерей и сыновей.
— Обратите в свою очередь внимание на то, что, рассуждая таким образом и преуменьшая женскую красоту в пользу мужской, вы доказываете властную силу инстинкта, который заставляет меня предпочитать именно женщин.
— Или доказываю уместность украшений и покрывал.
— Украшения — лишь приправа. Что касается покрывала, то оно забавляет, возбуждает желание, отдаляя миг полного обладания... Если вы не чувствительны к женской красоте, тем хуже для вас, мне вас жаль, но не пытайтесь на основе мнения, которое, что бы вы ни
говорили, остается вашим частным мнением, устанавливать общие эстетические законы.
III
— Так это на основе «частного мнения» древнегреческая скульптура (а к ней нам придется возвращаться, если мы говорим о красоте) предлагает нам обнаженных мужчин и облаченных в одежды женщин? Или вместо чисто эстетических причин вы вместе с г-ном де Гурмоном склонны видеть «следствие самой плачевной сексуальной аберрации» в том, что греческое искусство почти постоянно оказывает предпочтение телу подростка, юноши и упорно скрывает тело женщины?
— Разумеется! Как будто мне не известно пагубное распространение педерастии в Греции! К тому же, выбирая в качестве моделей подростков, скульпторы, вероятно, просто потакали порочным наклонностям развращенных меценатов. Можно предположить, что скульптор руководствовался не столько своим художественным вкусом, сколько вкусами тех, кому он служил. Наконец, мы теперь не можем представить себе всех тех требований, условностей, которые стесняли художника, определяли его выбор, например, во время Олимпийских игр. Подобные условности заставили и Микеланджело изобразить на плафоне Сикстинской капеллы не женщин, но обнаженных подростков,— из уважения к святости места и дабы не пробуждать наших желаний. Вообще, если признать вслед за Руссо, что искусство виновно в поразительной развращенности греческих нравов...
— Или флорентийских. Ведь бросается в глаза то, что всякое возрождение или расцвет искусств всегда и во всех странах сопровождались значительным распространением уранизма.
— Следовало бы сказать, распущенностью.
— Когда дело дойдет до создания истории уранизма в его связях с изящными искусствами, станет очевидно, что он усиливается не в периоды декаданса, но, напротив, в славные, пышущие здоровьем эпохи, когда искусство отличается спонтанностью и далеко от манерности. С другой стороны, мне кажется, что не всегда, но зачастую — восхваление женщины является признаком упадка в пластических искусствах. Подобным же образом мы видим, что как только в театре, где прежде женские роли исполняли юноши, начинают играть женщины, драматическое искусство приходит в упадок.
— Вам нравится смешивать причину и следствие. Упадок начался в тот момент, когда благородное драматическое искусство поставило своей целью воздействовать на чувства, а не на ум. Тогда-то, ради привлечения публики, женщина и появилась на сцене, откуда вам ее уже не согнать. Но вернемся к пластическим искусствам. Мне вдруг вспомнился прелестный «Сельский концерт» Джорджоне (в котором, я надеюсь, вы не станете усматривать произведение эпохи декаданса), где, как вы знаете, изображено небольшое общество на лоне природы: две обнаженные женщины и два одетых молодых музыканта.
— С точки зрения пластики, красоты линий невозможно утверждать, что тела этих женщин прекрасны; too fat (слишком толстые (англ.)), как говорил Стивенсон. Но какие светлые краски! Какое мягкое, глубокое, гармоничное сияние! Если в скульптуре торжествует мужская красота, то женская плоть в особенности передает игру красок. Вот, подумал я при виде этой картины, противоположность античному искусству: одетые юноши, обнаженные женщины; почва, на которой расцвел этот шедевр, должна быть весьма бедна скульптурными произведениями.
— И скудна в том, что касается педерастии?
— О! В этом отношении одно небольшое полотно Тициана весьма красноречиво.
— Какое же?
— «Тридентский собор», где на переднем плане, но несколько в стороне, в тени, изображена группа знатных господ, по двое, в недвусмысленных позах. Возможно, мы имеем дело с вольностью по отношению к тому, что вы называете «святостью места», но скорее всего, и нас убеждают в этом мемуары того времени, подобные нравы были вполне обычны, и возмущали современников не более, чем вооруженных алебардами воинов, которые стоят на полотне Тициана бок о бок с упомянутыми сеньорами.
— Я десятки раз смотрел на эту картину, не заметив ничего ненормального.
— Все мы замечаем лишь то, что нас интересует. Но должен сказать, что, как на этой картине, так и в венецианских хрониках педерастия (впрочем, на полотне Тициана речь идет скорее о содомии) не представляется мне чем-то спонтанным. Она больше напоминает браваду, порок, особое развлечение людей развращенных, пресыщенных. И не могу не заметить, что и венецианское искусство, далеко не народное и не спонтанное, бурно расцветшее на почве, подобной почве Древней Греции и Флоренции, ставшее, по выражению Тэна, «дополнением окружающей неги», превратилось в развлечение магнатов, как и искусство французского Возрождения во времена правления Франциска I, столь женственное, купленное у Италии по столь дорогой цене.
— Поясните вашу мысль.
IV
— Я полагаю, что восхваление женщины — признак искусства менее естественного, менее связанного с родной почвой по сравнению с тем, которое являют нам великие эпохи творчества уранистов. Я также полагаю, простите мою дерзость, что, как мужской, так и женский гомосексуализм — более естественны, простодушны, нежели гетеросексуальность.
— Вам легко торопиться с заключениями, поскольку вас не беспокоит, успеваю ли я следить за вашей логикой,— сказал я, пожав плечами. Но он продолжал, словно не расслышав меня:
— Это очень хорошо понял Баррес. Когда в «Беренике» ему понадобилось изобразить существо, близкое к природе, послушное лишь своим инстинктам, он изобразил лесбиянку, подружку маленькой «Розовой свечки». Только воспитание поднимает ее до разнополой любви.
— Вы приписываете Морису Барресу тайные намерения, которых у него не было.
— Возможно, он не предвидел их последствий, вот все, что вы можете сказать. В первых книгах вашего друга, как вы знаете, даже изображение эмоций не лишено преднамеренности. «Береника,— заявляет он тоном поучения,— представляет для меня загадочную силу, мировой импульс». Несколькими строками ниже он, по моему мнению, дает тонкое определение ее анагенетической роли, когда говорит о «ясности ее функции, которая состоит в том, чтобы оживотворять все, что она воспринимает», и он противопоставляет эту функцию категенетическому «беспокойству ее ума».
Я плохо помнил содержание книги Барреса, и не мог ничего сказать. А он продолжал:
— Любопытно узнать, не был ли знаком Баррес со столь близким его мысли мнением Гете об уранизме, о котором сообщает канцлер Мюллер (запись от апреля 1830 г.). Позвольте мне вам его процитировать:
«Goethe entwickelte, wie diese Verirrung eigentlich dather komme, dass, nach rein esthetischem Masstab, der Mann weit schoner, vorzuglicher, vollendeter als die Frau sei».
— У вас такое произношение, что я с трудом вас понимаю. Пожалуйста, переведите.
— «Гете объяснил нам, что эта аберрация происходит вследствие того, что с чисто эстетической точки зрения тело мужчины гораздо красивее и совершеннее, чем тело женщины».
— Но здесь нет ничего общего с тем, о чем пишет Баррес,— воскликнул я в нетерпении.
— Погодите немного, мы подходим к главному: «Подобное чувство, будучи пробужденным, близко к животному инстинкту. Любовь к мальчикам — стара, как мир (Die Knabenliebe sei alt wie die Menschheit, und man konne daher sagen, sie liege in der Natur), и можно сказать, что она естественна, что ее основа — природа (ob sie gleich gegen die Natur sei), что она согласуется с природой. Но нельзя терять то, что культура отвоевала у природы, любой ценой это нужно сохранить (Was die Kultur der Natur abgewonnen habe, werde щап nicht wieder fahren lassen; es um keinen Preis aufgeben).
— Возможно, гомосексуальные нравы были так глубоко укоренены в германском народе, что могли показаться кое-кому естественными (на эту мысль наводят недавние скандалы по ту сторону Рейна), но для настоящего французского ума теория Гете всегда будет казаться, поверьте мне, совершенно невероятной.
— Если вы затрагиваете национальный вопрос, то позвольте мне прочитать вам несколько строк из Диодора Сицилийского (Кн. V. 32), насколько я знаю, одного из первых писателей, сообщающего нам о нравах наших предков. Вот что он пишет о кельтах: «Хотя их женщины миловидны, они к ним нисколько не привязаны и страстно любят мужское общество. Обычно они по двое заворачиваются в звериные шкуры, брошенные на землю, и так спят».
— Разве это не явное намерение опорочить тех, кого греки называли варварами?
— В то время подобные нравы не могли опорочить. Аристотель в своей «Политике» также бегло говорит о кельтах. Сожалея о том, что Ликург пренебрег законами, касающимися женщин, Аристотель пишет, что это приводит к большому вреду, «в особенности, когда
мужчины позволяют женщинам управлять ими, что обычно происходит у воинственных, энергичных народов. Впрочем, я исключаю из их числа кельтов и некоторые другие народы: у них любовь между мужчинами явно и открыто в чести» (Аристотель. Политика. II, К. 7—8).
— Если то, что рассказывают ваши греки, правда, признайте, что мы далеко от них ушли!
— Да, мы испытали некоторое влияние культуры. Именно об этом и говорит Гете.
— Значит, вы предлагаете мне рассматривать педераста как человека отсталого, непросвещенного...
— Не совсем так, но гомосексуальный инстинкт — это нечто очень наивное, первозданное.
— Вот где, вероятно, оправдание гомосексуальной направленности древнегреческой и римской буколической поэзии, в которой с большей или меньшей долей искусственности якобы возрождаются простодушные нравы Аркадии (Прим.: «Так значит странная любовь, воспетая в элегиях античных поэтов, столь нас поражавшая и нам непонятная, существует на самом деле, и впрямь возможна. В наших переводах мы ставили женские имена вместо тех, которые там стоят. Ювентий превращался в Ювентию, Алексис — в Ксанфу. Красивые мальчики становились красивыми девушками. Так мы меняли состав чудовищного сераля Катулла, Тибулла, Марциала и нежного Вергилия. Это весьма милое занятие, но оно показывает, как мало мы понимали античный гений» (Gautier. Mademoiselle de Maupin. Т. П. Chap. К. P. 13—14 (первое издание)).
— Буколическая поэзия стала искусственной в тот момент, когда поэт перестал быть влюбленным в пастуха. Но, возможно, произошло то же, что в арабской или персидской поэзии: женщине было оказано предпочтение, ради удобства... Из сказанного Гете для меня в особенности важно то, что он говорит о культуре, точнее было бы сказать: о необходимости учиться гетеросексуализму. Вполне вероятно, что мужчина-ребенок, мужчина, не затронутый влиянием культуры, стремится к соприкосновению, ласке, а не к половому акту. Возможно, что некоторых, даже многих смущает и отталкивает тайна другого пола, тем более, что больше никакие чары, никакой запах их уже не привлекает. (Как видите, я опускаю довод касательно меньшей красоты, ибо полагаю, что половое влечение не обязательно зависит от нее). И наверное, некоторых будет непреодолимо влечь не противоположный пол, но свой собственный, как объясняет Аристофан, в «Пире» Платона. Но я утверждаю, что, даже испытывая исключительное влечение к противоположному полу, мужчина, предоставленный самому себе, не сразу овладеет точными движениями, не всегда сможет их сам придумать и поначалу будет неловок.
— Любовь всегда служила вожатым влюбленному.
— Слепым вожатым, и раз вы употребили это слово, которое я хотел пока приберечь, то надо добавить следующее: влюбленный будет тем менее ловок, чем сильнее он будет влюблен. Да, чем больше подлинной любви входит в состав его желания, чем менее эгоистично его желание, тем больше он станет опасаться причинить боль любимому существу. И пока его не научит какой-нибудь пример, хотя бы животных, какой-нибудь преподанный урок или предварительная инициация, пока его не научит, наконец, сама возлюбленная...
— Черт побери! Как будто желание влюбленного не находит достаточного дополнения во взаимном чувстве!
— Я в этом убежден не более, чем Лонг. Вспомните об ошибках, о первых нерешительных жестах Дафниса.
Разве этот неловкий влюбленный не испытывал нужды в уроках какой-нибудь куртизанки?
— Все эти неловкости и длинноты, о которых вы говорите, нужны затем, чтобы придать этому пустому роману какую-нибудь содержательность и занимательность.
— О, нет! За легким покровом жеманства в этой замечательной книге скрывается глубокое знание того, что г-н де Гурмон называет «Физикой любви», и я считаю историю Дафниса и Хлои образцом естественности.
— К чему вы клоните?
— К тому, что необразованные пастухи Вергилия не ведали таких тяжких усилий, что «инстинкта» порой и даже очень часто недостаточно, чтобы разрешить загадку другого пола. Для этого нужно прилежание. Таков просто мой комментарий к словам Гете...
Вот почему у Вергилия в то время, как Дамет жалуется на бегство Галатеи «в ветлы», Меналк делит с Аминтом ничем не ограниченные утехи. At mihi sese offert ultro, meus igni, Amyntas («Мне добровольно себя предлагает Аминт, мое пламя»
(пер. С. Шервинского)). «Когда влюбленный соединяется с возлюбленным,— с удивительной точностью говорит Леонардо да Винчи,— он отдыхает».
— Если разнополая любовь требует некоторых навыков, то признайте, что в наших городах и селах теперь есть множество учеников, владеющих этим ремеслом в возрасте гораздо более раннем, чем возраст Дафниса.
— И в то же время даже (вернее, в особенности) в деревнях гомосексуальные игры довольно редки и считаются предосудительными. Да, как мы отметили третьего дня: все в наших нравах и обычаях толкает один пол к другому. Сколько тайных и явных усилий, чтобы убедить мальчика еще до пробуждения у него желаний, что удовольствие можно вкусить только с женщиной, что вне ее нет наслаждения. Какое преувеличение, вплоть до абсурда, притягательности «прекрасного пола» одновременно с систематическим превращением мужского пола в нечто незаметное, некрасивое, смешное! С этим явно не согласились бы одаренные художественным вкусом народы, у которых в самые блистательные и достойные восхищения эпохи чувство красоты возобладало над «условностями».
— Я уже ответил на это.
— И вместе с г-ном Перрье, насколько мне помнится, выразили восхищение постоянной заботой об украшениях, благодаря которым вечная женственность повсюду и во все времена пытается пробудить желание мужчины, восполнить недостающую красоту.
— Да, то, что вы называете «искусственной привлекательностью». И что вы доказали? Что украшения женщинам к лицу. Вы им польстили! Ведь, с другой стороны, нет ничего отвратительнее, чем разодетый и накрашенный мужчина.
— Повторяю еще раз: у красивого подростка нет нужды в украшениях; греческая скульптура представляет его прекрасным в своей наготе. Но высказанное вами осуждение принимает в расчет только наши западные нравы; вам, должно быть, известно, что на Востоке не всегда разделяют ваше мнение (Прим.: Так очаровательный Жерар де Нерваль рассказывает, как он уже был готов воспылать любовью к двум «соблазнительным танцовщицам» в одной из египетских кофеен, «очень красивым, с горделивым выражением лица, подведенными глазами и нежными, пухлыми щечками». В тот момент, когда он «уже собирался, согласно чистейшим обычаям Леванта, прилепить им ко лбу несколько золотых монет», он во время заметил, что эти красивые танцовщицы — мальчики, достойные самое большее того, чтобы им «бросили несколько медяков». (Gerard de Nerval Voyage en Orient. T. I. P. 140—141)). Если вместо того, чтобы делать подростка неприметным, невзрачным, вы подчеркнете его красоту украшениями, то вы
получите то, о чем пишет Монтескье: «В Риме женщины не появляются на сцене; их роли исполняют одетые в женский наряд кастраты. Это очень дурно влияет на нравы, ибо ничто, насколько мне известно, не возбуждает так в римлянах ту любовь, о которой писал Платон». И далее: «В мою бытность в Риме я видел в театре Капраника двух кастратов, Мариотти и Кьостра, одетых как женщины. Это были прекраснейшие создания, каких я когда-либо видел в жизни, пробуждавшие вкусы Гоморры в самых далеких от этих вещей людях. Некий молодой англичанин страстно влюбился в одного из них, приняв его за женщину, и пребывал в этом заблуждении в течение месяца. Некогда во Флоренции великий герцог Козимо Ш установил в театре те же правила из соображений благочестия. Судите, какое действие это произвело в городе, который был в этом отношении новыми Афинами!» («Путешествие I. С. 220—221). И Монтескье цитирует Горация: «Вилой природу гони, она все равно возвратится» («Naturam expelles furca, tamen usque recurret»), выражение, которому мы вольны придать любой смысл.
—Теперь я вас понимаю: для вас природа — это гомосексуализм, а то, что все человечество до сих пор имеет наглость рассматривать как естественные и нормальные отношения, для вас — искусственность. Право же! Вы слишком смелы.
Он помолчал, затем ответил:
— Разумеется, мою мысль легко довести до абсурда. Но когда в моей книге она явится естественным следствием высказанных только что посылок, то не покажется слишком дерзкой.
Тогда я попросил его вернуться к позабытой нами в течение некоторого времени книге. Он продолжал.
V
— Вчера я пытался доказать вам, что властный «половой инстинкт» — не столь силен и четок у животных, как это обычно утверждают, и я попытался разобраться, что действительно скрывается за этим общим понятием, каково в реальности функционирование обоняния, его сила, насколько вкус бывает уклончив, насколько велика зависимость от внешних факторов, от объекта. Я установил, что комплекс устремлений, обозначаемых выражением «половой инстинкт», представляет собой крепкую связку лишь в тот единственный момент, когда запах овуляции направляет самца и понуждает его к спариванию.
Сегодня я сделал наблюдение, что чувства мужчины не зависят ни от какого запаха и что женщина, не располагая подобными действенными средствами (я имею в виду единовременную, но непреодолимую притягательность самки), стремится быть постоянно желанной и делает это искусно с одобрения, поощрения и при содействии (во всяком случае, в наших европейских странах) законов, обычаев и т. п. Я отметил также, что зачастую искусственность и притворство (благородной формой коего является целомудрие), украшения и покровы восполняют недостаток привлекательности... Означает ли это, что иногда мужчин все равно неудержимо влекут женщины без прикрас (или какая-то одна женщина)? Нет, конечно! Но мы видим и других мужчин, которые, несмотря на все ухищрения прекрасного пола, несмотря на все предписания, запреты, опасности, сохраняют непреодолимое влечение к мальчикам. В общем, я утверждаю, что в большинстве случаев у подростка пробуждается желание, не отличающееся четкими требованиями, что наслаждение влечет его независимо от пола объекта, с которым оно связывается и что своими нравами он обязан скорее внешним наставлениям, нежели своим наклонностям. Если хотите, я утверждаю, что желание редко получает четкое направление без поддержки опыта. А первый опыт редко бывает продиктован подлинным
желанием. Легче всего сбиться с верного пути именно в сексуальной области и...
— Пусть бы так оно и было! Я вижу, к чему вы клоните: что если предоставить подростков самим себе и снять внешние запреты, иначе говоря, если ослабить узду культуры, то гомосексуалистов станет еще больше. Мой черед процитировать вам Гете: «Нельзя терять то, что культура отвоевала у природы, любой ценой это нужно сохранить».
ЧЕТВЕРТЫЙ ДИАЛОГ
— Недавно появилась книга,— начал он,— вызвавшая некоторый скандал. (И признаюсь, что я сам, читая ее, не мог порой удержаться от неодобрения.) Вам она знакома?
Коридон протянул мне трактат Леона Блума «О браке».
— Забавно слышать, что и вы в свою очередь выражаете неодобрение. Да, я читал эту книгу. Она написа-
на умело и, стало быть, опасна. Евреи — мастера по расшатыванию наших самых уважаемых установлений, тех, что служат основанием и опорой нашей европейской культуры. Взамен нам предлагают распущенность и безнравственность, что, к счастью, чуждо нашему здравому смыслу и нашему латинскому чувству общежития. Мне всегда казалось, что в этом состоит, быть может, отличительная черта их литературы, в частности, театра.
— Против этой книги возражали, но никто ее не опроверг.
—Довольно возражений.
— Но проблема остается, и закрыть на нее глаза не значит решить ее, как бы нас не возмущало то решение, которое предлагает Блум.
— Какая проблема?
— Она непосредственно связана с тем, о чем я говорил вам третьего дня: изобилие самца намного превосходит потребности как репродуктивной функции другого пола, так и воспроизводства вида. Расточительность, к которой приглашает Природа, ставит некоторые проблемы и рискует превратиться в угрозу сложившемуся общественному порядку, как его понимаем мы, европейцы.
— Отсюда эта тоска по сералю, которой проникнута книга Блума. Но она чужда, повторяю, нашим нравам, нашим установлениям, основанным на моногамии (Прим.: Характерно высказывание Наполеона: «Женщина дана мужчине для того, чтобы рожать детей. Но одной женщины для этого недостаточно: она не может быть женой мужчины,
когда кормит грудью или болеет, она перестает быть его женой, когда утрачивает способность рожать детей; стало быть, мужчина, который по своей природе не ограничен ни возрастом, ни другими препятствиями, должен иметь несколько жен» (Мемориал. Июнь 1816)).
— Мы предпочитаем бордель.
— Перестаньте.
— Скажем точнее: проституцию. Или адюльтер. Другого выхода нет... Разве что повторять вслед за великим Мальтусом: «Целомудрие — вовсе не вынужденная добродетель, как полагают некоторые. Оно основывается на требованиях природы и разума. Действительно, эта добродетель — единственное законное средство избежать пороков и несчастий, связанных с ростом народонаселения» .
— Разумеется, целомудрие — это добродетель.
— На которую законы не слишком полагаются, не так ли? Я хотел бы в моей книге прибегнуть к доводам добродетели лишь в последнюю очередь. Леон Блум, не взывающий к добродетели, но занятый поисками общественного неблагополучия, возмущен тем униженным положением, до которого при попустительстве законов доведено в борделе покорное существо. Полагаю, что мы можем разделить его
скорбь.
— Можно вспомнить и об опасности для здоровья общества, возникающей, как только проституция выходит из-под гнусного контроля государства.
— Поэтому Блум предлагает направить наши мужские аппетиты на молодых девушек, честных и порядочных, готовящихся стать женами и матерями.
—Да, именно это показалось мне просто чудовищным и заставило сомневаться, посещал ли он когда-нибудь настоящее французское общество или знаком только с левантийским.
— Я думаю, что ни один католик не решится жениться на девушке, прошедшей предварительное обучение у еврея. Но если вы возражаете против всех решений, которые вам предлагаются...
— Скажите свое, я заранее трепещу, догадываясь о нем.
— Не я его придумал. Это решение, которое восторжествовало в Греции.
— Черт возьми! Мы у цели.
— Умоляю вас выслушать меня спокойно. Я хочу надеяться, что между людьми одинакового воспитания,
одинаковой культуры всегда возможно некоторое взаимопонимание, несмотря на все различие темпераментов. С самого раннего детства вас учили так же, как и меня, и научили почитать Грецию. Мы ее наследники. В нашей школе и наших музеях произведения древних греков занимают почетное место. Нас призывают признать их творения тем, чем они в действительности являются: чудесами гармонии, спокойствия, мудрости и безмятежности. Нам ставят их в пример, с другой стороны, нас учат, что произведение искусства не возникает случайно, что его объяснение, причину его возникновения следует искать в народе, в создавшем это произведение художнике. Ибо созданная им гармония заключается прежде всего в нем самом.
— Мне все это известно. Что дальше?
— Мы знаем также, что Греция блистала не только в области пластических искусств. Во всех других проявлениях ее жизни мы находим то же совершенство, довольство, гармоническую легкость. Софокл, Пиндар, Аристофан, Сократ,. Мильтиад, Фемистокл или Платон — не менее замечательные представители Древней Греции, чем Лисипп или Фидий. Душевный покой, который приводит нас в восхищение в каждом художнике, в каждом произведении искусства,— свойство всего народа Греции, прекрасного здорового растения. Полный расцвет каждой ветви не повредил никаким другим ветвям.
— Все это давно известно и не имеет ничего общего с...
— Как! Вы не хотите понять, что существует прямая связь между цветком и растением, между качеством соков этого растения и его произрастанием? Вы хотите, чтобы я допустил, что народ, способный предложить миру подобные воплощения мудрости, грациозной силы и блаженства, не умел управлять собой, не умел исполнить такой же счастливой мудрости и гармонии прежде всего свою жизнь и свои нравы? Но как только речь заходит о греческих нравах, о них начинают сожалеть, от них с отвращением отворачиваются (Прим.: Впрочем, не всегда. Можно было бы привести проницательное одобрение Гердера в его книге «Мысли о философии истории»); не понимают или не хотят понять, допустить, что эти нравы составляют неотъемлемую часть целого, что они необходимы для функционирования общественного организма и что без них прекрасный, вызывающий восхищение цветок, был бы другим или его не было бы вовсе (Прим.: Хочется повторить вслед за Ницше (он писал о войне и рабстве): «Никто не сможет избежать подобных выводов, если беспристрастно искать причины совершенства греческого искусства, совершенства, которого достигло только греческое искусство» (Цит. по: Halevy. P. 97)).
Если от общих рассуждений мы перейдем к конкретным случаям и рассмотрим пример Эпаминонда, которого Цицерон называет величайшим человеком, рожденным в Греции, то мы увидим, что один из биографов Эпаминонда (Валькенер), представляя его как «безусловный и совершеннейший образец великого полководца, патриота и мудреца», почитает своим долгом добавить: «К сожалению, не вызывает сомнений, что Эпаминонд разделят те отвратительные вкусы, коих греки, и в особенности беотийцы и лакедемоняне (то есть, самые доблестные среди греков) нисколько не стыдились» («Всемирная биография») (Ср. с пассажами из Паскаля, Монтеня и рассказами о смерти Эпаминонда).
— Согласитесь все же, что эти нравы занимают в древнегреческой литературе незначительнее место.
— В той, что дошла до нас, да, быть может. И тем не менее! (Прим.: «Главный сюжет «Илиады» — страсть Ахилла... его любовь к Патроклу. И это прекрасно понял один из величайших поэтов и глубочайпшх знатоков литературы, Данте, давшй в «Аде» следующую точную характеристику греческого героя: Achille Che per amor al fine combatteo. (Ахилл, сражавшийся из-за своей любви до конца.) Этот полный глубокого смысла стих раскрывает суть «Илиады». Гнев Ахилла, направленный на Агамемнона, сперва заставивший его выйти из боя, любовь Ахилла к Патроклу, превосходящая его любовь к женщине и, несмотря на гаев, возвращающая его на поле битвы,— вот две основные сюжетные оси «Илиады» (J. A. Symonds. The Greek Poets. III. P. 80)) Вспомните о том, что, когда Плутарх и Платон говорят о любви, они имеют в виду и ту, и другую. Затем прошу вас принять в соображение (если это уже отмечалось, то, насколько мне известно, в недостаточной мере), что почти все древние рукописи, благодаря которым мы знаем Грецию, прошли через руки церковников. Было бы весьма любопытно изучить историю древних рукописей. Посмотреть, не убирали ли порой из благих побуждений ученые монахи-переписчики то, что казалось им скандальным, не сохранили ли они преимущественно то, что было наименее скандальным. Вспомните, сколько пьес Эсхила и Софокла дошло до нас: из девяноста и ста двадцати соответственно того и другого осталось в общей сложности семь. Но мы знаем, что «Мирмвдоняне» Эсхила, например, были посвящены любви Ахилла к Патроклу. Те несколько стихов, которые цитирует Плутарх, достаточны, чтобы догадаться, о чем идет речь. Но дело не в этом. Я склонен
полагать, что однополая любовь занимала в греческой трагедии не больше места, чем в театре Марлоу, например (что уже достаточно). Что это доказывает, кроме того, что драма предпочитает иные сюжеты, или, говоря яснее, что эта счастливая любовь не предоставляет материала для трагедий? (Прим.: «Счастливы влюбленные, когда им отвечают взаимностью»,— пишет Бион в восьмой идиллии. Затем он приводит три примера такой счастливой любви: Тезей и Пирифой, Орест и Пилад, Ахилл и Патрокл.) Зато о ней говорят лирическая поэзия, мифы и все жизнеописания, все трактаты, хотя все они пропущены через то же сито.
— Не знаю, что вам ответить. Мне недостает сведений.
— Да главное и не в этом. В конце концов, что такое Гил, Батилл или Ганимед по сравнению с прекрасными образами трагедий: Андромахой, Ифигенией, Алкестой, Антигоной? Так вот, я утверждаю, что этими чистыми женскими образами мы также обязаны однополой любви. И я не считаю рискованным заметить, что так же обстоит дело с драмами Шекспира.
— Если это не парадокс, то я хотел бы знать...
— О! Вы меня быстро поймете, если примете в соображение, что при наших нравах ни в одной литературе не уделено так много места адюльтеру, как во французской, не говоря уже об всех этих полудевственницах, полублудницах. Вы возражаете против того выхода, который предлагала Греция, так как он казался ей естественным. Тогда сделайте всех святыми, иначе желание мужчины будет уклоняться от законной супруги, порочить молодую девушку... В Греции воспитание девушки имело целью не столько любовь, сколько материнство. Как мы видели, желание мужчины было обращено в иную сторону, и ничто не казалось более необходимым для государства, более достойным уважения,
нежели чистота гинекея.
— Значит, по-вашему, получается, что ради спасения женщины жертвами становились дети.
— Вскоре я рассмотрю, с вашего позволения, можно ли говорить в данном случае о жертвах. Теперь же мне хотелось бы ответить на одно тонкое замечание, для меня это очень важно: Пьер Луис упрекает Спарту в том, что она не породила ни одного художника и осуждает слишком строгую добродетель, которая могла сформировать только воинов, да и то они терпели поражение. «Величие и слава Спарты существуют только для слепого почитателя античности,— писал г-н Лабулэ в комментариях к «Духу законов» Монтескье.— Что дала миру эта солдатская обитель, кроме разрушения и развалин? Чем обязана цивилизация этим варварам?» (Esprit des lois. IV. Chap. 6. P. 154. Ed. Gamier.)
-—Да, я припоминаю такой пункт обвинения. Другие им воспользовались.
— Но я не уверен, справедлив ли он.
— Тем не менее факты налицо.
— Во-первых, не забывайте, что именно Спарте мы обязаны дорическим ордером, ордером Пестума и Парфенона. И потом вспомните, что если Гомер родился бы в Спарте слепым, его сбросили бы со скалы. Именно там, у подножия скалы, следует искать лакедемонских художников; Спарта, быть может, была способна произвести их на свет, но она слишком любила физическое совершенство, а гений часто сочетается с каким-нибудь физическим изъяном...
— Да, я понимаю, что вы хотите сказать: Спарта систематически умерщвляла тех своих детей, которые, по выражению Виктора Гюго, рождались бледными, с потухшим взором.
— Зато она создала прекрасную форму. Спарта придумала селекцию. Она не дала миру скульпторов, это правда, но она дала скульптору образец.
— Послушать вас, так получается, что все модели афинских ваятелей были из Лакедемона, как ныне в Риме все модели — из Сараджинеско. Это просто смешно. Я все же считаю, с вашего позволения, что хорошо сложенные греки не обязательно были грубыми животными, а их художники — колченогими и кривобокими. Вспомните молодого Софокла в Саламине...
Коридон улыбнулся и жестом дал мне понять, что согласен со мной. Затем он продолжал:
— Еще одно замечание относительно спартанцев: вам известно, что в Лакедемоне любовь к мальчикам была не только дозволена, но и, осмелюсь сказать, пользовалась одобрением. Вам известно также, что спартанцы были необычайно воинственны. «Спартанцы,— читаем у Плутарха,— были величайшими мастерами и наилучшими учителями в том, что касается искусства боя». Вам также известно, что фиванцы...
— Позвольте! — воскликнул я, перебив его.— Сегодня у меня с собой кое-какие тексты. И я вынул из кармана блокнот, в который накануне вечером переписал фразу из «Духа законов» (IV. Гл. 8). Я прочитал: «Мы краснеем, читая у Плутарха, что фиванцы, дабы смягчить нравы своих юношей, узаконили ту любовь, которую должны были бы запретить все народы мира».
— Ну, да, об этом я вам и говорю,— ответил он, не краснея.— В настоящее время все ее осуждают, и я знаю, что это безумие — утверждать, что ты один прав (Прим.: «Тот, кто противопоставляет свое суждение всеобщему мнению, должен иметь в качестве опоры неопровержимую истину. Зная истину, он будет глупцом и трусом, если побоится признать ее наперекор мнениям других людей. Человеку трудно сказать, что, кроме него, весь мир заблуждается. Но если это так, то что же делать?» (пер. с англ.); (Даниэль Дефо; цит. по: Taine. Litterature anglaise. IV. P. 88)), но, поскольку вы сами начали, давайте вместе перечитаем фрагмент из Плутарха, который возмутил Монтескье. Он достал с полки толстую книгу, открыл ее на «Жизнеописании Пелопида» и прочитал: «Во всех битвах лакедемонян, будь то с греками или с варварами, они ни разу не были разбиты врагом, уступающим или даже равным им в численности (как это произошло в битве при Тегирах, о чем Плутарх рассказал ранее)... Эта битва впервые показала народам Греции, что доблестные и воинственные мужи рождаются не только на берегах Эврота, но повсюду, где молодежь стыдится вещей позорных, доказывает свою храбрость достойными деяниями и боится больше осуждения, нежели опасности. Такие люди опасны для врага».
— Ну, вот, видите, он сам говорит: «Повсюду, где молодежь стыдится вещей позорных и боится больше осуждения, нежели опасности...»
— Боюсь, что вы его не поняли,— ответил с важностью Коридон.— Из этого пассажа следует как раз то, что однополая любовь не осуждалась. Далее на это ясно указывается. Он продолжил чтение:
— «Говорят, что священный отряд фиванцев был собран Горгидом и состоял из трехсот лучших воинов. Государство содержало их и оплачивало их учения... Некоторые утверждают, что этот отряд состоял из любящих и любимцев, и приводят шутливое высказывание Памменида: «Надо, чтобы при построении влюбленный стоял рядом с возлюбленным, ибо невозможно рассеять или нарушить строй любящих друг друга: они бесстрашно встретят все опасности, одни из привязанности к предмету своей любви, другие из страха быть обесчещенными в глазах любящих их». Вот видите, что они понимали под бесчестьем,— заметил Коридон. «В этом нет ничего удивительного,— продолжает мудрый Плутарх,— если правда, что люди больше дорожат мнением тех, кто их любит, даже если они далеко, чем мнением всех остальных, тех, кто рядом». Разве это не прекрасно?
— Разумеется, прекрасно,— ответил я.— Но для этого не обязательны дурные нравы...
— «Так, один воин,— продолжал Коридон чтение,— поверженный врагом и видя, что тот собирается его прикончить, стал умолять и заклинать, чтобы тот ударил его мечом в грудь: «Дабы любящий меня, найдя мой труп, не устыдился того, что мне нанесли удар сзади». Рассказывают также, что Иолай, которого любил Геракл, разделял его труды и сражался бок о бок с ним (но, быть может, вы предпочитаете воображать Геракла в обществе Омфалы или Деяниры?). Аристотель пишет, что еще в его время любящие и их любимцы приходили давать клятву на могилу Иолая. По видимости, этому отряду дали прозвание «священный» в согласии с мыслью Платона о том, что любящий — это друг, в котором есть нечто божественное. Священный отряд фиванцев оставался непобедимым до битвы при Херонее. После этой битвы Филипп, обходя поле битвы, остановился на том месте, где были распростерты триста фиванцев; у всех них была пронзена пикой грудь, и то была груда перемешанных тел и оружия. Филипп с удивлением взирал на это зрелище. Узнав, что перед ним отряд любящих и любимых, он прослезился и воскликнул: «Да погибнет жалкой смертью тот, кто заподозрит этих людей в том, что они были способны сделать и стерпеть что-либо постыдное».
— Напрасно стараетесь! — воскликнул я.— Вы не заставите меня воспринимать этих героев как развратников.
— Но кто вас заставляет воспринимать их именно так? И почему вы не хотите допустить, что эта любовь, как и другая, может сочетаться с самоотречением, самопожертвованием и даже порой с целомудрием? (Прим.: «Агесилая не менее мучила и любовь к Мегабату, хотя, когда юноша бывал с ним, он упорно, всеми силами старался побороть эту страсть. Однажды, когда Мегабат подошел к нему с приветствием и хотел обнять и поцеловать его, Агесилай уклонился от поцелуя. Юноша был сконфужен, перестал подходить к нему и приветствовал его лишь издали. Тогда Агесилай, жалея, что лишился его ласки, с притворным удивлением спросил, что случилось с Мегабатом, отчего тот перестал приветствовать его поцелуями. „Ты сам виноват,— ответили его друзья,— так как не принимаешь поцелуев красивого мальчика, но в страхе бежишь от них. Его же и сейчас можно убедить прийти к тебе с поцелуями, если только ты снова не проявишь робости". После некоторого молчания и раздумья Агесилай ответил: „Вам не нужно уговаривать его, так как я нахожу больше удовольствия в том, чтобы снова начать с самим собою эту борьбу за его поцелуи, чем в том, чтобы иметь все сокровища, которые я когда-либо видел". Так держал себя Агесилай, когда Мегабат был поблизости; когда же тот удалился, он почувствовал такую страсть к нему, что, трудно сказать, удержался ли бы он от поцелуев, если бы тот снова появился перед ним» (Плутарх. Жизнь Агесилая. XI. Пер. К Лампсакова)).
Впрочем, продолжение рассказа Плутарха показывает, что если иногда и, быть может, даже зачастую, однополая любовь побуждала к целомудрию, она на него отнюдь не претендовала. В поддержку моих слов я могу привести множество примеров, процитировать множество текстов, и не одного Плутарха, которые, будь они собраны вместе, составили бы целую книгу. Если хотите, я могу вам их все предоставить.
Думаю, что нет более ложного и более распространенного мнения, чем то, которое видит в гомосексуальных наклонностях и в любви к мальчикам прискорбное достояние изнеженных, вырождающихся народов, или даже заимствование азиатских нравов (Прим.: «Персы, учившиеся у греков, переняли у них обычай совокупляться с мальчиками» (Геродот. I, 135)). Напротив, именно пришедший из Азии нежный ионический ордер заменил мужественную дорийскую архитектуру. Упадок Афин начался в тот момент, когда греки перестали посещать гимнасий, а мы теперь знаем, что он для них значил. Уранизм уступает место гетеросексуализму. В это время последний торжествует в искусстве Еврипида (Атеней. XIII, 81: «Софокл так же любил молодых маль-
чиков, как Еврипид женщин») и вместе с ним как его естественное дополнение — женоненавистничество.
— Почему вдруг женоненавистничество?
— А как же иначе? Это факт, и очень важный, связанный с тем, о чем я вам недавно говорил.
— С чем же?
— С тем, что почитанием женщины мы обязаны уранизму, как и прекрасными женскими образами в драмах Софокла и Шекспира. И если уранизм обычно сопровождается уважительным отношением к женщине, то, как только она становится объектом всеобщего вожделения, уважение к ней падает. Поймите, что это происходит само собой.
Признайте также, что периоды уранизма (если так можно выразиться) отнюдь не являются периодами декаданса. Осмелюсь утверждать, что, напротив, периоды художественного расцвета, такие, как эпоха Перикла в Греции, эпоха Августа в Риме, эпоха Шекспира в Англии, эпоха Возрождения в Италии и во Франции, эпоха Людовика XIII в той же Франции, эпоха Гафиза в Персии и так далее были периодами явного, если не сказать
официального утверждения гомосексуальных нравов. Я готов также заявить, что те периоды или страны, которые отличаются отсутствием уранизма, отличаются также отсутствием искусств.
— Не опасаетесь ли вы стать жертвой некоторой иллюзии? Быть может, эти периоды представляются вам, как вы говорите, «уранистскими» просто потому, что в силу их блеска мы уделяем им особо пристальное внимание, и через блистательные произведения нам открывается тайная игра страстей, вдохновивших эти произведения?
— Ваши слова означают то, что вы согласны с тем, о чем я недавно говорил: что уранизм довольно широко распространен. Ну, что же, как вижу, вы несколько продвинулись вперед,— с улыбкой сказал Коридон.— Между тем, я не говорил, что в эти цветущие периоды наблюдается усиление уранизма, я отмечаю только его утверждение и открытую практику. Впрочем,— добавил он через мгновение,— в периоды войн, возможно говорить об усилении. Да, думаю, что периоды воинственного воодушевления — это по преимуществу уранистские периоды. Так и воинственные народы в особенности склонны
к гомосексуализму.
Он некоторое время помолчал, затем вдруг спросил:
— Вы никогда не задавались вопросом, почему в «Кодексе Наполеона» ни один закон не запрещает педерастию?
— Быть может, потому,— отвечал я, ошарашенный,— что Наполеон не придавал ему никакого значения или рассчитывал на то, что нашего инстинктивного отвращения будет достаточно.
— Скорее всего потому, что подобные законы стеснили бы его лучших генералов. Предосудительные или нет, эти нравы вовсе не расслабляют, но, можно сказать, укрепляют боевой дух, и признаюсь, что у меня вызвали серьезные опасения громкие процессы по ту сторону Рейна, которые даже бдительность императора не смогла скрыть, а еще раньше — самоубийство Круппа. Кое-кто во Франции усмотрел во всем этом признаки упадка. А я так думал про себя: следует страшиться народа, у которого даже разврат носит воинский характер, а женщине отведена роль производить на свет прекрасных детей.
— Учитывая тревожное снижение рождаемости во Франции, позвольте мне полагать, что сейчас не время уклонять наши желания (если это вообще возможно) в ту сторону, о которой вы говорите. Ваш тезис по меньшей мере несвоевремен. Увеличение рождаемости...
— Как! Вы действительно верите, что все эти любовные игры приведут к рождению большого числа детей? Вы считаете, что все эти женщины, предлагающие себя
в любовницы, согласятся зачать? Вы шутите! Я утверждаю, что бесстыдно возбуждающие чувственность картинки, театральные пьесы, мюзик-холлы и многие газеты лишь отвращают женщину от ее обязанностей, превращают ее в вечную любовницу, отвергающую материнство. Я утверждаю, что для государства такое положение вещей опаснее, чем чрезмерное распространение иных нравов и что эти нравы связаны с меньшими затратами и меньшими излишествами.
— Не кажется ли вам, что вы идете на поводу вашего особого вкуса и ваших интересов?
— Хоть бы и так! Главное не в том, заинтересован ли я в защите какой-то вещи, а в том, достойна ли она защиты.
— Итак, вы не только призываете нас быть терпимыми в отношении уранизма, но еще хотите превратить его в гражданскую добродетель.
— Не приписывайте мне абсурдных высказываний. Каким бы ни было вожделение, гомо- или гетеросексуальным, добродетель состоит в том, чтобы его превозмочь. Я вскоре к этому вернусь. Но, не утверждая вместе с Ликургом (во всяком случае, если верить Плутарху), что гражданин может быть порядочным и полезным республике лишь в том случае, если у него есть друг (Прим.: «Поклонники» делили с их любимцами и честь, и стыд... Каждый старался сделать друга еще доблестней» («Жизнь Ликурга»)), я утверждаю, что уранизм сам по себе не представляет никакой опасности ни для общественного порядка, ни для государства. Как раз наоборот.
— Станете ли вы отрицать, что зачастую гомосексуализм сочетается с некоторыми изъянами в умственном развитии, как это отмечают многие ваши коллеги (я обращаюсь к вам как к врачу)?
— С вашего позволения, мы не будем говорить о клинических случаях. Мне жаль, что те, кто плохо осведомлен, путают нормальных гомосексуалистов с извращенцами. Надеюсь, вы понимаете, что значит «извращенец». Среди гетеросексуалистов также есть дегенераты, маньяки и больные. Вынужден признать, увы! что часто у других...
—У тех, которых вы имеете смелость называть нормальными педерастами.
—Да... у них порой наблюдаются недостатки в характере, ответственность за которые я возлагаю исключительно на состояние наших нравов. Так всегда происходит, если систематически подавлять естественные желания. Да, состояние наших нравов способствует тому, что гомосексуальные наклонности имеют следствием лицемерие, хитрость и неприятие законов.
— Скажите прямо: преступность.
— Разумеется, если вы сами делаете из того, о чем я говорю, преступление (Прим.: Насколько общественное мнение может препятствовать торжеству справедливости ясно показывает статья в «Матен» (от 7 августа 1909 г.) «Нравственный итог одного судебного
процесса», посвященная делу Ренара: «За последние годы дело ни одного подсудимого не вызывало столько сомнений, сколько дело Ренара, представшего перед судом присяжных
департамента Сена. Тем не менее присяжные без колебаний отправили его на каторгу. На суде присяжных в Версале сомнения лишь еще больше возросли, однако и присяжные Версаля без рассуждений признали его виновным. В кассационном суде приговор, казалось бы, имел все шансы быть обжалованным, однако кассационная жалоба была быстро отвергнута. И общественное мнение — за несколькими редкими, само собой разумеющимися (?) исключениями — всякий раз было на стороне присяжных и судей.., Почему? Потому что было доказано, что Ренар, даже если допустить, что он не убивал, был мерзким и отвратительным чудовищем. Потому что толпа находилась под влиянием чувства, что Ренар, даже если он не убивал г-на Реми, принадлежит к числу тех личностей, которых общество выбрасывает из своей среды и от- правляет гнить в Гвиану» и т. д.). Но именно в этом я и обвиняю наши нравы, точно так же, как я возлагаю ответственность за три четверти производимых абортов на то осуждение, которому подвергаются забеременевшие девушки.
— Вы можете также отчасти обвинить наши добрые нравы в уменьшении рождаемости.
— Вы знаете, как Бальзак называл нравы? «Лицемерием народов». Поразительно, до какой степени, когда речь идет о столь серьезных, столь неотложных и столь жизненно важных вопросах, до какой степени слово предпочитают вещи, видимость — реальности и ради витрины жертвуют складом товаров...
— Против чего вы теперь выступаете?
— О! Теперь я говорю не о гомосексуализме, но о снижении рождаемости во Франции. Но это увело бы нас слишком далеко...
Вернемся к интересующей нас теме. Будьте уверены, что в нашем обществе среди тех, кто вас окружает и кого вы чаще других посещаете, есть люди, весьма уважаемые вами и при этом такие же гомосексуалисты, как Эпаминонд или я. Не ждите, что я назову имена. У каждого есть самые веские причины для того, чтобы скрывать правду. И если кто-то вызывает подозрения, то предпочитают закрыть на них глаза и принять участие в лицемерной игре. Чрезмерное осуждение даже служит защитой преступнику, как об этом писал Монтескье: «Жестокость законов препятствует их исполнению. Когда наказание безмерно, ему часто приходится предпочесть безнаказанность».
— Тогда на что же вы жалуетесь?
— На лицемерие. На обман. На непонимание. На то, что вы заставляете ураниста вести себя как контрабандист.
— В общем, вы хотите вернуть греческие нравы.
— Когда бы такое могло случиться! Ради блага государства!
— Слава богу, христианство все это очистило, омыло, облагородило и возвысило. Оно укрепило семью, освятило брак и вне его предписало целомудрие. Что вы на это скажете?
— Или вы меня плохо слушали, или все же поняли, что я вовсе не выступаю против брака и целомудрия. Могу повторить вслед за Мальтусом: «Я буду безутешен, если какие-либо мои слова можно будет истолковать как противоречащие добродетели». Я не уранизм противопоставляю целомудрию, но вожделение, удовлетворенное или нет. И я также утверждаю, что греческие нравы лучше, чем наши, обеспечивали супружеский покой, честь женщины, уважение семейного очага, здоровье супругов. Точно так же уроки целомудрия и добродетели были благороднее и естественно вели к их достижению. Или вы полагаете, что, отдав свое сердце другу, которого он любил сильнее, чем какую-либо
женщину, Блаженный Августин с большим трудом пришел к Богу? Неужели вы думаете, что совместное воспитание мальчиков в древности располагало их к разврагу больше, чем смешанное обучение наших школьников? Я считаю, что друг, в греческом смысле слова,
лучший советчик для подростка, чем любовница. Я считаю, что уроки любви, преподанные, например, г-жой де Варане юному Жан-Жаку, были гораздо пагубнее для него, чем спартанское или фиванерое воспитание. Да, я думаю, что он был бы менее испорчен и даже более... мужествен с женщинами, если бы немного ближе следовал примеру столь почитаемых им героев Плутарха. Повторяю еще раз, я противопоставляю целомудрию не разврат, каким бы он ни был, но нечистоту, и сомневаюсь, что молодой человек может подойти к браку более испорченным, чем некоторые нынешние гетеросексуалисты.
Я утверждаю, что если молодой человек влюбляется в девушку и его любовь глубока, то есть много шансов, что она будет целомудренной и поначалу далекой от желаний. И это очень хорошо поняли Виктор Гюго, который говорит в «Отверженных», что Мариус был
скорее готов бежать к девкам, чем приподнять хотя бы взглядом край юбки Козетты, и Филдинг, который в своем восхитительном «Томе Джонсе» заставляет своего героя тем больше забавляться с девицами в трактире, чем сильнее его любовь к Софи. Именно на
этом сыграла хитрая де Мертей в несравненной книге Лакло, когда юный Дансени влюбился в юную Воланж. Но хочу добавить, что для всех них было бы менее опасным, если бы их добрачные утехи были иного характера. Наконец, если вы позволите мне сравнить ту и другую любовь, то я отмечу, что страстная привязанность старшего друга или сверстника зачастую столь же сочетается с самоотвержением, как и любовь к женщине. Тому есть много примеров, и знаменитых (См., в частности, роман Филдинга «Амелия». Ш. Гл. 3 и 4). Но здесь, как Базальжетт в своем переводе Уитмена, вы охотно заменяете слово «любовь», стоящее в подлиннике и отражающее реальность, менее компрометирующим словом «дружба» (Прим.: «Существует ли чувство, более нежное и благородное, чем одновременно страстная и робкая дружба, которая связывает двух мальчиков? Тот, кто влюблен, не решается выразить свое чувство лаской, взглядом, словом. Это нежность, не ослепляющая, но заставляющая страдать от малейшей ошибки возлюбленного, и в ее состав входят восхищение и самозабвение, гордость, умиление и тихая радость» (Jacobsen. Niels Lyhne. P. 69)). Я говорю, что, если эта любовь глубока, то она тяготеет к целомудрию (Прим.: «Похоть и воспаленные чувства не имеют ничего или
очень мало общего с Любовью» (Дуиза Лабе. Спор безумия и любви. Беседа III)), разумеется, если заставляет желание истаять, и может наилучшим образом воспитать смелость, трудолюбие и добродетель (Прим.: «Поклонники»,— говорит Плутарх в «Жизни Ликурга», делили с их любимцами и честь, и стыд. Когда один мальчик закричал во время борьбы от страха, начальники наложили штраф на его «поклонника»).
Я утверждаю также, что старший друг лучше понимает подростка и его трудности, чем женщина, даже опытная в любви. Разумеется, я знаю слишком многих мальчиков, предающихся уединенным утехам, и потому считаю такого рода любовь наиболее действенным средством исцелиться от этой привычки. «Я видел юношей, которые в возрасте от тринадцати до двадцати двух лет хотели бы быть красивыми девушками, а позднее становились мужчинами»,— пишет Лабрюйер («О женщинах», 3), несколько отдаляя, на мой взгляд, тот момент, когда определяется гетеросексуальная ориентация подростка. До тех пор его желание расплывчато и подвержено влиянию внешних примеров, указаний и побуждений. Его влюбленности носят случайный характер, и примерно до восемнадцати лет он скорее приглашает любить его, чем сам умеет
любить. Если в том возрасте, пока он еще остается «molliter juvenis» («нежным юнцом» (лат.)), по выражению Плиния, более желанным, чем желающим, кто-нибудь постарше влюбится в него, то я думаю, разделяя мнение той прошлой культуры, лишь оболочкой которой вы согласны восхищаться, что не будет для него ничего лучше, предпочтительней, чем любовник. Пусть влюбленный окружит его ревнивым вниманием и сам, восторженный и очищенный своей любовью, направит его к тем сияющим вершинам, коих невозможно достичь без любви. Если же, напротив, подросток попадет в объятия женщины, то поистине это может быть для него пагубно. Увы! Мы знаем тому много примеров. Но в этом слишком нежном возрасте подросток еще очень неопытен в делах любви, и женщина, к счастью, вскоре теряет к нему интерес.
Возраст между тринадцатью и двадцатью двумя годами (если следовать возрастным указаниям Лабрюйера) был для греков временем дружбы-любви, взаимного ободрения, благородного соперничества. Только выйдя из этого возраста, юноша «желает стать мужчиной», то есть думает о женщине и, стало быть, о женитьбе, чему никто не противился.
Я дал ему возможность выговориться и не стал перебивать. После окончания своей речи он некоторое время ждал моих возражений. Но я лишь попрощался с ним, взял шляпу и вышел, будучи уверен в том, что лучшим ответом на некоторые утверждения служит многозначительное молчание.