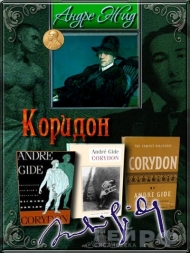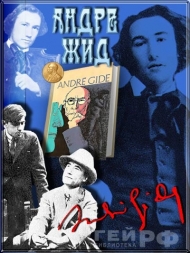Андре Жид
Коридон
Аннотация
В 1918 году Андре Жид влюбился в молодого человека по имени Марк Аллегре. Под влиянием этого чувстваон создает "Коридон". Эссе "Коридон" – диалоги в защиту однополой любви, написанные наподобие диалогов Платона.
В 1918 году Андре Жид влюбился в молодого человека по имени Марк Аллегре. Под влиянием этого чувстваон создает "Коридон". Эссе "Коридон" – диалоги в защиту однополой любви, написанные наподобие диалогов Платона.
В 190... году скандальный судебный процесс вновь поставил на повестку дня непростой вопрос об уранизме. Целую неделю в салонах и кафе ни о чем другом не говорили. Устав от восклицаний и рожденных наобум теорий невежд, упрямцев и глупцов, я захотел придать основательность моим суждениям и, признавая только за разумом право осуждать или оправдывать, отправился поговорить на эту тему с Коридоном. Я слышал, что он не опровергает некоторых приписываемых ему противоестественных наклонностей. Мне хотелось убедиться самому в истине и узнать, что он скажет в свое оправдание.
Последний раз я видел Коридона десять лет тому назад. Тогда это был пылкий, мягкий и в то же время гордый юноша, великодушный, всегда готовый помочь, один взгляд которого вызывал уважение. Он с блеском завершил медицинское образование, и специалисты рукоплескали его первым работам. После окончания лицея, где мы вместе учились, нас долго связывала тесная дружба. Затем годы путешествий нас разлучили, и, когда после возвращения из странствий я обосновался в Париже, дурная репутация, которой ему стоили его нравы, удержала меня от возобновления нашего знакомства.
Должен признаться, что, войдя в его квартиру, я не испытал того неприятного чувства, которого опасался.
Впрочем, Коридон не внушает подобного чувства и своей манерой одеваться: достойной и даже отчасти нарочито строгой. Он провел меня в комнату, где я тщетно искал те признаки женственности, которые специалисты находят во всем, что имеет отношение к извращенцам, утверждая, что никогда на этот счет не ошибаются. Все же над его секретером из красного дерева можно было заметить большую фотографию, изображающую фреску Микеланджело «Сотворение человека»: на ней обнаженный Адам, простертый во прахе и послушный творящему персту Бога, обращает к нему сияющий благодарностью взор. Коридон настаивает на своей любви к произведениям искусства, так что, если бы я вздумал удивиться его выбору, у него всегда есть оправдание. На его рабочем столе стоит портрет белобородого старца, в котором я тотчас же узнал американца Уолта Уитмена: этот портрет предваряет перевод его сочинений, недавно опубликованный г-ном Базальжеттом. Г-н Базальжетт — автор также биографии Уитмена. С этим объемистым трудом я как раз недавно ознакомился, и он послужил мне поводом для начала разговора.
I
— После того, как я прочитал книгу г-на Базальжетта,— начал я,— мне кажется, что этот портрет не имеет достаточных оснований находиться у вас на столе.
Моя фраза была дерзкой. Коридон сделал вид, что не понял ее. Я продолжал настаивать.
— Во-первых,— ответил он,— творчество Уитмена остается достойным восхищения, как бы ни представляли его нравы...
— Признайтесь все же, что ваше восхищение Уитменом весьма поубавилось после того, как гн Базальжетт доказал, что ему не были свойственны нравы, которые вы ему с удовольствием приписывали.
— Ваш друг Базальжетт вовсе ничего не доказал; все его рассуждения опираются на легко опровергаемый силлогизм: он исходит из принципа, что гомосексуализм — противоестественная наклонность. Поскольку Уитмен был совершенно здоров и перед нами, собственно говоря, самый совершенный естественный человек, какого нам когда-либо предлагала литература...
— То, следовательно, Уитмен не был педерастом. Вот, на мой взгляд, единственно возможный вывод.
— Но перед нами его произведения. Г-н Базальжетт тщетно переводит «love» как «привязанность» или «дружба», a «sweet» как «чистый» в тех случаях, когда поэт обращается к «товарищу»... От его перевода все страстные, чувственные, нежные, трепетные стихотворения не перестают быть все того же порядка, то есть, «противоестественными», как вы это называете.
— Я вовсе не говорю о «порядке»... Ну, а каков ваш силлогизм?
— Пожалуйста: Уитмена можно рассматривать как образец нормального человека. Следовательно, Уитмен был педерастом.
— Итак, педерастия — это нормальная склонность. Браво! Остается доказать, что Уитмен был педерастом. Один принцип против другого. Я предпочитаю силлогизм Базальжетта, он меньше противоречит здравому смыслу.
— Важно не противоречить не здравому смыслу, а истине. Я пишу статью об Уитмене, ответ на аргументы Базальжетта. (Прим.: Г-н Базальжетт, разумеется, имеет право (и его обязывает к тому французский язык) всякий раз, когда род в английском языке остается неопределенным, переводить, к примеру «the friend whose embracing me» как «подруга, которая и т. д.», хотя при этом он вводит в заблуждение и себя самого, и читателя. Но он не имеет права, внеся изменения в текст, делать на его основе выводы. С обезоруживающим простодушием он признается, что сюжет с участием женщины в написанной им биографии Уитмена — «чистый» вымысел. Его стремление перетянуть своего героя в гетеросексуальную область столь велико, что, когда он переводит слова «the heaving sea», «вздымающееся море», ему необходимо добавить «словно груди» (С. 278), что по смыслу просто нелепо и к тому же глубоко противоречит поэтике Уитмена. Читая такой перевод, я спешу сличить его с текстом в уверенности, что он... ошибочен. Точно так же, когда мы читаем «смешавшись с толпой очищающих яблоки, я требую то у той, то у другой поцелуя за каждый найденный мной красный плод» (С. 93), женский род, разумеется, вымысел Базальжетта. Подобных примеров множество, а других нет, то есть нет таких, на которые мог бы опереться Базальжетт. Поистине Уитмен словно обращается именно к нему, восклицая: «Я не таков, как вы думаете» (С. 97). Что касается литературных искажений, то они настолько многочисленны и серьезны, что дают превратное представление о поэзии Уитмена. Я знаю немного переводов, которые так сильно искажали бы оригинал... но это рассуждение завело бы нас слишком далеко и в другую область.)
— Вас так занимают подобные вопросы нравов?
— В достаточной мере, признаюсь. Я готовлю довольно большую работу на эту тему.
— Значит, трудов Молля, Крафт-Эбинга, Раффаловича вам недостаточно!
— Они меня не удовлетворяют. Я хочу сказать о том же, что и они, по-другому.
— Чем меньше говорят об этих вещах, тем лучше, и зачастую они существуют только потому, что кто-то их неловко пропагандирует — так мне всегда казалось.
Кроме их некрасивости всегда найдутся повесы, готовые следовать именно тому примеру, который кто-то намеревался осудить.
— Я не намерен ничего осуждать.
— Ходят слухи, что вы выступаете за терпимость.
— Вы меня не понимаете. Очевидно, я должен сказать вам заглавие моего сочинения.
— Слушаю.
— Я пишу «Защиту педерастии».
— Почему бы не «Похвалу», раз на то пошло?
— Такое заглавие не вполне отвечает моей мысли. Впрочем, я уже опасаюсь и того, как бы некоторые не усмотрели своего рода вызов в слове «Защита».
— И вы посмеете опубликовать вашу книгу?
— Нет, не посмею,— ответил он очень серьезно.
— Поистине, вы все одинаковы,— продолжал я после короткой паузы.— Вы хорохоритесь у себя в спальне и среди вам подобных; но вне стен вашего дома, перед публикой ваша храбрость улетучивается. В глубине души вы прекрасно чувствуете, что вас осуждают на законном основании. Вы красноречиво протестуете вполголоса, но возвысить голос — выше ваших сил.
—Да, правда, в нашем деле не хватает мучеников.
— Тогда не произносите громких слов.
— Я употребляю те слова, которые необходимы. У нас были Уайльд, Крупп, Макдональд, Эйленбург...
— И вам этого мало!
— О! Жертвы, да! Жертв сколько угодно! Но мучеников, ни одного. Все отрицали и будут отрицать.
— Что поделаешь, черт возьми! Перед лицом общественного мнения, перед журналистами и на суде всякого охватывает чувство стыда и желание отступить.
— К сожалению, все молчат! Да, вы правы: утверждать свою невинность ценой отрицания своей жизни значит позволять торжествовать общественному мнению. Как странно! У всех хватает смелости иметь свое мнение, но признать свои нравы решимости нет. Все согласны страдать, но никто не хочет быть опозоренным.
— Разве вы не такой, как все, если не осмеливаетесь напечатать вашу книгу?
Он немного помолчал, затем произнес:
— Быть может, осмелюсь.
— А если вас прижмет на суде какой-нибудь Квинсберри или Гарден, вы, конечно, предвидите, каким будет ваше поведение.
— Увы! Наверное, мне, подобно моим предшественникам, не хватит силы духа и я стану все отрицать. Мы не настолько одиноки, чтобы комья грязи, которые в нас бросают, не запятнали кого-то другого, кто нам дорог. Скандал привел бы в отчаяние мою матушку, и я бы этого себе не простил. Моя младшая сестра еще не замужем и живет вместе с ней. Быть может, мой вероятный зять постыдится сделать ей предложение.
— Так, черт возьми! Понимаю: вы признаете, что эти нравы позорят даже того, кто их только терпит.
— Это не признание, а констатация факта. Вот почему я бы хотел, чтобы в нашем деле появились мученики.
— Кого вы имеете в виду?
— Того, кто выдержит натиск, кто, не хвастаясь и не бравируя, стерпит осуждения и оскорбления. Вернее, я бы хотел, чтобы достоинство, честность и прямота такого человека были столь общепризнаны, что осуждение не посмело бы его коснуться...
— Вот такого человека вам и не найти.
— Позвольте мне выразить пожелание, чтобы он нашелся.
— Послушайте! Между нами говоря, вы считаете, что от этого будет какая-то польза? Какой перемены в общественном мнении вы ждете? Согласен, что вас несколько притесняют. Но если бы вас притесняли чуть больше, было бы только лучше, поверьте. Эти гнусные нравы, если не давать им волю, просто перестали бы существовать. (Я заметил, что он пожал плечами, но я продолжал настаивать на своем.) Вы полагаете, что на свет божий вытащено недостаточно мерзостей? По-моему, гомосексуалистам там и сям постыдно потакают. Пусть довольствуются скрытой жизнью, поощрением со стороны себе подобных. Но не добивайтесь для них от порядочных людей ни одобрения, ни хотя бы снисхождения.
— Все же я не могу обойтись без уважения этих людей.
— Что же делать? Измените ваши нравы.
— Дело в том, что я не могу их изменить. Вот дилемма, для решения которой Крупп, Макдональд и многие другие не нашли иного решения, кроме пистолетного выстрела.
— К счастью, вам не свойствен подобный трагизм.
— Не могу в этом поклясться. Я бы просто хотел написать мою книгу.
— Признайтесь, что здесь замешано немало гордыни.
— Ничуть.
— Вы культивируете вашу странность, не хотите ее стыдиться и рады ощущать себя не таким, как другие.
Он снова пожал плечами и молча прошелся по комнате. Затем, словно справившись с раздражением, которое вызвали мои последние слова, заговорил, вновь усевшись возле меня.
II
— Когда-то вы были моим другом. Помнится, мы понимали друг друга. Зачем же сегодня вы иронизируете над каждой моей фразой? Разве вы не можете, не скажу, одобрить меня, но хотя бы спокойно выслушать? Вот так, как я спокойно говорю с вами... во всяком случае, как я буду говорить, если вы станете меня слушать.
— Простите меня,— сказал я, обезоруженный его тоном.— Я и впрямь вас давно не видел. Да, мы были близкими друзьями в то время, когда в вашем поведении никак не проявлялись ваши наклонности.
— А затем вы перестали со мной видеться, вернее, вы порвали со мной.
— Не станем объясняться на этот счет. Давайте просто поговорим, как раньше,— продолжал я, протянув ему руку.— У меня есть время, и я готов вас выслушать.
Когда мы общались, вы были еще студентом. Скажите, вы уже тогда все знали о себе? Говорите! Я жду от вас исповеди!
В его обращенном ко мне взгляде начало возрождаться доверие, и он заговорил:
Когда я находился в интернатах при больницах, возникшее сознание моей... аномалии вызвало во мне смертельную тревогу. Бессмысленно утверждать, как это делают некоторые, что педерастия — следствие разврата и удел пресыщенных. Я не мог также признать себя ни умственным, ни физическим уродом. Я был трудолюбив, вел очень целомудренный образ жизни и имел твердое намерение после окончания больничной
практики жениться на одной девушке. Она уже умерла, но тогда я любил ее больше всего на свете. Я любил ее слишком сильно, чтобы отдать себе ясный отчет в том, что я не желал ее. Я знаю, что некоторые с трудом допускают то, что любовь может не всегда сочетаться с желанием. Мне об этом ничего не было известно. Между тем, никакая другая женщина не становилась предметом моих мечтаний и не пробуждала во мне никаких желаний. Еще меньше меня привлекали девки, с которыми спешили развлечься почти все
мои приятели. Но тогда я не подозревал, что могу желать кого-то другого и что вообще другие, не женщины, могут стать объектом подлинного желания, и был уверен в том, что мое воздержание похвально, бурно радовался при мысли, что вступлю в брак девственником, и гордился своей чистотой, не думая о том, что она может быть обманчивой. Только постепенно мне удалось понять себя. И я должен был признать, что все эти хваленые соблазны, которым я гордо противился, меня совершенно не привлекали.
Итак, то, что я принимал за добродетель, было всего лишь равнодушием! Вот открытие, которое должно повергнуть юную и достаточно благородную душу в ужасную растерянность. Только работа спасала меня от меланхолии, которая обесцвечивала и омрачала мою жизнь. Вскоре я понял, что не способен жениться. Я не мог ничего сказать моей невесте о причинах моей грусти, и мое поведение с ней становилось все более двусмысленным и приводящим в недоумение. Вместе с тем некоторый опыт, приобретенный в борделях, доказал мне, что я не импотент и в то же время окончательно раскрыл мне глаза.
— Раскрыл глаза на что?
— Мой случай казался мне очень странным (разве мог я знать тогда, что он, напротив, очень распространен?). Я был способен испытывать сладострастие, но не желание. Родители мои отличались отменным здоровьем. Сам я был крепок и силен. По моему внешнему виду нельзя было догадаться о моем дефекте. Никто из моих друзей о нем не догадывался. Я бы скорее предпочел, чтобы меня четвертовали, чем открылся бы кому-нибудь. Но ломать комедию, изображать хорошее настроение и веселье только ради того, чтобы не возникло ни малейшего подозрения, становилось для меня нестерпимо. Вскоре, в одиночестве, я окончательно пал.
Серьезность и убежденность его тона усиливали мой интерес.
— Сколько во всем этом воображения! — сказал я мягко.— Просто вы были влюблены, следовательно, вас мучили разные страхи. После свадьбы любовь превратилась бы в нормальное желание.
—Да, я знаю, так говорят... Как я был прав, не веря этому!
— Теперь вы, кажется, мало расположены к ипохондрии. Как вы излечились от этой болезни?
— В то время я много читал. Однажды мне попалась одна фраза, ставшая моим спасением. Она принадлежит аббату Гальяни. «Самое главное,— писал он г-же д'Эпине,— не добиваться исцеления, но научиться жить со своими болезнями».
— Почему бы вам не повторять эту фразу вашим больным?
— Я говорю ее тем, кто не может выздороветь. Эти слова, наверное, кажутся вам слишком простыми. А я извлек из них мою философию. Мне оставалось только узнать, что я не урод, не единичный случай, и я вновь обрел уверенность и перестал быть себе противен.
— Вы рассказываете о том, как вы определили, что вас мало привлекают женщины, но не говорите о том, как обнаружились ваши наклонности..
— Это не слишком приятная история, я не люблю ее рассказывать. Но вы меня внимательно слушаете, и, надеюсь, мой рассказ поможет вам не столь легкомысленно, как прежде, смотреть на эти вещи.
Я заверил его если не в моем сочувствии, то, по крайней мере, в почтительном внимании.
— Итак, вы знаете, что я был обручен. Я нежно любил ту, которая должна была стать моей женой, но любил любовью почти мистической, и, разумеется, по неопытности не представлял себе, что можно любить как-то иначе. У моей невесты был брат, моложе нее на несколько лет. Я часто его видел, и он проникся ко мне живейшей симпатией.
— Ах, вот оно что! — воскликнул я невольно.
Коридон строго посмотрел на меня.
— Нет, между нами не произошло ничего нечистого; его сестра была моей невестой.
— Простите меня.
— Но представьте мое волнение, мое смущение, когда однажды вечером, в минуту откровенности, мне пришлось признать, что этот мальчик не только хотел дружить со мной, но и просил моей ласки.
— Вы хотите сказать, вашей нежности. Как множество детей, черт возьми! И здесь мы, старшие, обязаны быть бдительными.
— Что я и делал, клянусь вам. Но Алексис уже был не ребенком, но подростком, полным грации и ума. Его признания приводили меня в тем большее замешательство, что во всех его откровениях, во всех его наблюдениях, которые он так рано, с удивительной проницательностью делал над собой, я словно слышал собственную исповедь. Но все же ничто не оправдывало мою суровость.
— Суровость?
— Да. Мне было страшно за нас двоих. Я говорил с ним сурово, даже жестко и, что еще хуже, с преувеличенным презрением по отношению к тому, что я называл женоподобием и что было лишь естественным выражением его нежности.
— Да, в таких случаях деликатность не мешает!
— Я был столь далек от нее, что бедный ребенок — да, это был еще ребенок — воспринял мою суровость самым трагическим образом. Три дня подряд, удвоив свою нежность, он пытался победить мой якобы гнев. Я же демонстрировал все большую холодность, так что...
— Продолжайте.
— Как! Разве вы не знаете, что Алексис Б. покончил с собой?
— И вы смеете предполагать, что...
— О! Я ничего не предполагаю. Сперва говорили о несчастном случае. Мы тогда отдыхали на природе: тело нашли у подножия скалы... Несчастный случай? Почему бы мне и не поверить в это? Но вот письмо, которое я нашел в изголовье моей постели.
Он выдвинул один из ящиков стола, дрожащей рукой взял листок бумаги, бросил на него взгляд, затем сказал:
— Нет, я не стану читать вам это письмо; вы станете презирать бедного ребенка. Он писал мне в общих чертах, но с какой страстью! о той тоске, в которую погрузил его наш последний разговор... в особенности некоторые мои фразы. Спасением от подобного физического томления,— воскликнул я, лицемерно возмущаясь теми вкусами, в которых он мне признавался,— станет, я надеюсь, большая любовь.— Увы! — писал он мне.— Эту любовь я чувствую по отношению к тебе, мой друг. Ты не понял меня; или, что еще хуже, понял и теперь презираешь. Я вижу, что стал для тебя отвратителен, и с этой минуты испытываю отвращение к самому себе. Если я не могу ничего изменить в моей чудовищной природе, то могу, по крайней мере, освободить мир от нее... Потом четыре страницы патетических излияний, характерных для этого возраста. То, что мы с излишней легкостью назвали бы декламацией.
Этот рассказ произвел на меня довольно тягостное впечатление...
— Понимаю! — произнес я наконец.— То, что объяснение в подобной любви было обращено именно к вам,— вот поистине насмешка судьбы. Эта история, конечно, причинила вам боль.
— До такой степени, что я немедленно отказался от мысли жениться на сестре моего друга.
— Но,— решил я закончить свою мысль,— я предпочитаю думать, что с каждым случается лишь то, чего он заслуживает. Признайтесь, что если бы этот подросток
не почувствовал в вас возможного отклика на его преступную страсть, эта страсть...
— Быть может, какой-то темный инстинкт и впрямь известил его о правде, но в таком случае очень жаль, что тот же инстинкт не дал знать о том же мне самому.
— И как бы вы тогда поступили?
— Мне кажется, я бы исцелил бедного ребенка.
— Вы только что говорили, что от этого нет исцеления; вы процитировали слова аббата: «главное — не добиваться исцеления...».
— Да послушайте же! Я бы исцелил его так же, как исцелился сам.
— То есть?
— Убедив его в том, что он не болен.
— Сейчас вы скажете, что извращение его инстинкта было естественным.
— Я бы убедил его в том, что уклонение его инстинкта в иную сторону было в высшей степени естественным.
— Значит, если бы все началось сначала, вы бы ему, конечно, уступили.
— О! Это совсем другой вопрос. После того, как проблема физиологии решена, встает вопрос морали. Наверное, из уважения к его сестре, с которой я был помолвлен, я бы призвал его преодолеть эту страсть, как, наверное, преодолел бы ее и сам. Но во всяком случае, эта страсть перестала бы казаться ему чудовищной. Случившаяся трагедия, которая окончательно открыла мне глаза на себя самого, прояснив природу моей привязанности к мальчику, трагедия, о которой я много думал, заставила меня... заняться тем, что кажется вам столь достойным презрения. В память об этой жертве, я захотел исцелить других жертв, страдающих от того же недоразумения: исцелить так, как я уже сказал.
III
Полагаю, теперь вы понимаете, почему я хочу написать книгу. Единственные известные мне серьезные книги на эту тему созданы врачами. С первых же страниц чувствуется нестерпимый запах больницы.
— Значит, вы собираетесь говорить не как врач?
— Как врач, как натуралист, как моралист, как социолог и историк...
— Я не знал, что вы разбираетесь во всех этих науках.
— Просто я собираюсь говорить не как специалист, а как человек. Обычно пишущие на эту тему врачи имеют дело с уранистами, которые стыдятся самих себя, с жалкими, извращенными, больными существами. Только такие обращаются к врачам. Как врач я, конечно, лечу и таких. Но как человек я вижу и других, ни хилых, ни жалких, и на них мне бы хотелось поставить.
— Ну, да, на нормальных педерастов!
— Совершенно верно. Поймите: гомосексуализм, как и гетеросексуальность, включает все возможные градации, все оттенки: от платонизма до похотливости, от самоотречения до садизма, от радостного здорового самоощущения до мрачной угрюмости, от простодушного излияния чувств до рафинированной порочности. Инверсия — лишь дополнение. К тому же между крайним гомосексуализмом и крайней гетеросексуальностью существует множество промежуточных стадий. Но обычно нормальной любви наивно противопоставляется любовь, которая считается противоестественной. И для большего удобства с одной связываются радость, благородная или трагическая страсть, красота поступков или творений ума, а с другой — всякая грязь и мерзость...
— Не горячитесь. Сафизм пользуется у нас бесспорной благосклонностью.
Он был так возбужден, что не расслышал моего замечания и продолжал:
— Что может быть смешнее, чем то, как всякий раз во время судебного процесса по поводу нравов, газетчики благопристойно удивляются при виде мужественного вида обвиняемых! Разумеется, согласно общественному мнению, они должны быть в юбках. Вот, смотрите, во время процесса над Арданом я вырезал из газеты эту заметку:
Граф фон Гогенау, высокого роста, затянутый в редингот, гордого и рыцарственного вида, нисколько не производит впечатление женоподобного мужчины. Это совершенный тип гвардейского офицера, влюбленного в свою профессию. А между тем над этим человеком благородного и воинственного вида тяготеют самые серьезные обвинения. Граф фон Динар тоже высокого роста...
— Точно так же,— продолжал Коридон,— даже самым предубежденным зрителям Макдональд и Эйленбург показались умными, красивыми, благородными...
— Короче говоря, во всех отношениях достойными любовного желания.
Он на минуту смолк, и в его взгляде вспыхнула искра презрения, но он взял себя в руки и продолжал, словно моя стрела не задела его:
— Мы вправе ожидать красоты от объекта желания, а не от того, кто желает. Мне нет дела до красоты тех, о ком я говорю. Если я обращаю внимание на их внешний вид, то чтобы показать, что они здоровы и мужественны, вот, что для меня важно. Но я не утверждаю, что таковы все уранисты; среди гомо-, как и среди гетеросексуалистов, есть свои вырожденцы, уроды и больные. Как врач я вслед за многими моими коллегами сталкивался с целым рядом тяжелых, жалких или трудных случаев. Я не стану утруждать читателя рассказом о них. Повторяю, моя книга будет посвящена здоровому уранизму, или, как вы только что выразились, нормальной педерастии.
— Разве вы не заметили, что я употребил это выражение в насмешку? Для вас было бы большой удачей, если бы я начал употреблять его всерьез.
— Я не жду от вас любезности. Я предпочитаю принудить вас к пониманию истины.
— Теперь шутите вы.
— Я не шучу. Держу пари, что менее чем через двадцать лет слова «противоестественный», «противоприродный» и т.д. больше не будут восприниматься
всерьез. Я считаю, что в мире есть только одна вещь, которую можно назвать неестественной: это произведение искусства. Все остальное волей-неволей остается в
пределах естества и должно быть рассмотрено с точки зрения не моралиста, а натуралиста.
— Слова, которые вы осуждаете, все же укрепляют
наши добрые нравы. Где мы окажемся, если вы отвергнете эти понятия?
— Мы не станем более безнравственными, и я бы даже сказал, если бы посмел: наоборот!.. Вы нас здорово дурачите, господа гетеросексуалисты! Послушать вас, так только отношения разных полов законны, по крайней мере, «нормальны».
— Достаточно того, что эти отношения могут быть нормальными. Тогда как все гомосексуалисты — люди развращенные.
— Вы полагаете, что им неизвестны самоотречение, самообладание, целомудрие?
— К счастью, их порой понуждают к этому законы и опасение потерять уважение окружающих.
— А для вас счастье, что законы и нравы понуждают вас к этому так мало.
— Да послушайте же! Есть же, наконец, брак, честный брак, то, чего нет у вас. Разговаривая с вами, я чувствую, что уподобляюсь тем моралистам, которые видят в плотских утехах вне супружества грех и осуждают все отношения, за исключением законных.
— О! Здесь я готов их поддержать и, раз вы меня к этому побуждаете, быть еще непримиримее, чем они.
Из множества супружеских альковов, в которые я был приглашен проникнуть как врач, я видел, клянусь вам, очень мало чистых. И я бы не стал биться об заклад, что больше изощренности, извращенности в том, что касается любовной механики, надо искать среди куртизанок, а не среди некоторых «честных» супружеских пар.
— Вы невыносимы.
— Но если альков — супружеский, порок сразу же обретает невинную белизну.
— Супруги могут делать то, что хотят, им это дозволено. Вас такие вещи не касаются.
— «Дозволено»; да, мне больше нравится это слово, чем слово «нормально».
— Меня предупреждали, что среди вам подобных нравственное чувство странным образом извращено. И до какой степени, поразительно! Вы как будто совершенно забыли о естественном акте оплодотворения, который освящен в браке и хранит великую тайну жизни.
— И вне которого любовь эмансипируется и превращается в безумие, во всего лишь бесплодную фантазию, в игру. Нет, нет! Я не забыл об этом, и именно на конечной цели я хочу основать свою мораль. Вне оплодотворения остается только удовольствие, а оно убеждает с трудом. Но заметьте, что акт зачатия происходит не часто, и достаточно одного каждые десять месяцев.
— Немного.
— Очень мало, тогда как природа предлагает гораздо больше затрат энергии. И... я не решаюсь продолжать...
— Не стесняйтесь! Вы уже столько всего сказали.
— Ну, что ж, пожалуйста: я полагаю, что далеко не будучи единственно «естественным», акт зачатия в природе, несмотря на самое удручающее изобилие материала, чаще всего представляет собой случайную удачу.
— Черт побери, объяснитесь!
— Охотно. Но здесь мы вступаем в область естественной истории; с нее начинается моя книга. Если вы готовы меня выслушать, я вам перескажу ее. Приходите завтра. Я как раз приведу в порядок мои бумаги.
ВТОРОЙ ДИАЛОГ
На следующий день в тот же час я снова был у Коридона.
— Я уже хотел не приходить,— сказал я, входя.
— Я знал, что вы это скажете,— ответил он, приглашая меня сесть,— и, тем не менее, придете.
— Вы проницательны. Но, видите ли, я пришел послушать не психолога, а натуралиста.
— Не беспокойтесь, я буду говорить с вами как натуралист. Я тут собрал мои наблюдения. Если использовать их все, трех томов не хватило бы. Но, как я сказал вам вчера, медицинские наблюдения я оставляю в стороне. Не потому, что они меня не интересуют. Просто моя книга в них не нуждается.
— Вы говорите так, словно она уже написана.
— Во всяком случае, она уже составлена. Материала слишком много... Она будет состоять из трех частей.
— И первая будет посвящена естественной истории.
—Да, и ей мы посвятим наш сегодняшний разговор.
— Могу ли я узнать, что будет во второй части?
— Приходите завтра, мы поговорим об истории, литературе и изящных искусствах.
— А послезавтра?
— Тогда я постараюсь доставить вам удовольствие как социолог и моралист.
— А потом?
— Потом я с вами распрощаюсь и предоставлю слово другим.
— Хорошо, я вас слушаю. Говорите.
I
— Признаюсь, что сперва я принимаю некоторые ораторские предосторожности. Я цитирую Паскаля и Монтеня.
— Какое они имеют к этому отношение?
— Вот две фразы, которые я хочу поставить эпиграфами. Мне кажется, они задают правильный тон дискуссии.
— Посмотрим, что это за цитаты.
— Та, что из Паскаля, вам известна: «Я сильно опасаюсь, что эта натура — всего лишь первая привычка, как привычка — это вторая натура».
— Действительно, я должен был догадаться.
— И я подчеркиваю слова: «Я сильно опасаюсь».
— Почему?
— Мне нравится, что он испытывает сильный страх.
Уверен, что было из-за чего.
—А Монтень?
— «Законы совести, порождаемые, по нашему мнению, природой, имеют в качестве источника привычку».
— Я знаю, что у вас много книг. В хорошей библиотеке можно найти все, что угодно, если поискать. Только напрасно вы пытаетесь спрятаться за случайной строчкой Паскаля, которую толкуете, как вам заблагорассудится!
— Поверьте, что у меня был большой выбор. Вот, я переписал и другие фразы, которые доказывают, что я не искажаю его мысли. Читайте.
Он протянул мне листок, где были выписаны следующие слова:
«В натуре человека нет ничего, кроме природы, причем животной. Все становится естественным. Утратить можно только естественное». Или, если хотите...
И он протянул мне другой листок. Я прочитал:
«Скорее всего природа не может быть столь однообразной. Стало быть, ее делает такой привычка, ибо она сдерживает природу. И порой природа берет верх над привычкой, хорошей или плохой, и человек действует согласно инстинкту».
— Вы полагаете, что гетеросексуальность — всего лишь дело привычки?
— Вовсе нет! Привычкой стало рассматривать только гетеросексуальность как нечто естественное.
— Паскаль был бы польщен, узнай он, чему вы заставляете его служить!
— Я не думаю, что извратил его мысль. Достаточно понять, что выражение «против природы» вполне можно заменить на другое: «против привычки». Если мы с этим согласимся, то сможем, надеюсь, перейти к нашей теме с меньшей предвзятостью.
— Ваша цитата — обоюдоострый меч. Я могу обратить его против вас же: педерастия, завезенная из Азии или из Африки в Европу, а во Францию — из Германии, Англии или Италии, некоторое время распространяла среди нас свою заразу. Но, слава богу! естественная, здоровая гальская основа никогда не исчезала, равно как и гальская галантность, веселость и крепость (Прим.: «Если существует порок или болезнь, неприемлемые для французского духа, французской морали и здоровой основы французской нации, то это, конечно, если называть вещи своими именами, педерастия». Ernest-Charles, Grande Revue (25 juillet 1910. P. 399)).
Коридон встал и в молчании прошелся по комнате.
Наконец он снова заговорил:
— Прошу вас, дорогой друг, не примешивайте сюда национальный вопрос. Я бывал в Африке, где европейцы убеждены, что этот порок дозволен, и предаются ему с большей свободой, чем у себя на родине, благо для того предоставляется много возможностей, да и местные жители отличаются красотой. В результате мусульмане прониклись убеждением, что эти вкусы принесены к ним из Европы...
— Позвольте мне все же думать, что пример заразителен; законы подражания...
— Разве вы не заметили, что они иногда действуют в другом направлении? Вспомните глубокую мысль Ларошфуко: «Есть люди, которые никогда бы не влюбились, если бы никогда не слышали о любви». Подумайте о том, что в нашем обществе, в наших нравах все нацелено на союз мужчины и женщины, все учит разнополой любви, все к ней призывает, провоцирует ее: театр, книги, газеты, демонстративный пример взрослых,
картина того, что происходит в салонах, на улицах. «Если после всего этого не влюбишься, значит, ты был плохо воспитан»,— шутливо восклицает Дюма-сын в предисловии к «Вопросу денег». Что же! Если подросток поддается наконец на уговоры среды, вы не думаете, что его выбор сделан под влиянием какого-то совета, что его желание приняло предписанное направление в силу общественного мнения! Но если, несмотря на всевозможные советы, призывы, провокации он проявляет гомосексуальные наклонности, вы тут же обвиняете какую-нибудь книгу, усматриваете чье-нибудь влияние (и так вы рассуждаете в отношении целой страны, целого народа). Это благоприобретенный вкус, утверждаете вы, результат, конечно, некоего внушения. Как
будто он не мог развиться сам по себе!
— Я не могу допустить, что такой вкус появляется сам по себе у здорового человека, разве что у извращенцев, вырожденцев и больных.
— И что же! Этот вкус, эту склонность, которые все заставляет скрывать и все сковывает, которые не имеют права проявиться ни в искусстве, ни в книгах, ни в жизни, которые, едва утвердившись, подпадают под силу закона и оказываются пригвождены вами к позорному столбу, становятся предметом шуточек, оскорблений, всеобщего презрения...
— Успокойтесь! Успокойтесь! Разумеется, ваш уранист — великий изобретатель.
— Я не говорю о том, что он только и делает, что изобретает. Просто когда он подражает, то потому, что хотел подражать, потому, что пример потакал его тайной склонности.
— Вы явно настаиваете на том, что этот вкус — врожденный.
— Я просто констатирую факт... И позвольте мне заметить, что к тому же подобный вкус не передается по наследству, поскольку может быть передан только в результате гетеросексуального акта...
— Тонкая шутка.
— Признайте, что подобный вкус должен быть очень силен, неистребим, пронизывать всю плоть, скажем прямо: должен быть весьма естествен, чтобы устоять против публичных унижений и не исчезнуть. Не находите ли вы, что он похож на источник, который, если его пытаются перекрыть, начинает бить чуть поодаль, ибо его невозможно осушить. Свирепствуйте, все будет тщетно! Перекрывайте! Подавляйте! Вам ничего
не удастся сделать.
— Да, я согласен, в последние годы сообщения в прессе о подобных случаях растут с печальной быстротой.
— Все потому, что благодаря нескольким знаменитым процессам газеты решились заговорить о данном предмете и делают это теперь регулярно. Гомосексуализм кажется более или менее распространенным в зависимости от того, насколько он всплывает на свет божий. На самом деле такой инстинкт, который вы называете противоестественным, всегда существовал и был во все времена и повсюду примерно так же силен, как все естественные потребности.
— Повторите-ка фразу Паскаля: «все вкусы — природны»...
— «По-видимому, природа не столь однообразна. Стало быть, все дело в обычае, который понуждает природу. И порой природа берет верх, и тогда человеком управляет инстинкт...»
— Я начинаю вас лучше понимать. Но тогда вам придется считать естественными также садизм, тягу к жестокости, к убийству, самые редкие, самые худшие инстинкты... и вы не намного продвинетесь вперед.
— Действительно, я полагаю, что во всяком инстинкте кроется животное начало. Кошки, занимаясь любовью, сочетают ласки с укусом. Но мы отклонились от нашей темы. А вообще, я полагаю, что по не совсем понятным причинам не уранизм, а гетеросексуальные отношения чаще связаны с садизмом... Если хотите, скажем проще: существуют общественные и антиобщественные инстинкты. Является ли гомосексуализм антиобщественным инстинктом, об этом я рассуждаю во второй и третьей частях моей книги; позвольте мне пока не касаться этого вопроса. Для начала мне надо не только признать гомосексуализм естественным явлением, но также попытаться объяснить его и понять, почему он существует. Несколько предварительных замечаний не были лишними, ибо предупреждаю вас: я собираюсь сформулировать не больше не меньше, как новую теорию любви.
— Черт побери! Значит, прежней вам не достаточно?
— Конечно, нет, поскольку в ней педерастия трактуется как «противоприродная»... Мы живем, полностью ослепленные и сбитые с толку очень старой, избитой теорией любви, которую нам не приходит в голову обсуждать. Эта теория проникла в естественную историю, дала ложное направление множеству идей и наблюдений. Боюсь, мне будет трудно избавить вас от нее за несколько минут нашего разговора...
— Все-таки попытайтесь.
— То, что я собираюсь вам изложить, вытекает из этой теории.
II
Он подошел к своей библиотеке и оперся о книжные полки.
— О любви много писали, но теоретиков любви немного. По правде говоря, помимо Платона и собеседников его «Пира», я признаю из них только Шопенгауэра.
— Недавно на вашу тему написал г-н де Гурмон...
— Я поражаюсь тому, что столь раскованный ум не сумел разоблачить это последнее убежище мистицизма, что столь ярый скептик не смог отрешиться от метафизических целей, которые предполагает теория, превращающая любовь в томление всей природы, а
жажду спаривания — в тайную пружину жизни. Наконец, меня удивляет то, что порой столь изощренный ум не пришел к тем выводам, которые я собираюсь вам изложить. Его книга «Физика любви» одушевлена единственной заботой: низвести человеческую любовь на уровень животных спариваний. Я называю такую заботу зооморфизмом — теория, достойная антропоморфизма, который повсюду находит человеческие вкусы и пристрастия.
— А ваша теория?
— Сейчас она предстанет перед вами, поначалу в своей чудовищной, парадоксальной форме. Затем мы ее немного отретушируем. Вот она: любовь — чисто человеческое изобретение, в природе любовь не существует.
— То есть, вы хотите сказать вслед за г-ном де Гурмоном, что то, что мы называем любовью,— от начала до конца всего лишь более или менее скрытый сексуальный инстинкт. Возможно, это не совсем верно, но, уж, конечно, не ново!
— Нет, нет! Я хочу сказать, что антитеисты, которые хотят заметить Бога огромным идолом под названием «всеобщий инстинкт размножения», удивительным образом заблуждаются. Г-н де Гурмон предлагает нам алфизику любви. Я же утверждаю, что знаменитый «сексуальный инстинкт», который неодолимо влечет один пол к другому,— целиком их собственная конструкция, что этот инстинкт не существует. .
— Ваш категорический тон меня не смущает. Что значит ваше отрицание полового инстинкта? И в то время, когда сама общая теория инстинктов подвергнута сомнению в работах Леба, Бона и других.
— Я не предполагал, что вам известны прилежные труды этих господ.
— Признаюсь, что я читал не все.
— И я обращался не к ученому мужу, но к вам, чувствуя, что вы не совсем сведущи в естественной истории... Не оправдывайтесь: многим литераторам свойственно это незнание. Не претендуя на то, чтобы дать определение понятия «инстинкт», достаточно расплывчатого, и, сознавая, что некоторые понимают «половой инстинкт» как властную силу, действующую наподобие хорошо отлаженного механизма (Прим.: «...Поскольку жуки-долгоносики обладают центральной нервной системой, их враг, бугорчатая оса (cerceris), ограничивается одним ударом жала; если двигательная система зависит от трех нервных узлов, она жалит три раза; если от девяти — девять раз. Так поступает пушистая аммофила (разновидность осы), когда ей надо добыть для своих личинок гусениц ночной бабочки, называемых обычно зелеными червями. Если укус в мозговой ганглии представляет опасность, охотник ограничивается медленным пожевыванием, пока не наступает нужная степень неподвижности» (см. цитированный труд Реми де Гурмона, с. 218. Он опирается на наблюдения Ж.-А. Фабра. См. превосходную критику Маршала этой
теории в работе Бона «Новая психология животных», с. 101— 104). Почти весь этот диалог был написан летом 1908 г.; «Новая психология животных» Бона еще не была опубликована, и я еще не ознакомился с мемуаром Макса Вейлера «О модификации общественных инстинктов» (1907), теория которого весьма близка той, что я здесь излагаю.), «послушание коему неизбежно», по выражению г-на де Гурмона, я все же утверждаю: нет, этот инстинкт не существует.
— Вы, я вижу, играете словами. «В действительности,— пишет весьма тонко ваш Бон в недавно опубликованной книжке,— опасность состоит не в том, что мы пользуемся словом «инстинкт», но в том, что мы не понимаем его значения и пользуемся им в качестве объяснения» (Прим.: Бон. Цит. соч. С. 121). Я с ним согласен. Вы, конечно, допускаете наличие полового инстинкта и, черт возьми, не можете поступать иначе. Просто вы отрицаете, что этот инстинкт обладает тем автоматизмом, который ему порой приписывают.
— И, разумеется, он ослабевает по мере восхождения по лестнице живых существ.
— То есть, вы хотите сказать, что человеку свойственна наибольшая неопределенность.
— Мы не говорим сегодня о человеке.
— Четкий или нет, этот инстинкт присущ человеку; он сыграл свою роль и достаточно проявил себя.
— Вот именно: достаточно...
Он задумался, поднес руку ко лбу, словно собираясь с мыслями, затем продолжил, подняв голову:
— Под словами «половой инстинкт» вы понимаете сочетание автоматических реакций или, во всяком случае, тенденций, прочно укорененных в низших живых существах, но ослабевающих по мере того, как вы поднимаетесь по лестнице творения. Дабы сочетание этих тенденций сохранялось, зачастую необходимы определенные совпадения, попущения, о которых я скажу после. Без них вся связка распадается. Этот инстинкт, если можно так выразиться, не однороден, ибо жажда наслаждения, ведущая у обоих полов к акту оплодотворения, не связана, как вы знаете, неизбежно и исключительно с этим актом.
Сейчас мне не важно, предшествует ли в ходе эволюции жажда наслаждения этой тенденции или следует за ней. Я охотно допускаю, что удовольствие венчает всякий акт, в котором проявляется жизненная активность, и в случае полового акта, в процессе которого происходит одновременно наибольшая растрата и торжество жизненной энергии, наслаждение достигает оргазма... И, наверное, этот столь дорогостоящий созидательный труд был бы невозможен без столь замечательной награды, но наслаждение не до такой степени связано с целью оплодотворения, что не может отделиться от нее (Прим.: во всяком случае среди «высших» видов живых существ.), с легкостью эмансипироваться. Начиная с этого момента наслаждение становится единственной целью, вне связи с заботой о продолжении рода. Живое существо начинает искать удовольствие, а не радеть об оплодотворении. Это существо ищет удовольствие и заодно осуществляет оплодотворение.
— Чтобы открыть столь замечательную истину, конечно, нужно быть уранистом.
— Возможно, и в самом деле не хватало человека, которого бы не устраивала господствующая теория. Шопенгауэр и Платон, заметьте, поняли, что должны были в своих теориях считаться с уранизмом; они не могли поступить иначе. Платон даже уделяет ему столько внимания, что вас это, конечно не может не тревожить. Что касается Шопенгауэра, чья теория в настоящее время пользуется большим признанием, то он рассматривает уранизм как исключение из правил. Он хитроумно, но не точно объясняет это исключение, о чем я скажу позже. Признаюсь, что исключения пугают меня как в биологии, так и в физике. Мой ум не постигает, как может существовать естественный
закон, который не распространяется на все явления и позволяет, даже понуждает выйти из-под своего контроля.
— Таким образом, outlaw (человек вне закона), каким вы являетесь...
— ...согласен с тем, что попадает под запрет, что его осуждают человеческие законы, обычаи его времени и страны, но не согласен занимать в природе маргинальное положение. Это невозможно по определению. Границы существуют лишь потому, что кто-то предписал слишком узкие рамки.
— И ради вашего личного удобства вы предлагаете рамки по эту, а не по ту сторону любви. Отлично! Могу ли я вас спросить: вы сами все это придумали?
— Кое-кто мне помог. Например, чтение Лестера Уорда навело меня на эту мысль, точнее, помогло ей оформиться. Не бойтесь: я все объясню, и надеюсь наконец показать вам, что в моей теории не только нет ничего подрывного, но что она придает Любви то высшее благородство, которое г-н де Гурмон с удовольствием у нее отнимает.
— Час от часу не легче! Я вас слушаю... Но что за автора вы назвали?
— Лестер Уорд — американский экономист и биолог, проповедник гинекоцентристской теории. Я сперва изложу вам его идеи. Благодаря ему мы обращаемся к самой сути нашей темы.
III
— Андроцентризм, которому Лестер Уорд противопоставляет свой гинекоцентризм,— это едва ли теория, во всяком случае теория, возникшая бессознательно. Андроцентризм вошел в обычай, которому привычно следуют натуралисты, когда рассматривают самца как типичного представителя того или иного рода и первым делом описывают именно его, отодвигая самку на второй план. А Лестер Уорд исходит из положения, что в случае необходимости Природа могла бы обойтись без самца.
— Очень любезно с его стороны.
— Я нашел у Бергсона — а я знаю, что вы им восхищаетесь — фразу, которая может служить вам ответом: «Двуполое поколение,— пишет он в «Творческой эволюции»,— это, быть может, излишняя роскошь в мире растений» (с. 130). Без женского пола невозможно обойтись. «Мужской пол,— говорит Лестер Уорд,— появился на определенной стадии... с единственной целью,— добавляет он проницательно,— обеспечить скрещивание семян. Создание мужского пола было первой игрой природы, своего рода спортивным состязанием».
— Спортивная игра или наказание, самец тем не менее существует. Куда хочет его сослать ваш гинекоцентрик?
— Мне пришлось бы изложить его мысль во всех деталях. Но вот отрывок, который вам объяснит смысл его теории.
Он взял листок и прочитал:
«Нормальная расцветка птиц — расцветка птенцов и самок. Расцветка самца — результат его чрезмерной изменчивости. Самки не могут так меняться, они представляют собой центр тяжести биологической системы, ту «упрямую силу постоянства», о которой говорит Гете. Самка — не только типичный представитель своего рода, она — сам род» (Lester Ward. Sociologie pure. Т. П. Р. 28).
— Не вижу в этом ничего особенного.
— Послушайте дальше: «Изменению или, как говорят, прогрессу подвержен только самец, самке чужда модификация. Поэтому так часто говорят, что самка представляет наследственность, а самец — вариации».
И Уорд цитирует фразу У. К. Брукса: «Яйцо — это материальная среда, благодаря которой утверждается наследственный закон, а мужское начало — это средство передачи новых вариаций» (Lester Ward. Sociologie pure. Т. П. Р. 28). Прошу прощения за стиль: это не моя вина.
— Продолжайте. Если мне интересен смысл, я не обращаю внимания на стиль.
— Уорд делает вывод о превосходстве женского начала. «Идея, согласно которой женский пол является господствующим в природе, кажется невероятной, — пишет он,— и только свободомыслящие, непредубежденные люди, обладающие серьезными познаниями в биологии, способны допустить эту идею». Ну, что же. Если я не хочу ее «допускать», то потому, что понятие превосходства кажется мне не достаточно философским. Мне довольно просто понять распределение ролей. Полагаю, что и вам тоже.
— Продолжайте.
— В подтверждение сказанному Уорд предлагает своего рода историю мужского начала, рассматривая различные стадии эволюции животного мира. Если позволите, мы проследим за его мыслью. Он обращает внимание на то, что сперва это начало было едва различимо у кишечно-полостных с их гермафродитизмом. Затем оно несколько оформилось, но входило, словно крошечный паразит, в состав гораздо более представительного женского начала, прицепившись к нему в качестве простого средства оплодотворения, наподобие того, как некоторые женщины из диких племен носят на шее изображение фаллоса.
Я не мог скрыть удивления, услышав столь невероятные вещи:
— И это действительно естественная история?
Ваш Уорд начинает издалека. Можно ли ему верить на слово?
Коридон встал и направился к библиотеке.
— Эти виды живых существ были давно известны. Автор «Петера Шлемиля», нежный Шамиссо, был одним из первых, кто занимался этой темой. Вот два тома Дарвина, опубликованных в 1854 г. и целиком посвященных изучению киррипедов, которых долгое
время не отделяли от моллюсков. Большинство киррипедов — гермафродиты, однако Дарвин отмечает, что среди них встречаются крошечные самцы, чье строение упрощено до такой степени, что они выполняют только функцию носителей семени. У них нет ни рта, ни пищеварительных органов, на каждую самку приходится три-четыре таких самца. Дарвин называет их: дополнительные самцы. Они встречаются также среди некоторых ракообразных паразитов. Вот, смотрите,— и он открыл огромную книгу по зоологии,— это изображение омерзительной самки chondracanthus gibbosus с крошечным, прилепившимся к ней самцом...
Но мне из всех этих исследований нужно лишь то, что служит моей теории. В моей книге я показываю, что мужское начало, которое сперва было полностью дополнительным, сохраняет — причем все больше и больше — возможность вариаций, бесполезных для рода и различных в зависимости от индивида.
— Мне трудно следить за вашей мыслью, вы слишком торопитесь.
— Вам поможет Лестер Уорд: «Превосходство количества самцов над количеством самок — нормальное явление среди низших видов живых существ».
Согласен, но должен заметить: эти количественно превосходящие самок самцы имеют только одну функцию: зачатие. Их количество — вот роскошь, которую позволила себе природа, ибо для оплодотворения одной самки достаточно одного самца. Так что перед нами — промах, чрезмерное изобилие, бесполезная роскошь. По мере того, как на более высоких ступенях живых существ количество самцов, пропорциональное количеству самок, уменьшается, эти бесполезность, роскошь как бы концентрируются на одном индивиде. Постулат Уорда: «Важно, чтобы ни одна самка не осталась не оплодотворенной». Отсюда — постоянное сверхпроизводство (Прим.: или почти постоянное: в конце данного диалога мы увидим, что некоторые виды, как будто не подчиняющиеся этому закону, как раз подтверждают мою теорию) мужского элемента — сверхпроизводство самцов и семенного материала. Но в то время как самка, едва лишь оплодотворено ее единственное яйцо, полностью посвящает себя служению своему виду, самец остается свободен, полон силы.
— Быть может, эта сила понадобится ему для защиты вида и помощи самке, стесненной своим служением?
— Позвольте, я вновь призову на помощь Уорда. «Нет ничего более ложного,— пишет он,— чем то распространенное под влиянием андроцентрической теории мнение, согласно которому так называемые «высшие» самцы употребляют свою обновляемую силу на
то, чтобы защитить и прокормить самку и ее потомство». Далее следуют примеры. Читать?
— Вы дадите мне книгу. Пойдем дальше.
— Не так быстро. Почва еще не готова. Он поставил на место тома Дарвина, вновь сел и
продолжал более спокойным голосом:
— «Важно, чтобы ни одна самка не осталась неоплодотворенной», это так! Но для оплодотворения одной самки достаточно одного самца. Да что там! Достаточно одного выброса семени, одного сперматозоида! А между тем мужское начало повсюду преобладает. Количество самцов преобладает там, где самец во время зачатия истощает свою силу. А по мере того, как это количество уменьшается, каждый самец оказывается способен оплодотворить все большее количество самок. Поразительная загадка, не так ли? Прежде чем обратиться к ее объяснению, рассмотрим ее последствия.
IV
— Что касается низших видов, то роковым последствием того, что самка не спаривается (как, например, в случае киррипедов) с несколькими самцами, не дает им приюта на своем теле или дает этот приют самому ничтожному их количеству, является то, что значительное число самцов будет лишено... нормальной любви, ибо половой акт окажется им воспрещен. И это число намного превзойдет количество тех самцов, что смогут познать «нормальное» удовлетворение.
— Давайте перейдем к тем видам, где пропорция самцов уменьшается.
— У них детородная сила увеличивается, и проблема теперь встает не перед массой, а перед отдельным индивидом. Но проблема все та же: избыток оплодотворяющего вещества. Семени гораздо больше, чем поля, которое надо засеять.
— Боюсь, что вы разыгрываете карту неомальтузианцев: самцы должны несколько раз спариваться с одной и той же самкой, несколько самцов — с одной самкой...
— Но обычно самка после оплодотворения выходит из игры.
— Понимаю: речь идет о животных.
— С домашними животными поступают просто: оставляют одного жеребца на стадо кобыл, одного петуха — на курятник, остальных самцов кастрируют. Но Природа-то не кастрирует. Смотрите, как жиреют кастрированные животные: волы, каплуны хороши только у нас на столе. Кастрация превращает самца в своего рода самку: он обретает, вернее, сохраняет ее типичные черты. И в то время, как у самки запасная сила расходуется на пользу вида, то во что превращается эта сила у некастрированного самца? В материю, способную к вариациям. Вот ключ к тому, что называют «половым диморфизмом», который почти во всех так называемых «высших» видах превращает самца в праздное украшение, произведение искусства, спортивное упражнение или — в игру
ума.
— Я нашел у Бергсона,— продолжал он, роясь в бумагах,— замечательный фрагмент, который еще лучше все объяснит... А! Вот он: в нем речь идет о двух противоположных феноменах, происходящих в живых тканях, «анагенезисе» и «катагенезисе». «Анагенетическая энергия,— пишет Бергсон,— призвана усиливать организм в процессе усвоения неорганических веществ. Она созидает ткани. Напротив...» Впрочем, определение катагенезиса не столь четкое. Но вы, конечно, поняли: роль самки — анагенетическая, а самца — катагенетическая. Кастрация, ведущая к торжеству у самца
не находящей применения анагенетической силы, показывает, насколько естественна для него бесполезная растрата силы.
— Однако избыток мужского элемента может стать у кастрированных самцов поводом для вариаций только при условии, как мне кажется, если этот элемент не растрачивается. То есть, я хочу сказать, что эти вариации находятся в прямой зависимости от воздержания.
— Думаю, что тут нет правила. Самые опытные зоотехники ограничивают одним разом в день выброс семени у жеребца. Но даже если жеребец, с юных лет предаваясь нерегулируемым совокуплениям, исчерпает свою силу, он не утратит ни одной характеристики своего диморфизма (Прим.: Этот диморфизм весьма слаб у представителей семейства лошадиных, но то, что я говорю, относится к любому семейству.). Ослабленная у кастрированного животного, катагенетическая сила обладает у настоящего самца первостепенной важностью.
— Можно привести пример теноров, которые, в том случае, если живут половой жизнью, становятся не способны с прежним совершенством воспроизводить верхние ноты...
— Во всяком случае, можно сказать, что среди «высших» видов диморфизм достигает расцвета при условии, что растрата семени сведена к минимуму. Но воздержание не приносит самке никакой пользы... А вот рядом с цитатой из Бергсона фрагмент речи Перрье на ежегодном заседании пяти академий в 1905 г. Он не говорит ничего особенного, но все же...
— Читайте.
— «Если у низших живых существ яйцеклетки усваивают эти ресурсы с такой жадностью, что разрушают организм, в котором они сформировались, то ясно, что у высших живых существ яйцеклетки противятся всякому бесполезному развитию. Поэтому женский пол так часто сохраняет признаки юных существ, в то время как мужской пол через определенный период их утрачивает. Все, таким образом, сходится».
— Анагенезис.
— «Но в случае мужского пола мы имеем дело с контрастами, противоречиями, парадоксами. Этот пол имеет, впрочем, свои отличительные черты. Блестящие уборы, роскошные средства соблазна представляют собой, в сущности, пустое выставление напоказ мертвых частей тела, признак неумеренной расточительности организма, направленного вовне темперамента, которому чужда бережливость».
— Катагенезис! Самый что ни есть!
— «У бабочек роскошно окрашены изысканные, но совершенно безжизненные чешуйки... У птиц — омертвевшие перья, и т.д.». Я не могу прочитать вам всю речь.
— Да... Не так ли скульптура, живопись, искусство в целом расцвело на тех частях древнегреческих храмов, которые стали бесполезными?
— Да, так объясняют, например, появление триглифов и метоп. Можно сказать, что эстетическим целям служит лишь то, что бесполезно. Но мы отклонились от предмета. «Таким образом, женский пол,— заключает Перрье,— отличается физиологическим предвидением, а мужской пол — блестящим, но бесплодным изобилием»...
— Не причина ли это естественного отбора? Ведь Дарвин учит нас, что, подобно пению соловья, все роскошные краски и удивительные формы служат лишь тому, чтобы привлечь самку?
— Откроем вновь Уорда. Простите за множество цитат, но теория, которую я излагаю, смела, и мне нужна некоторая поддержка: «Самка — хранительница наследственных качеств. Вариации могут быть чрезмерными... и потому нуждаются в регулировании. Самка — залог равновесия в природе...» И дальше: «В то время как голос Природы, возбуждая в самце сильный голод, говорит ему: оплодотворяй! самке она отдает иной приказ: выбирай!» По правде сказать, я не верю в «голос природы». Изгнать Бога из творения и заменить его «голосами», это не много! Сия красноречивая Природа похожа на ту, что «боится пустоты». Научный мистицизм кажется мне вреднее, чем религия... Ну, да ладно! Даже если понимать слово «голос» в самом метафорическом смысле, я все равно не думаю, что он говорит самцу «оплодотворяй», а самке «выбирай». Им обоим он говорит просто «наслаждайся». Это железы, органы подают голос, требуют освобождения и использования по назначению. Но управлять ими будет только сладострастие, и ничего больше.
Что касается выбора, который делает самка, то его проще допустить с точки зрения логики. Но в большинстве случаев ею овладевает самый ловкий из самцов, и она просто вынуждена его выбрать. На мгновение он замолчал, словно в замешательстве, вновь зажег потушенную сигарету и продолжал:
— Мы в целом рассмотрели последствия перепроизводства мужского начала (и я предполагаю вернуться к этому во второй половине моей книги, содержание которой изложу вам завтра, если хотите). А теперь мы поищем причину.
V
Я называю расточительностью всякие затраты, несоизмеримые с полученным результатом. Я посвящаю несколько страниц моей книги расточительности Природы. Избытку форм, избытку количества. Сегодня нас будет интересовать последнее. Прежде всего избыточное количество яиц, затем — избыток семенного материала.
Большая белая дорида (разновидность морской улитки) откладывает около шести сот тысяч яиц (по подсчетам Дарвина, убежденного, что в действительности это число гораздо больше). «Между тем,— пишет он,— этот вид не слишком распространен: несмотря на постоянные поиски, я нашел под камнями всего семь дорид» \ Ибо избыточное количество яиц вовсе не означает широкого распространения вида; напротив, этот избыток скорее означает трудность в достижении результата, пропорциональную расточительности. «Между тем, самая распространенная ошибка натуралистов,— говорит далее Дарвин,— состоит в том, что они ставят количество представителей того или иного вида в зависимость от его способности к размножению» (Прим.: «Путешествие натуралиста». С. 216). То есть, надо полагать, что если дорида будет откладывать на сотню яиц меньше, то она вообще исчезнет как вид.
Далее Дарвин пишет о туче пыльцы, слетающей с хвойных деревьев, о «густых облаках пыльцы, из которой лишь несколько семян случайно упадут на женскую гамету». Если бы этими семенами руководил инстинкт, направляющий их к цели, невозможно было бы ни объяснить, ни оправдать подобное изобилие. Но, быть может, при меньшем количестве мужского элемента таинственный акт оплодотворения стал бы менее удачным? (Прим.: В конце этой части мы увидим, что, как только у некоторых видов инстинкт становится более четким, количество мужского элемента уменьшается.)
Таким образом, можно предположить, что постоянный преизбыток в природе мужского элемента («Самцы намного превосходят в количественном отношении самок и, возможно, среди них лишь одному из ста удается выполнить свою миссию (!)», — признает г-н де Гурмон («Физика любви». С. 178), пересказав вслед за Бланшаром «историю одного натуралиста, который, поймав и спрятав у себя в кармане самку шелкопряда, вернулся домой в окружении тучи самцов».— «Заключенная в клешу самка павлиньего глаза может привлечь сотню самцов», — отмечает Гурмон в другом месте (Гам же.). См.: Ч.Дарвин. Происхождение человека («О пропорциональном соотношении полов»): «У некоторых видов самцы столь многочисленны, что почти все остаются холостяками. Среди маленьких серебристо-голубых жуков hoplia cerulca, сидящих на таволге у воды и порой используемых в качестве украшений, встречается одна самка на восемьсот самцов. У майских жуков (rhizotrogus astivus) — также одна самка на триста самцов» (pdmond Perrier. Le Temps. 1912)) объясняется в некоторой нечеткости полового инстинкта (если позволено допустить сочетание таких слов, как инстинкт и нечеткость). Не придется ли нам констатировать, что этот могучий инстинкт несколько двойствен? И что Природу можно сравнить с неловким стрелком, который из опасения не попасть в цель производит множество выстрелов вместо одного точного?
— Я не думал, что вы сторонник финализма.
— Действительно, меня больше интересует «как?», а не «почему?» Но зачастую эти два вопроса трудно отделить один от другого. Природа образует бесконечную сеть, бесконечную последовательность звеньев и самое сложное — объяснить, заключается ли причина появления вот этого звена в предшествующем или по следующем звене. Быть может, целую книгу Природы следует читать с конца, быть может, последняя страница объяснит первую, последнее звено — потаенное начало... Сторонник финализма — тот, кто читает книгу с конца.
— Только без метафизики, прошу вас!
— Вы предпочитаете предшествующее звено? Вы будете довольны, если какой-нибудь биолог ответит вам, что причина перепроизводства самцов в недостатке пищи, предварительно доказав, например, следующее: что изобилие пищи ведет к увеличению числа самок (впрочем, я не уверен, что это должным образом установлено (Прим.: Самые интересные наблюдения на эту тему принадлежат Фабру, который отмечает, что пчелы из рода осмия откладывают яйца преимущественно того или иного пола в соответствии с размером пространства, предназначенного для будущих личинок. Известно также, что пчелы взращивают маток, трутней и рабочих пчел в соответствии с размером ячейки, созданной для яйца, и с характером той пищи, которой они кормят личинок. Самец — это minus habens. Привожу также наблюдения В. Курда о ветвистоусых ракообразных (приведенные Клаусом). «Самцы обычно появляются осенью; но они могут появиться в любое время года и всякий раз, как это только что было доказано, когда вследствие изменения окружающей среды, биологические условия становятся «неблагоприятными» (Зоология. С. 636). Г-н Рене Вормс в замечательном исследовании «Пол и рождаемость во
Франции» делает вывод, что вопреки распространенному представлению увеличение рождаемости мальчиков является признаком бедности народа, что их количество сокращается по мере роста благосостояния и, когда оно становится всеобщим, уступает место превосходящему количеству рожденных девочек. «Надо признать,— добавляет Эдмон Перрье,— что этот вывод находится в полном согласии с моим собственным...» (Ed. Perrie. Le Temps. 1912), но в природе такое изобилие пищи встречается редко, во всяком случае длится недолго. Допустим все же подобное изобилие. Согласно излагаемой теории оно ведет к перепроизводству самок. Тогда либо часть их остается неоплодотворенной (что противоречит первому постулату Уорда), либо (в том случае если все они сумели зачать) следующее поколение, слишком многочисленное, станет причиной нехватки пищи, а это, в свою очередь, приведет к увеличению числа самцов, и через два поколения равновесие будет восстановлено. Вообще в Природе, если только значительная часть живых существ не оказывается внезапно истреблённой, никогда не будет слишком много пищи: на одну кормушку всегда слишком много ртов.— Ну, что, вам нравится такое объяснение?
— Как сказать... Попробуем рассмотреть последующее звено.
— Возьмем его с другого конца: если половой инстинкт недостаточен, да, недостаточен и не может гарантировать продолжение рода, тогда избыток самцов можно считать необходимой предосторожностью...
— Скажем лучше, что те виды, у которых было недостаточно самцов, исчезли.
— Если хотите. Проделав путь в обратном направлении, финалист и эволюционист оказываются в этом пункте. Избыток самцов необходим для продолжения рода, потому что половой инстинкт недостаточен.
— Но данное утверждение еще надо доказать.
— Сейчас мы в этом убедимся. Но прежде я бы хотел поискать вместе с вами возможные причины этой очевидной недостаточности, и несколько отклониться от моего сюжета. Будем продвигаться шаг за шагом.
— Я следую за вами. Итак, вы сказали, что при меньшем количестве мужского элемента акт оплодотворения может оказаться не слишком удачным...
— Он становится дерзким предприятием. Налицо два элемента: мужской и женский, которые надо соединить. Двигатель процесса только один — наслаждение. Но чтобы достичь этого наслаждения, сочетание двух полов не обязательно. Самец необходим для оплодотворения самки, но самка не обязательна для того., чтобы самец получил удовлетворение. Знаменитый «половой инстинкт» диктует животному тот автоматизм, благодаря которому достигается наслаждение, но направленность этого автоматизма столь расплывчата, что Природе для достижения зачатия порой приходится прибегать к таким хитростям, как, например, изощренное по своей сложности оплодотворение орхидей.
— Вы снова говорите как финалист.
— Но позвольте: творение налицо. Не знаю, могло ли его не быть, но оно есть. Остается его объяснить и с наименьшими затратами. Мы имеем дело с видами живых существ, которые воспроизводят друг друга благодаря оплодотворению. Это, как я уже сказал, сложное предприятие. Ставка очень велика и риск внушает такой страх, что избыток самцов был необходим на случай многочисленных фиаско.
— Вот, видите, перед нами вновь намерение Природы.
— Вас сбила с толку моя метафора. Быть может, существует Бог, но у Природы не существует никаких намерений. Вернее, если есть, то они от Бога. У наслаждения нет цели, а между тем только оно ведет к возможному зачатию. Но, предшествует ли наслаждение этой тенденции или следует за ней, оно эмансипируется, утверждаю я, не считается ни с чем, кроме себя самого и становится самодостаточным (Прим.: Это также одно из развлечений самца, который, сыграв свою роль в естественном отборе, затем занимается только собой. Напомню, что говорит Фабр о саранчовых (он мог бы сказать то же о птицах): «Зачем этот звуковой аппарат? Не буду отрицать, что он нужен для образования супружеской пары. Но его основная функция состоит не в этом. Насекомое использует свой звуковой аппарат прежде всего для того, чтобы выразить радость жизни, воспеть сладость существования...»). Так Шамфор называл любовь всего лишь «контактом двух эпидерм».
— И «обменом двух причуд».
— Оставим человеку причуды, а животным — лишь наслаждение от совокупления.
— Вы хотите сказать, что у человека половой инстинкт ослаблен?
— Вовсе нет! Я хочу сказать, что без вспомогательных средств этот инстинкт остается неопределенным. Нет уверенности в том, что самец выберет самку и добьется оплодотворения. Повторяю, это трудное предприятие, и Природа не достигла бы своих целей без побочных обстоятельств.