Геннадий Трифонов
Сетка. Тюремный роман
Аннотация
История первой любви двух парней, оказавшихся в тюрьме. Одна из самых известных и читаемых ЛГБТ-аудиторией России книг.
История первой любви двух парней, оказавшихся в тюрьме. Одна из самых известных и читаемых ЛГБТ-аудиторией России книг.
«Но я считал, что это плохо»
Я зарылся с головой от стыда и стал думать: «Боже, что ж я наделал?! А вдруг он всем расскажет?! Но ведь он тоже «это» делал. Но что стоит ему доказать, что я... Меня ведь никто и слушать не станет, а у него авторитет и влияние. Я ничего не докажу. И доказывать не стану. Пусть будет все так, как есть».
Я выглянул из-под одеяла — Серега спал или делал вид, что спал. Я взял из тумбочки сигарету и, накинув фуфайку, вышел из барака покурить, обдумать свою теперешнюю жизнь на зоне и мои отношения с Сергеем. На дворе, как пишут в романах, стояла изумительной красоты ночь — небо все в звездах, из окружающего нашу зону то ли леса, то ли парка слышны птичьи голоса, запахи молодой травы превращали воздух в нечто немыслимое. На воле я бы с ума сошел от такой красоты. Но теперь мне было не до лирики.
«Ну все, пиздец, — думал я. — Опустят, загонят в «петушиный» отряд и будут трахать все, кому не лень. Неужели Сергей окажется такой подлой скотиной? Но разве такое бывает? А может, нет. Может, все будет нормально, все путем, и я только напрасно сам себя накручиваю».
Я вернулся, лег. Но сон — ни плохой, ни хороший — не шел ко мне. И я еще раза три за ночь выходил покурить. Кажется, Сергей заметил мое хождение на перекуры, но, видимо, хотел, чтобы я сам, как теперь говорят, определился в случившемся с нами.
Дня три я боялся встречаться с ним глазами, избегал любых разговоров с ним — я все ждал и ждал, что же будет дальше. И он делал вид, что вообще ничего не произошло, вел себя естественно и обычно, даже пытался шутить со мной и балагурить, как он это всегда делал. И, странно, он все время был в отличном настроении и не обращал внимания на мою подавленность.
А как-то раз, как всегда, после 2-й смены, когда я, быстро умывшись, прошмыгнул мимо открытой двери в каптерку, Сергей протяжно окликнул меня:
— Сыно-о-к!
У меня все внутри оборвалось, и я, убитый горем, вернулся на зов и вошел в каптерку. Сергей стоял до пояса обнаженный и вытирался после мытья полотенцем. Он хитровато на меня посмотрел и улыбнулся. И я посмотрел на него: «Какой же он все-таки красивый парень!». Но я тут же отвел глаза и уставился в пол.
— Ну, что, глупенький ты мой? Так и будешь до конца срока от меня под одеялом прятаться? А? Ладно, закрой дверь, ставь кружку, а я на 10-й отряд схожу за заваркой. Я уже соскучился за общением с тобой, да и просто за тобой. — При этом он посмотрел на меня так, что у меня закружилась голова — от волнения, от радости, от счастья и страха. И еще мне показалось интересным то, что Сергей, будучи местным (то есть сам он пермский), вдруг заговорил со мной в моей украинской манере. Мне это страшно понравилось, потому что как-то раскрыло его ласковое отношение ко мне и указало на душевную тонкость, а уж ее-то я никак не ожидал встретить в нем.
«Сбегать на 10-й» — это сбегать в соседний барак, этажом ниже. Наш отряд — 11-й, на второй этаже. Свободного передвижения по зоне у нас не было — кругом локалки. Высокое лагерное начальство в Москве и в Перми устроило локалки из страха лагерных бунтов, которые в конце 70-х годов охватили многие лагеря России.
Дверь из нашего отряда постоянно находилась на крепком замке, таким образом, мы имели как бы зону в зоне. Это на всех действовало удручающе. Сергей вылез через окно, спустился по водосточной трубе и попал в локалку 10-го. Я поставил кружку и задумался. И было о чем.
Я уже говорил, что до встречи с Сергеем никакого опыта подобных отношениях между мужчинами у меня не было. Конечно, я слышал о «голубых», но в моем представлении это были люди все же очень далекие от тех, с кем общался я. Иногда, когда мне было лет 13-14, я улавливал на себе взгляды мужчин — очень разных, в том числе и довольно молодых парней. И тогда я смущался, прятал глаза, старался как можно скорее выпасть из поля их зрения — способов для этого есть миллион. И сразу же забывал об этом.
В 15 лет я поступил в спецПТУ. Это тоже целая история, но я ее рассказывать сейчас не буду. В этой «спецухе» я пробыл год и сбежал из нее: там еще страшней, чем в тюрьме. Так вот, там, в «спецухе» этой, в известном смысле творится полный беспредел. Там никто не спрашивал, хочет человек или нет, просто брали и насиловали. Правилом это, конечно, не было, но случаи насилия бывали часто. То же, говорят, и на малолетке творится, но еще страшнее.
На зоне, на «общаке», ситуация совсем иная, но тоже приближенная по степени униженности и насилия к ситуации на малолетке, потому что на «взросляк» ведь поднимаются именно с малолетки. И у нас в отряде — не в «обиженке», нет — было 5-6 «петухов». Что это такое и кто это такие, кажется, теперь уже все знают. В лагере это самые несчастные люди — несчастней не бывает. Они живут жизнью, которую и жизнью назвать язык не поворачивается, и, конечно, они обособлены, то есть отделены от всех остальных. Они выполняют самую грязную и самую тяжелую работу. Каждый может их оскорбить, унизить, ударить беспричинно и безнаказанно. На них страшно и, признаюсь, противно смотреть. Забитые, замученные, зачумленные, они производили впечатление не людей, а теней. Как правило, это люди без возраста, и если в их круг попадает немолодой человек, он освобождается из зоны уже полным инвалидом. Администрация лагерей только тогда обращает на них внимание, когда среди них оказываются самоубийцы или те, кто, будучи доведенным до крайнего отчаяния, «раскручиваются» в зоне на новый срок, и это иногда спасает их от неминуемой гибели. И, как правило, люди, доведенные в зоне до «петушиного» состояния — жертвы агрессии и насилия тех парней, что приходят на общий режим из колоний для малолетних. Там они, подверженные унижению и растлению этим унижением, на «общаке» стремятся набрать очки.
У нас в зоне к услугам «петухов» — тех, кто почистоплотнее и кто был симпатичным — это немаловажный фактор! — прибегали только «крутые», и больше никто.
Совсем необязательно, чтобы среди зоновских «опущенных» были именно гомосексуалисты, скорее, даже наоборот — ими в зоне становились поневоле. В «гарем» могли опустить за разные грехи. Стукачество, «крысятничество» (воровство у своих же) или если кто-то крупно проигрался, а заплатить нечем. Обычно в таких случаях, полушутя-полусерьезно, предлагают расплатиться натурой. Те, кто соглашаются, попадают в «гарем». Бывает, что человека «опустят» — скажем так — по случайности. Если и выясняется, что он не виноват, назад ему все равно дороги нет. Приходится ему жить в зоне с остальными «гребнями», но трахаться его при этом никто не заставляет. И что странно, так это то, что большинство оказавшихся там, в «гареме», соответствует своему назначению и до конца оправдывают свою роль.
Обо всем этом и раздумывал я, сидя в каптерке в ожидании Сергея, когда нехитрым приспособлением, известным каждому зэку, кипятил воду для заварки.
Конечно, его шутливый тон меня немного успокаивал, его голос и глаза выражали дружелюбие и приязнь ко мне, но я уже слишком хорошо знал, что такое «лагерная жизнь», и в этом знании таились мои теперешние печали и тревоги. И, конечно, раздумывая о себе, я невольно думал и о Сергее, и поэтому получалось, что думал я о нас — о нас двоих, о связывающем нас влечении друг к другу.
Я думал о том, что с нами будет, если об «этом» узнают все остальные. В лучшем случае нас обоих изобьют всей толпой до полусмерти — и не за грехи наши, вовсе нет! — но за то, что он и я всем своим поведением в лагере сильно отличались от других. А этого нигде не любят. Будь как все — вот требование любого коллектива, любой толпы. Если о нас узнают, нас загонят в «петушню» и устроят нам там такую жизнь, что мы проклянем час, когда появились на свет. От всех этих мыслей кровь у меня в жилах стыла. И поэтому на ум приходили и такие соображения: «А вдруг он хочет усыпить мою бдительность и затем как-то меня подставить, чтобы я оказался в «петушне»? — думал я. — Но зачем ему это надо? Что плохого я ему сделал?». Подобные мысли сами собой улетучивались, и мне уже было стыдно, что я мог подумать о моем Друге так подло. Сказано ведь: береженого Бог бережет. И тогда я решил:
«Так! Все, хватит! Если будет еще приставать, буду пресекать на корню. Он умный — все поймет, а заставить он меня не заставит ни уговорами, ни силой. В конце концов, я за себя постоять тоже могу — не мальчик уже. Решено».
Но и эти мысли отступали. Я чувствовал, что уже не могу спокойно смотреть на обнаженное тело Сергея. Во мне происходило что-то новое, прежде мною ни разу не испытанное, и это новое тянуло меня к Сергею не душой, нет, но всем моим физическим существом и существованием. Мне нужны были, мне остро требовались его нежность, его сила, его взгляд, дыхание, его близость. И что я мог поделать с самим собой!
— А вот и я! — Сергей «вошел» в окно. Он принес кусок копченой колбасы, сало, пару банок консервов, печенье, конфеты, чай и пять пачек сигарет «Столичные» — ленинградских, в твердой упаковке. Я даже подпрыгнул от неожиданной радости и готов был кинуться ему на шею из благодарности. Но сдержался.
— Это тебе. Ты ведь у нас питерский, хотя и хохол. На воле, наверное, только такие и курил?
Я действительно на свободе курил именно «Столичные» — в те годы одни из самых дорогих и престижных сигарет, не считая, конечно, фирменных, но у кого они были-то из моих сверстников?..
— Это что — плата за услуги?
— Ты чего — совсем дурак? Или временно? — возмутился Сергей, но сменил тон. —Впрочем, если хочешь — то да. Только чем ты мне заплатишь? Я ведь тоже тебе эти же «услуги», как ты говоришь, оказывал. А?
— А я тебя не просил мой член в рот брать. Так что насчет оплаты, Сережа, расслабься. — Очевидно, мой дерзкий тон чем-то понравился Сергею, поэтому он, приняв его, ответил:
— Я тебя ведь тоже не просил.
— Ну, конечно! «Делай как я, делай как я!» Ни жуя! Ты просто заставил — молча и без всякой лирики, даже не интересуясь, надо мне это или нет, хочу я или нет.
— Пожалуйста, без фантазий. Ты сам взял, никто тебя за уши не тянул.
— Инициативу ты проявил.
— А тебе, голубчику, было до того отвратительно и противно, что ты аж через тридцать секунд кончил.
Я замолчал. Сказать на это было мне нечего, да и сам этот разговор был мне неприятен. И потом, мне ведь действительно было с ним хорошо и приятно. Но я все еще считал, что это плохо.
«И я поцеловал его прямо в губы»
После этой перепалки и «выяснения», кто виноват и что делать дальше, мы оба как-то сразу замолчали. Сергей накрывал на стол, который состоял из двух поставленных рядом тумбочек. Нарезал колбасу, сало, разлил по кружкам чай... Я сидел на корточках, упершись спиной о стенку, и тупо смотрел в какой-то темный угол.
Сергей тихо приблизился ко мне, стал тихо-тихо гладить меня по голове, и я едва удержался, чтобы не расплакаться.
— Ну чего ты, дурачок? Что произошло? Нам ведь было хорошо вместе и еще будет. Что ж в этом плохого? Это ведь естественно, а что естественно — то что?
— Не безобразно.
— Правильно. Ты ведь хороший, неглупый, и мне никто не нужен, кроме тебя, так и знай — никто.
Сергей, взяв меня за обе руки, поднял и подвел к столу, посадил на табурет и стал кормить прямо из рук. Я молча жевал, опустив голову... И обнаружил, что то нервное напряжение, в котором я находился все последние с той ночи дни, внезапно иссякло. Я вдруг перестал ощущать себя даже физически, потому что внутри меня как бы все оборвалось, голова заполнилась шумом, и я, уронив ее себе на колени, вдруг тихо заплакал.
Плакал я действительно почти бесшумно — только плечи тряслись, а слезы лились сами собой. Мое состояние прекрасно почувствовал Серега. Он сел рядом, придвинув к моей свою табуретку, привлек меня к себе, и тогда я, уткнувшись ему в плечо — горячее, душистое после мытья, стал плакать уже совсем навзрыд.
Сергей не произнес ни единого слова, а только целовал меня потихоньку в шею и гладил по голове. Так мы просидели минут двадцать — пока я не успокоился.
— Сынок, — решил заговорить Сергей, — не надо ничего объяснять и говорить. Я все знаю и понимаю сам. Я знаю, как тебе тяжело в этом аду. Ты не создан для зоны, для этого лагерного кошмара, поэтому тебе гораздо труднее, чем другим. Я давно за тобой смотрю, наблюдаю тебя во всем и вижу, как ты держишься иногда из самых последних сил, я вижу. У тебя есть душа и сердце, ты чистый и добрый мальчик, и такой красивый, честное слово, Санек. Со мной ты можешь быть спокоен и расслаблен полностью — я всегда тебя пойму и поддержу, пока я здесь. Ты меня слышишь?
— Слышу.
— Но для остальных, Саша, ты должен быть волком. Ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь и защиту, но и сам должен уметь показывать зубы, иначе эта система съест нас обоих, потому что я ведь тоже не железный и у меня тоже есть нервы. А ты, когда видишь, как я жесток с окружающими, не пугайся и не думай обо мне очень плохо. Так надо, Саша, так надо. Иначе — сам знаешь, что иначе. Короче, иначе будет очень, очень тяжело.
Я поднял голову и посмотрел ему в глаза:
— Сереженька, можно я тебя поцелую?
— Конечно, можно. Когда мы вдвоем, тебе все можно.
И я поцеловал его прямо в губы — коротко, совсем не так, как мне раньше мечталось, но от всей души. А Сергей о чем-то задумался. В его глазах вдруг появилась такая неизъяснимая грусть и боль, что мне показалось, что теперь и он заплачет. И тогда я принял ободряющий тон:
— Ну, а ты-то что, с чего это? Тебе, как я понимаю, и не положено, ты ведь уже большой.
— Меня еще никто ни разу в жизни так не называл, как назвал ты, и в губы никто никогда не целовал.
— А мама?
— Мама?.. Нет у меня мамы, и отца нет, одна только бабушка. Она меня и в самом деле очень любит, я ей весь срок каждую неделю письма пишу — хоть два-три слова, а ей они — утешение. А в тюрьму я попал совсем пацаном, семнадцатилетним. Год на малолетке и вот теперь здесь добиваю...
Он подошел к окну и уставился в проем, за которым открывалось утреннее небо, все уже в звездах, с высокими просветами зари, обещавшей добрый солнечный день. А у меня вновь сжалось сердце — от жалости к нему, потому что лучшие свои годы он провел за решеткой, за всеми этими локалками, в этом кошмаре, и немудрено, что в ответ на окружающее его зло он стал таким грубым и порой даже жестоким. Но со мной Сергей был настоящим, и я был счастлив, что этим настоящим в себе он поделился именно со мной, распространяя на меня свет и тепло своего одинокого сердца. О, как был я счастлив сейчас!
Сергей стоял ко мне спиной и смотрел в окно, и я любовался им, не стесняясь своих странных мыслей и своих желаний. Он почувствовал мой взгляд на себе и повернулся ко мне лицом. Так мы и смотрели друг на друга еще очень долго и думали, верно, каждый о своем и друг о друге.
Сергей продолжал стоять у окна, я же встал и закрыл дверь на ключ, не вполне соображая, зачем я это делаю, выключил свет и подошел к Сергею вплотную.
Я целовал и гладил его лицо, грудь... Я делал это медленно, но жадно, а потом я словно обезумел и стал целовать его ладони — побитые, все в мозолях и в царапинах, грубые и шершавые, но для меня самые нежные на свете.
Он стоял с закрытыми глазами и отвечал на мои восторги лишь тихим сладостным стоном. Но все же, когда он стал стягивать с меня майку, я снова испугался и отстранился от него.
— Сережа, давай в другой раз... Извини... Пожалуйста...
— Конечно, — словно очнулся Сергей. — Как хочешь. Только поцелуй меня еще раз — и пойдем спать.
«Заснуть мы так и не смогли»
Впервые за весь год на зоне я спал совершенно спокойно, забыв о том, где я и среди кого я. Я засыпал с мыслью о Сергее и о том, что теперь здесь я не один, а нас двое, мы вместе, и каждый — друг для друга и друг за друга. А утром я проснулся совсем другим человеком — таким, каким был до заключения, то есть веселым и жизнерадостным. Конечно, этим состоянием я был обязан моей юности, юношеской беспечности, юной жадности до жизни, которая еще только открывала мне себя во всей полноте. И я ловил себя на мысли о том, что моя благодарность Сергею выше моей любви к нему, выше желания быть с ним физически, выше Бога.
Я очень привязался к нему и теперь был все время рядом с ним — и на работе, и на бараке. Я называл его Сережей при всех. Он пробовал протестовать, но мне было на всех наплевать. В свои слова я вкладывал нечто большее, когда обращался к нему — при всех — не «Сергей», а «Сережа». Так мне хотелось хоть как-то возместить те ужасы и то одиночество, которые пережил он до встречи со мной за годы своего заточения. А он меня по-прежнему звал сынком, все так же ласково и нежно. Наша дружба крепла день за днем. Но в те редкие моменты, когда ему удавалось уговорить меня быть близким с ним, я все еще стеснялся и как бы комплексовал от этого, хотя формы нашей близости, по моим понятиям, ни в чем не соответствовали лагерным канонам, и я мог не думать о том... ну, что я «обыкновенный пидор» — по лагерным представлениям. И меня утешало то, что никто, кроме Сергея, об этом не знает. Да и близость наша еще не зашла так далеко.
Через некоторое время Сергей поменял мою шконку на шконку его соседа по наре. И это, по-моему, было его ошибкой.
Ночью, когда все уже спали, или я думал, что все спят, я высовывался из-под одеяла и тянулся к Сергею — он не спал почему-то. Я гладил его по голове, тянулся к нему губами. Он ругал меня за это и был, конечно, прав. Ведь нас могли заметить! И это могло бы закончиться для нас обоих трагически. Но, видно, Бог витал над нами! А мое желание близости с ним было велико и неудержимо, и он это хорошо ощущал, и сам тянулся ко мне. Но все равно как-то сказал мне в цеху:
— Будь поосторожней, сынок. Ты совсем с ума сошел и меня с ума сводишь. Здесь ведь не воля. Вот выберемся отсюда, тогда...
А ведь нам надо было еще и «прятаться» от Виталика и Кости — его «семейников». Но Господь снова услышал нас и помог уединиться. Костя к тому времени освободился, а Виталик — тот еще раньше, еще до освобождения Кости, «закосил», и его отправили на другую зону, «на больничку» в Соликамск, иначе хозяин раскрутил бы его за беспредел и за постоянные отказы от работы. Сидеть же ему оставалось месяца два еще. Так что Серегина «семья» распалась сама собой и в новую, возникшую из нашего с ним союза, мы уже, разумеется, никого не принимали. И «шнырей» — лагерных лакеев — мы себе тоже не заводили, не тот случай, и во всем самообслуживались. А вскоре после этого произошло событие, которого я тайно ждал и очень боялся.
Я даже не знаю, как обо всем и рассказать. И рассказывать ли? — вот в чем вопрос. Конечно, обо мне могут подумать всякое разное, но мне на это наплевать. Может быть, и о Сереге так подумают? Но я этого не хочу, не имею права. Потому что для меня он выше и лучше всех, кого я встретил за мою, пусть еще и небольшую, но мною прожитую жизнь. И мне кажется — я в этой своей жизни кое-что понял, я получил право голоса. А кому все это неинтересно и неважно, могут закрыть уши или вообще «слинять». Но только от тюрьмы зарекаться никому не советую, хотя, конечно, никого туда и не приглашаю. У каждого — своя жизнь. Я говорю о своей. Вот и все.
Итак, придя, как всегда, со 2-й смены и дождавшись, пока все уснули, Сергей стал в каптерке приставать ко мне «с близостями». К тому времени я уже перестал шарахаться, тем более что он умело превращал все это в шутку и в игру. Например, закрывал нас обоих изнутри в каптерке и говорил, что пока я не сдамся, он не откроет дверь, и меня не выпустит, и сам не выйдет. Я, поломавшись для вида, соглашался. Но что-то в поведении Сереги меня настораживало — ему было явно недостаточно того, что между нами уже произошло и происходило, и он все время норовил перевернуть меня на живот. Я понял, в чем тут дело, и страшно перепугался. И только умоляюще твердил: «Не надо, Сережа. Я очень боюсь, что будет больно. Как-нибудь в другой раз». На что он отвечал:
— Это единственная причина? И что «в другой раз» будет как-то иначе? Ты действительно только боли и боишься?
— Не знаю. Наверное, да.
— Тогда иди и возьми в тумбочке вазелин. Если будет очень больно, перестанем. Не бойся, я постараюсь аккуратно. Ведь я же сам хочу, чтобы тебе было приятно, а не больно.
— Не пойду. Ты что, хочешь из меня настоящего «гребня» сделать? — спросил я, потому что знал: на зоне педерастом считается тот, кто играет пассивную роль, а активным может быть любой, и в этом нет ничего предосудительного.
— Ну и дубина же ты! Тебе будет легче, если ты меня первым трахнешь?
— Нет, не будет. — И, повременив, я добавил: — Слушай, давай я разбужу тебе «петуха» да пойду спать, а ты его тут трахай хоть до утра.
— Ты что, соображаешь или как? Ты за кого меня принимаешь, Саша! — возмутился Сергей и в голосе его обнаружилась настоящая обида на меня и негодование. — Мне с этими тварями противно даже словом перекинуться. Они сами виноваты, что так себя поставили.
— А со мной тебе не противно?
— С тобой не противно. Ты ведь симпатичный мальчик и всегда такой чистюля, за что я тебя, кстати, очень уважаю. А те грязнули, я подозреваю, и на воле такими были — уродами. Ну, а насчет профессионализма, так ты губами «шевелишь» не хуже любой девки. — Говоря это, Сергей засмеялся, и этот его смех вывел меня из себя:
— Дурка ты! Каким же ты гадким бываешь! Зачем ты меня унижаешь и так говоришь со мной? Я тебе кто — «сестра», что ли? Вот ты умеешь сказать что-то доброе и хорошее, и тут же все это облить грязью. Зачем? Зачем ты таким бываешь? Почему?! Гадина!
Сергей сообразил, что перебрал, поэтому примирительно сказал:
— Ну, извини. Это у меня такой юмор — черный.
— Ладно. Только думай, когда говоришь.
Он приблизился ко мне и стал целовать меня, тесно ко мне прижавшись.
— Уйди с глаз моих. Не хочу тебя видеть, — заговорил я, отстраняя от себя Серегино тело, совсем уже соприкоснувшееся с моим.
— Сынок, — громко сказал Сергей, прижимаясь к моему уху, — иди за вазелином. Давай попробуем, прошу тебя. Очень прошу, а?..
— Я боюсь здесь, — прошептал я, совсем растаяв от его горячих губ, все время целовавших меня. — У тебя ведь есть ключ от кабинета Длинного. Идем туда, хорошо?
А дело было в том, что ключ от кабинета нашего отрядного у Сереги был потому, что там, в кабинете, отрядный хранил в сейфе заказанный Сергею ширпотреб, нуждавшийся в некоторой доработке, в отделке цветной пластмассой, стеклами, всякими завитушками. Жена отрядного, кажется, втюхивала этот ширпотреб в Перми, на толкучке или по знакомым, я не знаю.
— Ключ в тумбочке, где и вазелин. Возьми и то, и другое. Иди. И хватит ломаться как целка.
— Ты опять начинаешь?! Сейчас я вообще спать пойду. Если уж тебя приперло, то твое пылкое воображение плюс пара здоровых рук — и вся музыка как по нотам, — стал говорить я, принимая тот дерзкий тон, который, думалось мне, хоть как-то остановит Сергея.
— Саня, ну перестань уже! Хватит дурить-то. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь.
И я пошел за ключом и за проклятым вазелином.
В кабинете Длинного была откидная койка, но она оказалась скрипучей. Сергей бросил матрац прямо на пол и лег, сняв с себя буквально все. Я некоторое время любовался его обнаженностью, но скоро последовал его примеру...
За окном занимался новый день. Солнце уже коснулось стен, висевших на них стендов, ленинского портрета, письменного стола, ряда расставленных вдоль стен стульев. Яркое солнце чуть смущало меня, но не Сергея, которому такая освещенность даже понравилась:
— Какой ты, сынок, красивый! — шептал он. — Только слегка худенький, но это поправимо.
Сергей после всяких ласк и нежностей перевернул меня на спину, а потом снова на живот, прижал к себе, слегка отставляя в сторону правую ногу, и стал смазывать вазелином то, к чему он сейчас так сильно стремился... Я от наслаждения растерял все слова и только покусывал его руку возле плеча...
— Сашенька, мальчик мой, какой же ты хороший, — шептал Сережа дрожащим голосом и тяжело дыша мне в затылок. — Ну давай, расслабься, я очень тебя прошу.
— Да-да. Только не торопись.
Голова моя закружилась, и я почти лишился сознания — от счастья, от страха, от боли, от удовольствия. «Господи, — вертелось в моей голове, — помоги мне! Спаси и сохрани!»
Но не спастись, ни тем более сохраниться мне так и не удалось. Очнулся я, лежа на спине. Сергей лежал рядом, все еще тесно ко мне прижавшись. Он целовал меня всего — от затылка до... Я ничего, совсем ничего не соображал и только ловил своим ртом те участки его тела, которые то приближались ко мне, то отступали... У меня уже не хватало сил обнять Сергея, и я лишь покорно следовал его желаниям нежности и новой близости.
— Давай, Саня, одеваться. Уже время. Длинный может придти. Не дай Бог, застанет нас здесь, да еще в такой интересной ситуации.
— Хорошо. Сейчас пойдем. Еще минуточку. Только ты ответь мне на один вопрос. Я, как понимаю, у тебя не первый, это уж точно. Скажи, только откровенно, я для тебя просто очередной мальчик или...
— Саша, Сашенька, Сашуля, ты для меня — все. И пусть мое прошлое в этом смысле тебя больше не интересует, договорились? Мне на тебя совсем даже не наплевать, хоть ты сейчас так, наверное, считаешь. И я не хочу, чтобы ты чувствовал себя угнетенным.
— Я все понимаю, Сережа. Просто я не хочу быть при тебе бессловесным существом, которое можно трахать, когда захочется.
— Глупенький, — ответил на это Сергей. — Все будет хорошо. Только нужно быть очень осторожным и не расслабляться, как ты говоришь. А сейчас, — Сергей поцеловал меня, — все. Идем в цех. Там и поспим.
Но заснуть мы так и не смогли. Даже в цеху лежали и смотрели друг на друга...
«Мне было и радостно, и тревожно»
И становилось мне и радостно, и тревожно. Радостно от того, что в общении с Сергеем я напрочь забывал обо всех своих проблемах, которые все же обступали меня, несмотря на покровительство и защиту моего друга. Поначалу эти проблемы казались мне мелкими и ничтожными. В обществе Сергея я чувствовал себя в полной безопасности. Он опекал меня везде и во всем. Мы ходили вдвоем в гости к его приятелям, таким же крутым, каким был сам Сергей, на другие бараки, умело преодолевая локалки, потому что от всех дверей и запоров в зоне у Сереги были сделаны ключи. И от того, что нам приходилось тщательно скрывать нашу тайну, наши отношения становились еще прекрасней.
Все лучшее, что скапливалось во мне и не находило проявления, обрушивалось теперь на Сережу. Я хотел — как умел и понимал это — окружить его тем теплом и заботой, которых он был так давно и надолго лишен в своей столь круто сложившейся жизни. Кстати сказать, я никогда не спрашивал его, за что его посадили, да и сейчас не помню статью, по которой он сидел. Кажется, тоже вляпался по глупости — то ли по хулиганке, то ли кому-то шею сломал со всеми вытекающими последствиями. Для меня это было не важно. И Сергей, видя, как стараюсь я для него, отвечал мне тем же. Мы, как говорится, вкипели друг в друга так, что и не отодрать. И хотя о любви мы никогда не говорили (я как-то стеснялся), все было ясно и без того, ибо мы очень хорошо чувствовали то, о чем никогда не говорили. И это тоже тревожило меня, потому что я уже тогда понимал, что без слов ничего нельзя достать со дна человеческой души. Этим и объясняется мое желание поведать бумаге недавние переживания — я ведь освободился из зоны всего ничего, только три года тому назад. И друг у меня есть — верный и постоянный. Но все это — не то. Сердце подсказывает мне: не сравнивай. Да и сам я понимаю: «живущий несравним». Но та моя лагерная тоска все еще во мне и будет во мне, я думаю, всегда.
Я подсчитал, что Сергей освобождается летом, в июле, 11-го числа. Он об этом не знал, считая, что конец его срока у него был в декабре 1980. Я сейчас объясню, в чем тут дело.
На некоторых зонах, в том числе и у нас, в те годы проводился эксперимент (с этим делом очень скоро завязало лагерное начальство) с зачетами. Суть эксперимента заключалась вот в чем. Если зэк за месяц норму выработки выполнял на сто один и более процентов, то ему три рабочих дня засчитывались как четыре, то есть за месяц дополнительно снималось с полного срока 7-8 дней, а если сто десять процентов, то шло 2 дня за 3, если сто двадцать, то... То день шел за два. Таким образом, максимальное количество дней, которые можно было дополнительно снять, было около двадцати. Столько, сколько рабочих дней в месяце. Вот зэки губы и раскатали. Но все это оказывалось не в пользу мужика, а в пользу «вора». Видно, система зачетов в лагерях начала 20-х годов и середины 30-х лагерное начальство ничему не научила, а, может быть, и научила. Только зэки, как всегда, остались в своем большинстве «с хуем».
С мастерами у Сережи отношения были нормальные, даже хорошие. Они его уважали и делали эти зачеты. Но с оперчастью у него были напряги: он несколько раз попадал в ШИЗО на 15 суток. В основном, конечно, из-за своего неуступчивого нрава и характера. После того, как мы сблизились, он попадал в ШИЗО два раза. Я чуть не тронулся, пока он находился в заточении. И вот, после очередных суток, Длинный сказал ему, что все его зачеты «накрылись» за систематическое нарушение режима содержания.
— Ну и пошел он со своими зачетами! Я отсидел четыре с половиной, а уж 6 месяцев как-нибудь отсижу, не сдохну. А на поводу у этих сук не пойду никогда.
— Ты, по-моему, не прав, Сережа, — возник я со своими аргументами. — Ты кому хуже сделаешь?
— Я, Саша, с самого начала избрал свой путь, и буду идти этим путем до конца.
— «А мы пойдем другим путем», — вставил я ни к селу, ни к городу известную ленинскую фразу, столь дорого обошедшуюся всему народу на протяжении стольких поколений. И я пошел этим «другим путем».
Был у меня знакомый земляк, ленинградец. Звали его... Впрочем, не это сейчас важно. Работал он в лагерном штабе (это ж надо такое придумать: штаб! Да «хозяин» наш с Наполеоном имел общего только то, что, как и император французов, ненавидел русских, поскольку был татарином).
Короче, я мог узнать от него практически любую информацию. Он уважал Сергея, и Сережа относился к нему, так сказать, с почтением: во-первых, потому что сидел он за валюту, а во-вторых, потому, что тот до отсидки учился в университете, и с ним было о чем поговорить. Вот я и попросил его выяснить, действительно ли Сережу лишили зачетов и существует ли приказ «Наполеона» по этому поводу.
Через несколько дней «штабист» сообщил мне, что приказа нет, это точно. Просто решили немного «пошутить» — припугнуть. Хороши у ментов шуточки! Человек на них корячился весь срок, а они, гады, решили еще и поиздеваться.
Я, все это узнав, и обрадовался, и расстроился. Обрадовался потому, что муки Серегины скоро заканчивались. А расстроился потому, что мне приходилось дотягивать свой срок уже без Сергея, и это не давало мне покоя. Так уж, видимо, устроен человек, что не дает ему покоя чужая удача. Но мой случай — особый.
Сергею я, конечно, ничего не сказал. Все-таки я не был уверен в достоверности этой информации — от этих ментов можно ожидать всего. И я не хотел обнадеживать Сережу понапрасну. Но вскоре его самого вызвали в штаб, к начальнику оперчасти. Кликуха у того была «Лиса». Он провел с Сергеем беседу — с запугиваниями, с угрозами. Но Лис понимал, что на Сергея это все слабо действует. Поэтому сошлись на том, что если Серега попадется еще раз с каким-нибудь ножом, то с него не только все зачеты снимут, но и новое дело сошьют. На барак Сергей вернулся от опера сильно приунывшим. Таким я его еще никогда не видел.
— Сережа, что с тобой? Ты на смерть похож. Что эти суки тебе там наговорили?
— Заваривай, сынуля, — ответил Сергей. — За чаем и поговорим.
Я быстро сварганил чай и приготовился слушать друга. Он и в самом деле был сильно подавлен, поэтому я уже не хотел лезть к нему с вопросами. Лучше было помолчать и ждать, когда Сережа придет в себя и захочет сам со мной поделиться. Мы выпили чай, есть Сергей отказался, хотя я и приготовил еду довольно вкусно. И продолжил:
— Не дадут, бляди, дожить спокойно до конца срока. Берут за горло и вяжут по рукам и ногам. За почти пять лет я никогда не позволял ментам диктовать мне свои условия, свои правила игры, никогда их не боялся и готов был идти в ШИЗО, в ПКТ хоть на полгода, вплоть до «крытки». И вот сейчас, Саня, не выдержал. Слишком близка и соблазнительна свобода, а я уже так устал сидеть. Хоть ты-то меня понимаешь, а?
— Ну зачем ты спрашиваешь? Сам ведь знаешь.
Я действительно очень хорошо его понимал и еще битый час уговаривал «остепениться» — бросить этот вшивый ширпотреб и спокойно досидеть оставшиеся три месяца. Я попробовал предложить Сереже варианты.
— Давай что-нибудь придумаем. Давай ты «закосишь» на свой желудок (Сергей в зоне успел нажить себе язву) и ляжешь в санчасти до конца. Я тебя буду проведывать... Ты согласен, а? Сереж?
— Сынок, что ты несешь?! Проведывать! Да я умом там тронусь без тебя и от безделья! Да и что ты сам будешь здесь делать, без меня? Ты ведь знаешь, каким ядом козлы на тебя дышат. И все из-за этой проклятой хозобслуги, я думаю. Пока я на зоне, в бараке, в бригаде, тебя здесь никто ни словом, ни пальцем. Но стоит мне уйти, тебя ведь съедят прямо с костями. А до июля все они, эти козлы, должны уйти на свои «химии».
— Во-первых, Сережа, на мне теперь не только кости, вот уже и мясо наросло, сам говорил. Во-вторых, ты все равно освобождаешься раньше меня. А козлы разве что соли мне насыплют. Из токарей меня никто не выгонит — я точу все, абсолютно все и с закрытыми глазами. Чья школа! Ну, разве что внесут меня в общий список по уборке барака. Что в этом страшного? Как-нибудь добью свое.
— Вот именно что «как-нибудь». Мне даже и подумать об этом страшно. Короче, гори они огнем, эти зачеты. Завтра же иду в цех, начну делать нож и затем «попадусь» с ним. Мне к ШИЗО не привыкать.
От этих Сережиных планов я пришел в неописуемый ужас, поэтому буквально сквозь слезы стал выговаривать ему:
— Ну я, конечно, знал, что ты двинутый на всю свою голову, но не думал, что до такой степени. Я очередные твои 15 суток не выдержу — у меня «крыша поедет». У меня и так мозги набекрень, когда ты там сидишь. Да и вообще, ты соображаешь, что ты мелешь?! Это ж не 5 дней, даже не 5 недель — это целых 5 месяцев! И ты готов ими пожертвовать, чтобы козлы на меня не наезжали? Забудь и думать об этом!
— Да, я готов. Я готов с тобой еще 5 лет отсидеть.
— Я тоже. Но для этого надо на новый срок раскрутиться. В общем, так, Сережа: если ты — не дай Бог! — это сделаешь, я не буду с тобой разговаривать и вообще... попрошусь на другую зону. Пойду в штаб и пожалуюсь на тебя. Скажу, что ты меня истязаешь и заставляешь член в рот брать. Ну, я найду, что сказать.
— Заставляю?! — Сергей засмеялся, засмеялся так звонко, так искренне и легко, что и у меня этот его смех вызвал ответную улыбку. — Да тебя за уши не оттянешь!
— Дурак ты, Серега, и шутки твои дурацкие, — сказал я вполне серьезно и нахмурился, изобразив оскорбленное достоинство.
— Ладно, сынок. Не сердись на меня. Я ведь хочу как лучше. Что-нибудь придумаем, как тебя уберечь от этих козлов. — И он начал излагать свой план. — Для начала надо Виталику письмо на больничку переправить — спросить, не собирается ли он возвращаться в зону. Но это, я думаю, не лучший вариант. Виталик такая хитрая лиса, не хуже нашего опера, что просто ужас. И не дурак он. Боюсь, что он догадывается, чем мы занимались в каптерке и в кабинете у Длинного. У него у самого что-то в этом роде было, он мне как-то по пьянке признался, да я тогда этому значения не придал. Короче, попробую я тебя на 10-й барак перевести. Там и земляки у тебя есть. Стоят они уже неплохо, в обиду не дадут. Работать будешь на токарном, но только по дереву. Это и проще, и интересней. Но перевести тебя туда будет не так-то просто. Я ихнего отрядного совсем не знаю. Он как-то без ширпотреба обходится.
— Да, — согласился я с Сергеем, — земляки у меня на 10-м свои в доску. Двое из них даже из нашего района, с Гражданки, Вовка с Петроградской, а Сашка Соколов с Васи.
— С кого? — не понял Сергей. — С какого такого Васи?
— Да с Васильевского острова. Ленинград состоит из островов. Васильевский — самый старый и самый большой, на нем практически и основался Петербург. Но самое первое строение города — Петропавловская крепость — находится на Заячьем острове. В белые ночи, Сережа, да и вообще, можно с ума сойти от красоты!
— Ничего, держись, сынок, скоро и ты все это снова увидишь. А я...
— Вот ты ко мне и приедешь. Я тебе все-все, Сережа, покажу — весь город. И погуляем с тобой по всем моим любимым местам. А на Финском заливе!.. Нет, это надо видеть! Словами не передашь.
— И не передавай. Я сейчас не об этом думаю.
— А о чем?
— О тебе, конечно. Таких, как ты, больше нет. Ты у меня единственный и самый лучший дурачок. Иди сюда, поцелуй меня и посмотри своими похотливыми глазками.
— Ой, ладно, тоже мне! Еще неизвестно, у кого из нас глазки похотливее. Иди, глянь на себя в зеркало, — сказал я, притягивая к себе Серегу. — А вот теперь я тебя хочу. И никуда ты, милый, сегодня от меня не денешься.
— Вот приучил на свою голову!
— Сам виноват — сам и расхлебывай.
— Ничего. Мне до июля всего ничего осталось. А вот ты будешь здесь еще без меня локти кусать.
Я насупился, изображая подобие гнева:
— Ты, Сережа, договоришься, что я лично как-нибудь сдам тебя с потрохами Флинту (наш старший оперативник. Кстати, в отличие от всех других наших ментов он был умным и не подлым человеком, и начальник оперчасти всегда умудрялся оформлять Сергея на сутки именно в отсутствии Флинта. Что-то Флинту нравилось в Сергее, но с какими-либо просьбами он к нему никогда не обращался. А бывало, и говорил ему: «Ты, Образцов, совсем мышей не ловишь, нюх потерял. Они тебя тут все до единого с говном смешают. Побереги себя, Образцов. С твоими руками и головой в академии учиться надо, а не по тюрьмам маяться. Выберешься — иди учиться. Я помогу.)
— Флинту? Ха-ха! Ты меня еще ДПНК Ширяеву сдай.
ДПНК — дежурных помощников начальника колонии — у нас было двое постоянных: маразматический и уже в годах майор Кандыба — хромавший на обе ноги и вечно обо всем забывавший и в общем беззлобный мужик, и... Вторым постоянным ДПНК был молодой старлей Ширяев. Впоследствии он стал отрядным по причинам, о которых я могу лишь догадываться. О Ширяеве стоит сказать особо.
Внешности он был обыкновенной. В зоне, при первом впечатлении, все смотрятся одинаково. Это только потом, уже отсидев какое-то время, начинаешь улавливать в лицах и в глазах людей нечто отличное от других, свое, индивидуальное, объясняющее слова и поступки. Между теми, кто сидит, и теми, кто охраняет, тоже — на первый и даже на второй взгляд — мало разницы. И только в определенном общении, в столкновении характеров и интересов начинаешь видеть каждого в отдельности и оценивать человека. А бывает, и очень часто бывает, что так и не поймешь человека, кем бы он ни был, даже при длительном общении. Ширяев же был молчун. На зоне его было почти не видно и никогда не слышно. Появится на утренней и на вечерней проверках, иногда придет к разводу на работы, в качестве ДПНК зайдет в столовую, в клуб, в ШИЗО и ПКТ — и все молча. Другие кричат, орут, угрожают, достают зэка по всякому поводу. А он, Ширяев, как бы и не видит нас. Потому в зоне он имел репутацию среди зэков самую замечательную: «Ширяев — человек».
Я часто сталкивался с ним тогда, когда заходил к Васе Пономарю в библиотеку. А библиотека у нас была классная: производство давало зоне неплохие деньги, и на большую их часть наш замполит закупал в библиотеку самую разнообразную литературу. Это в нем осталось еще с политзоны, куда его направили на работу после академии и откуда, когда политиков стали постепенно освобождать и изгонять на Запад, он пришел уже майором на наш «общак».
Так вот Ширяев часто посиживал в нашей библиотеке. Василий говорил, что он готовится к экзаменам в юридический институт. А поскольку на зоне каждый виден — и зэк, и его охранник, то и мы не могли не заметить странную дружбу Ширяева с одним из заключенных, или точнее — с одним из осужденных по 121-й статье. А что такое в лагере эта знаменитая статья, думаю, все знают. В нашей зоне только он один и сидел по этой 121-й.
Зэк тот был из Москвы. И тоже какой-то странный. Ему было чуть за тридцать. Он был интеллигентный, со всеми доброжелательный, и, должно быть, очень умный. Он очень быстро поставил себя в зоне и среди зэков, и среди начальства, которое относилось к нему с некоторым даже почтением, так что все как-то сразу забыли о том, что осужден он по такой статье. А когда открылось, что сидит он за политику (а открылось это очень просто: в зону попал журнал «Огонек», в котором об этом человеке писали как о политическом диссиденте и яром противнике советской власти. Возможно, именно эта статья в «Огоньке» и спасла ему жизнь в лагерях и тюрьмах), и когда все вдруг увидели, что наш замполит — при всех! — здоровается с ним за руку, все ошалели. Кем он был по образованию, я не знаю, но только все в зоне шли к нему, когда требовалось обжаловать приговор или написать помиловку. И однажды именно по его помиловке из зоны ушел один зэк. Ну тогда, сами понимаете, ни о какой 121-й и речи не возникало. Жил он со всеми в отряде дружно и даже спал на лучшей койке. Наша «крутизна» лагерная его уважала, хотя он ни с кем особо не общался. Кроме одного молодого парня — лагерного художника—литовца, которому он впоследствии помог освободиться по УДО, через полсрока. После того, как этот художник освободился, он и вообще замкнулся в себе и общался только с Ширяевым. Их часто видели вдвоем в библиотеке, и Пономарь сказал мне, что этот политик помогает Ширяеву в английском.
Я заметил, что когда я появлялся в библиотеке, политик сразу же отрывался от книги, если был один, и долго смотрел на меня, чуть улыбаясь своими умными глазами из-под красивых очков. Я почему-то смущался, любопытство и желание заговорить с ним притягивали меня к нему, но, зная о его статье, я, дурак, все же остерегался общаться с ним. Я тогда подумал: «Ширяеву можно. Он что — пришел и ушел. А мне тут еще кантоваться и кантоваться». А потом, когда Сергей уже освободился и моя тоска по нему иссушила меня, этот зэк как-то сам подошел ко мне в столовой и тихо сказал: «Берегите себя. Вы еще так молоды! И я уверен, ваш друг вас дождется». И все. Больше ни единого слова. И мне после этих его слов стало легче. А на «вы» ко мне еще ни разу в жизни, кроме как судьи, никто не обращался. Это поразило меня.
«На дворе был месяц май»
Зона находилась на высоком холме, и барак наш был расположен прямо возле предзонников и заборов. Выглянув из окна последнего пятого этажа барака, можно было увидеть весь город как на ладони. Я часто сидел на подоконнике и смотрел куда-то вдаль, думал о чем-нибудь своем, или вообще ни о чем, или обо всем сразу, потому что именно весна, самое ее начало, побуждают нас задумываться сразу обо всем. А Сережа в это время, как обычно, сидя рядом у окна на тубаре, что-то мастерил, время от времени бросая на меня свой взгляд, полный любви, нежности и одновременно исполненный грусти и тоски. Приближалось время его освобождения, поэтому мы чаще молчали — молчали днями, ночами могли не проронить ни звука. Нам было хорошо просто от того, что мы были рядом. Мне кажется, что мы даже излучали какое-то невидимое тепло. А ведь счастливых людей замечаешь скорее, нежели людей несчастных, и поэтому, когда вдруг мимо нас с очередным нарядом вдруг проходил все тот же Ширяев, он нам улыбался. Бывает же такое!
На дворе был май месяц, и вокруг все цвело и благоухало. Зимой в зоне всех охватывает какое-то унынье, безысходность, усталость, постоянно хочется спать — все равно где, хоть даже стоя. А весной и летом, но особенно весной, вдруг поднимается к горлу тоска по воле, по дому, по друзьям, по городу, где ты родился и вырос. Душа в лагере повинуется весне и тоже как бы расцветает, оттаивает, просыпается. Тянет ее куда-то — гулять, веселиться, влюбляться. Но вынужден сидеть и гнить в этой гадкой душегубке.
С приходом весны наша с Сергеем тяга друг к другу вспыхнула с новой силой. Мы совсем голову потеряли — трахались и на работе в складе, и на бараке, когда все уходили в баню или в кино по воскресеньям. А с баней, между прочим, и вообще получился цирк.
Поначалу все было в порядке. Мы друг другу терли спины и т.д. — в бане все так делают. Но с каждым разом нам обоим становилось все труднее и труднее сдерживаться, да и не хотели мы сдерживаться. У Сереги были друзья в котельной, которая находилась совсем на отшибе — в дальнем углу промзоны.
У них там была великолепно оборудованная душевая — почти что сауна. И мы вдвоем стали ходить туда мыться чуть ли не ежедневно, но только ночью, когда на 2-й смене. 1-я же смена — это сущий ад. Днем полно оперов, ничего нельзя сделать, даже из цеха лишний раз выйти. А на
2-й — тишина и покой. Поэтому тоже было нормально, что мы каждый раз после работы шли мыться — работа по металлу очень грязная, да еще жара летняя началась. Да и не только мы туда, в котельную, ходили мыться. Ходили и другие, кто заодно, конечно, и мылся. Люди ведь живые, а живое тянется к живому с непреодолимой силой.
Мы закрывались в этой душевой и часа два вполне спокойно, никого не опасаясь, занимались любовью. Тем более что в котельной работали мужики уже в возрасте. Ожидать от них каких-то подозрений было глупо (хотя почему так уж и глупо?). Впрочем, у них, у этих мужиков, была одна забота — чай, чай, чай. Серега их этим чаем подогревал от души.
Там-то, в этой душевой, и испытали мы все прелести греха, а от того, что грех этот был запретным, он становился еще слаще и сильнее, и мы были еще желанней друг другу, буквально растворяясь один в другом. Запретный плод, говорят... Да еще какой запретный, по лагерным-то понятиям!
«А время неумолимо бежало»
Время для нас теперь действительно бежало, а не тянулось, как это обычно бывает в тюрьме. И я все чаще начинал задумываться над тем, что же я буду делать без моего Сережи — без моей любви к нему, без его, порой грубоватой, но такой пленительной нежности, без его шершавых ладоней, словно водопад, спускавшихся с моих бедер, превращавших мою кожу в шелк и приводящих всего меня в дрожь... Все эти размышления наводили на меня ужас и возвращали даже физически в то состояние, в котором я находился морально до того, как этот сильный и красивый парень выхватил меня из тьмы мне подобных в этой жуткой и жестокой жизни.
Я все говорил Сереже, я не мог молчать и держать это в себе — молодость ведь так эгоистична и жестока порой, даже во взаимной любви!
И Сергей тоже молчал в ответ, стараясь прятать от меня свои чудные глаза, но я видел, как на них появлялись слезы. Ему было еще мучительней, чем мне, я знал и сознавал это. Да и что он мог мне сказать?! И тогда нам обоим становилось тяжело, очень тяжело, и мы спешили еще и еще раз украсть у нашей любви лишнее мгновение. Жизнь была великодушна к нам и дарила нам такую возможность именно тогда, когда мы в ней нуждались. У нас на бараке затеяли ремонт, от чего мы с Сергеем пришли в безумный восторг.
Дело в том, что нары на время ремонта выносились в коридор — там все и спали. У нас же появилась как раз эта самая возможность — закрываться на всю ночь в каптерке и оставаться там вдвоем, что мы и делали. Так как Серега был «крутой», то он мог себе это позволить, и никто не смел ему это запретить. Что же до каптерщика, то Серега заплатил ему чаем, сигаретами и даже деньгами, и тот уходил спать к своим землякам в котельную. А я вроде как за компанию, вместе с Сергеем. Тем более что наши козлы обосновались в соседней каптерке, поселив вместе с собой самого симпатичного и самого чистоплотного «петуха». Ну, для каких целей — понятно. Наверное, чтобы утром цветы поливал и по вечерам колыбельные им пел.
Ремонт тянулся недели три. А куда зэку спешить? Погода отличная, можно лишний часок и в локалке на свежем воздухе на скамейке посидеть, поиграть в домино, да и просто так отдохнуть в тишине и покое.
Чем мы там, в этой каптерке, ставшей нам родным домом, занимались, я, конечно, описывать не буду — и ежу понятно. Если уж мы умудрялись на работе, в складе, да с оглядкой в душевой, то что уж говорить-то о новых условиях! Мы просто пожирали друг друга своим желанием и любовью, не давая друг другу заснуть ни на минуту. А отсыпались на работе, за что неоднократно получали «втык» от мастеров. Но что было делать?! Мы не то что за станками стоять — мы просто стоять на ногах не могли. Конечно, под конец смены мы просыпались (вернее, нас будили) и за час-два делали все срочные и аварийные детали. Но по большому счету нам было глубоко наплевать — и на детали, и на мастеров, и на «козлов», которые подходили к Сергею и ныли по поводу того, что мастера на них гавкают из-за нас и их «химия» может накрыться. А детали, между прочим, мы делали самые сложные, станки у нас были самые лучшие, и Сережа запретил всем остальным токарям даже приближаться к нашим станкам. Но свою работу мы в любом случае выполняли, что и требовалось. Ну, прямо бригада коммунистического труда!
«Мы что, стали настоящими гомосексуалистами?»
Как я уже говорил, наша зона была расположена на высоком холме. Сразу же за забором, за которым стоял наш барак, был крутой обрыв. Внизу протекала река, даже не река, а так себе, речушка, а за ней был большой парк с летней эстрадой, где проводились дискотеки. Умеют же у нас строить тюрьмы — непременно в самом центре города, а лагеря — или на болоте в лесу, или прямо в эпицентрах культуры. Впрочем, если с единством партии и народа у партии всегда были трудности, то с единством народа и зэков — никаких проблем: сегодня — там, а завтра — здесь.
Из окон нашего барака виден был только город, начинавшийся сразу же за парком. И видно было, что Березники — город сплошь зеленый, насыщенный светом и радостью летнего пейзажа. Но парк и речка были видны только если залезть на чердак. Там у нас находилась самодельная телевизионная антенна, которую приходилось постоянно настраивать.
— Саня, хочешь увидеть, как малолетки девок трахают? — спросил меня однажды Серега. — Если — да, то давай через чердак на крышу.
— Ты что, мне пропуск на свободу выписываешь?
— Нет. Я в этой жизни могу многое, но не все. А мы вот сегодня на нашу крышу заберемся — и они, малолетки, нам с тобой эту свободу изобразят — в лицах и в позах. Ты же сам знаешь, по пятницам у них там дискотека. Так они напиваются до поросячьего визгу и натурально трахаются прямо на берегу. Там фонари, поэтому все сверху видно.
— А я, знаешь ли, не любопытен. Это ты, наверное, частенько туда лазаешь и занимаешься глупостями, глядя на них? Это, кажется, сеансом называется.
— Ну, пока тебя не «распечатал», бывало и такое. Но я давно уже там не был.
— Какой ты иногда бываешь пошляк, Сережа, — не вытерпел я и сказал ему, что я думаю по поводу его выражений. — И на чердаке, если тебе приспичит, меня не трогай: там полно стекловаты — будет, я думаю, не в кайф.
— Да... Надо бы, сынуля, мне твою попу поберечь, она у тебя такая славная. Да?
— Ну, раз ты так считаешь, — отозвался я в тон Сергею, — то...
— Я хочу тебя в любую минуту, в любом месте и в любом виде, хоть и на облаках.
— Даже если эти облака из колючек?
— Да. А что?
— Я не имею ничего против. Только я чувствую, что мы с тобой конкретно «влипли» в это дело. Что мы будем делать, если на воле с девками будет не в кайф? Захочется с парнем, а где его взять? Так ведь можно и до самой смерти мучиться.
— Будем ездить в гости друг к другу.
— Ага. Как на случку — раз в год, да?
— Ну, зачем такие мрачные мысли?! Это же элементарная арифметика. Вот сколько у нас на зоне тех, кто трахается по собственному желанию? Из сотни, я думаю, человек 5-6, то есть каждый двадцатый. Вот столько же примерно их и на свободе. Если очень захотеть, то можно найти себе друга.
— Сережа, — спросил я вполне серьезно, — мы что, стали настоящими гомосексуалистами?
— Ну, во-первых, не мы первые, не мы последние. А во-вторых, есть более подходящее слово — бисексуалы. Но я скажу тебе одно: если бы мне предложили выбор — ты или десяток классных девок, я выбрал бы тебя, даже не глядя на них. И знаешь, почему?
— Знаю. Только я выбрал бы тебя — и лучшую из этого десятка.
— Вот это и есть самая настоящая бисексуальность, когда и с девочками, и с мальчиками хорошо.
— А ты где всей этой премудрости набрался?
— Я, знаешь ли, все эти годы не только точил и пилил, а и книжки умные читал. И тебе советую. Когда освободишься, найди литературу на эту тему. Можешь и с «политиком» нашим об этом поговорить, уж он-то знает.
— А почему ты так считаешь, что он знает?
— Он мне как-то сказал, что хочет написать книгу о тюрьме на воле. Он так и сказал: книга будет называться «Парадоксы тюрьмы и гримасы свободы».
— А бисексуальность тут при чем?
— А при том, что в изоляции человек не перестает быть человеком, и в физической близости с товарищем по несчастью прежде всего ищет применения своим лучшим чувствам и качествам, которые были свойственны ему на воле. А животным такой секс в тюрьме, да и в армии, я думаю, тоже, делает традиция нетерпимости. Для случки, как ты говоришь, я мог бы вытащить из нашего гарема того, кого захотел бы я. Но мне нужно не хотеть, хотя и это важно, а любить человека, доверять ему, защищать его, помогать ему, беречь его от любого зла в этом гадюжнике. И я встретил тебя, вот. А как там со мной, с нами будет на воле — один Бог знает. Мы оба еще так молоды, Саня! Конечно, каждому нормальному человеку хочется иметь свою семью, свой угол, уют, домашнее тепло. Но здесь ты — моя семья. И отдаешь мне вместе со своим прекрасным телом свою чистую душу, а я взамен окружаю тебя моим теплом и защитой.
— Послушай, Сережа, а чем ты будешь заниматься на свободе?
— Не знаю. Посадили меня еще почти школьником. Скоро мне уже двадцать два, а я и жить не начинал. — И подумав о своем, он добавил: — Саня, давай не будем об этом. До свободы еще дожить надо.
На крыше действительно оказалось интересно. Пьяная молодежь бесилась и дурела на дискотеке. Некоторые парочки уходили из общего стада в глубину парка, поближе к речке, и прямо на траве начинали заниматься сексом. Мы сверху видели все это и смеялись, как школьники. Они же выделывали такое, что даже нам с Сергеем было стыдно и неловко друг друга.
— Сынок, ты со своими подружками тоже такое творил? — почему-то решил спросить меня Сергей.
— Нет, Сережа, у меня не было так много опыта. Да и мой член интересовал их всех гораздо больше, чем язык или что-то другое.
— Могу себе представить! Они за тобой табунами бегали, да?
— Да пошел ты к чертям! Отстань!
— Чего ты?! Наоборот, твоей «штукой» гордиться надо, а не стесняться.
— А я не считаю, что эта «штука» — главное в жизни.
— Конечно, нет. У тебя есть и другие достоинства. И... И зачем ты, сынок, всегда такой серьезный? Ты с другими таким будь, а со мной — не надо. Расслабься.
— Сережа, я тебя... Ну, мне очень хорошо с тобой.
— Что ты хотел сказать? — насторожился Сергей. — Не бойся, говори.
— Ладно, идем вниз. Я уже не могу смотреть на это блядство. Здесь и в самом деле везде стекловата, а я хочу сейчас прижаться к тебе — сильно-сильно, и никогда, слышишь, никогда не выпускать тебя из своих рук.
И снова он мучил меня до утра, не выпуская, как обещал, из рук ни на миг. Я вдруг сызнова понял, как люблю я его руки, его тело, его губы!.. Мне нравились его прикосновение к моей коже, его чуткие пальцы, его сильные красивые ноги, его мужественная сила и готовность доводить меня до стонов, а себя до крика сквозь плотно стиснутые зубы. Я по-настоящему вошел во вкус такой близости и научился испытывать наслаждение в ночных играх с этим так сильно любимым и желанным парнем.
Первоначально, стесняясь друг друга, мы не включали свет, но чуть позже Сергей все же зажигал лампочку, предварительно набросив на патрон в виде легкого абажура какую-нибудь темную тряпку. И тогда мы видели друг друга, и любовались друг другом, и я восхищался тем, как вылеплен каждый мускул на Серегиной груди, как в этой хорошо развитой плоти оживает нечто более важное и значительное, чем просто физическая красота, и я понимал сердцем, что я люблю в Сереже его умение оставаться ласковым и тихим в минуты наших восторгов и переживать их без всяких слов, одними только движениями наших зрачков в этой полутьме.
Никогда больше ни с кем не повторялось такое, хотя и прошло уже столько лет со дня нашей разлуки. Я никогда никого так не любил, как любил моего Сережу. Любил там, где суждено было мне повзрослеть, стать человеком, научиться терпению, молчанию, благодарности, гневу, ярости, даже ненависти. Никто после Сережи не давал мне столько счастья, и, наверное, ни с кем после него не был я так открыт и распахнут, так бескорыстен и честен, так чист и прост. И никогда уже не буду. Ибо счастье является нам в нашей жизни, я в этом уверен, только однажды, и все последующее, что переживается нами иногда как счастье, есть лишь в той или иной мере копия того, чем были мы наполнены в юности. Открывшиеся мне в лагере однополые отношения, прежде так пугавшие, побудили меня иначе смотреть на жизнь людей и на себя, конечно. И в том, что мне видно теперь, я нахожу много подлинного, настоящего, стоящего того, чтобы это распространить на все сущее в мире. А видна мне только Любовь, то есть то, что образует все краски жизни со всеми ее огорчениями, утратами, слезами и отчаянием. Жизнь, понял я, конечно, ужасна. Но и прекрасна!
«И вот наступила эта последняя наша ночь»
Срок заключения у Сережи подходил к концу, а значит, неумолимо приближался день и час освобождения. Сергей и сам все сильней и сильней ощущал дыхание близкой свободы. И это дыхание вносило в его облик и поведение те очевидные изменения, которые невольно готовят узника к новой жизни. Да и я стал постепенно меняться: неосознанная еще тоска и страх остаться без Сережи, пусть даже и на непродолжительное время (в зоне полгода — не срок уже!), внушала мне беспокойство, вновь раскручивала нервы. Мы и в каптерке-то не засиживались слишком долго, как бы понимая, что чем мы неразрывнее, тем больнее будет отрываться друг от друга, тем дольше не заживет эта рана. Да, приближался этот день... Я и дни в календарике зачеркивал каждый вечер, творя при этом некую молитву, текст которой был мною сочинен и затвержен навечно. Мы специально избегали разговоров на тему близкого Сережиного освобождения: я — из боязни и страха думать об этом, а он, должно быть, — уносясь своими мыслями в предстоящую жизнь, о которой он за время, проведенное в неволе, знал мало или не знал совсем ничего.
В июне мне исполнилось 20 лет. Отметили мы этот день почти как на воле, даже спирта удалось в санчасти добыть 200 граммов. Стол бы шикарный по лагерным меркам, и все усилиями Сереги. И даже подарки были — те самые общеизвестные зэкам подарки, которые в подобных случаях делают на зоне «кентам». Трусы, носки, мыло какое-нибудь «центряковое» — короче, все самое необходимое. Но Сережа и в этом случае поразил меня своим вниманием и заботой.
Кроме перечисленного он подарил мне очень хорошие зимние высокие армейские ботинки, замечательную пуховую куртку, сшитую специально для лагеря — с виду это была обычная зэковская фуфайка, только гораздо теплее (у нас была дурноватая зона, показная, «красная»: нужно было строго соблюдать форму одежды). Такую же шапку — под «зэчку», но тоже очень теплую. Портсигар с чеканкой и с моими инициалами. Брелок из разноцветного плексиглаза — внутри, в бесцветном масле, плавал маленький кленовый листик. На одной стороне была выгравирована моя фамилия, имя и отчество: «КОРОЛЕНКО Александр Николаевич», а на другой — начало и конец срока. Нож-выкидуху, тоже с моими инициалами — очень красивый, и, конечно, не боевой, а сувенирный. И крестик на шею — изумительной работы, из технического золота, с серебряным Иисусом.
Последние четыре предмета Сережа сделал, разумеется, своими руками, которые я был готов целовать без конца. И когда он успел все это сделать и как от меня скрыл — ума не приложу. Ведь мы постоянно были вместе, и ночью, и днем. Когда он мне вес это вручил, я был на седьмом небе от счастья. И Сережа, видя это, тоже радовался, как ребенок. Видимо, душой он не был подготовлен к простой человеческой благодарности и теперь, когда я ухватил его за шею и стал в слезах целовать, очень смущался: «Да что ты, сынуля! Это все ерунда. Это для меня сделать было — раз плюнуть. Да не реви ты так, не реви...»
И вот наступила эта последняя наша ночь. Мы пришли после 2-й смены (помылись мы, конечно, в котельной), поели и уселись друг против друга в каптерке, закурили...
Я чувствовал, что вот-вот снова разревусь. Надо было что-то говорить. Но как? Ком стоял в горле.
— Сынок, может, спать пойдем, — вымолвил Сергей, прекрасно понимающий мое состояние.
— Дома отоспишься! — психанул я. — Какой может быть сон! Ты завтра уйдешь — и я останусь совсем один.
— Я знаю. Но ты ведь будешь плакать. Я не могу на это смотреть, у меня сердце рвется на части.
— Лучше сейчас, чем завтра, при всех.
— Ни сейчас, ни завтра. Нельзя. Можно будет только тогда, когда за ворота выйдешь. А здесь — нельзя. Здесь ты среди чужих. На них слезы действуют, как красная тряпка на быка или как кровь на акулу. Разорвут моментально, и оглянуться не успеешь. Забудь об этом до своего часа.
— Я не буду плакать, — тихо сказал я и попросил: — Поцелуй меня.
— Ну, иди ко мне, только рубашку сними.
— И ты сними.
О, он еще никогда меня так не целовал! Время для меня остановилось, и я вновь провалился в бездну.
Он что-то шептал мне, но я уже ничего не слышал, только стонал, когда его ладони трогали все мое тело...
Очнулся я на полу, на тех самых шинелях, на которых все и произошло в первый раз. Сергей лежал рядом, положив свою красивую голову на мое плечо, и слегка гладил меня по груди и животу. Я приподнялся и поцеловал его. Он улыбнулся:
— Спасибо, сынок.
— За что?
— Мне еще никогда не было так хорошо, как только что.
— Мне тоже. И никогда, наверное, уже не будет.
— Зачем ты так говоришь? Тебе ведь только 20. Все еще будет. Такой человек, как ты, с такой душой, с таким сердцем, как у тебя, достоин такой же чистой любви. Вот увидишь, Саша, все это у тебя будет. Дай Бог тебе встретить человека, который оценит тебя и ответит тебе тем же. И совсем неважно, кто это будет — парень или девушка. Любовь, дорогой ты мой, всегда любовь — всегда и будет любовью. Так что все у тебя еще впереди, сынок. Не унывай.
Всегда не слишком разговорчивый, Сергей неожиданно продолжил, и теперь его слова были для меня новыми. Даже звуки были другими — ясными, точными, без того привычного в зоне налета кажущейся легкости и необязательности, к которым, увы, быстро привыкаешь и перестаешь ценить внятную человеческую речь:
— Я счастлив, что заметил тебя среди этого сброда и помог тебе сохраниться в этом безумии. Все-таки четыре с половиной года не прошли для меня даром, и я научился разбираться в людях. И рад, что ты не впитал ни эту мораль, ни эту душевную тьму, ни эту грязь и жестокость. Может быть, за всю мою еще короткую жизнь я тоже успел сделать доброе дело. Ты и твоя любовь ко мне, сынок, — тому доказательство. Поэтому и я, уже с твоей помощью, Саша, освобождаюсь из этого ада не зверем, а человеком. Спасибо тебе именно за это, дружок.
Держись, очень тебя прошу. Не опускайся здесь без меня. С отрядным я договорился. Эту неделю еще походишь на работу, а с понедельника и до конца срока будешь у него писарем. Будешь сидеть только на бараке и писать ему отчеты и всякую муть. Мозги у тебя есть, пишешь ты грамотно — справишься. Если кто-то скажет, что, мол, западло на ментов работать — сразу скажи Андрею, завхозу. Он тебя уважает, ты сам знаешь. В обиду не даст. Я с ним говорил, и он сказал, что разорвет любого, кто тебя тронет. Андрюхе через год освобождаться, он меня знает, мы земляки. Если что не так будет — я ему на воле... Да я его там просто грохну. Но и ты будь на стреме: слишком близко его к себе не подпускай. Мало ли что у него там на уме. Он мужик чуткий, кажется, ситуацию нашу просекает.
Денег тебе оставляю 300 рублей, себе возьму сотню на дорогу, да и на счету у меня пара сотен есть. Как раз нам пополам с тобой. На сигареты до февраля тебе хватит. А если вдруг деньги понадобятся, подойди к Ширяеву и скажи ему прямым текстом. Он со мной свяжется, он ведь тоже из Кунгура, так что все будет путем.
Шмотки на зиму у тебя есть. Да и мама твоя на свиданку ведь еще приедет — привезет, что будет нужно. Короче, перезимуешь.
Ну, это все, что я смог для тебя сделать, Саня.
Да, если кто станет выспрашивать, чем это мы с тобой в каптерке занимались, то знаешь, что отвечать — ширпотребом. А если будут намеки — сразу бей в морду. И будешь абсолютно прав. Любой порядочный и авторитетный человек тебя защитит и поддержит. Главное, не вешай носа, держись с достоинством и заставь себя уважать. Но сам сильно не высовывайся. И все будет хорошо. Ты ведь у меня молодец! Все ловишь на лету. Ты продержишься, я уверен.
Как бы там, на воле, у меня не сложилось, мне тебя будет очень не хватать — я ведь так к тебе привык. И знаешь, Саня, странное ощущение у меня: тебе осталось сидеть совсем пустяк, а мне все кажется, что ты только пришел в лагерь и я тебя учу здесь жить. А теперь идем, сынуля, на улицу. У меня есть для тебя сюрприз.
Поднявшись с шинелей, мы быстро оделись и вышли в локалку. Ночь была чудесной. Чистое теплое небо, луна, море звезд, запахи лета и пронзительная тишина, только с реки доносилось пение лягушек и шум кузнечиков. В такие ночи становится или очень спокойно и радостно на душе, или охватывает тоска и грусть. А ведь это была наша последняя ночь, когда мы были вместе. Утром он уходил навсегда.
— Сережа, что ты опять придумал? — спросил я его, зная, каким бывает он иногда неожиданным.
— Вернись, Саня, в каптерку и возьми две кружки, а я в подвал схожу.
От подвала у него тоже был ключ. Когда я вернулся, Сергей уже сидел прямо на травке за бараком и держал в руках литровую полиэтиленовую флягу.
— Что это такое?
— Марочный портвейн «Массандра».
— ???
— Иваныч еще неделю назад принес, и я в подвале спрятал. Причем я его не просил — он сам. Он сказал, что это нам с тобой, отмечать мое освобождение. Кстати, если вдруг надо будет письмо отправить без цензуры — выйдешь на работу и обратишься к нему. Мы ведь и так всегда через мастеров ксивы перегоняем. А я его предупредил. Он тебе все сделает. К Ширяеву обратишься только в крайнем случае. Каким бы он ни был, Ширяев, а сам понимаешь — мент.
Но я вдруг ни с того, ни с сего испугался и поэтому спросил Серегу:
— А ты представляешь, что будет, если нас менты сейчас повяжут с этим вином?
— Ха-ха! Не бери в голову. Тебя — в ШИЗО, а меня разве что обстригут наголо. Да не тушуйся ты, сегодня как раз ДПНК Ширяев. Он, наверное, сейчас у себя на КПП или спит, или свой английский зубрит. Да и до проверки еще долго. Наливай. Да пойдем еще в каптерку. Я тебя сегодня, наверное, съем.
Мы пили вино, целовались, обнимались и молча смотрели друг в друга. Я вспоминал, как у нас все началось. И сколько же мы провели таких вот бессонных ночей — просто глядя друг на друга, друг другу в глаза! Если бы нас приговорили к пожизненному, но посадили бы в одну камеру, я уверен, мы были бы самыми счастливыми на этом свете людьми.
Наступило утро. Барак проснулся, и начался обычный лагерный день. Мы были в каптерке. Я грел воду, чтобы Сережа побрился. А он сидел за столом и переписывал в записную книжку адреса всех своих кентов по зоне.
— Сынок, обязательно пиши мне. Ты знаешь, я писать не умею и, может быть, не всегда тебе отвечу. Но ты пиши.
— Конечно, буду писать, Сережа.
Но я тогда еще не ведал, какие муки мне это сулит. Ведь письма идут через цензуру, и их читают. Я не мог написать всего, и переписка, едва начавшись, прекратилась. А к Иванычу я не обращался...
Санкт-Петербург, 1994

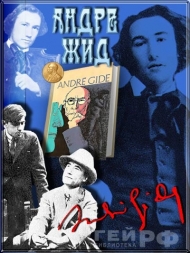
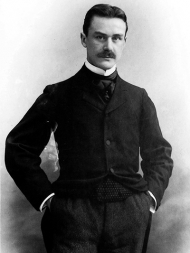


3 комментария