Геннадий Трифонов
Сетка. Тюремный роман
Аннотация
История первой любви двух парней, оказавшихся в тюрьме. Одна из самых известных и читаемых ЛГБТ-аудиторией России книг.
История первой любви двух парней, оказавшихся в тюрьме. Одна из самых известных и читаемых ЛГБТ-аудиторией России книг.


СЕТКА — небольшое созвездие Южного полушария,
Советский энциклопедический словарь, 1984 г.
Тюрьма никогда не кончается.
Это знает каждый заключенный.
Ты просто попадаешь в замкнутый
круг воспоминаний о ней.
Воспеть мою судьбу, разумеется,
было некому — что ж,
пришлось самому стать своим
собственным хором.
Питер Акройд,
«Последнее завещание Оскара Уайльда»
Счастье не перестает быть счастьем,
когда оно кратко, а мысли и любовь
не лишаются своей ценности из-за того,
что преходящи. Многие люди держались
с достоиноством на эшафоте:
эта гордость должна научить нас
видеть истинное место человека в мире.
Бертран Рассел,
лауреат Нобелевской премии,
Из статьи «Во что я верю: природа и человек».
Моим товарищам по ГУЛАГу —
Александру П. и Анатолию Ш. —
благодарный автор.
«А теперь уходи»
— Ну ты даешь, сынок! Прекрати сейчас же. Мы ж договорились — без истерик. Совсем голову потерял. Вдруг кто увидит, — бурчал Сергей, выбирая сейчас такие слова, которые в эту минуту прощания со мной казались ему единственно верными. А мне становилось еще больней от того, что именно сейчас, когда вот-вот возникнет между нами пропасть между неволей и свободой, он уже не сможет себе позволить быть со мной прежним.
— Не могу. Оно само получается. Прости, Сережа...
Я плакал прямо посреди плаца, на виду у множества колючих и злобных глаз, впившихся в меня из окон бараков, из столовой, клуба, зоновской бани — из всех мыслимых щелей и дырок.
О, я знал, я чувствовал всей кожей их ненависть к себе, их готовность разорвать меня на куски сразу же после того, как Сергей скроется за железом дверей зоновской вахты. Но этот мой физический страх все же отступал, замещаясь тоской, всю последнюю неделю, а, может, и весь последний месяц точившей мою душу. А теперь, в нескольких метрах от вахты, эта тоска сдавливала мне горло.
Мы шли в сторону бани... Сергей уже переоделся в «вольную» одежду. На нем были новенькие джинсы, кроссовки и ослепительной белизны футболка с крупной красной надписью «Пепси». Волосы у него успели уже чуть-чуть отрасти и пошевеливались на теплом июльском ветерке. Я только теперь заметил, что Сережа блондин и что у него смуглое лицо, с которого, благодаря здешнему яркому солнцу, улетучивалась зоновская землистость. Господи, какой же он все-таки симпатичный парень!
Я нес его матрац с постельными принадлежностями и света белого не видел от слез и тоски. Меня только и утешало, что и ему передается мое горе.
— Сыночек, родненький, перестань, очень тебя прошу. Ты думаешь, мне легко сдерживаться? Ну, научись и ты, в конце концов, контролировать себя. Тебе еще полгода сидеть среди этих зверей. Съедят ведь. Уймись, очень тебя прошу.
— Все, все, — поспешил я ответить Сергею. — Не буду больше, никогда, честное слово. Ты только не сердись.
— Да я ведь и не сержусь. Я все понимаю. Слышишь?
— Слышу, — ответил я.
Сейчас он сдаст лагерное барахло, получит обходняк и прямиком на вахту. А там... Какие уже там прощания! И потому я, вытирая рукавом робы слезы, говорю уже самые-самые последние слова:
— Будь здоров, Сережа... Удачи тебе... И счастья... И спасибо огромное за все.
— Это тебе спасибо за все, — отвечает Сергей, сжимая мою ладонь в непривычном для меня с ним рукопожатии. — Я бы здесь без тебя сдох бы. А ты, — продолжает он, — держись, очень тебя прошу. Как бы тяжело не было — держись. Осталось-то ведь совсем пустяк. Сохрани себя и останься человеком.
Мы обнимаемся... Я успеваю украдкой, очень неуклюже, чмокнуть его куда-то в ухо.
— А теперь уходи. Не рви душу.
И я иду, не оглядываясь и уже не сдерживая глухих рыданий... До конца срока мне остается ровно полгода и семнадцать дней.
Впервые в «Крестах»
Осень 76-го года была очень холодной. И хотя «Кресты» отапливались, мы все же добились вторых одеял, ежедневно донимая корпусного своими заявлениями (в тюрьме чувство справедливости очень обостряется, вы не замечали разве?).
В камере нас было двенадцать человек, но камера была просторной, рассчитанной на 16 человек. Это от того, я думаю, что в те годы борьба с преступностью велась только на бумаге. И поэтому на тюрьмах не было еще того бардака, какой сейчас творится. Люди спят по очереди, в три смены, курева нет, еда паршивая. А тогда и кормили сносно, и ларек был, и дачки нормальные, как теперь сказали бы — «пиздатые». А на малолетке — и молоко и конфеты. Только на малолетке эти конфеты жевать и молоко сосать — не дай Бог. С малолетки на общак поднимаются уже не люди — или зверье законченное, или инвалиды окончательные. У нас тут — еще ничего, а посмотрели бы вы на взросляк на Урале. Жуть.
Все мы — вся наша камера — ждали этапа на «химию». Скорее всего, в Череповец. В ожидании тусовались по камере. Нас даже на прогулку не выводили — из-за холода и дождя. Мы лепили из хлеба, почему-то всегда сырого и кислого, шашки, а огрызками карандашей изображали на смятых тетрадных листках «морской бой». Скука невероятная, впечатлений — ноль.
Но сейчас я расскажу, как я в тюрьме очутился. По глупости? Ну да. А что, разве бывают варианты? Я в своей жизни ничего не украл (впрочем, ой ли?!), никого не ударил (уж это точно!) и уж тем более не убил. Все получилось по-дурацки, что и вспоминать-то стыдно. Ну так вот.
Мои «прогулки»
Весной 76-го я напился до бесчувствия у соседки на дне рождения и решил почему-то пойти на улицу «проветриться», «прогуляться». А прогуливался я обычно так — чистил по ночам чужие машины. Ну, там колеса, стекла, зеркала снимал, магнитофоны, приемники... Все потом загонял за бесценок на толкучке за «Гигантом» — там еще всяких птичек-рыбок продают, кроликов, щенков. Там и ментов-то никогда не бывало. Короче, все было ништяк.
А та ночь для моих «прогулок» выдалась что надо — мокрый снег с дождем, ветер. Так в Питере по весне часто бывает.
Пару машин я вскрыл прямо у нашего дома (я жил на Просвещения, и тогда там новостройки еще только начинались). Вот идиот-то! Ведь говорил мне Кирилл — мой приятель еще по старому двору на Васильевском: «Не воруй там, где живешь, и не живи там, где воруешь». Кирилл и вообще с головой, поэтому, так я думаю и так думают все наши ребята, он и живет припеваючи. А мне, пьяному, море по колено, и вообще.
Машины мне в ту ночь все какие-то паршивые попались — никакого улова. Вот я и пошел «гулять» по соседним улицам. А там — голяк. И я решил идти домой. Ах да, совсем забыл. В сумке-то у меня все же кое-что уже лежало — из одного сраного «Москвича» я приемник взял. Иду домой. И вдруг вижу «Запорожец». Стоит он на проезжей части. И в замке зажигания ключи торчат. И непонятно: то ли машину угнали и оставили, то ли хозяин — придурок. Но раз машина открыта и ключи есть, грех не воспользоваться. И значка на стекле, что машина принадлежит инвалиду, нет. Иначе бы я не полез.
Водил я в свои семнадцать лет уже неплохо — любовь к этому делу была у меня, что называется, в крови. Правда, до этого момента пьяным я за руль не садился.
Положив сумку с добычей на заднее сиденье, я повернул ключ — бензина было ровно полбака. И я, дурак, не придумал ничего лучше, как прокатиться к себе в деревню с тем, чтобы вернуться домой под утро, а машину бросить где-нибудь возле того места, где я ее «нашел».
Из Питера в наши Синяки я знаю по меньшей мере пять дорог, где нет постов ГАИ. И все бы было хорошо, если бы я на одной из дорог не врезался на полном ходу в земляной откос. У меня ни единой царапины, а у машины переднее колеса заклинило наглухо. Я же, кретин пьяный, вместо того, чтобы «делать ноги», стал пытаться эту сраную машину чинить: возиться в моторе — моя слабость.
Пока я возился в темноте с этой дурацкой машиной, я не заметил, как подъехал таксист (как он здесь в это время оказался, ума не приложу!). Он все сообразил и по своей рации вызвал ментов. А мне, гад, и слова не сказал. Ну, а дальше все пошло как по маслу — скоро и быстро. Дело я фактически сам себе сшил, следователь только страницы нумеровал и мою подпись, где надо, требовал. Следователь оказался приличным человеком — два месяца меня под подпиской держал. Да и куда бы я делся! Но наговорили на меня прокурору всяких гадостей, тот и решил меня до суда в тюрьму упрятать, «на всякий случай». Так я очутился в замечательных «Крестах».
О «Крестах» этих распрекрасных и так уже все всё знают. Так что я ничего новенького не сообщу. О «Крестах» и вспоминать-то противно. Единственная тюрьма, которая мне более-менее понравилась, если тюрьма вообще может понравиться нормальному человеку, так это пересылка в Вологде, хотя конвой вологодский — бррр.
Я — «химик»
Повезли меня на суд. Дело слушалось часа полтора. Прокурор встал. Сказал. Сел. Между «встал» и «сел» успел попросить суд дать мне три года общего режима. Адвокат — это мать его наняла — какие-то слова обо мне хорошие стала говорить. О моем трудном детстве и все такое прочее, даже вспомнила, что я в нашей путяге старостой группы был. А судья на это и говорит: «Воображаю!» Дали мне последнее слово. Я дурачком прикинулся: «Простите меня. Я больше так не буду». Суд удалился на совещание. Минут через двадцать вернулся с результатом своего воображения — два года «химии». Это мое трудное детство так на них повлияло. Из зала суда я в «Кресты» возвращался, посвистывая.
Казалось бы — что тебе, придурку, еще надо?! Тем более что мать выпросила у начальника СИЗО для меня «химию» на... «Красном треугольнике». Штопай себе презервативы или боты лей, и никаких трудностей. После смены — домой, даже в общаге на Охте появляйся только два раза в неделю для регистрации. Интересно, во что эта моя резиновая «химия» матери обошлась? Она мне до сих пор об этом не говорит. Только я знаю, что она две зимы в осеннем пальто бегала и без сапог теплых, в одних только туфлях на микропорке.
Жуть. Да, я еще забыл сказать, что у отца той соседки, у которой я тогда напился, кум был замначальника УВД. Так что с ее помощью я и вообще про общагу забыл.
А через месяц открылось, что этот самый кум попался на взятках. «Треугольник» мой вместе с ботами накрылся, и меня перевели на «химию» в Невскую Дубровку, на мебельный комбинат. Пробыл я на этой «химии» ровно сутки, а утром — на электричку и домой. Матери ничего не сказал, да ей и спросить-то меня не было времени. Я на порог, а она на вокзал в Киев, на похороны дяди Гриши, ее родного брата.
Две недели я жил дома — спал сколько хотел, гулял, никого не боялся. Через две недели, как раз перед октябрьскими, забрали меня среди ночи, прямо из постели. Пообещали отвезти снова в Невскую Дубровку — капитан, сука, еще «слово офицера» дал. Но отвезли в любимые «Кресты» — в любимые, в родимые. Там меня в камеру из собачника только на десятые сутки подняли. А до того парился я в подвале среди бомжей, вшей и крыс. Таких как я «химиков» было в этой парилке семь человек. Я все надеялся, что за мной — ну и за всеми остальными, конечно, — придет автобус, и нас отвезут на «химию». Автобус и в самом деле пришел. Но не за мной. За мной приехал «воронок». Повезли на суд.
На суде «химию» заменили на общий режим — лагерь, зона. И все. Давай, родимый, вперед по жизни широкими шагами, а иногда и прыжками. Так я снова оказался в «Крестах» перед этапом.
Пока я ждал этапа на зону, моя мать из Киева вернулась и натурально обалдела. И начала новые хлопоты по вызволению меня из «мертвого дома», то есть не из «Крестов», конечно, а для того, чтобы я не оказался в зоне. Что такое зона, мать знала не понаслышке, а из разговоров о лагере между покойным дядей Гришей (он отмотал шесть лет еще при Хрущеве, кажется, за то, что избил милиционера) и моим дедом по отцовой линии (мой отец три года тому назад умер от сердечной недостаточности). Дед же строил Днепрогэс в качестве раскулаченного «комсомольца», но еще до Днепрогэса просидел из десяти своего срока пять лет в лагере на Вишере — это в Соликамске. Уж о чем они там меж собой говорили, я не знаю, — маленький был, но помню, что мама все время плакала, а девчонкой еще к дяде Грише на свиданку ездила — как раз перед замужеством. Так что было матери от чего приуныть, когда ей сообщили, что я в тюрьме, и меня скоро отправят на зону.
Она побежала к начальнику СИЗО, принесла ему кучу справок о своих болезнях с одной только просьбой — оставить меня в «Крестах» в хозобслуге. Мотивировала тем, что по состоянию здоровья будет тяжело ездить ко мне на свидания. Ей, как говорится, «пошли навстречу». Но что самое интересное, меня при этом никто ни о чем не спрашивал. Просто взяли в один прекрасный день, дернули из общей камеры и повели в корпус хозобслуги.
А дело в том, что по тюремным понятиям находиться в х/о считается если и не самым страшным грехом, то по крайней мере — достаточно серьезным. Короче, западло. Но как бы там ни было, оказался я в этой х/о. Работал я там в строительной бригаде, потому что по специальности я штукатур, плотник-облицовщик, вот меня туда и определили.
«Хозобслуга»
Конечно, бытовые условия там намного лучше, чем в зоне. Кормили хорошо, всегда чистая постель, везде порядок и чистота (руками самих зэков, конечно). Библиотека в «Крестах» хорошая. А среди жилых камер для хозобслуги имеется большая такая комната с телевизором и скамейками и висячей по стенкам наглядной агитацией типа «На свободу с чистой совестью!» Так вот, эта комната почему-то называется «Ленинской». Может быть, потому что в углу, на деревянной пирамиде, обтянутой красной тряпкой, стоит маленький такой бюстик гражданина Ульянова. Он что, тоже в «Крестах» в хозобслуге был? Наверное — был. Где он, бедолага, только не был! Все о народном счастье хлопотал. Вот и схлопотал хозобслугу. Всех этих понятий зоновских в х/о не было и в помине. Но это только одна сторона медали. А другая — в том, что в х/о дисциплина, как в армейской казарме. Курить строго в отведенных местах, то есть в сортире. Малейшее нарушение — в зону. Потому все в хозобслуге за свои места держатся, и каждый на каждого «стучит». Просто ужас какой-то! Ну, а контингент хозобслуги этой и вообще кошмарный. Зоны боятся пуще атомной войны. И сроки у всех не меньше пяти лет. Я и не спрашивал, кто за что сидит. Об этом как-то само узнается, я не из любопытных. Только знаю, что один был из Гатчины. Он мешок зерна в совхозе или в колхозе украл. Другой, из Окуловки, напился и трактор утопил. Ну, и так далее. А что такое показательный выездной суд, чтобы другим неповадно было, я сейчас кратко объясню. Человек на таком суде получает «на всю катушку», то есть максимальный предусмотренный данной статьей УК срок. При этом тяжесть содеянного и размер причиненного ущерба значения не имеют. Я знал парня, который на мотоцикле государственного гуся задавил. Получил пять лет. Гусь-то — государственный!
Ну в общем, не выдержал я долго этого дурдома в хозобслуге. Стучать я, конечно, не стучал, все только на меня стучали (я не стану сейчас говорить о том, что я творил в этой х/о, это все не так уж и важно. Да и вообще мой рассказ не о том). Скажу только, что после многочисленных, как было написано в сопроводиловке, и грубейших нарушений режима содержания в СИЗО меня и еще нескольких таких же распиздяев начальство решило убрать в зону, чем я, например, был вполне доволен. Правда, я тогда подумал о матери — как она, несчастная, все это переживет. Мне стало стыдно. Но я был молод еще, очень молод, а молодость и жестокость — вещи, увы, близкие. И вот за три дня до нового 1977 года меня «дернули» на этап. Сопровождавшая меня характеристика и определила географию конечного пункта.
«Этап»
Первоначально нас сунули в «стакан» или, правильней, в «собачник» — «стакан» это нечто другое. И в течение дня по 5-10 человек отправляли в Яблоневку. Мне же, как всегда, везет больше всех. Уже под вечер меня сунули в «воронок», отвезли с парой «полосатиков» на Московский вокзал, сунули в «Столыпин» без еды, без крошки хлеба, повезли на Урал.
Описывать этот кошмарный этап в Березники я не буду — нету сил снова об этом даже подумать. Скажу только, что кантовался я по дороге в эти распрекрасные Березники по пересыльным тюрьмам Вологды, Вятки, Перми и даже Соликамска, куда меня завезли по ошибке и где продержали в сырой и темной камере с селедкой и водой без хлеба трое суток. Так что в Березники я попал с температурой, почти без голоса и без единой теплой вещи. Оформлявший нас в зоновском карантине офицер, глядя на меня, даже глаза выпучил: «Ты что, из Бухенвальда к нам, что ли?».
Из Соликамска в Березники вообще-то поезд идет. Но нас человек сорок, почему-то, решили «для проветривания» везти туда в крытой брезентом военной машине. А мороз, скажу я вам, был уже солидный — градусов 25.
Нас загнали под самую кабину, приказали сесть на пол (я оказался при погрузке самым последним). Возле меня уселся солдат с собакой и с автоматом. А собака эта — настоящий волкодав — уселась, гадина, своей задницей прямо мне на ноги. Так я с этой собакой и с дулом автомата в затылок и ехал до самой зоны, боясь пошевельнуться. Я с тех пор, когда овчарку вижу, шарахаюсь в сторону.
«Приехали»
Стоп. Приехали. В «конверте» — это что-то вроде шлюза, куда машины с зэками заезжают — нас выгрузили (а собака эта глупая меня напоследок даже лизнула, а могла бы и нос откусить), построили и т.д. Перекличка. Напутственное слово хозяина — им оказался низкорослый толстущий майор с буденовскими усами. И повели в баню. Ура!
Перед баней был генеральный «шмон», то есть стали нас обыскивать. «Отмели» практически все, кроме сигарет и продуктов, у кого они еще оставались. Мне было легче всех — был гол как сокол.
Помылись, получили робу, матрац с подушкой — и в карантин, спать. Я так крепко ни разу в жизни не спал. «Подъем!» только с третьего раза услышал, да и то посредством пинка в жопу, произведенного нашим «воспитателем» — молодым прапорщиком.
К моменту нашего распределения по отрядам — их оказалось десять по полторы сотни зэков в каждом — о моем пребывании в тюремной хозобслуге уже было известно. Работает же зэковская почта! Да я, впрочем, и не скрывал. Я ведь сам из «Крестов» в зону напросился.
В отряде на меня не «наезжали», но и особого авторитета я не завоевал. Я был совершенно одинок, без поддержки земляков, поэтому и сам старался не заводить ни с кем никаких контактов. В зоне ведь, чтобы начать жить, надо хорошенько осмотреться, почувствовать собственной кожей ее нерв, явные и тайные механизмы, приводящие в движение как отдельных людей, так и все их сообщество. Это трудная, очень трудная наука, но чем скорее ее постигнешь, тем легче будет тянуть срок «с понятием».
По натуре я человек открытый, эмоциональный, шумный и веселый. Мне нужно, чтобы вокруг меня все кипело, бурлило. Одиночество для меня — острый нож, я очень тяжело переношу одиночество. А в зоне одиноки все, и каждый по-своему, и никто друг в друге не нуждается, если говорить о человечности, о дружбе, о взаимопомощи, то есть о тех понятиях, которые формируют человеческие отношения, наполняя их смыслом, терпимостью, теплом на воле. Это я уже после зоны постиг, что на воле гнилости и подлости даже больше, чем в лагере. Подлость на свободе обставляется разными картинками — картинками разных цветов и оттенков. А в зоне — все черно-белое, и потому понятное. В зоне ты виден весь, насквозь. А на воле? Вот почему в зоне я как-то сразу свернулся в улитку. Я всех боялся, я боялся собственных слов, никому не доверял и никого не подпускал к себе. Это я уже где-то позже прочитал, что лагерный опыт — опыт целиком отрицательный. А если — нет? Пусть вы — живущие на свободе, считаете нас злыми, опасными, не стоящими доброго слова, которых надо бояться, но здесь нас много, и мы думаем друг о друге иначе. При всей кажущейся простоте и даже однообразии лагерной жизни она, эта жизнь, богата важными для заключенных оттенками, которые тем незаметнее, чем однообразнее лагерная жизнь.
Кто-то свыше диктовал мне правила поведения в зоне, поэтому я понимал, что внешне я должен быть «как все» и не должен показывать виду, что кисну. Иначе те, кому еще хуже, додавят, добьют, дорвут мою душу на куски, и мое тело умрет прежде меня.
«Так вот об этой сетке...»
Когда из карантина нас распределили по отрядам, а в отрядах — по бригадам, то уже на следующий день вывели на работы. В принципе в каждом из цехов промзоны работа заключенных была связана с металлом. А в нашем — в особенности.
Вы когда-нибудь, например, задумывались над тем, как изготавливают металлическую сетку? Какую? Простую, самую простую. Ту, которой садоводы пользуются как изгородью, обнося ею свои сотки, крепя ее на столбы. Ту, которую натягивают на рамы кролиководы и прочие натуралисты. Да мало ли где и на что ее используют. Человечество придумало решетки и сетки не из боязни зверей, а из страха перед самим человеком. Он и есть самый лютый зверь, потому что человек часто нападает на другого человека, не защищаясь и обороняясь, но совсем с другими намерениями и целями. Животное вас не ограбит, не оскорбит, не унизит ни при какой погоде, если только вы не посягнете на его существование и на жизнь его потомства. А человек может без всяких видимых причин истребить другого человека. Люди занимаются этим со времен Адама. И если человечество до сих пор еще украшает нашу планету, то, по-моему, только потому, что среди нас появляются порой люди, способные сопротивляться злу и насилию. Так и в зоне. Впрочем, что-то меня на философию потянуло.
Так вот о сетке этой. Я до того, как сюда попасть, тоже о сетке не задумывался. Сейчас я опишу, как ее изготавливают. Но чтобы все понять, это надо испытать или хотя бы увидеть. А может, и не надо...
Короче, «станок» — это прямоугольный угол, с торца к нему прикреплен «механизм» — две шестеренки, одна побольше, с ручкой, а другая — другая примерно вдвое меньше. Меньшая соединена со специальным приспособлением, через которое пропускается обычная проволока. Когда крутишь ручку, проволока, пройдя через это приспособление, превращается в зигзагообразное звено сетки. Откусив кусачками два метра, дальше переплетаем второе звено с первым. Вот и получилось 10 см сетки — один ромбик, то есть ширина два метра, а длина — все те же 10 см. Это только две проволочки. Вот так, проволочку за проволочкой, крутим, пока не выйдет бухта — рулон длиной в десять метров и шириной — два.
За смену, а это часов 9-10, надо накрутить целую бухту плюс семь с половиной метров. В конце смены руки — пальцы в особенности — ноют, спина гудит, глаза ничего не видят, кроме этих проклятых ромбиков. От металлической пыли трудно дышать. А от холода в соприкоснове-нии с металлом, если работаешь зимой, и вообще все тело превращается в железо. И так — день за днем, месяц за месяцем, год за годом. И вот что удивительно: чем меньше срок, тем все это невыносимее. У кого срок больше пяти лет и кто хоть кое-как с головой и с руками, тех начальство устраивает на производительные работы или даже на халявные. Если, конечно, у тебя от земляков, которые сидят уже давно и при деле, есть поддержка. А у меня вся поддержка — куцый ремень на штанах, да и тот разъезжается от возраста: ремень этот я в бане на курюху выменял у банщика. Известно, человек привыкает ко всему на свете. Правда, к хорошему он привыкает быстрее. А плохое — умеет заставить себя не замечать это плохое. Я постепенно привыкал к худшему, потому что срок мой еще только начинался, и что и как будет со мной в лагерной жизни, еще не ведал, да и думать об этом не хотелось. Так продолжалось месяцев четыре-пять. Я уже находился на пределе и не знаю, что было бы со мной, если бы не случай, круто изменивший всю мою лагерную, да и последующую жизнь. Но моя последующая жизнь —это уже другая тема для других ушей.
«Ширпотреб»
Кроме этой сетки мы выпускали еще очень много разной продукции. Был в нашем цеху механический участок — токарные, фрезерные, сверлильные станки. Все станки были в таком состоянии, что об этом лучше промолчать. Но ради собственной безопасности сами зэки — из года в год — ремонтировали их, за ними следили и ухаживали, как за любимой девушкой.
Что такое знаменитый лагерный ширпотреб, я думаю, все знают. У нас в лагерях и тюрьмах пересидела половина населения страны, не самая худшая, надо сказать, половина. А другая... Недаром наш замполит, когда я освобождался, увидев мое нетерпение, на полном серьезе сказал мне: «Ты, Короленко, на волю не спеши. Раньше выйдешь — раньше сядешь». А замполит в зоне — главный наш воспитатель, он зэку — после кума и хозяина — отец родной. Так что, как говорится, я дико извиняюсь.
В лагере, на промзоне, делается все — от мундштуков и разных безделушек, до охотничьих ножей отличного качества и высокой художественности. В Питере недавно даже выставка зэковских поделок проходила — от мебельных гарнитуров до микроволновых печей. Народ дивился собственной гениальности!
Так вот, в каждой зоне есть один-два заключенных, которые этот пресловутый ширпотреб делают на самом высоком уровне и для самого высокого уровня: я слышал, что у начальника Пермского УВД и кабинет, и квартира, и дача обставлены мебелью, произведенной по индивидуальному заказу зоновскими индивидуалами. Этих индивидуалов высококлассных начальство бережет, потому что ими кормится. Они — лагерная элита, и заслуженно, между прочим. Им все или почти все можно. Был у нас в отряде на всю зону единственный такой золотых рук мастер — Сергей. И фамилия-то у него была прямо подходящая для его профессии — Образцов. Ну, как у знаменитого кукольника.
Руки у этого Сергея были удивительные и голова светлая. Половине зэков он поставил зубы (коронки, конечно, потому что в зоне зубы не вставляют, их там вышибают) из технического металла или даже из настоящего золота — тому, кто хотел и мог заплатить. Забегая вперед, скажу, что и мне однажды Серега поставил коронку из чистого золота: «Носи и помни».
Хороший охотничий нож Сергей делал за неделю. О наличии же в УК статьи, предусматривающей суровое наказание за изготовление холодного оружия, наши воспитатели как-то вдруг все разом позабыли. С этими замечательными ножами Серегиными они — и прапора, и офицеры — ходили в тайгу на охоту. Они по пьянке об этом сами говорили.
«Передовики производства»
Серега числился токарем. Именно числился. Плановые детали он никогда не делал. Занимался только своим ширпотребом. Поэтому и отношения у него с мастерами и оперативниками были хорошие. Если кому-нибудь из них требовалась какая-то деталь, запчасть к мотоциклу, автомобилю, или еще что — все шли к Сергею. Он им все делал в самые сжатые сроки и всегда отменного качества. Поэтому на все его делишки (способы поработать самому на себя ) закрывали глаза. Но мент — он и в Африке мент. Поэтому эти самые суки, которым Сергей сегодня делал ножи, завтра преспокойно могли закрыть его в ШИЗО суток на 10 и даже 15, «для порядка». И вот однажды за какую-то очередную «провинность» его выгнали из токарей, запретив даже близко подходить к механическому участку, и перевели в нашу бригаду, на злополучную сетку. А сетка считалась самым страшным наказанием.
Мы же в бригаде к тому времени, измучившись допотопностью имеющейся технологии, нашли способ облегчить свою каторгу. Мы приспособили электродвигатель в качестве привода и руками уже ничего крутить не надо было — только нажимай ногой на педаль и кусай кусачками, все остальное «делалось само». За подобные рацпредложения нормальные люди с нормальными условиями труда премии получают. Но здесь случай особый.
Разумеется, производительность при этом подскочила в 2,5 раза. При норме две бухты можно было за смену спокойно накрутить пять. Но мы были еще не совсем идиотами. Как крутили две, так и продолжали. Иначе норму бы нам подняли немедленно. Однако счастье это, как и любое другое счастье, не бывает долговечным. Через какое-то время мастера все «просекли» и, естественно, норму подняли. А в промежутке «просекания» к нам Сергея как раз и перевели — «на перевоспитание».
Он, естественно, за время своего «перевоспитания» в нашей «умной» бригаде к сетке не имел никакого отношения. Он по-прежнему тихо занимался своим ширпотребом и спал за станками, соорудив себе постель — что-то вроде дивана — из старого матраца и нескольких бушлатов. Что и как писали ему в нарядах относительно нормы, никто не знал. Но что-то, видимо, не то писали. Он на разборки не пошел, а подошел однажды ко мне и попросил — именно попросил, по-человечески, без угроз и наездов лагерных — сделать за него норму. Разумеется, не бесплатно. В лагере это совершенно нормально, когда заказчик-работодатель не вор и такового из себя не корчит. Так, как поступил Сергей, мог поступить каждый, кто способен заплатить. Сигаретами, чаем, продуктами, ларьком, шмотками и даже деньгами (в зонах денег, я думаю, побольше чем в сберкассах). Цены на то время были стабильными, откуда они брались — ума не приложу. И никто не имел права ни увеличивать их, ни снижать. Ну и я, конечно, согласился — курить-то охота, да и чайку попить лишний раз. А в карманах моих ветерок гулял. Откуда у меня деньги — от сырости? Станок мой был отрегулирован отлично — знай нажимай да откусывай. Свободно можно было накрутить две нормы и еще одну бухту, которую опять же можно было продать. Таким вот образом я впервые столкнулся с Сергеем Образцовым.
«Сергей Образцов»
В лагерной иерархии Сергей занимал довольно высокое положение. Он был независимым, влиятельным и авторитетным парнем. С его мнением считались в зоне буквально все. У нас в отряде его боялись как огня, хотя я не помню случая, чтобы он зверствовал или кого-нибудь унизил. Просто так уж, видимо, устроен советский зэк, что ему необходимо перед кем-нибудь пресмыкаться, кого-нибудь бояться и над кем-нибудь издеваться. Если не ты, то тебя. Все просто, как пойти на хуй (в зоне это и вообще не проблема). Но именно в лагере, в тюрьме каждый заключенный способен определенным образом реагировать на чувство собственного достоинства другого зэка, если оно имеет под собой твердую почву и основано не на физическом превосходстве, а на каких-то иных качествах и свойствах, но, конечно, дополняемых и физической силой лагерного авторитета. Если заключенный не подлец законченный, умен и авторитетен, то он свое физическое превосходство способен употребить не только для самозащиты, но и для защиты слабейшего, попавшего под его покровительство по тем или иным причинам.
Конечно, Сергей не был чрезмерно человеколюбив и гуманен — не тот случай. Он был дерзок и нагл как танк, когда того требовали обстоятельства. Он был спортивен, а значит, и силен. Выражение его лица было всегда одним и тем же — непроницаемым, и никогда нельзя было в точности сказать, в каком он настроении и что у него на уме. В лагере правильно выбранная маска и верно избранная социальная роль — залог выживания, самосохранения, независимости и уважительного к себе отношения твоих товарищей по несчастью и лагерной администрации. Теперь это называют «имиджем». Можно, конечно, и так сказать, коль скоро магазины превратились в «шопы».
Сергей был чуть выше среднего роста, но при этом великолепно сложен и потому казался выше, изящней, он и двигался с небывалым артистизмом. По утрам в любое время года, когда не слишком донимала его работа, он, надев спортивный костюм, бегал по плацу. Хотя все бараки были в зоне локализованы, то есть даже отряды имели свои локалки, он был единственный в лагере, кому разрешалось бегать в вольной одежде по плацу. Да и одет он всегда был аккуратно, чисто, всегда был подтянут. Таким и в цех приходил, снимал повседневку и переодевался в робу. А большинство так в своем и ходило круглые сутки, от бани до бани.
Взаимоотношения с зэками всегда были у него жесткими, но при том ему было свойственно обостренное чувство справедливости. Он и пальцем не тронул никого, кто этого не заслуживал или сам не нарывался на кулак. Держался он, я уже сказал, с достоинством и даже с некоторым высокомерием, как бы подчеркивая свою исключительность и обособленность в этом мире. Таких «крутых» у нас в отряде, кроме Сергея, было еще двое. Они, конечно, не работали — западло. Придерживались воровских законов и понятий, и мне кажется, что хотя и были они — все трое — земляками, Сергей их внутренне презирал. Он плевать хотел на эти понятия и зарабатывал себе на сносную жизнь в зоне собственными руками. Жили они втроем, в одной «семье» — чтоб не пропасть по одиночке.
Сергей зарабатывал ширпотребом, а Виталик с Костей дурили всех желающих «обдуриться» — картами, нардами, шашками, домино, даже шахматами, хотя оба играли скверно. Я в их сторону не лез, несмотря на то, что играю в шашки и шахматы прилично. Впрочем, «приличие» меня бы и сгубило бы, если бы у меня не хватило ума туда не лезть. Сергей мне потом говорил, что именно тогда он наблюдал за мной, и эта моя осмотрительность ему во мне понравилась.
Я же все крутил и крутил сетку, пока Сергей у нас «перевоспитывался», за себя и «за того парня». Сказать, что между нами возникли приятельские отношения, я не могу. Он уважал и умел уважать и ценить чужой труд, по его результату ко мне и относился. Платил он за работу сигаретами, которых мне хронически не хватало. Сам он, между прочим, курил мало, но примечательно было то, что закуривал Сергей именно тогда, когда бывал в добром настроении. В минуты ярости, тоски — бывало и такое! — он, как правило, не курил. И не пил никогда, хотя вся «крутизна» в зонах пьет почти ежедневно — деньги в зоне вертятся, деньги немалые, а мастера и даже прапора, а иногда и отрядные, если отрядный в тебе заинтересован, всегда пронесут в зону хоть танк. Только плати.
Иногда, видя, что я зашивался с моими и его сетками, он приносил мне прямо к станку полкружки крепчайшего чая — утром, когда мы работали в 1-ю смену, и ночью, под конец смены, когда шли во вторую. А на бараке мы почти не общались.
Я продолжал жить своей уединенной жизнью и сам рвался в цех, потому что работа, особенно такая монотонная, отвлекала от мыслей, от воспоминаний, от «вольных» мечтаний, как бы сокращала, сжимала время. А это и требовалось в оконцовке. Все, что было относительно интересным в лагерной библиотеке, я к тому времени уже проглотил. А... Забыл сказать. Библиотекарем у нас был смешной парень. Он в зону угодил прямо из армии — поколотил офицера. Звали нашего библиотекаря Вася Пономарь. Вася был добр, простодушен и, кажется, вообще не умел читать. В библиотеку его определил замполит: «Писать не умеешь, так хоть читать учись. Писателей и без тебя что собак». Я по материнской линии сам хохол, а Вася Пономарь — из-под Киева. Только с ним я в зоне и общался, да иногда с земляками-ленинградцами, которых у нас было человек пять. Так, ничего особенного, забегу иногда чайку глотнуть и Питер вспомнить. Земляки были мои однолетки, в зону попали по хулиганке, а на Урал — как злостные нарушители режима в Яблоневке. Но здесь они тихо тянули свои сроки.
Сергея боялись все. Боялся и я. Поэтому я и избегал лишний раз с ним встречаться, даже в цехе. Он скажет — я буркну в ответ «да». И опять кручу любимую сетку. Но что-то во мне само собой начинало подниматься против этого страха. Что именно, я еще не осознавал, и если являлись на эту тему мысли, я их гнал от себя. Но по ночам эти мысли сами на меня накатывались и не давали, несмотря на усталость, заснуть. Я сердцем, наверное, чувствовал, что Сергей совсем не такой страшный и грозный, каким хочет казаться и кажется всем остальным. Протягивая мне кружку или банку с чаем или сигареты, он, загадочно заглядывая в мои глаза, улыбался мне по-дружески, с готовностью завести со мной какой-нибудь разговор, услышать меня, мои слова, мой голос. И тогда я отворачивался от его взгляда, изображая из себя передовика производства. Иногда Сергей дотрагивался до моего плеча — едва, чуть-чуть, и тогда я вздрагивал, и кусачки выскакивали из моих рук и с грохотом падали на пол. Тогда Сергей наклонялся их поднять, а подняв, протягивал мне, смеясь, со словами: «Так и ноги сломать недолго, сынок». И, еще раз улыбнувшись, выходил из цеха.
Такое продолжалось целый месяц. Но затем администрация «смилостивилась» и соблаговолила вернуть Сергея в токаря. Причины такой «милости» прозрачны. Я же по этому поводу очень расстроился: надобность во мне у Сергея отпала, и я стал продолжать тянуть всю эту резину от одной бухты к другой.
На работе меня никто не трогал, никто не доставал, а в отряде — тем более. Нашему «козлу»-бригадиру Сергей, когда тот возник по моему поводу, сразу же пасть заткнул: «Королю (такая у меня кликуха вдруг на зоне появилась благодаря моей фамилии) давать лучшую проволоку и пальцем не трогать. Увижу — убью».
Мастера, те и вообще не вникали в проволочные дела. Им лишь бы план, а кто за кого что делает — им до фени. Я преспокойно накручивал четыре бухты за смену и еще оставалось время, чтобы спокойно побродить по цехам, залезть на водонапорную башню и посмотреть на волю или сходить в соседний цех к землякам.
Однако с уходом из бригады Сергея «козел» начал снова на меня наезжать без причины — он все не мог успокоиться, что я в хозобслуге был на тюрьме. Вот мразь-то поганая! И я снова приуныл. И с Сергеем я больше не общался, да и он, видать, забыл о моем существовании. А срок у меня впереди еще был длиной в год. Конечно, год — не срок даже, но его ведь тоже прожить надо. Но вдруг произошло чудо. Ну, это мне тогда казалось, что это — чудо. Все было Сергеем четко спланировано, расписано в голове и просчитано до мелочей и деталей.
«Ночной разговор»
Недели через две после своего возвращения в токаря Сергей как-то подошел ко мне на бараке. Я сидел на своей шконке, пришивал пуговицу к бушлату. Он и говорит — спокойно так говорит:
— Саша, надо поговорить.
Поскольку все в нашей бригаде обращались ко мне не иначе как по кликухе моей —«Король», а Сергей — тот всегда только по имени, то я этому не удивился. Но все равно побелел от страха, а он, увидев мое недоумение и страх, улыбнулся, как уже бывало. Но в моем мозгу пролетело: «А из-за чего, собственно, я должен перед ним дрожать? Грехов за мной нет. Живу сам по себе, никуда не лезу, знай вяжу проклятую сетку».
— Саша, ты меня слышишь, а?
— Да. А что?
— Да не дрожи ты как осенний лист. Подойдешь ко мне после отбоя в каптерку. Я чай заварю, «индюку», есть печенье. Договорились?
Я вообще ошалел: чай, печенье — ну и дела! За какие такие заслуги? За сетку свою он давно со мной рассчитался. С чего бы это? Но Сергей снова улыбнулся — и я успокоился:
— Договорились.
До отбоя оставалось еще часа полтора. Люди, у кого еще были силы, слонялись по бараку или готовились в ночную смену. Остальные уже лежали на своих местах — кто спал, кто писал письма, кто гонял чаи, а кто, как я, приводил в порядок свой лагерный гардероб. Лампочки в бараке тусклые, видно плохо к вечеру и почти ничего не видно ночью, да еще и нары двухэтажные. Я уже давно спал на нижней шконке, и в этом были свои минусы: пока был наверху, мог хоть почитать, а теперь — нет. Так что я, пришив пуговицы, лег поверх одеяла и ждал послеотбойного часа.
Когда я вошел в каптерку, там сидели и чифирили Сергей и его «семья», да, еще каптерщик — уже немолодой мужик с большим сроком за то, что, застав жену с молодым парнем, заточил ее в чулан и продержал там месяца три. Так вот его посадили — как бы вы думали, за что? — за незаконное лишение свободы собственной жены и за жестокое с ней обращение. А того парня он сильно поколотил, так что плюс телесные повреждения. Каптерщик был неразговорчив. Он уже отсидел половину срока и готовился — за примерное поведение и честное отношение к труду — к условно-досрочному освобождению. «Вот выйду, — как-то сказал он, — я ее, проститутку, и вообще замочу в сортире». Короче, встал он, бедолага, в зоне на путь исправления. Так ведь и напишут в характеристике, когда досрочно освобождать будут. Бывает.
Я вошел в каптерку, а все вышли и направились по своим местам. Сергей подвинул мне тубарь:
— Садись, Саша. В ногах правды нет. — И опять улыбнулся.
В начале нашего разговора я был скован, насторожен. А в голове все время вертелось: «Что это ему вздумалось устроить мне этот допрос?»
Сергей налил мне и себе чаю, разорвал новую пачку печенья и придвинул ее ко мне:
— Угощайся. Чем богаты, — а посмотрев на меня, добавил: — Ты, Саша, совсем за своими — и за моими, извиняюсь, — сетками рехнулся. Так и говорить-то разучишься.
Я стал маленькими глотками пить чай. К печенью и не притрагивался, хотя и очень хотелось. Что я, кишкамет какой, что ли?
А Сергей, тоже сидя на тубаре, оперся локтями в колени и голову так уютно положил в свои ладони, прижав их к сухим скулам. Он молча смотрел на меня, но затем начал говорить:
— Я ведь не первый год сижу, и вижу, как тебе тяжело дается отсидка. Мне, знаешь, тоже поначалу тяжко было, но и начало у меня было тяжким — начал я с малолетки, как-нибудь поведаю. А ты, Саша, если хочешь, расскажи о себе — что хочешь, то и расскажи. Я тут давно, очень давно по-человечески ни с кем и не говорил. Да и с кем тут заговоришь-то?..
Эти его «если хочешь» и «что хочешь, то и расскажи» окончательно меня успокоили. В Серегином голосе при этих словах возникли совершенно новые для меня интонации, и я уже почти поддался исходящему от него дружелюбию. Однако я понимал, что мне необходимо следить за каждым своим словом, чтобы, не дай Бог, не ляпнуть чего, чтобы потом локти не кусать.
Я рассказал ему, за что меня посадили, рассказал про хозобслугу (он к этому отнесся безразлично, и меня это удивило). Он только и сказал:
— Для меня прошлое человека значения не имеет. Главное, кто ты сейчас, сию минуту — человек или дерьмо. А ошибки бывают у всех. Живому человеку всегда дается жизнью шанс исправить свои ошибки.
— Конечно, я с тобой согласен. А наш «козел» так не считает. Он мне все эту самую хозобслугу словно лыко в строку вставляет. Он считает, что раз я был в х/о, я никто и звать меня никак. Что я с ним — объясняться, что ли, должен? Да пошел он...
— Тебе сколько?
— Сидеть?
— Да нет. Лет сколько?
— 18 исполнилось как раз на «химии».
— А мне 20.
— Да ты не переживай, — решил я утешить Сергея. — У тебя еще вся жизнь впереди. —Очевидно, мои слова произвели на Сергея должное впечатление, потому что он, откинувшись к стенке, громко захохотал.
— Ну, ты, сынок, меня уморил, честное слово! Я так сто лет не хохотал. Молодец! И таким тоном! Нет, Саня, тебе не в тюрьме сидеть надо, а в семинарии учиться. Люди к тебе сами на исповедь прибегут. Перед таким, как ты, хочется или сильно нагрешить, или бесконечно каяться. Молодец, сынок!
И свое обычное обращение ко мне «сынок» Сергей в тот вечер — да какой, к черту, вечер! — в ту ночь выговаривал с такой теплотой, с такой доверительностью, с такой готовностью защитить меня от любого зла, что я и совсем расслабился.
Одно скажу: после этого нашего с Сергеем разговора я от нашего «козла» ни единого кривого слова в свой адрес больше не услышал до конца срока. Уж о чем там с ним Серега говорил, я не знаю, но синяк во всю морду у «козла» — парня лет тридцати — не проходил долго. Мне даже как-то совестно перед «козлом» за этот синяк было. А он, когда меня видел, мимо пулей летел, а если что надо было по работе, передавал с другими. Меня это устраивало. А в ту ночь Сергей сделал мне деловое предложение. Он сказал:
— Мне, Сань, нужен помощник, чисто по работе. Я вижу, ты в технике понимаешь, работаешь качественно. Ты когда-нибудь сталкивался с токарным станком? И вообще, ты способен что-то делать руками, кроме сетки?
— Ну, не знаю. Надо попробовать. Вот в машинах я разбираюсь и вообще люблю в моторах копаться. — И чуть помолчав, я решил спросить напрямую: — А почему, Сережа, собственно, я? У вас в бригаде есть ведь токари, и неплохие. Да и как ты с отрядным договоришься? У меня с ним напряженка.
— Почему?
— Да я недавно послал его открытым текстом. Достал он меня своей «химией». Ни с того, ни с сего пообещал документы на «химию» готовить. И теперь, считая, что я только об этой «химии» и мечтаю, придирается по каждому поводу. Иду в сапогах, так он и спрашивает со своей противной улыбочкой: «Почему шнурки не завязаны?» Ну, не кретин ли? Или у него это особый род садизма? Так я ему сказал, что лучше посижу в зоне «звонком», а выгибаться перед ним не буду из-за этой сраной «химии». «Химиком» я уже был. Мне теперь «физика» по душе.
Сергей внимательно меня выслушал, о чем-то подумал и в свою очередь сказал:
— Ты все правильно сделал. Да и сидеть тебе всего год осталось. Не бери в голову. Я с твоим отрядным все вопросы решу. А насчет наших токарей — они по чертежу только и могут деталь выточить. А мне чертить некогда, да и не умею я. У них своего воображения — ноль. — Выпив еще чаю с печеньем, угощая меня, Сергей предложил: — Будешь официально у меня три месяца в учениках. Спроса с тебя никакого, а детали научишься точить через недельку-другую. С ширпотребом я тебе все скажу, покажу что почем. Лишь бы у тебя желание было. А без желания, сам знаешь... Менты меня прихватили конкретно. Придется делать вид, что работаю на них. Помощник мне нужен — кровь из носа, сам я никак не управлюсь. А выбрать не из кого. У всех руки — крюки. А у тебя и руки, и голова. Ты как, Саша, готов?
— Я не против, — сказал я с той свободой в словах, которой у меня не было с первого шага в зоне. — Честно говоря, сетка эта уже в печенках сидит. Только вот как ты с мастерами и с отрядным уладишь? Особенно с отрядным, он такое дерьмо.
Скорее всего, естественные в моем положении страхи, моя кажущаяся забитость начали раздражать Сергея, но и здесь он проявил терпимость, известную тактичность, боязнь обидеть меня. Поэтому он, слегка повышая голос, но не на меня, конечно, сказал:
— А на хрена я этим блядям ножи, подсвечники, мундштуки и всякую разную дребедень делаю? С мастерами и говорить не о чем. Им все фиолетово — лишь бы план шел. Я же, Саня, не зря четвертый год сижу. Они ведь что любят — власть, пусть даже самую ничтожную, но над конкретным человеком, даже не над человеком, а над его судьбой. Так почему бы не пойти им навстречу?! Пусть они, придурки, этой властью упиваются. Пусть думают, если думать могут, что хотят. Не надо лишать их иллюзий. С ними надо покультурнее, поулыбаться надо — и глядишь, они уже у тебя в плену. А послать — послать тоже можно и даже иногда нужно, но только если ты от них полностью независим. И без свидетелей — один на один. Иначе ШИЗО, а то и хуже.
Да что это я тебе мораль читаю! Ты и сам с усам. Ах, ты ведь еще... Да, усы твои еще не выросли. Ну так вырастут. Короче, я с твоим «козлом» утром поговорю. Тебе дам ключ от склада — поспишь до проверки; ты же успеешь накрутить свою норму за полсмены, а?
— Конечно, успею. Даже больше успею.
— А вот больше — больше не надо. Больше не треба. Ты что, даришь «козлу» лишнюю сетку?
— Нет, мне на куреху. Денег ведь у меня на счету нет — по приговору иск вкатили, даже на ларек не остается.
Подумав, Сергей сказал:
— Ладно. Я тебя пока «подогрею», а потом сам будешь зарабатывать — и на куреху, и на чай, и на хлеб с маслом. — И как бы очухиваясь от наших бдений, посмотрел на часы — у него часы наручные были. — О, досиделись! Подъем, вроде, уже. Ставь кружку — хапнем еще чайку, а я пойду с твоим «козлом» побазарю.
«И началась моя новая жизнь»
Тот, кто хотя бы однажды испытывал отчаяние от одиночества, от звериного оскала окружающей действительности, от невозможности открыться, отогреться в человеческом тепле и понимании, тот поймет меня. Часто почему-то считают, что страдания возвышают человека, очищают его, побуждают к смирению и убивают в нем гордыню. А по-моему, как бедность порождает нищету, так и страдания порождают в человеке озлобленность, даже ненависть. «Труженики тюремных виноградников» ставят себе в заслугу не исправление заключенного — об этом в лагерях никто даже и не заикается! — но подавление его духа. И не понимают, что сломленный человек более опасен, чем, как пишут в характеристиках, «морально устойчивый». И они, эти «труженики», часто гордятся результатами своих усилий, потому что слишком хорошо знают качество человеческого материала, с которым им приходится иметь дело. Все эти следователи («лет на пять ты потянешь»), прокуроры («требую максимального срока наказания по данному обвинению»), судьи, которые раздают людям годы заключения так, словно это не наказания, а пасхальные цветы, вряд ли согласились бы с тем, чтобы в зоопарке так обращались с медведями, как они обращаются с нами.
Конечно, гораздо лучше, когда ты меньше «ощущаешь» и больше наблюдаешь. Но в тюрьме и то, и другое слишком тесно переплетено, и дотянув до половины своего срока, каким бы большим он ни был, ты понимаешь, что эту твою жизнь нельзя увидеть, ее нужно прожить. А что до администрации лагерей, то я давно уже понял, что эта профессия оказывается привлекательной прежде всего для тех, кто любит демонстрировать свою власть над слабым, а зачастую сюда идут и откровенные садисты. Вот почему мне кажется, что если одна группа людей находится за решеткой, а другая их охраняет, то причины, по которым это происходит, чисто случайны. Ведь большинство лагерей расположено в изолированных районах страны. Лагеря и есть основа экономической жизни такого региона. Поэтому тюремные труженики набираются из местного населения, становясь ими просто от того, что не имеют другого выбора. А высокое лагерное начальство во всяких там министерствах и управлениях рассматривает наше местное начальство в качестве представителей самого низшего сословия в иерархии органов, осуществляющих исполнение наказания. Конечно, я не могу и не хочу сказать, что все сплошь лагерные надзиратели — скоты. Может быть, мне стоило бы назвать двух-трех человек, в отношении которых к нам было сдержанное сочувствие, желание иногда выслушать нас, ободрить, вселить уверенность в себя. Но, как правило, это были совсем еще молодые офицеры, которые, все поняв, либо увольнялись из системы, либо продолжали свою службу, обучаясь нехитрой науке озлобления и беспробудного пьянства.
Однако со всем, что видело и испытывало в лагере мое маленькое беззащитное сердце, я не мог и не умел соглашаться. Я определенно чувствовал, что в личных отношениях мы друг с другом оказываемся гораздо человечнее, чем принято думать. Мы больше способны на поддержку и любовь, на заботу друг о друге, в нас больше созидательного человеческого потенциала, чем в тех, кто загоняет нас в этот ад. Становясь в лагере старше, я стал понимать, что тюрьма — это своеобразный социальный срез общества, в котором полностью обнажается каждое человеческое несчастье. Жизнь здесь напоминает жизнь на большом океанском лайнере: ты чувствуешь себя заодно с несколькими сотнями ничем не отличающихся от тебя человеческих существ, и потому первоначально охватывающий тебя ужас заключения постепенно превращается в тягостную повседневность. Это потом, много позже, я прочту у Льва Толстого: «Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности если он видит, что все окружающие его люди живут так же». А пока что...
А пока что некто протянул мне руку помощи, и я ухватился за этот спасительный жест и стал выкарабкиваться со дна пропасти.
Утро и развод на работы уже не казались мне такими мучительными. И даже спать не хотелось, хотя и кружилась голова от чифиря. И в цех я не входил, а влетал на крыльях... Но крылья сами собой складывались, потому что сон все же одолевал меня.
Я спал, когда все работали. Мне улыбался человек, в сторону которого все остальные боялись лишний раз и взглянуть-то. И он угощал меня чаем и охранял мой сон, когда я спал, устроившись за его станком на его «диване».
Именно с того самого нашего разговора в каптерке Сергей стал называть меня сынком с неизменной лаской и даже нежностью, и это приводило меня в счастливый трепет.
Сергей был всего на два года старше меня, но на тот момент, когда пересеклись наши жизни возле проклятой сетки, он уже отсидел из своего пятилетнего срока больше четырех: год на малолетке и три с половиной на этой зоне. Вот почему Сергей и обликом, и всем своим поведением, и избранными им средствами и способами взаимоотношений с людьми казался много старше своих лет. Когда не озарялся он улыбкой, не просветлялся ею, не появлялись в его почти погасших глазах веселые чертики озорства и юности, он выглядел много и трудно пожившим мужчиной, и эта его мужественность, соприкасаясь с моей почти детскостью, беспрестанно тянула меня к нему.
«А жизнь продолжалась»
А жизнь продолжалась... Официально я был еще в бригаде сеточников, но большую часть смены я проводил на механическом участке, где помогал Сергею.
Свою сетку я накручивал за два-три часа, и больше там не появлялся. Тем более что «козел» перестал на меня наезжать. К тому моменту, когда меня перевели в ученики токаря, я уже мог выполнить многое и вытачивал любую деталь из тех, что требовались Сергею для дальнейшей работы. Просто мне действительно понравилось, и я очень быстро научился точить. И труд, из подневольного превратившись в желанный, стал радовать меня, да и Сергей оказался очень хорошим наставником и большим мастером своего дела. Он начал приобщать меня к своей работе. Мне было интересно наблюдать Сергея за работой и, когда требовалось, помогать ему в этом. У него все буквально горело в руках и получалось с первого раза. И я никак не мог понять, когда же он отдыхает — так он был увлечен делом и радовался каждой удаче, словно то, что он делал — он делал для себя или для близкого друга. Такой у него был талант — работать качественно и красиво!
И продолжались наши ночные бдения в каптерке, особенно после 2-й смены, когда и днем можно было поспать.
Сергей имел множество инструментов и на бараке. Он не мог сидеть без дела — даже по ночам что-то мастерил, пилил, точил, а я... Я просто сидел рядом и смотрел, пробовал и сам что-то делать. Во время этой работы, от которой так и чувствуешь дыхание свободы и радости, мы болтали о чем попало — смеялись, шутили, травили анекдоты. Но и о серьезном, с нашей точки зрения, тоже говорили. Сергей старался, как умел, объяснить мне суть лагерной жизни, пытался убедить, что не вес так уж мрачно и скверно, а многое от тебя самого зависит, и из любой ситуации, «даже самой дерьмовой», нужно сделать для себя полезные выводы и, по возможности, остаться человеком. «Это не для других важно, а для себя самого — чувствовать к самому себе уважение».
— Здесь, — говорил мне Сергей, — все лучшее и все худшее, что есть в каждом, рано или поздно всплывает и проявляется. Так и должно быть. Ведь каждый должен получить то, чего он заслуживает. Есть какая-то Высшая Справедливость, Саня, — продолжал Сергей, — и Она всегда возвратит тебе и твое зло, и твое добро. Я в этом уже не раз убеждался. Тут мудрости много не надо, да и вообще дело не в уме, хотя все надо делать с умом. Тут дело в чувстве, в предчувствии... Или как это — в интуиции, что ли?
— В самосохранении, да?
— Может быть... Но есть нечто, что важнее. Это смотря что для тебя ценно в жизни.
— А для тебя что ценно в жизни?
— В здешней, в лагерной?
— Да. Другой у нас пока что нет.
— В этой для меня важно, сынок, чтобы ты был рядом и чтобы тебе было хорошо.
Неприступность Сергея, так высоко им ценимая и оберегаемая для других, для меня постепенно сходила на нет. И это все сильней и сильней привязывало меня к нему: я чувствовал, что я ему нужен, даже необходим здесь, и был счастлив.
Но зона есть зона, и поэтому страх и настороженность все еще оставались во мне. Они были почти необъяснимы. Я чувствовал, что все еще не могу довериться ему полностью. Мне казалось, что в общении со мной Сергей постоянно что-то недоговариваст, а говоря, запинается, отводит глаза... Я все это видел, чувствовал и потому не мог расслабиться рядом с ним, успокоиться, что ли. Бывало, он так на меня посмотрит своими серо-синими глазами, что мне становилось не по себе, и я отводил свой взгляд от этих пронзающих меня и приближающих к себе глаз.
«И вот однажды»
И вот однажды причина этой недоговоренности всплыла, да так неожиданно, что я не успел опомниться, как все произошло. И главное, никакой хитрости со стороны Сергея, никаких «подъездов», как это, я слышал, обычно бывает, не было и в помине. Я и вообще думаю теперь, что между людьми, даже малознакомыми или незнакомыми вовсе, иногда возникают какие-то токи, импульсы, которые, несмотря ни на что, влекут этих людей друг к другу. Что это? Что это такое? Хорошо это или плохо, что так устроены люди? И всего важней в таком влечении одного человека к другому — переживаемое волнение. Губы сохнут, все слова невпопад, голова не ведает, что делают ноги и руки, стук сердца слышится под самым горлом, и ты еще не знаешь точно, радоваться тебе или плакать. Но я расскажу по порядку, ладно?
Мы пришли после 2-й смены. Я уже свободно точил любые детали, но все еще числился в учениках. Работу Сергея выполнял я, мастера к нему даже и не подходили, все задания давали мне, а он занимался только ширпотребом. И все были довольны — и мастера, и мы оба.
Та смена выдалась тяжелой — много аварийных деталей плюс конец месяца, бардак безумный. У всех нервы были на пределе. И я очень тогда устал.
Придя на барак, я, как всегда, умылся, перекусил и завалился спать. А Сергей, как обычно, остался в каптерке что-то свое доделывать. Вел себя он в тот вечер странно — все время молчал, только поглядывал на меня исподлобья. Я как-то и не придал этому значения — у него бывали заскоки и раньше.
Заснул я моментально, как убитый. Не знаю, сколько прошло времени, но я проснулся от того, что кто-то присел на мою шконку (а спал я всегда очень чутко — как разведчик, я так и после зоны сплю, слышу каждый шорох). Это был Сергей — никто, кроме него, не решился бы меня после смены трогать.
Он сидел в одних трусах, а сверху была накинуты фуфайка. Он почему-то полез в тумбочку и стал там что-то искать. Я, улыбнувшись ему, повернулся на другой бок и снова закрыл глаза, погружаясь в сон.
— Сынок, — прошептал Сергей, склоняясь к моему лицу, — вставай... Идем... Поможешь мне доделать подсвечник.
— Отстань, — выговорил я сквозь слипшиеся уста и глаза (я заснул моментально, и, видимо, так сладко, что и слюна на подушку выступила). — Вечно ты устраиваешь дурдом среди ночи. — Я сказал так, потому что Серега уже не впервые так будил меня, и я, встав, брел к нему в каптерку, где мы — каждый на своих тисках — доделывали что-нибудь «горящее», срочное. — Утром, Сережа, доделаем, ложись и ты спать. А то уже уработались оба.
Но Сергей не отставал и продолжал тормошить меня:
— Ну, идем. Там и дела-то на двадцать минут. К утру должно быть готово. Человек и деньги уже принес.
Окончательно проснувшись и перевернувшись на спину, я спросил Сергея:
— Что это там такое сверхсложное, что ты без меня не сможешь сделать? Я уже сплю и ничего не соображаю.
— Идем, идем, сейчас проснешься, — шептал Сергей в нетерпении.
— Издеватель, — буркнул я себе под нос и, закутавшись в одеяло, полусонный, с закрытыми глазами побрел за ним в каптерку.
Я вошел следом за Серегой и, подперев стену, продолжал спать стоя. Я и не заметил, как он тихо закрыл дверь на ключ, занавесил стеклянный проем в двери — стало совсем темно... А я продолжал спать, прислонившись к стене.
Сергей подошел ко мне, приблизившись так тесно, что я вздрогнул, и стал медленно высвобождать меня из одеяла... Я приоткрыл глаза.
Серега стоял так близко ко мне, что я уже слышал его прерывистое дыхание. И хотя в каптерке было почти темно, только маленькая лампочка на стене светилась под темным колпаком, я видел его глаза — они были широко раскрыты и невероятно блестели.
Сергей осторожно распахнул на мне это одеяло, и оно поползло вниз, а он, задерживая его руками, прижал меня к себе и стал тихо, без единого слова, целовать в шею, в грудь...
У меня дух перехватило, застучало в висках, мне стало и страшно, и приятно, и я перестал что-либо соображать. А он нежно гладил меня по груди, шее, плечам, по животу... Я попытался отстраниться от Сергея, но он вдруг прижался ко мне всем своим сильным телом, руки его молниеносно стянули с меня трусы...
— Что ты делаешь?! Не надо... — начал я шептать дрожащим от ужаса голосом. Но при этом я тоже тяжело дышал, а мои руки сами собой легли ему на плечи...
Какое-то время мы молча стояли так, и я тоже стал целовать лицо Сергея, а он все время водил ладонями по моей спине, ниже и ниже, а другой рукой устремился туда, где собралось в эту минуту все мое — страх, возбуждение, любопытство, нежность к нему, доверие и даже некая смелость...
— Сынок, ложись, не бойся, — сказал Сергей очень тихо.
— Нет, не надо, я боюсь...
— Ложись и делай то же, что и я, — при этих словах Сергей взял меня за руки, положил на пол, устеленный матрацем и шинелями, и я понял, что сопротивляться я уже не могу и не хочу.
Сергей лег ко мне полубоком, стал целовать меня в живот, гладить руками по вздрагивающим бедрам... Мне стало очень приятно и по телу пробежала мелкая дрожь, я закрыл глаза... Уже совсем ничего не соображая, я стал делать «то же самое».
Долго трудиться нам не пришлось. Мы оба были сильно возбуждены, и я, не имея никакого опыта в таких делах, делал «то же», как признался мне потом Сергей, «с кайфом». А потом... Потом я поднялся и молча пошел спать. Мне было и страшно, и счастливо!

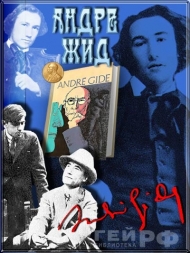
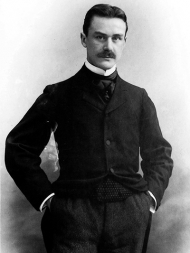


3 комментария