Джеймс Болдуин
Комната Джованни
Знаменитый гей-роман американского классика Джеймса Болдуина. История жизни и любви американца Дэвида и итальянца Джованни. Трагическая история противостояния двух разных взглядов на мир, на любовь, на ценности жизни.
Часть вторая
Глава I
Теперь мне кажется, что мы жили в этой комнате будто под водой. Время текло где-то над нами, мы были вне его, поэтому оно в сущности ничего для нас не значило. Поначалу наша совместная жизнь была счастливой, удивительной, и каждый день был отмечен чем-то особенным. Но к нашей радости, конечно, примешивалась горечь, а к удивлению - страх. Только в
начале мы этого не замечали, потому что самое начало нашей совместной жизни залечивало душевные травмы, как целительный бальзам. Но страхи и горечь постепенно всплывали на поверхность, и мы отступались, спотыкались о них, теряя душевное равновесие, уважение друг к другу и достоинство. Лицо Джованни, которое я досконально изучил за все эти утра, дни и ночи, примелькалось, как бы потускнело и стали обнажаться его изъяны. Глаза словно
потухли, а когда я смотрел на его красивые густые брови, то почему-то думал о том, что под ними - череп. Уголки чувственных губ опустились будто бы под тяжестью тоски, переполнявшей его сердце. Понемногу лицо Джованни становилось чужим, а, может, глядя на него, я чувствовал себя виноватым, и мне хотелось думать, что это лицо чужого человека. Конечно, это произошло под влиянием каких-то неуловимых изменений моего к нему отношения.
Наш день начинался ранним утром, когда я отправлялся к Гийому перед закрытием бара. Иногда Гийом закрывал его для посетителей, и мы с Джованни да еще несколько приятелей оставались там завтракать и слушали музыку.
Иногда к нам присоединялся Жак, но с тех пор, как мы стали здесь встречаться с Джованни, он заходил все реже и реже. Когда с нами завтракал Гийом, мы обычно уходили отсюда часов в семь утра, а когда бывал Жак, он великодушно отвозил нас домой на машине, которую непонятно почему вдруг купил. Только мы почти всегда ходили домой пешком по длинным набережным Сены.
В Париже уже пахло весной. Вот и сейчас, слоняясь по комнатам, я снова вижу Сену, мощеные булыжником quais , мосты, а под мостами плывущие мимо баркасы, и на них - женщины, развешивающие мокрое белье, а то вдруг выныривает байдарка, и я вижу молодого человека, усердно размахивающего веслом, и вид у него довольно беспомощный и глуповатый. Покачиваются яхты у
приколов, тянутся барки, баржи, мы проходим мимо пожарной части, и пожарники уже узнают нас в лицо... Позже Джованни пришлось прятаться в одной из барж, пожарник, заметив, как он, крадучись, полз ночью в нору с буханкой хлеба, донес на Джованни в полицию.
Деревья становились зеленее. Сена вздулась, и над ней плыла
коричневатая зимняя дымка. Появились рыбаки. Джованни правильно говорил про них: улов им не важен, важно быть при деле. Букинисты на quais приободрились и ждали хорошей погоды, а вместе с ней праздных прохожих, которые будут рыться в потрепанных книжках, и туристов, которые скупят у них множество цветных гравюр, чтобы увезти их в Соединенные Штаты или в Данию. Девушки и их спутники стали разъезжать на велосипедах. На исходе ночи мы с Джованни иногда видели, как они оставляют их на набережных до следующей прогулки. В это время Джованни как раз лишился места у Гийома, и мы подолгу бродили вечерами. Это были очень грустные вечера. Джованни чувствовал, что я скоро уйду от него, но не смел упрекнуть меня, боясь укрепиться в своих опасениях.
Я тоже не смел заикнуться об этом. Хелла уже выехала из Испании в Париж, а отец согласился послать мне деньги. Но я и не думал тратить их на Джованни, которому был многим обязан. Наоборот, я надеялся, что отцовские деньги помогут мне вырваться из комнаты Джованни.
С каждым утром солнце становилось все ярче, небо выше, а простирающаяся перед нами Сена окутывалась легким весенним туманом надежды.
Закутанные зимой букинисты одевались все легче и легче, отчего их фигуры вроде бы претерпевали бесконечную и удивительную метаморфозу. В окнах, распахнутых на набережную, и в переулках, сновали маляры - их приглашали белить комнаты. Женщины в сыроварнях, сняв синие свитера, закатывали по локоть рукава, обнажая мускулистые руки. Хлеб в булочных казался теплым и свежим, как никогда. Малыши-школьники скинули пелерины, и их коленки больше не багровели от холода. Все вроде и болтать стали больше на этом замечательном и неистовом языке, который иногда напоминает мне звуки струнных инструментов, но всегда неизменно ассоциируется с превратностями любви и неизбежной агонией долгой и бурной страсти.
Но у Гийома мы завтракали редко, он меня недолюбливал. Обычно я украдкой поджидал Джованни у дверей бара, пока он не закончит уборку и не переоденется. Потом мы, как правило, прощались и уходили. Эта независимость породила своеобразное отношение к нам завсегдатаев бара, этакую смесь оскорбительного покровительства, зависти и скрытой неприязни. Однако они не смели разговаривать с нами "по-свойски", как с равными, и злились от того, что им приходится насиловать себя и вести себя с нами так, как нам хотелось бы. Но больше всего их бесило другое: столько усилий приходилось затрачивать попусту, просто из любопытства. От этого они лишь острее чувствовали свою ненужность, хоть и одурманивали себя наркотиками болтовни и тешились презрением друг к другу и мечтой о реванше.
После завтрака и недолгой прогулки мы добирались до дома и сразу же заваливались спать, потому что едва держались на ногах от усталости. Варили кофе, иногда пили его с коньяком, сидели на постели, разговаривали и курили. Нам казалось, что мы еще столько не сказали друг другу. Или это казалось Джованни?
Но даже в те минуты, когда я пылко и нежно ласкал Джованни, а он с той же нежностью ласкал меня, я чего-то не договаривал, я все же не отдавался ему до конца. Ведь прожив с ним целый месяц, я так и не рассказал ему о Хелле. Разговор этот зашел только потому, что из ее писем стало ясно, что со дня на день она вернется в Париж.
- А что это она одна путешествует по Испании? - спросил Джованни.
- Любит путешествовать, - ответил я. - Дудки! - сказал он.
- Путешествовать никто не любит, а женщины подавно. Тут, наверняка, есть другая причина, - и он многозначительно вскинул брови.
- Может, у нее там любовник, и она боится тебе сказать?... Может, она с каким-нибудь torero?
- Чего же ей бояться? - сказал я, а про себя подумал: "Вполне может быть".
Джованни рассмеялся.
- Нет, я абсолютно не понимаю американцев, - сказал он.
- Я не вижу тут ничего непонятного. Ведь мы не женаты, и ты это знаешь.
- Но она твоя любовница? - спросил Джованни.
- Да.
- Она все еще твоя любовница?
Я удивленно посмотрел на него и сказал:
- Конечно.
- Так, - продолжал Джованни, - вот я и не понимаю, почему ты в Париже, а она мотается по Испании?
И тут он спохватился:
- А сколько ей лет?
- На два года моложе меня, - сказал я, не спуская с него глаз, - а какая разница?
- Она замужем, в смысле, муж у нее какой-нибудь есть? Я рассмеялся. Он рассмеялся тоже.
- Ясно, нет.
- Я просто думал, что она намного старше тебя, - сказал он, - что у нее
есть где-то муж, от которого ей иногда приходится уезжать, чтобы проваландаться с тобой. Вот это было бы здорово! Такие женщины иногда страшно заняты и, как правило, у них водятся деньжата. Вот если бы такая женщина поехала в Испанию, она, наверняка, привезла бы тебе потрясающий подарок. А молоденькая девушка, которая одна болтается в чужой стране, - это не по мне. Я бы на твоем месте нашел другую любовницу.
Мне это показалось более чем забавным, и я не смог удержаться от смеха.
- А у тебя есть любовница? - спросил я его.
- Сейчас нет, - ответил он, - но, вполне вероятно, когда-нибудь снова
появится. Он насупил брови, но улыбнулся. - И потом, теперь я не очень-то увлекаюсь женщинами, даже не знаю, почему, а было время... Может, я еще к этому вернусь.
Он пожал плечами.
- Может, все потому, что с женщинами не оберешься хлопот, а в теперешнем положении они мне ни к чему. Et puis... Он осекся.
Я хотел сказать, что, по-моему, он нашел довольно странный способ избавиться от этих хлопот, но, помолчав, осторожно заметил:
- Ты, кажется, не очень высокого мнения о женщинах?
- Женщины! О них, слава Богу, нет никакой нужды иметь мнение. Женщины вроде омута. Затягивают тебя, а потом предательски бросают, и потом сам знаешь, они, как омут, бывают бездонными, а бывает - омут с виду, а на самом деле - мелкий брод. И грязными они тоже бывают. Джованни замолчал.
- Ты, наверное, прав. Я, действительно, их не очень люблю. Конечно, это мне не мешало спать со многими и любить то одну, то другую, но обычно в этой любви участвовало только мое тело. Но от этого чувствуешь себя очень одиноко, - сказал я неожиданно для самого себя.
Джованни от меня тоже такого не ожидал. Он посмотрел на меня и легонько потрепал меня по щеке.
- Конечно, - сказал он и добавил, - когда я говорю о женщинах, то вовсе не хочу быть mиchant. Я очень уважаю внутренний мир женщин, их напряженную духовную жизнь, этим они очень отличаются от мужчин.
- Женщинам вряд ли понравилось бы это твое замечание, - сказал я.
- Брось ты, - ответил Джованни, - эти непонятные женщины носятся со своими дурацкими идеями и думают, что у них мужской интеллект. Quelle rigolade!. Их надо избить до полусмерти, тогда до них дойдет, кто правит этим миром.
- А твоим любовницам нравилось, когда их лупили до полусмерти? - рассмеялся я.
- Уж не знаю, нравилось ли, - улыбнулся Джованни, - только из-за этого они меня не бросали. Мы оба расхохотались.
- Во всяком случае они не были похожи на твою ненормальную девчонку, которая болтается по Испании и шлет открытки в Париж. Что она себе думает? Нужен ты ей или, может, не нужен?
- Она и уехала в Испанию, чтобы в этом разобраться.
У Джованни округлились глаза, и он сильно разошелся.
- В Испанию? Почему не в Китай? Что же она спит подряд со всеми испанцами и сравнивает их с тобой? Разговор этот мне поднадоел.
- Неужели ты не понимаешь, - сказал я, - она очень умная и сложная девушка, поэтому и решила уехать от меня и подумать.
- Да над чем тут раздумывать? Дуреха она, дуреха и есть. Никак не может взять в толк, к кому лечь в постель. Хочет деньги получить и невинность не потерять?
- Будь она сейчас в Париже, - резко оборвал я его, - я бы не смог быть с тобой в этой комнате.
- Жить бы ты, наверное, не смог, - примирительно сказал он, - но
видеться нам никто бы не помешал. Почему бы нам не видеться?
- Почему? А вдруг бы она узнала?
- Узнала? Что узнала?
- Брось прикидываться, - сказал я, - будто не понимаешь, о чем я говорю.
Джованни очень спокойно посмотрел на меня.
- Нет, эта твоя девчонка и вправду ненормальная. Что же, она станет ходить за тобой по пятам или, может, сыщиков наймет, чтобы спали под нашей кроватью. Ей-то какое дело?
- С тобой нельзя серьезно разговаривать, - сказал я.
- Можно, - отрезал он, - я всегда серьезно разговариваю. А вот ты - какой-то непонятный человек.
Он сокрушенно вздохнул, налил в чашку кофе и взял бутылку коньяка, стоящую на полу.
- Chez toi всегда все получается чересчур сложно и с надрывом, как в английских детективах. Только и твердишь: "узнать", "узнать", как соучастники какого-то преступления. На самом-то деле это не так.
И он налил себе коньяка.
- Просто Хелла была бы страшно расстроена, если бы она обо всем узнала. Люди говорят об... о таких отношениях очень грубо и цинично.
Я замолчал. По лицу Джованни было ясно, что мои доводы прозвучали жалко.
- Кроме того, у нас в Америке это считается преступлением, в конце концов, я вырос там, а не здесь, - добавил я в свое оправдание.
- Если тебя пугают грубые и циничные слова, - сказал Джованни, - то я, право, не знаю, как тебе удалось дожить до двадцати восьми лет. Люди напичканы грубостями и пошлостями. Они не употребляют их (большинство, во всяком случае) только когда рассказывают о чем-то на самом деле грубом и пошлом...
Он осекся, и мы внимательно посмотрели друг на друга. Несмотря на то, что он говорил такие вещи, лицо у него было испуганное.
- Если твои соотечественники считают, что интимная жизнь - преступление, тем хуже для Америки. А что касается твоей Хеллы, то, значит, как только она приедет, ты будешь все время с ней? Я имею в виду - каждый день и час. Тебе, что же, иногда не хочется пойти выпить одному или, может быть, тебе приспичит пройтись без нее, чтобы, как ты говоришь, разобраться в себе. У американцев, по-моему, в избытке проблем, в которых нужно разобраться. Или, может, пока пьешь и размышляешь, ты вдруг заглядишься на проходящую мимо девушку, или тебе даже захочется посмотреть на небо и послушать, как бьется твое сердце. Что же, все это кончится с приездом Хеллы? И ты не будешь больше пить один, глазеть на других девчонок и даже глаз не посмеешь поднять на небо. Так? Отвечай!
- Я тебе уже говорил, что мы не женаты, но, мне кажется, что ты просто не в состоянии понять меня.
- Нет, ты скажи, когда Хелла в Париже, ты с кем-нибудь видишься без нее?
- Конечно, вижусь.
- И она заставляет тебя рассказывать ей обо всем, что ты без нее делал?
Я вздохнул. Где-то в середине разговора я сбился, повел его не в ту сторону и теперь хотел только одного - закончить его. Я выпил свой коньяк так быстро, что обжег горло.
- Конечно, нет.
- Прекрасно. Ты - очень обаятельный, красивый и интеллигентный молодой человек и пока ты не импотент, Хелле не на что жаловаться, а тебе не о чем беспокоиться. Устроить vie practique страшно просто, за это только надо взяться обеими руками. Джованни задумался.
- Я понимаю. Бывают времена, когда все идет наперекосяк, тогда нужно все устроить иначе. А если махнуть рукой, то жизнь станет просто невыносимой.
Он налил еще коньяка и довольно улыбнулся, точно разом разрешил все мои проблемы. В его улыбке было что-то очень простодушное. Мне пришлось улыбнуться в ответ. Джованни было приятно думать, что он такой здравомыслящий, а я нет, и что он учит меня, как не пасовать перед суровой житейской прозой. Ему было важно ощущать свое превосходство, так как в глубине души вопреки своему желанию он знал, что я тоже в глубине души безрезультатно борюсь с ним изо всех сил.
В конечном счете страсти затухали, каждый замыкался в самом себе, и мы ложились спать. Мы просыпались около трех-четырех часов дня, когда солнечные лучи блуждали по углам нашей нелепой захламленной комнаты. Потом вскакивали, мылись, брились, натыкаясь друг на друга, обменивались шуточками, злились от неосознанного желания поскорее унести ноги из этой комнаты. Затем мы стремглав вылетали на улицу, где-нибудь на скорую руку завтракали, и я прощался с Джованни у бара Гийома.
Я оставался один, облегченно вздыхал, шел в кино или просто шатался, возвращался домой и читал, или шел в парки читал там, или сидел в открытом кафе, болтал с посетителями, или писал письма. Писал Хелле, умалчивая о Джованни, или просил отца прислать деньги. В общем, что бы я ни делал, во мне глубоко прятался другой я, который, холодея от ужаса, размышлял, как же мне жить дальше.
Джованни разбудил во мне червя, который исподтишка стал подтачивать меня изнутри. Понял я это в тот день, когда провожал Джованни на работу по бульвару Монпарнас. Мы купили килограмм вишен и ели их по дороге. В тот день мы оба были беспечны и по-детски веселы, и зрелище, которое мы являли: Двое взрослых мужчин, сталкивающих один другого с широкого тротуара и кидающих в лицо друг другу косточки от вишен, точно это мыльные пузыри - было раздражающим. Я понимал, что в моем возрасте такое ребячество неуместно, а ощущение полного счастья, заставившее меня по-мальчишески резвиться, было тем более странным. Я был счастлив, потому что действительно любил Джованни, который в тот день был красив, как никогда. Я смотрел на него и мне было приятно сознавать, что это из-за меня его лицо светилось счастьем.
Я готов был пойти на любые жертвы, только бы не потерять своей власти над Джованни.
И я чувствовал, как меня прямо несло к нему, как несет реку, вырвавшуюся из-подо льда. И тут по тротуару между нами прошел какой-то молодой человек, совсем незнакомый, я мысленно представил его на месте Джованни и почувствовал к нему такое же влечение, какое испытывал к моему другу. Джованни заметил это, заметил мое смущение и еще сильнее расхохотался. Я покраснел, а он все хохотал, и вот уже бульвар, солнечный свет и звучание раскатистого смеха Джованни превратились в сцену из ночного кошмара. До боли в глазах я смотрел на деревья, на сочившиеся сквозь листву солнечные лучи - сгорал от стыда, мучился от безотчетного ужаса, тоски и горечи, переполнявшей сердце. И в то же самое время - это было частью моего смятения и одновременно вне его - я мучительно напрягал мышцы, чтобы не обернуться и не посмотреть, как этот юноша удалялся по залитому солнцем бульвару. Этот зверь, которого разбудил во мне Джованни, больше никогда не впадет в спячку.
Но наступит день, и я навсегда расстанусь с Джованни. И буду ли я тогда, одному Богу известно, гоняться по каким-то темным закоулкам за первыми попавшимися молодыми парнями, как множество таких же, как я?
Это страшное открытие породило во мне ненависть к Джованни. Она была так же велика, как и моя любовь к нему, и все крепла, питаясь из тех же источников.
Глава II
Даже и не знаю, как описать эту комнату. Почему-то каждая комната, где я жил раньше, и те, в которые я попадал позже, стали напоминать мне комнату Джованни, хотя я и жил в ней недолго. Мы встретились в начале зимы, ушел я оттуда летом, но у меня такое впечатление, будто я прожил в ней всю жизнь. Я уже говорил, что в этой комнате мы жили как бы на дне моря, и море, конечно, довольно здорово отшлифовало меня, как морскую гальку.
С чего бы начать?
В этой комнате с трудом помещались двое, а выходила она на крошечный дворик. "Выходила" в том смысле, что в ней было два окна. Теснившийся за окнами двор таил в себе что-то недоброе и как бы наступал на комнату, грозясь ее проглотить. Мы, вернее, Джованни, почти никогда не открывали окон; занавесок у него не было, а мы так и не собрались их купить. Для большей безопасности Джованни замазал стекла густой известкой. Временами мы слышали, как под окнами играют дети, временами мимо проплывали странные тени. В эти минуты Джованни, как правило, мастерил ли он что-нибудь или лежал на кровати, настораживался, как гончая, и не произносил ни слова, пока угрожавшая нам опасность: не проходила стороной.
Джованни вечно носился с планами переустройства этой комнаты и до моего появления даже что-то предпринял. Отодрал от одной стены затекшие грязными пятнами обои, и теперь они свисали клочьями. Другая стена по его замыслу вообще не должна была оклеиваться: на ней в кайме из роз были изображены застывшие в вечном движении дама в кринолине и кавалер в бриджах. На полу в пыли валялись обрывки обоев. Тут же лежало наше грязное белье, инструменты Джованни, кисти, бутылки с краской и скипидаром. На этой груде хлама громоздились наши чемоданы. Мы боялись дотронуться до них, так как каждую минуту чемоданы могли свалиться, из-за этого нам иногда по-нескольку дней приходилось обходиться без таких необходимых вещей, как чистые носки.
Никто, кроме Жака, нас не навещал, да и он заглядывал очень редко. Мы жили далеко от центра, и телефона у нас не было.
Помню первое утро, которое я встретил в этой комнате. Джованни, тяжелый, как гранитная глыба, крепко спал рядом. Солнце так робко просачивалось в комнату, что я не мог понять, который теперь час. Я неслышно зажег сигарету, боясь разбудить Джованни - так как боялся посмотреть ему в глаза. Я огляделся. Еще в такси Джованни невнятно пробормотал, что комната у него очень грязная. "Да уж наверняка", - небрежно ответил я и, отвернувшись,
уставился в окно. Мы молчали. Когда я проснулся в этой комнате, то сразу вспомнил, как мы долго молчали. Это было напряженное и неприятное молчание.
Наконец Джованни заговорил, улыбнувшись застенчиво и грустно:
- Надо будет чем-нибудь украсить ее.
Он растопырил пальцы, точно фокусник, который хотел поймать эти украшения прямо в воздухе. Я не сводил с него глаз.
- Посмотри, сколько мусора, - наконец сказал он, глядя на проносящуюся мимо улицу, - со всего Парижа собрали, что ли? И куда его девают? Ума не приложу. Наверное, тащат в мою комнату.
- Вероятней всего, - отозвался я, - мусор сбрасывают в Сену.
Но когда я проснулся и оглядел эту комнату, то вдруг понял, сколько страха и мальчишеской бравады было в его словах. Нет, Джованни говорил не о мусоре Парижа - он говорил о себе, плывущем по стремнине жизни, подобно мусору, сброшенному в Сену.
В комнате там и здесь высились пирамидами картонные коробки и чемоданы. Одни были перевязаны бечевкой, на других висели замки, а третьи лопались от напиханного в них барахла. На самом верху валялись разорванные ноты для скрипки, а сама скрипка лежала на столе в обшарпанном растрескавшемся футляре. По ее виду нельзя было понять, вчера ее сюда положили или много лет назад. Стол был завален пожелтевшими газетами, пустыми бутылками, тут же лежала сморщенная пожелтевшая картофелина, у которой даже ростки успели сгнить. На полу вечно было разлито красное вино, оно испарялось, и от этого воздух в комнате был приторный и тяжелый. Но пугала эта комната не беспорядком. Стоило только задуматься, откуда он берется, как сразу приходило в голову, что причина не так проста. И дело тут было не в привычке, занятости или свойствах характера. Нет, это проистекало от отчаянья и предназначалось в наказание самому себе. Не знаю, как я догадался об этом, только понял сразу же, понял, вероятно, потому, что мне очень хотелось жить. Я разглядывал эту комнату с нервным напряжением и мучительной сосредоточенностью человека, смотрящего в лицо неотвратимой смертельной опасности. Я смотрел на эти немые стены, на нелепых допотопных любовников,
навеки замурованных в громадном розарии, на меня пялились окна, пялились, точно два огромных глаза. Потолок грозно нависал над головой и темнел, недобро насупившись над истекающей желтым светом лампочкой, которая болталась посередине как бесформенный, сморщенный фаллос. И под этой обломанной лучистой стрелой, под этим хилым ростком света жил ужас,
завладевший душой Джованни. Я понял, почему Джованни потянулся ко мне и привел в свое последнее прибежище. Я должен был разрушить эту комнату и помочь Джованни начать новую настоящую жизнь. Конечно, я мог жить сам по себе, но для того, чтобы переделать жизнь Джованни, мне нужно было стать частью его комнаты.
Но меня самого привело сюда сложное стечение обстоятельств. Они ничего общего не имели с планами и мечтами Джованни, потому что это были мое собственное душевное смятение и отчаяние. В первые дни нашей совместной жизни я убеждал себя, что мне очень нравится хозяйничать. Когда Джованни уходил на работу, я принимался за уборку: выкидывал бумажный хлам, бутылки,
разгребал невероятную кучу барахла, перебирал бесчисленные картонки и чемоданы. И в конце концов выкинул все ненужное. Но хозяйки из меня не получилось! Не мужское это дело. Да и радости от домашних дел я не испытывал, хотя Джованни и улыбался мне своей кроткой благодарной улыбкой и не раз говорил, что просто диву дается, как это его осенило затащить меня сюда, и что я своей любовью защищаю его от беспросветного хаоса. Каждый день он открывал в себе что-то новое и был убежден, что это наша любовь заставила его переродиться. Я же пребывал в страшной растерянности. Иногда я думал:
"Ведь это же твоя жизнь, брось с собой бороться, перестань", - а иногда думалось: "Ты же счастлив с Джованни, он тебя любит, ты в безопасности".
Временами, когда Джованни не было рядом, я твердо решал, что больше не дам ему прикоснуться ко мне. Но это снова случалось, и тогда я думал: "Господи, какая разница, ведь в этом участвует только тело, да и все скоро кончится".
Но когда это кончалось, я лежал в темноте, прислушивался к дыханию Джованни и мечтал о прикосновении мужских рук, рук Джованни или чьих-нибудь других, мечтал о сильных руках, которые сумели бы встряхнуть меня и сделать самим собой.
Иногда после завтрака я оставлял Джованни одного, в клубах табачного дыма, а сам отправлялся в американское агентство у Опера, куда приходила моя почта. Джованни редко сопровождал меня, говорил, что не выносит, когда вокруг толпится столько американцев, говорил, что все они на одно лицо.
Очевидно, так оно и было. Для него, но не для меня. Конечно, в них было что-то общее, что-то типично американское - это я понимал, но подобрать название этому "что-то" никак не удавалось. Знал я и другое: как это "что-то" не называй, я с ними - одного поля ягода. Это-то отчасти и влекло ко мне Джованни. Когда он хотел дать мне понять, что дуется, то называл меня "vrai americain" и, наоборот, если был очень доволен мною, говорил, что я ни
капельки не похож на американца; в обоих случаях он задевал больной нерв, которого у него-то не было. И я злился, злился за то, что он называл меня американцем (и злился на себя за эту злобу), потому что получалось, будто я обычный американец, и ничего во мне нет своего, и я злился, когда он говорил, что я не похож на американца, тогда выходило, что я вообще неизвестно кто.
Как-то раз, отправившись жарким летним днем в американское агентство и столкнувшись с галдящей жизнерадостной оравой американцев, я был поражен тем, что они и вправду все, как из одного инкубатора. Дома я без труда замечал у них особый говорок, повадки и манеры, теперь же, если не вслушиваться, можно подумать, что все они только что прибыли из Небраски.
Дома я прежде всего видел их одежду, здесь же перед глазами мелькали дорожные сумки, кинокамеры, ремни, шляпы, которые словно были куплены в одном универсальном магазине. Дома в лице каждой женщины я сразу же находил что-то свое, индивидуальное, здесь же самые потрясающие шикарные американки казались только что извлеченными из холодильника бесполыми мумиями, и даже столетние старушки, казалось, не ведали, что такое супружеская постель. А мужчины! Их возраст определить было абсолютно невозможно. От них всегда несло мылом, которое, очевидно, служило им надежным средством защиты от естественных запахов собственного тела. Вот молодой человек, с виду чистенький, послушный, невинный мальчик с симпатичной, смеющейся женой
покупают билеты в Рим, а глаза у него - шестидесятилетнего старика. Его жена с тем же успехом может оказаться его матерью, пичкающей по утрам свое чадо овсяной кашей, а Рим - фильмом, на который она обещала его сводить. Конечно, я понимал, что мои наблюдения справедливы лишь отчасти и, может быть, даже поверхностны, потому что за этими лицами, одеждой, речью, грубостью таятся неосознанная сила и подсознательная тоска, сила первооткрывателей и тоска изгоев.
На почте стояла очередь, я занял свое место за двумя девушками, которые, как я понял, решили жить в Европе и надеются найти работу в Германии через американское посольство. Я невольно прислушивался к их тихому взволнованному разговору и узнал, что одна из них влюблена в швейцарца, а другая убеждает ее "ни на ноготь не уступать", а в чем и кому - я так и не
понял. Влюбленная девушка все кивала головой и не то, чтобы в знак согласия, а скорее от растерянности. У нее был озабоченный и замороченный вид человека, которому есть, что порассказать, но который не знает, как это сделать.
- Ты только не глупи, - обрабатывала ее подруга.
- Да, я сама понимаю, я понимаю, - твердила девушка.
А у меня было такое впечатление, что она и рада бы не глупить, да только вконец запуталась и вряд ли сумеет когда-либо выбраться.
Меня ждали два письма - от Хеллы и от отца. Последнее время Хелла посылала одни открытки, поэтому я испугался, что в письме что-то серьезное, и решил его покамест не читать, а распечатал отцовское. Я прочитал его, стоя в прохладном углу, возле беспрерывно хлопающих дверей.
"Привет, старина! - писал отец, - Может, ты все-таки соберешься домой? Не подумай, что я пишу тебе это просто из эгоизма, я действительно соскучился по тебе. По-моему, ты загостился в Париже, и одному Богу известно, чем ты там занимаешься. Пишешь ты мало, и я толком ничего не знаю. Знаю только, что в один прекрасный день ты пожалеешь, что столько времени прожил не дома, созерцая собственный пуп, а жизнь проходила мимо. В Париже тебе нечего делать. Ты американец до мозга костей, хотя, может, сейчас ты и
гонишь от себя эту мысль. Не сердись, но ты уже слишком стар, чтобы учиться уму-разуму, если это то, чем ты занимаешься. Тебе скоро стукнет тридцать. Я тоже не молодею, а кроме тебя у меня никого нет. Очень хочу повидаться. Ты все время просишь прислать твои деньги, и, наверное, думаешь, что я их зажимаю. Я не собираюсь брать тебя измором, и ты знаешь, что если тебе действительно что-нибудь нужно, я первый приду на помощь. Но боюсь, что
.окажу тебе плохую услугу, если дам потратить в Париже все деньги, и ты вернешься домой без гроша. Какой черт тебя там держит? Неужели нельзя с отцом поделиться? Я ведь тоже когда-то был молод, хотя тебе и трудно в это поверить".
Дальше он распространялся о мачехе, о том, как она соскучилась по мне, о некоторых наших друзьях и о том, чем они занимаются. Он не понимал, в чем дело. Его, наверняка, мучили смутные подозрения, которые день ото дня делались все мрачнее и туманнее, а если б он и посмел написать о них, то не сумел бы подобрать нужные слова. У него явно так и вертелось на языке: "Это
женщина, Дэвид? Привези ее домой. Мне все равно, кто она. Привези ее домой, и я помогу вам устроиться". Но у него не хватало смелости задать этот вопрос, потому что отрицательного ответа отец бы не вынес. Это лишний раз подчеркнуло бы, какими чужими людьми мы стали. Я сложил письмо, засунул его в задний карман брюк и вышел на широкий, залитый солнцем парижский бульвар.
И тут на бульваре я увидел матроса, одетого во все белое и вышагивающего забавной моряцкой походкой "вразвалочку" с таким самоуверенным и озабоченным видом, точно он торопится и дел у него невпроворот. Я уставился на него, почти не сознавая этого, и мне страшно захотелось оказаться на его месте. Но он был моложе и намного красивее, а таких светлых волос у меня никогда не было, и со всеми своими неоспоримыми мужскими достоинствами держался он так естественно, как мне никогда не удавалось.
Взглянув на него, я почему-то сразу вспомнил о доме. Вероятно, дом - это не просто жилище, а единственно возможное условие существования. Мне казалось, что я знаю об этом матросе все: как он пьет, как ведет себя с друзьями, как он справляется с жизненными неурядицами и женщинами. Неужели и мой отец был когда-то таким, как этот матрос, а, может, и я чем-то походил на него?
Верилось с трудом, потому что этот юноша вышагивал по бульвару, как само солнце, а у солнца не бывает соперников и двойников. Когда мы поравнялись, он кинул на меня такой бесстыдный, всепонимающий взгляд, точно рассмотрел в моих глазах изобличавшее меня смятение. Возможно, несколько часов назад он окатил таким же презрением крикливо разодетого un folle или проститутку, пытавшуюся убедить его, что она порядочная женщина. Погляди мы еще минуту друг на друга, и у него, позабывшего весь свой блеск и лоск, наверное, вырвалось бы: "Эй, крошка, пошли со мной", или какая-нибудь подобная вульгарность. Я поспешно прошел мимо, тупо глядя в сторону, чувствуя, как все лицо горит и бешено колотится сердце. Он застал меня врасплох, потому что думал-то я не о нем, а об отцовском письме, о Хелле и о Джованни. Я перешел на другую сторону, боясь оглянуться и раздумывая над тем, что он такое разглядел во мне, что вызвало в нем такое презрение? Я был достаточно взрослым и понимал, что дело вовсе не в моей походке, не в манере размахивать руками и не в моем голосе, которого, кстати, он никогда не слышал. Дело было в другом; и это "другое" я никогда не увижу. Просто не
посмею. Это все равно, что смотреть на яркое солнце без темных очков. Но даже сейчас, когда я побежал по бульвару, боясь взглянуть на проходивших мимо мужчин и женщин, я понимал, что в моем взгляде матрос прочитал не только зависть, но и животное желание: ведь я сам часто замечал это в глазах Жака и смотрел на него с таким же презрением, с каким матрос посмотрел на меня. Но даже если бы матрос мне понравился и прочитал это в моих глазах, это было бы еще хуже, потому что нежность к молодым людям, на которую я был обречен, вызывает в людях еще больший ужас, чем похоть.
Я шел и шел, боясь оглянуться, потому что матрос мог наблюдать за мной. У набережной, на rue des Pyramides, я нырнул в кафе, сел за столик и распечатал письмо Хеллы. "Mon cher! - писала она. - Испания - моя любимая страна, но это не мешает Парижу оставаться моим самым любимым городом. Так хочется снова очутиться среди этих шальных французов, которые вечно мчатся куда-то в метро, выпрыгивают из автобусов и выскакивают из-под колес машин и
мотоциклов, устраивают пробки и глазеют на идиотские скульптуры в своих идиотских парках. Господи, до чертиков хочется посмотреть на подозрительных дамочек с place de la Concorde. В Испании нет ничего похожего. Называй ее, как угодно, только легкомысленной ее никак не назовешь. Честно говоря, наверное, я навсегда осталась бы в Испании, если бы до этого не пожила в Париже. Испания - очень красивая, солнечная, каменистая и почти безлюдная
страна. Но постепенно тебя начинает тошнить от оливкового масла, от рыбы, кастаньет и тамбуринов. Мне, во всяком случае, осточертело. Хочу домой, домой, в Париж. Забавно! Раньше я и не знала, что у меня есть дом. В общем, все по-старому. Надеюсь, тебя это радует? Меня, по правде говоря, это радует сильно. Испанцы - славный народ, только большинство живут ужасно бедно, но богачи - невыносимы. Полно туристов, от которых воротит, в основном англичане и американцы. Пропойцы все до одного, их семьи платят кучу денег,
только чтоб они не мозолили им глаза. (Я тоже хочу иметь семью!!) Сейчас я в Мальорке. Восхитительное местечко, если б спихнуть в море всех вдовушек на пенсии и запретить им пить сухой мартини. В жизни ничего подобного не видела! Ты бы посмотрел, как эти старые грымзы его лакают и заигрывают с каждым мужчиной, в особенности с восемнадцатилетними юнцами. Словом, я сказала себе: "Хелла, детка, хорошенько присмотрись, ведь тебе же надо
подумать о будущем". Но вся беда в том, что себя-то я люблю больше всех. Поэтому я милостиво позволила двум молодым людям попытать свое счастье - я имею в виду "закрутить любовь" - и посмотреть, что из этого получится. (Теперь, когда я заварила кашу, чувствую себя отлично, надеюсь, ты тоже,
милый рыцарь, в доспехах из Гимбла.)
В Барселоне я познакомилась с англичанами, и они втянули меня в нуднейшую поездку в Севилью. От Испании они просто без ума, хотят показать мне корриду - за все время скитаний так и не удосужилась ее поглядеть. Они действительно очень славные. Он третьеразрядный поэт, работает на Би-би-си, она -заботливая и любящая супруга. У них абсолютно чокнутый сын, вообразил,
что жить без меня не может. Но он чересчур англичанин, да к тому же слишком молод. Завтра я уезжаю, поболтаюсь еще дней десять, а потом они отправятся в Англию, а я-к тебе!"
Подошел официант, спросил, что я буду пить. Я собирался заказать аперитив, но настроение вдруг неожиданно изменилось, сделалось почти праздничным, и я попросил принести виски с содовой. Я потягивал виски, казавшееся особенно вкусным и домашним в эту минуту, и смотрел на мой нелепый Париж, корчившийся под палящими лучами солнца, и угадывал в нем то
же смятение, что и в собственной душе. Что мне теперь делать, я не знал.
Не то, чтобы я испугался. Страха как раз не было. Говорят, когда человека расстреливают, он не чувствует боли. Примерно то же произошло и со мной. Я испытывал даже некоторое облегчение: теперь не нужно было разрубать узел самому. Я твердил себе, что оба мы, Джованни и я, всегда знали, что наша идиллия не может длиться вечно. К тому же, я не лгал ему - ведь он все знал о Хелле, знал, что когда-нибудь она вернется в Париж. И вот теперь она
возвращается, и нашей жизни с Джованни приходит конец. И вспоминать этот эпизод я буду как забавное приключение, которое бывает в жизни многих мужчин. Я расплатился, встал и пошел по мосту к Монпарнасу.
Теперь я немного приободрился, но пока шел по бульвару Raspail к Монпарнасу, все время думал о том, как сначала мы бродили здесь с Хеллой, а потом с Джованни. И с каждым шагом ее лицо все тускнело в памяти, а лицо Джованни, живое и яркое, постоянно возникало передо мной. Я думал о том, как он примет это известие. Конечно, я был уверен, что Джованни не побьет меня,
я боялся другого: увидеть его лицо, искаженное болью. Но и это было не главным. Еще один, затаенный страх гнал меня к Монпарнасу: мне нужна была девушка, любая.
Открытые кафе были непривычно безлюдны. Я медленно шел, оглядывая столики, расположенные по обеим сторонам улицы. Знакомые не попадались.
Спустился к Closerie des Lilas и выпил там в одиночестве. Потом снова перечитал письма. Хотел сразу же найти Джованни, сказать ему, что ухожу, но вспомнил, что Джованни еще не открыл бар и неизвестно, где сейчас шатается.
Я побрел назад. Навстречу шли две молоденькие проститутки, которые, прямо скажем, не отличались красотой. С такими спать - последнее дело. Я дошел до Select и сел за столик. Мимо проходили люди, а я пил. Сидел я там довольно долго, но знакомые так и не появились.
Потом показалась девушка, которую я толком не знал, знал только, что ее зовут Сью. Она была довольно пышная блондинка, не очень привлекательная, но из породы девушек, которых ежегодно выбирают первой красавицей Рейна. Ее светлые волнистые волосы были очень коротко пострижены, грудь маленькая, а зад весьма внушительных размеров. Тем не менее она всегда ходила в
облегающих джинсах, чем, разумеется, хотела показать всему миру, что ей начхать на свою внешность и на то, нравится она мужчинам или нет. Вроде бы она приехала из Филадельфии, и родители у нее очень богатые. Иногда, солидно набравшись, она поносила их последними словами, а подчас, пребывая в другой стадии опьянения, превозносила до небес их заботливость и бережливость.
Увидев ее, я почувствовал одновременно и страх и облегчение. Как только она появилась, я начал мысленно ее раздевать.
- Присаживайся, - сказал я, - давай выпьем.
- Как здорово, что ты здесь! - воскликнула она, усаживаясь за столик и ища глазами официанта. - Куда ты запропастился? Как жизнь?
Она наклонилась ко мне и дружески улыбнулась.
- У меня все в ажуре, - ответил я, - а ты как?
- Я? А что со мной может случиться? Она опустила уголки чувственного и нервного рта, как бы давая понять, что шутит и что в шутке есть доля истины.
- Я ведь, знаешь, как каменная стена. Мы рассмеялись.
Она пристально разглядывала меня.
- Говорят, ты теперь живешь где-то у черта на рогах, около зоопарка.
- Да, посчастливилось раздобыть комнатушку. Очень дешево. - И ты живешь один? Я не знал, слышала она о Джованни или нет. На лбу выступили капельки пота. - Да вроде бы один, - ответил я. - Вроде бы? Что за идиотский ответ? С обезьяной живешь, что ли?
- Да нет, - ухмыльнулся я, - просто комната принадлежит одному
французу, а этот малый живет все время у любовницы. Правда, они то и дело цапаются, и когда она его выкидывает, он пару дней околачивается у меня.
- А-а, - протянула она, - chagrin d'amour! - Нет, он не жалуется и наслаждается жизнью.
Я посмотрел на нее.
- А ты?
- Каменные стены непробиваемы, - ответила она.
Подошел официант.
- Думаю, все зависит от тарана? - нагло заметил я.
- Так чем ты меня угостишь? - спросила она.
- А что ты хочешь?
Мы улыбнулись друг другу. Над нами возвышался официант, всем своим видом демонстрируя мрачную "joie de vivre". Она хлопала ресницами чуть прищуренных глаз.
- Пожалуй, дерну я un ricard. Только, чтоб льда навалил побольше.
- Deux ricards, - сказал я, - avec beaucoup de la glace.
- Oui, monsieur.
Я не сомневался, что он презирал нас обоих. И тут я опять вспомнил о Джованни. Сколько раз за вечер он произносил эту фразу: "Oui monsieur".
Не успела эта мысль промелькнуть в голове, как я почувствовал Джованни рядом с собой, почувствовал его всего целиком, со всеми его жизненными неудачами и болью, со всем тем, что наполняло его и переливалось через край, когда мы лежали ночью в постели.
- Так о чем это мы? - спросил я.
- В самом деле, о чем?
Теперь она смотрела на меня широко открытыми невинными глазами.
- О чем мы говорили? Она старалась произвести впечатление развязной и в то же время рассудительной девушки. Я понимал, что совершаю что-то очень жестокое. Но отступать было поздно.
- Мы говорили о каменных стенах и таранах, пробивающих в них бреши.
- Никогда не знала, - жеманно ответила она, - что тебя занимают каменные стены.
- Ты еще многого обо мне не знаешь.
Официант принес нам коньяк.
- Разве не приятно делать открытия? -спросил я.
Она с какой-то грустью рассматривала бокал, потом снова повернулась ко мне, посмотрела тем же удивленно-невинным взглядом и сказала:
- Честно говоря, не думаю, что приятно.
- Ты еще слишком молода и не понимаешь этого. А в жизни нужно каждую мелочь открывать для себя.
Она промолчала и отхлебнула из бокала.
- Я уже сделала все открытия, на которые меня хватило, - наконец ответила она. Я смотрел, как подрагивали ее бедра, выпирая из узких джинсов.
- Не век же оставаться каменной стеной!
- А почему бы нет? - возразила она. - Да и как ею не остаться?
- Послушай, малышка, - сказал я, - у меня к тебе деловое предложение.
Она снова взяла стакан и принялась потягивать из него, бессмысленно глазея на бульвар.
- Что еще за предложение?
- Пригласи меня выпить к себе.
- Но у меня дома - шаром покати, - сказала Сью и повернулась ко мне.
- Не беда. Прихватим что-нибудь по дороге, - настаивал я.
Она смерила меня долгим взглядом, и я заставил себя выдержать его.
- Нет, пожалуй, не стоит, - сказала она.
- Но почему?
Она растерянно развела руками.
- Не знаю, почему. Кто тебя знает, чего ты хочешь.
Я рассмеялся.
- Ты позови меня к себе, и я все тебе растолкую.
- Ты просто невыносим, - сказала она, и впервые в ее голосе и глазах
появилось неподдельное возмущение.
- А, по-моему, это ты невыносима, - продолжал я, глядя на нее с улыбкой и пытаясь изобразить мальчишескую беспечность и настойчивость.
- Не понимаю, чего ты возмущаешься? Я играю в открытую, а ты скрытничаешь. Человек говорит, что ты ему нравишься, а ты называешь его невыносимым.
- О, только без громких слов, - сказала она, допивая коньяк, - ты, видно, перегрелся на солнце.
- Солнце тут абсолютно ни при чем, - сказал я, и поскольку Сью не ответила, продолжал с отчаяньем в голосе:
- Ну, вот что, давай решай: или мы торчим здесь, или идем к тебе.
Она вдруг прищелкнула пальцами, донельзя неловко разыгрывая беспечность.
- Ладно, пошли, - сказала она, - наверняка я об этом пожалею. Но выпить у меня и вправду нечего, ни капли. Ничего, - добавила она, - хоть выпью задарма.
И тогда я почувствовал, как не хочу к ней идти. Смотрел мимо Сью, ловко прикидываясь, будто не вижу официанта и поджидаю его. Но он подошел, такой же хмурый, как и прежде, я расплатился, мы встали и направились на те de Sevres, где у Сью была маленькая квартирка. Квартирка была темная и сильно заставленная.
- Тут все чужое, - объяснила Сью, - хозяйка француженка, дама
бальзаковского возраста. Она сейчас в Монте-Карло, лечится от нервов.
Сью и сама заметно нервничала, и мне это было пока что на руку. Я поставил купленный коньяк на мраморный столик и обнял Сью. Сам не зная, почему, но в эту минуту я подумал, что уже начало восьмого, что солнце скоро спрячется за Сеной, на Париж спустится ночь, и Джованни уже за стойкой.
Сью была очень крупная и неприятно студенистая. Казалось, это студенистое тело вот-вот растечется. Я почувствовал, как она вся напряглась, сжалась и понял ее мучительное недоверие. Видимо, таких победителей, как я, она повидала немало и никому больше не верила. Да и то, чем мы собирались заняться, нельзя было назвать вполне пристойным. Она словно тоже почувствовала это и отпрянула в сторону.
- Давай сперва выпьем, - предложила она, - если, конечно, ты не торопишься. Впрочем, ты не волнуйся. Больше, чем полагается, я тебя не задержу.
Она улыбнулась, и я улыбнулся тоже. Мы думали об одном и том же: это была духовная близость двух воров, отправляющихся на дело.
- Давай пропустим несколько стаканчиков, - предложил я.
- Только не перебрать бы, - заметила она.
На ее лице снова появилась жеманная улыбка вышедшей в тираж кинозвезды, которая после долгих лет прозябания очутилась перед неумолимым глазом камеры. Она взяла коньяк и вышла в кухню.
- Располагайся поудобнее, - крикнула она, - можешь снять ботинки. Носки тоже сними, посмотри мои книжки. Господи, и что бы я только делала, если бы на свете не было книг!
Я снял ботинки и лег на тахту, стараясь ни о чем не думать, но одна мысль не давала покоя: то, что у меня было с Джованни, вряд ли можно назвать более грязным, чем то, что сейчас произойдет между мной и Сью.
Она вернулась с двумя стаканами коньяка. Подошла вплотную к тахте, мы чокнулись, потом пригубили коньяк. Она не сводила с меня глаз.
Тогда я дотронулся до ее груди. Губы ее раскрылись, с какой-то поспешной неловкостью она поставила стаканы на столик и легла мне на грудь. В этом движении было столько неподдельного отчаяния, что я понял: Сью отдавалась не мне, а тому любовнику, которого никогда не дождется.
И вот она уже была подо мной, в этой темной комнате, а мне в голову лезли самые разные мысли. Я спрашивал себя, сделала ли она что-нибудь, чтобы не забеременеть, и при мысли о ребенке, который может родиться у Сью от меня, при мысли о ловушке, в которую могу попасть сейчас, когда пытаюсь вырваться на свободу, я чуть громко не расхохотался. Я раздумывал, не бросила ли она джинсы на недокуренную сигарету, есть ли у кого-нибудь ключ от этой квартиры, слышно ли через тонкие стены, что у нас тут творится, и
как через несколько минут мы будем ненавидеть друг друга. Я добросовестно трудился, точно выполнял работу, которую нужно было сделать в лучшем виде. И, однако, в глубине души сознавал, что поступаю чудовищно по отношению к Сью, и теперь уже дело мужской чести не дать ей этого почувствовать. Мне хотелось придать хоть какую-нибудь пристойность этой омерзительной близости,
хотелось, чтобы Сью поняла, что ни она, ни ее тело не вызывают во мне презрения и что вовсе не она мне будет противна, когда мы снова примем вертикальное положение. Теперь я всем своим существом понял, что мои страхи преувеличены и неосновательны. Я сам себя обманывал и с каждой минутой отчетливее понимал, что то, чего я действительно боялся, не имело никакого отношения к моему телу. Сью - не Хелла, и она не могла притупить мой страх перед встречей с Хеллой. Теперь этот страх усилился и стал более осязаемым.
И в то же время я понимал, что эксперимент удался на славу. Я старался не презирать Сью за то, что она не понимает, что не вызывает во мне никаких чувств; она молотила меня кулаками по спине, а я бился в паутине ее объятий и всхлипываний и ждал, когда ее тело расслабится, ноги перестанут сжимать меня, и я буду, наконец, свободен. Но вот она стала дышать чаще и отрывистей, и я подумал: "Кажется, уже скоро", - с ужасом чувствуя, что поясница покрывается холодным потом. "О, господи, скорей бы конец, скорей бы!" И вот все было кончено. Я ненавидел себя и ее. Все было кончено, на нас снова нахлынула темнота этой комнаты, и мне хотелось только одного - поскорее выбраться отсюда.
Сью лежала рядом и молчала довольно долго. Я знал, что на дворе уже ночь, и она зовет меня. Наконец я привстал и взял сигарету.
- Может, лучше допить бутылку, - сказала она, села и включила лампу, стоящую возле кровати.
Этой минуты я боялся больше всего. Но в моих глазах она ничего не заметила и смотрела на меня, как на рыцаря, проделавшего долгий путь на белом скакуне, чтобы освободить ее из темницы. Сью подняла бокал.
- A la votre, - сказал я.
- A la wire? A la tienne, cheri! - хихикнула она.
Она наклонилась и поцеловала меня в губы, и вот тут-то она что-то и почувствовала, откинулась назад, пристально посмотрела мне в лицо и прищурилась, потом непринужденно сказала:
- Как ты думаешь, мы сможем еще раз как-нибудь поиграть?
- Почему бы нет, - ответил я, пытаясь выдавить улыбку, - наши игрушки всегда при нас.
Она помолчала, потом снова спросила:
- Может, сегодня поужинаем вместе?
- Прости, Сью, - сказал я, - прости, пожалуйста, но у меня вечером свиданье.
- Так, может, завтра?
- Послушай, Сью, я терпеть не могу сговариваться заранее. Лучше я как-нибудь к тебе заскочу нахрапом.
Она допила коньяк и сказала:
- Сомневаюсь.
Она встала и отошла от меня.
- Пойду надену что-нибудь и провожу тебя.
Она вышла из комнаты и я услышал, как в ванной зажурчала вода. Я остался один на тахте, сидел голый в одних носках и пил коньяк. Несколько минут назад мне казалось, что ночь зовет меня, а теперь было страшно выйти на улицу.
Когда Сью вернулась, на ней было платье и туфли на каблуках. Волосы она взбила и вообще, надо сказать, выглядела гораздо привлекательнее и чем-то напоминала девочку-школьницу. Я встал и начал одеваться.
- Ты хорошо выглядишь, - сказал я.
Тысяча слов вертелась у нее на языке, но она не дала ему волю. Я видел, как она борется с собой. Мне было так стыдно и больно, что я старался не смотреть на нее. Наконец она сказала:
- Если тебе опять будет тоскливо, приходи. Я буду рада.
Она улыбнулась. В жизни я не видел такой странной улыбки: в ней сквозила боль, и униженное женское достоинство, и своеобразная мстительность, которые она неумело пыталась замаскировать веселой девичьей непосредственностью, но они проступали, проступали, как кости в ее рыхлом теле. Если, по прихоти судьбы, я когда-нибудь попаду в руки Сью, она убьет меня, точно так же улыбаясь.
- Ну, пока, не поминай лихом, - сказал я.
Сью распахнула дверь, и мы вышли на улицу.
Глава III
Я расстался с ней на ближайшем углу, пробормотав на прощание идиотские мальчишеские извинения, и долго смотрел, как удаляется по бульвару в сторону кафе ее плотная фигура.
Потом я не мог придумать, чем заняться, куда пойти. В конце концов я очутился на набережной и неторопливо побрел домой.
И тут, вероятно, впервые в жизни я подумал о смерти как о реальном факте. Я подумал о тех людях, которые так же, как и я, смотрели с набережной на Сену, а после находили успокоение под ее водами. Я думал об их судьбах, о том, что их толкнуло на это, имея в виду именно акт самоубийства. Когда я был моложе, мне, как и многим, не раз приходили в голову мысли о самоубийстве, но тогда совершить его я мог только назло, из желания дать
миру понять, какие непереносимые страдания он мне причинил. Но теперь я шел домой, и этот мирный вечер никак не был связан с прежним смятением чувств того канувшего в прошлое мальчика. Я просто размышлял об умерших, о том, что их жизнь уже кончена, а мне пока неясно, как прожить свою.
Париж, любимый город, угомонился и затих. На улицах почти не было прохожих, хотя стоял совсем ранний вечер. И все-таки внизу, у набережной, под мостами, в каменном полумраке, мне вроде бы слышался общий судорожный вздох - вздох любящих и отверженных, которые там спали, целовались, грешили, выпивали и просто смотрели на опускающуюся на город ночь. А за толстыми стенами, мимо которых я проходил, вся Франция мыла после ужина посуду,
укладывала в постели маленьких Жан-Пьера и Мари, озабоченно хмурила брови, решая вечные денежные проблемы, раздумывала, в какую церковь ходить, где купить подешевле, и почему нельзя верить правительству. Эти стены, эти окна за жалюзи охраняли их от темноты и тоскливого протяжного зова этой долгой ночи. И вполне вероятно, что спустя десять лет маленький Жан-Пьер или Мари
очутятся здесь на набережной Сены и, подобно мне, станут раздумывать, как случилось, что благополучие оставило их. И я думал о том, какой длинный путь проделал, чтобы прийти к душевной катастрофе!
И все-таки, думал я, направляясь от набережной по длинной улице к дому, ничего не попишешь - мне хочется иметь детей. Хочется снова обрести домашний уют и благополучие и, чувствуя себя стопроцентным мужчиной, смотреть, как жена укладывает в постель моих детей. Хочется спать в собственной кровати, ощущать прикосновение одних и тех же рук, хочется утром встать и точно
знать, где я. Мне хочется, чтобы рядом была опора - женщина, надежная, как сама земля, источник, откуда я постоянно черпал бы силы. Однажды все это было, или почти что было. Я мог обрести это снова, обрести в своей земной оболочке. Только нужно собрать в кулак всю свою волю, чтобы опять стать самим собой.
Когда я шел по коридору, из-под двери нашей комнаты пробивался свет. Не успел я вставить ключ в замочную скважину, как дверь распахнулась. На пороге стоял Джованни. Волосы у него были взлохмачены. Он держал в руках стакан коньяка и смеялся. От неожиданности я вздрогнул: слишком весело было у него лицо. Но я почти сразу же понял: это не веселость, это отчаяние на грани
истерики. Не успел я спросить, почему он торчит дома, как Джованни втащил меня в комнату и свободной рукой крепко обнял за шею. Он весь дрожал.
- Где ты был?
Я смотрел на него, слегка освобождаясь из его объятия.
- Я искал тебя, с ног сбился.
- Почему ты не на работе? - спросил я.
- Да так! - сказал он.
- Выпей со мной. Вот купил бутылку коньяка, отпразднуем мое освобождение.
И он налил мне коньяк. Я точно прирос к полу. Он снова подошел ко мне и всучил стакан.
- Джованни! Что произошло?
Он не ответил, неожиданно сел на край кровати и как-то весь скрючился. Я понял, что от бешеной ярости он невменяем.
- Ils sont sale, les gens, tu sais? - он поднял на меня глаза, полные
слез.
- Грязные скоты, все до одного, низкие, продажные, грязные!
Он схватил меня за руку и усадил на пол рядом с собой.
- Tons, sauf top.
Он обхватил мое лицо руками, и это ласковое прикосновение не на шутку испугало меня - вряд ли чего-нибудь еще я боялся больше, чем его ласки.
- Ne me laisse pas tomber, je t'en prie! - сказал он и с какой-то странной порывистой нежностью крепко поцеловал меня в губы.
Раньше, стоило лишь ему дотронуться до меня, желание вспыхивало во мне. Но на этот раз от его горячего дыхания меня чуть не стошнило. Я осторожно отодвинулся в сторону и выпил свой коньяк.
- Джованни, прошу тебя, объясни, что произошло? Что с тобой стряслось?
- Он меня выкинул, - сказал он. - Гийом. Ilm'amis ala porte.
Он расхохотался, вскочил и принялся мерить шагами нашу комнатенку.
- Он велел мне больше не показываться в баре. Сказал, что я гангстер, вор и грязный оборванец, что я прилип к нему, - это я к нему! - потому что рассчитывал ограбить его ночью. Apres I' amour. Merde!
Джованни снова расхохотался. Я не мог произнести ни слова. Казалось, стены надвинулись и вот-вот раздавят меня. Он стоял ко мне спиной, глядя на окна, замазанные известкой.
- ...Это все он мне выдал при людях, прямо у стойки. Выждал, чтобы
свидетелей было побольше. Я чуть его не убил, я чуть их всех не убил.
Он прошел на середину комнаты, опять налил себе коньяк и выпил залпом, потом вдруг схватил стакан и со всей силой швырнул его об стену. Послышался звон разбитого стекла, осколки посыпались на пол и на нашу кровать. Я не мог броситься к нему сразу - ноги плохо слушались, но я быстро схватил его за плечи. Он заплакал, и я прижал его к себе.
Я чувствовал, как его горе передается мне, точно соленый пот Джованни просачивается в сердце, которое готово разорваться от боли, но в то же время я с неожиданным презрением думал о том, что прежде считал Джованни сильным человеком.
Он оторвался от меня и сел у ободранной стены. Я сел напротив.
- Я пришел, как всегда, вовремя, - начал он, - настроение было
чудесное. Его в баре не было, и я, как обычно, вымыл бар, немножко выпил и подзаправился. Потом он пришел, и я сразу же заметил, что он в таком настроении, когда хорошего не жди - наверное, какой-нибудь парень оставил его с носом. Странное дело, я всегда могу сказать, когда Гийом не в себе, потому что тогда у него неприступный вид. Если кто-то зло посмеется над ним и даст понять, хотя бы на минуту, какой он тошнотворный, старый и никому не
нужный, тогда он вспоминает, что принадлежит к одной из самых родовитых и старинных французских фамилий, тогда он, видно, вспоминает, что его имя умрет вместе с ним, и, чтобы избавиться от этих мыслей, ему надо скорее чем-нибудь занять себя: устроить скандал, переспать с каким-нибудь красавчиком, напиться, подраться или просто рассматривать свои мерзкие порнографические картинки.
Джованни замолчал, вскочил и снова заходил взад и вперед по комнате.
- Не знаю, кто ему сегодня так насолил, но когда он пришел, сразу же
напустил на себя деловой вид и все выискивал, к чему бы прицепиться. Но все было в ажуре, и он поднялся к себе. Потом через некоторое время вызвал меня.
Я терпеть не могу заходить к нему в pied-a-terre на втором этаже бара, потому что это всегда значило, что он хочет устроить мне сцену. Но пришлось пойти. Он расхаживал в халате, от него несло духами. Не знаю уж почему, но как увидел его в этом халате, сразу разозлился. Он посмотрел на меня, словно завзятая кокетка - урод несчастный, тошнотворный, и тело у него, как скисшее молоко. И вдруг спросил, как ты поживаешь. Я немного опешил - он раньше и не
заикался о тебе. Я сказал, что ты живешь отлично, тогда он спросил, вместе ли мы живем. Я сначала подумал, может, лучше соврать, а потом решил, да с какой стати я буду врать этому вонючему педриле, и сказал: "Bien sur", стараясь держать себя в руках. Тогда он стал задавать такие пакостные вопросы, что меня от его рожи и этих разговоров начало тошнить. Я сказал, что такие вопросы не задает даже врач или священник, что ему бы надо постыдиться такое говорить - я думал, что теперь уж он отвяжется. А он,
очевидно, ждал, что я ему все расскажу, потому что разошелся и стал выговаривать, что подобрал меня на улице, et il a fait ceci et il a fait cela - все для меня, parce - qu'il m'adorait, и то, и это припомнил и сказал, что я неблагодарный и бесстыжий тип. Наверное, я держался с ним глупо, ведь несколько месяцев назад я сумел бы его укротить -он бы у меня тогда повыл, он бы у меня валялся в ногах и целовал их, je te jure! Но мне не хотелось этого, не хотелось об него пачкаться. Я старался говорить спокойно и сказал, что никогда ему не врал, что я и раньше говорил, что не
хочу быть его любовником, и все-таки он взял меня на работу, а работал я много и на совесть, и что разве я виноват, если... если не питаю к нему тех чувств, которые он питает ко мне. Тогда он мне припомнил, что один раз такое было, и я ему не отказал, но я тогда буквально падал от голода, и меня чуть не вырвало от его поцелуев. Я старался не выходить из себя и урезонить его.
Потом я добавил: "Mais a ce moment lбje n'avais pas un copain. А теперь я уже не один, je suis avec un gars maintenant". Я надеялся, что он поймет, ведь он всегда восхищался длинными романами и превозносил до небес верность.
Но на сей раз ничего не вышло. Он расхохотался, опять стал говорить про тебя всякие гадости, что ты типичный американец, который приехал в Париж позабавиться, так как у тебя дома такие забавы не прошли бы даром, и что не сегодня - завтра ты меня бросишь. Тут у меня лопнуло терпение, и я сказал, что получаю деньги не за то, чтобы выслушивать всякий клеветнический вздор, что у меня полно дел в баре, повернулся и молча вышел.
Джованни остановился прямо передо мной.
- Можно мне еще коньяка? - с улыбкой спросил он. - Я больше не буду бить стаканы.
Я протянул ему свой стакан. Он осушил его и отдал мне. Я не сводил с него глаз.
- Ты не бойся, все у нас наладится. Я, например, не боюсь.
Но глаза у него были печальные, и он долго молчал, глядя в окно.
- Так вот, - продолжал он, - я надеялся, что наш разговор исчерпан.
Работал и старался не думать о Гийоме. Как раз подошло время аперитивов, сам понимаешь, я был занят по горло. И тут вдруг я услышал, как дверь наверху скрипнула, и в эту же минуту я понял, что случилось что-то ужасное и непоправимое. Гийом спустился в бар. Он был теперь тщательно одет, как и подобает французскому предпринимателю, и сразу направился ко мне. Войдя в бар, он ни с кем не поздоровался, лицо у него было белое и злое, и, конечно,
все обратили на это внимание и ждали, что будет дальше. Честно говоря, я подумал, что он меня ударит или даже застрелит, я решил, что он совсем свихнулся и спрятал в кармане револьвер. Наверняка лицо у меня было испуганное. Он встал за стойку и стал говорить, что я tapette, вор, и чтобы я немедленно убирался отсюда, не то он вызовет полицию и упечет меня за решетку. Я так оторопел, что не мог произнести ни слова, а он разорялся, люди слушали, и вдруг мне показалось, что я падаю, падаю с какой-то огромной
высоты. Поначалу я даже не разозлился, я только чувствовал, что вот-вот заплачу. Дыхание перехватило, с трудом верилось, что все это он говорил мне. Я все время повторял: "Что же я сделал, что?", - но он мне ничего не ответил, а громко закричал: "Mais tu ie sais, salop! Ты отлично все знаешь!" - и мне показалось, что разорвалась бомба. И хотя никто не понимал, куда он клонит, мы с ним точно опять очутились в фойе кинотеатра, где встретились впервые, помнишь? И все знали, что Гийом прав, а я - нет и натворил бог знает что. Он бросился к кассе и выгреб деньги, он прекрасно знал, что в это
время их еще немного, он швырнул их мне с воплем: "На, бери! Лучше отдать их так, чем ждать, когда ты меня обворуешь. Мы квиты, убирайся!" Ой, а эти рожи в баре! Если б ты их видел! На них прямо было написано, что теперь-то они знают все, что они всегда об этом догадывались и просто счастливы, что никогда не имели со мной дела. "A, les encules! Поганые сукины дети! Les gonzesses!" - орал он.
Джованни опять заплакал, на сей раз от ярости.
- И тут я его ударил, но чьи-то руки схватили меня, дальше уж не помню, как получилось, только меня вытолкнули на улицу - я стоял со скомканными франками в руке, и все на меня глазели. Я не знал, что делать - убегать было противно, но ведь если бы еще что-нибудь случилось, явилась бы полиция, Гийом наверняка засадил бы меня в тюрьму. Но не сойти мне с этого места, мы еще с ним встретимся и тогда...
Он запнулся, сел и уставился в стену. Потом повернулся и долго молча смотрел на меня. Через некоторое время он медленно проговорил:
- Если бы тебя здесь не было, мне пришел бы конец.
Я встал.
- Брось говорить глупости, - сказал я, - все не так трагично, - потом,
помолчав, добавил:
- Какая сволочь этот Гийом! Да все они такие. Но ничего
непоправимого с тобой же не стряслось, правда, нет?
- Наверное, от таких несчастий и сдаешь, - сказал Джованни, точно не слышал меня, - остается все меньше сил, чтобы такое выдерживать. Нет, - сказал он, взглянув на меня, - непоправимое случилось со мной много лет назад, и с тех пор жизнь моя была страшной. Но ты ведь не оставишь меня одного, а?
- Конечно, нет, - рассмеялся я и принялся смахивать с одеяла битое
стекло.
- Не знаю, что я с собой сделаю, если ты от меня уйдешь.
И тут впервые я почувствовал в его голосе угрозу или, может, мне это почудилось.
- Я так долго жил совсем один, не думаю, что я снова смогу выдержать одиночество.
- Но сейчас-то ты не один, - сказал я.
Его объятий я не смог бы вынести и поэтому поспешно предложил:
- Может, пойдем проветримся? Вырвемся из этой комнаты хоть на минуту!
Я ухмыльнулся и грубовато потрепал его по плечу. Потом мы крепко обнялись, но я сразу же вырвался.
- Я тебе куплю выпить, - сказал я.
- А домой меня приведешь?
- Приведу обязательно.
- Je t 'aime, tu sais?
- Je ie sais, mon vieux.
Он подошел к раковине, умылся, причесался. Я следил за каждым его движением. Я увидел в зеркале его прекрасное счастливое улыбающееся лицо. И молодое. Я же никогда в жизни не чувствовал себя таким беспомощным и старым, как в эту минуту.
- Ничего, все у нас образуется, - воскликнул он, - N' est-ce pas?
- Конечно, - ответил я.
Он отошел от зеркала, лицо его посерьезнело.
- А знаешь, ведь я понятия не имею, сколько буду искать новую работу. А мы почти без денег. У тебя есть что-нибудь? Сегодня из Нью-Йорка ничего не пришло?
- Ничего не пришло, - спокойно сказал я, - но у меня в кармане есть
немного деньжат,- я вывернул карман и положил деньги на стол, - вот около четырех тысяч франков.
- А у меня... - он порылся в карманах и вытряхнул несколько помятых бумажек с мелочью.
Потом пожал плечами и улыбнулся мне - улыбка была на редкость подкупающей, беспомощной и вызывающей ответную улыбку.
- Je m'excuse. Я малость спятил.
Он как-то обмяк, собрал деньги в кучу и положил на стол рядом с моими деньгами. Набралось около девяти тысяч франков, три из них мы отложили на потом.
- Да, не густо, - мрачно заметил он, - но завтра нам будет на что
поесть.
Мне все-таки не хотелось видеть его озабоченным, это было невыносимо.
- Завтра опять напишу отцу, - сказал я, - навру ему с три короба
такого, чтобы поверил, и выжму из него денег.
Я подошел к Джованни, точно меня кто-то подталкивал к нему, положил руки ему на плечи и, заставив себя заглянуть ему в глаза, улыбнулся и в ту же секунду почувствовал, что Иуда и Спаситель нерасторжимо соединились во мне.
- Не бойся, не надо волноваться.
И, стоя рядом с ним, я чувствовал неистребимое желание оградить его от надвигающегося ужаса, и мое уже принятое решение снова выскользнуло из рук. Ни отец, ни Хелла в этот момент не существовали для меня. Единственной реальностью было мое мучительное отчаяние от сознания того, что нет и не будет для меня большей реальности, чем ощущение того, что вся моя жизнь
неотвратимо катится под откос.
Ночь была на исходе, и теперь с каждой убегающей секундой сердце все сильнее обливается кровью и щемит, и я понимаю, что чем бы себя ни занял в этом доме, мне не избавиться от боли, такой же неумолимой и острой, как огромный нож, с которым Джованни встретится на рассвете. Мои палачи рядом со мной - вместе со мной слоняются по комнатам, стирают, упаковывают чемоданы, прихлебывают виски из бутылки. Они везде, куда ни глянь. Стены, окна, зеркала, вода, ночная темень - они во всем. Я могу кричать, звать на помощь.
Джованни, лежа на тюремном полу, тоже может кричать, но никто ни его, ни меня не услышит. Я могу оправдаться. Джованни тоже пытался оправдаться. Я могу просить о прощении, если бы только точно определить, в чем мое преступление, если бы на свете был кто-нибудь или что-нибудь, кому дано право прощать.
Нет. Если бы я вправду чувствовал себя виноватым, это помогло бы. Но ощущение полной непричастности, в сущности, и означает полную невиновность.
Неважно, как это прозвучит, но мне нужно чистосердечно признаться я любил Джованни и не думаю, что сумею еще кого-нибудь так полюбить. И эта мысль послужила бы мне великим утешением, если бы я также не знал и того, что как только упадет нож гильотины, никаких утешений Джованни уже не понадобится.
Я хожу из угла в угол по комнатам и думаю о тюрьме. Помню давно, еще до встречи с Джованни, на вечеринке у Жака я встретился с человеком, который половину своей жизни просидел в тюрьме и теперь праздновал свое освобождение. Потом он написал об этом книгу, которая сильно не понравилась тюремному начальству, но получила литературную премию. Жизнь этого человека была кончена. Он взахлеб рассказывал о том, что стоит тебе попасть в тюрьму,
как ты практически уже мертв, и смертный приговор - это единственный акт милосердия, который суд может совершить. Помнится, тогда я думал, что, в сущности, он только и делал, что кочевал по тюрьмам, и они заменили ему реальный мир - больше ни о чем он не мог говорить. Все его движения, даже когда прикуривал, были вороваты, и если он пристально на тебя смотрел, чувствовалось, что перед его глазами вырастает тюремная стена. Казалось, если его разрезать, окажется, что внутри он весь пористый, как гриб.
Он нам подробно, с запалом и даже с ностальгией описывал эти окна в решетках, двери в решетках, а в них - глазки для подсматривания, конвоиров, под лампочками в конце длинных коридоров. В тюрьме три этажа. Все здесь темное и холодное, лишь узкие полоски света, там где стоят конвоиры, прорезают темноту. Здесь даже стены помнят о том, как кулаки заключенных
барабанят по металлической обшивке, и этот глухой грохот может возникнуть с минуты на минуту, и каждую минуту здесь можно сойти с ума. Конвоиры ходят, ругаясь себе под нос, меряют шагами коридоры, топают по лестницам вверх и вниз. Они все в черном, с винтовками, вечно всего боятся и вряд ли способны проявить доброту. А на первом этаже, в самом оживленном месте тюрьмы,
огромном и холодном, ни днем, ни ночью не прекращается возня: снуют заключенные "на хорошем счету", катят огромные бочки, улещивают конвоиров, чтобы те смотрели сквозь пальцы, как они обмениваются сигаретами, спиртным и спят друг с другом.
Ночная темнота окутывает тюрьму, отовсюду ползут шепотки, и каждый, непонятно откуда, знает, что ранним утром смерть войдет на тюремный двор.
Рано-рано утром, еще заключенные "на хорошем счету" не успеют прокатить по коридорам громадные бочки баланды, как трое в черном бесшумно пройдут по коридору, и один из них повернет ключ в дверях камеры. Они кого-то схватят, выволокут в коридор, сначала потащат к священнику, а потом к двери, которая откроется только перед этим несчастным, и он, наверное, еще сможет бросить
взгляд на утреннее небо, пока его не швырнут ничком на дощатый настил и нож не упадет ему на шею.
Интересно, какая у Джованни камера, больше нашей комнатенки или меньше?
Там, конечно, холоднее. Интересно, один он или с ним еще кто-то, может быть, двое или трое. Может, он играет в карты, курит, разговаривает или пишет письмо - только кому же писать? - или просто слоняется из угла в угол.
Интересно, знает ли он, что это утро будет последним в его жизни? (Он же заключенный, ясно, не знает, знает один адвокат, а он сообщает об этом родственникам или друзьям, а заключенному не говорят ничего). А вдруг ему все безразлично? Но знает он или нет, волнуется или ему наплевать, он, конечно, боится. Есть с ним кто-нибудь или нет, он, конечно, чувствует себя одиноко. Я пытаюсь представить себе, как он стоит спиной ко мне у окошка камеры. Оттуда он, наверное, видит противоположное крыло тюрьмы, и, может,
если немного приподнимется, сможет заглянуть за высокую стену, а там - клочок темной улицы. Очевидно, его обстригли, а может, нет - лучше бы обстригли. А вдруг обрили наголо? И тысячи мельчайших деталей, интимных и известных мне одному, теснятся в моем мозгу. А что, если ему вдруг приспичит в уборную, смог ли он сегодня поесть, вспотел он или нет? А, может, в тюрьме с ним кто-нибудь переспал. При одной только мысли об этом меня бросает то в жар, то в холод, как умирающего в пустыне, и все же хочется верить, что нынешней ночью Джованни заснул в чьих-то объятьях. Мне хотелось бы, чтобы
кто-нибудь был сейчас и рядом со мной. Кем бы он ни был, я готов любить его всю ночь, так же как я любил Джованни.
Когда он потерял работу, мы все время были в подвешенном состоянии, как альпинисты, обреченные висеть на веревке над пропастью, которая уже угрожающе трещит. Отцу я не написал - тянул день за днем. Не хватало решимости. Теперь я почти был готов соврать, я знал, что эта ложь сработает, только не был уверен, что это на самом деле будет ложь. Целыми днями мы торчали с ним в этой комнате, и Джованни принялся что-то мастерить. У него
появилась бредовая идея, он решил, что неплохо бы соорудить в стене книжный шкаф, а для этого стал долбить стену, добрался до кирпичей и принялся их выколупывать. Это была тяжелая работа, а вдобавок бессмысленная, но у меня не хватало сил и смелости помешать ему. Ведь он делал это для меня, чтобы еще раз доказать, как он меня любит. Он хотел, чтобы я навсегда остался в этой комнате. А, может быть, Джованни изо всех сил пытался раздвинуть эти давящие на нас со всех сторон стены, хотя разрушить их ему все равно бы не удалось.
Сейчас, конечно, те дни кажутся мне прекрасными, хотя на самом деле они были пыткой для нас обоих. Я понимал, что Джованни увлекает меня за собой в бездну. Работы он найти не мог, да и, по правде сказать, не искал - не хватало душевных сил. Он был совершенно разбит, выпотрошен, он избегал чужих взглядов, они разъедали душу, как соль открытую рану. Он не мог и часа
пробыть один без меня. На этой зеленой, холодной, забытой Богом земле я был единственным человеком, который заботился о нем, понимал его язык и его молчание, знал его руки и не прятал за пазухой нож.
Бремя его спасения было возложено на мои плечи, и я изнемогал под этой тяжестью.
А деньги, меж тем, таяли, хотя вроде бы мы и тратили немного. Каждый раз утром Джованни спрашивал меня, стараясь подавить сильную озабоченность в голосе:
- Ты зайдешь сегодня в американское агентство?
- Конечно, зайду, - отвечал я.
- Думаешь, сегодня придут деньги?
- Кто его знает.
- И что только они делают с твоими деньгами в Нью-Йорке?
В агентство я не пошел, а отправился к Жаку и занял у него еще десять тысяч франков. Я сказал ему, что мы с Джованни испытываем материальные затруднения, но скоро из них выкарабкаемся.
- Очень мило с его стороны, - сказал Джованни. - Иногда он бывает милым и добрым.
Мы сидели в открытом кафе неподалеку от Одеона. Я смотрел на Джованни и думал, что было бы хорошо, если бы я мог сбыть Джованни Жаку.
- Ты о чем думаешь? - спросил он.
На секунду мне стало страшно, а потом стыдно.
- Думаю, хорошо бы смотаться из Парижа.
- И куда бы ты хотел податься?
- Сам не знаю. Куда-нибудь. Тошнит от этого города, - сказал я вдруг с такой злобой, что мы оба удивились, - я устал от этой свалки старых камней, устал от чертовых самодовольных французов. Все, к чему ты здесь прикасаешься, разваливается у тебя в руках, превращаясь в пыль.
- Да, - серьезно сказал Джованни, - это точно.
Он пристально наблюдал за мной. Я силился смотреть ему в глаза и улыбался.
- А тебе хотелось бы смотаться отсюда, хоть ненадолго? - спросил я.
- Ай, - воскликнул он, подняв руки с покорным и насмешливым видом, словно защищался от моих слов ладонями.
- Я хочу туда, куда ты. А к Парижу я не очень привязан, не в пример тебе. Он мне никогда особенно не нравился.
- Может, - начал я, сам еще не зная, что предложить, - нам поехать в деревню или в Испанию?
- Ага, - укоризненно протянул он, - соскучился по своей возлюбленной?
Я почувствовал себя виноватым, разозлился, раздираемый любовью к нему и угрызениями совести. Хотелось дать ему в зубы и в то же время обнять его и утешить.
- Особого смысла ехать в Испанию нет, - вяло отозвался я, - разве что
посмотреть на нее, вот и все. А жизнь в Париже нам не по карману.
- Ладно, - добродушно сказал он, - поедем в Испанию. Может, она
напомнит мне мою Италию.
- А почему бы нам не отправиться в Италию, а тебе не заглянуть домой?
- Не думаю, что у меня есть там дом, - улыбнулся Джованни, - нет, в
Италию меня не тянет. Тебе же не хочется в Штаты?
- Нет, я поеду в Штаты, - скороговоркой выпалил я, и Джованни строго посмотрел на меня, - даже думаю обязательно поехать туда в самое ближайшее время.
- В самое ближайшее время, - повторил он, - беда тоже придет в самое ближайшее время.
- Почему беда?
Он улыбнулся.
- Почему? Вот приедешь домой и увидишь, что прежнего дома нет и в помине. Тогда твоей тоске не будет конца. А пока ты в Париже, ты можешь все время думать: "Когда-нибудь я вернусь домой".
Он поиграл моим большим пальцем и усмехнулся: "N'est-cepas?"
- Потрясающая логика! - сказал я, - выходит, по-твоему, меня тянет
домой, только пока я отсиживаюсь тут?
- Конечно, разве нет? - засмеялся он, - человек не дорожит своим домом, пока живет в нем, а когда уезжает, его все время тянет туда, но пути назад нет.
- По-моему, - сказал я, - эту старую песню мы уже слыхали.
- Что поделаешь!- сказал Джованни, -ты наверняка еще не раз ее
услышишь. Знаешь, она из тех песен, которую тебе обязательно когда-нибудь споют.
Мы поднялись и направились к выходу.
- А что, если я заткну уши? -спросил я. Он промолчал.
- Ты мне напоминаешь чудака, который предпочел сесть в тюрьму, потому что боялся угодить под колеса автомобиля.
- Да? - резко спросил я, - по-моему, этот чудак больше смахивает на тебя.
- Что ты Имеешь в виду?
- Твою комнату, твою омерзительную комнату, в которой ты заживо себя замуровал.
- Замуровал? Прости меня, но Париж - не Нью-Йорк и дворцов для таких, как я, тут нет. Или ты полагаешь, что мне нужно жить в Версале?
- Но есть же... есть же на свете другие комнаты? - сказал я.
- Ca ne manque pas, les chambres. Комнат всюду хватает: больших и маленьких, круглых и квадратных, мансард и в бельэтаже - любые, на выбор. В какой же комнате, по-твоему, должен жить Джованни? А знаешь ты, сколько я намучился, прежде чем нашел эту комнату? И потом, с каких это пор ты, - он остановился и ткнул меня пальцем в грудь, - терпеть не можешь эту комнату?
Со вчерашнего дня, или она тебе всегда была противна? Dis-moi.
- Не то, что я ее терпеть не могу, - пробормотал я, глядя ему в глаза, - и вообще я не хотел оскорбить тебя в твоих лучших чувствах.
Его руки безжизненно повисли. Глаза расширились, и он захохотал.
- Оскорбить меня в лучших чувствах! Ты уже говоришь со мной, как с чужим, с истинно американской учтивостью.
- Я просто хотел сказать, дружочек, что нам пора переехать.
- Пожалуйста, хоть завтра. Переберемся в гостиницу. Куда угодно. Le Crillon peut-etre?
Я молча вздохнул, и мы пошли дальше.
- Я знаю, - взорвался он, - знаю, к чему ты клонишь. Хочешь уехать из Парижа, уехать из этой комнаты. Ах, какой ты недобрый человек! Comme tu es mйchant!
- Ты меня не так понял, - сказал я, - совсем не так!
- J'espere bien, - мрачно ухмыльнулся он.
Потом, когда мы пришли домой и принялись укладывать в мешок вынутые из стены кирпичи, Джованни спросил меня:
- А от этой своей Хеллы ты давно ничего не получал?
- Почему давно? - сказал я, не смея поднять на него глаза, - думаю, не
сегодня - завтра она вернется в Париж.
Джованни поднялся с пола - он стоял посреди комнаты, прямо под лампочкой, и смотрел на меня. Я тоже встал и усмехнулся, хотя вдруг почувствовал необъяснимый испуг.
- Viens m'embrasser - сказал Джованни.
Я заметил, что у него в руке кирпич, и у меня тоже. На миг мне
показалось вполне вероятным, что, если я сейчас же не подойду к нему, мы забьем друг друга до смерти этими кирпичами. Но я не мог сдвинуться с места. Мы не сводили друг с друга глаз, нас разделяло узкое пространство, которое было как заминированное поле, и взрыв мог произойти в любую минуту.
- Подойди же, - сказал Джованни.
Я бросил кирпич и подошел к нему. В ту же секунду я услышал, как у него из рук выпал кирпич.
В такие минуты я остро чувствовал, что мы последовательно и медленно, но верно убиваем друг друга.
Глава IV
Наконец пришла долгожданная весточка от Хеллы, где она сообщала, когда и в котором часу приедет в Париж. Джованни я ничего не сказал, просто ушел один из дома и отправился на вокзал встречать невесту.
Я надеялся, что, когда увижу Хеллу, во мне произойдет что-нибудь неожиданное и знаменательное, что-нибудь такое, что поможет понять, на каком я свете и что теперь со мной будет. Но ничего сверхъестественного не произошло. Я первый заметил Хеллу и залюбовался ею - вся в зеленом, с чуть подстриженными волосами, загорелая, с еще более ослепительной, чем прежде, улыбкой. В эту минуту я любил ее, как никогда.
Увидев меня, она замерла как вкопанная, по-мальчишески широко расставив ноги и скрестив руки на животе. Она вся сияла. Секунду мы просто смотрели друг на друга.
- Eh bien, t'embrasse pas ta femme? - сказала она.
Тут я заключил ее в объятья, и что-то во мне оборвалось. Я был страшно рад ее видеть. Наконец-то мои руки крепко обнимали Хеллу и приветствовали ее возвращение в Париж. Она с прежней ловкостью устроилась в них, и почувствовав, что Хелла совсем рядом, я понял, что без нее мои руки все это время были пусты. Я прижимал ее к себе под высоким мрачным навесом, а вокруг
суетилась беспорядочная людская масса, фыркал и отдувался паровоз. Хелла пахла морем, ветром, и я чувствовал, что ее на зависть полное жизни тело поможет мне раз и навсегда покончить с прошлым.
Она вырвалась из моих рук. Глаза ее увлажнились.
- Дай хоть на тебя взглянуть, - сказала она и, немного отступив, придирчиво осмотрела меня, - да ты дивно выглядишь! Господи, как я счастлива тебя снова видеть.
Я легонько поцеловал ее в нос, понимая, что предварительный осмотр прошел благополучно. Схватил ее чемодан и мы двинулись к выходу.
-Хорошо путешествовалось? Как Севилья? Коррида понравилась? А с тореро ты познакомилась? Все сейчас расскажешь.
- Все? - засмеялась она, - больно многого захотел, мой повелитель.
Путешествовала я ужасно, ненавижу поезда. Понимаешь, хотела лететь, но, что такое испанский самолет, я уже раз попробовала, с тех пор зареклась. Ты не можешь представить себе, милый, он тарахтел и еле полз по воздуху, как колымага-форд первого выпуска - очевидно, он был им на самом деле, а я сидела, пила бренди и молилась, чтобы скорей эта пытка кончилась. Прямо не верилось, что мы когда-нибудь приземлимся.
Мы прошли за барьер и очутились на улице. Хелла восхищенно смотрела по сторонам - на кафе, на хмурую парижскую толпу, на несущиеся мимо машины, на полицейских в голубых фуражках с белыми блестящими дубинками в руках.
- Как прекрасно снова вернуться в Париж, - помолчав, сказала она, - и тебе уже все равно, откуда ты приехал.
Мы сели в такси, и наш водитель, описав широкую залихватскую дугу, нырнул в несущуюся лавину автомобилей.
- Я даже думаю, что когда возвращаешься сюда в страшном горе, то Париж быстро утешает тебя.
- Будем надеяться, - сказал я, - что нам никогда не придется подвергать Париж такому испытанию. Она грустно улыбнулась.
- Будем надеяться.
Потом вдруг обхватила мое лицо руками и поцеловала меня. Глаза ее смотрели вопросительно и строго, и я знал, что Хелле не терпится сразу же получить ответ на вопрос, который ее мучил. Но я ничего не сказал, крепко прижался к ней и закрыл глаза. Все вроде бы было по-старому, и в то же время все было иначе, чем прежде.
Я запретил себе думать о Джованни, беспокоиться о нем, потому что хотя бы этот вечер должен был провести с Хеллой, и ничто не могло нас разлучить. Но я отлично понимал, что, как ни старался я не думать о Джованни, который сидит один в комнате и гадает, куда я запропастился, он уже стоял между нами.
Потом мы сидели вместе с Хеллой в ее номере на rue de Tournon и потягивали "Фундадор".
- Чересчур сладко, - сказал я, - неужели в Испании все его пьют?
- Никогда не видела, чтобы испанцы пили "Фундадор", - сказала она и рассмеялась.
- Они пили вино, я джин с водой - там мне казалось, что он
полезен для здоровья.
И она снова рассмеялась.
Я целовал ее, прижимался к ней, стараясь подобрать ключик к самому главному в ней, точно Хелла была знакомой темной комнатой, в которой я нащупываю выключатель, чтобы зажечь свет. Но этими поцелуями я оттягивал тот решительный момент, который должен был или спасти меня, или опозорить перед ней. Она, казалось, чувствовала эту недоговоренность и натянутость между нами и, принимая это на свой счет, обвиняла во всем саму себя. Она
вспомнила, что в последнее время я писал ей все реже и реже. В Испании, перед самым отъездом, это, вероятно, не очень заботило ее, а потом, когда она приняла решение вернуться ко мне, она начала опасаться, как бы я не задумал что-нибудь прямо противоположное: ведь она слишком долго продержала меня в неопределенности.
Хелла отличалась прирожденной прямотой и нетерпеливостью и страдала от любой неясности в отношениях. Однако, сдерживая себя, она ждала, что я скажу ей то сокровенное слово, которого она ждала.
Мне же не хотелось ни о чем говорить, я вынужден был молчать, как рыба, до тех пор, пока снова ею не овладею. Я надеялся, что ее тело выжжет вошедшего в мою плоть Джованни, выжжет прикосновение его рук - словом, я рассчитывал выбить клин клином.
Однако от этого всего мое двоедушие только усиливалось. Наконец она с улыбкой спросила меня:
- Меня слишком долго не было, да?
- Да, - ответил я, - тебя не было довольно долго.
- Мне было там очень одиноко, - неожиданно сказала она, легонько отвернулась и, устроившись на боку, уставилась в окно.
- Я казалась себе такой неприкаянной, точно теннисный мячик, все
прыгаю, прыгаю, и я стала раздумывать, где бы остановиться... Потом мне стало казаться, что я упустила что-то важное в жизни. Важное - ты понимаешь, о чем я? - И она посмотрела на меня.
- У нас в Миннеаполисе про неудачников фильмы снимают. Когда ты упускаешь что-то впервые, ну, упустила, так черт с ним, а когда упускаешь свой последний шанс, это уже трагедия.
Я не отрывал глаз от ее лица. Таким спокойным я его не знал.
- Тебе, значит, не понравилось в Испании? - раздраженно спросил я.
Она нервно пригладила волосы рукой.
- С чего ты взял? Конечно, понравилось. Там такая красота. Только я не знала, куда себя девать. И мне скоро наскучило шататься по городам без дела.
Я закурил и улыбнулся.
- Но ты же уехала в Испанию от меня, помнишь?
- А что, я поступила нехорошо по отношению к тебе, да? - Она улыбнулась и погладила меня по щеке.
- Ты поступила очень честно. - Я встал и отошел в сторону, - и ты пришла к какому-то решению?
- Я же тебе обо всем написала в письме. Забыл?
В номере установилась полнейшая тишина. Даже негромкие уличные шумы - и те смолкли. Я стоял к ней спиной, но чувствовал, как она в упор смотрит на меня. Я чувствовал, что она ждет ответа.
- Я не очень хорошо помню письма.
"Может, мне как-нибудь удастся выкрутиться, не рассказав ей ничего о Джованни", - мелькнуло в голове.
- Ты всегда поступала неожиданно, и я никогда не понимал, рада ты или жалеешь, что связалась со мной.
- Но у нас с тобой все происходило неожиданно, вдруг, - сказала она, - только так и могло быть. Я боялась за твою свободу. Неужели ты этого не понял?
Меня так и подмывало сказать, что она отдалась мне от отчаяния, а вовсе не потому, что хотела меня, просто я в тот момент подвернулся ей под руку. Но я промолчал. Я понимал, что, хоть это и было правдой, она никогда не признается в этом даже самой себе.
- Но, может быть, - робко начала она, - теперь ты ко всему относишься
иначе. Так ты, пожалуйста, скажи прямо.
Она подождала ответа, а потом добавила:
- Знаешь, не такая уж я современная девица, какой кажусь на первый взгляд. Мне тоже хочется, чтобы был муж, который приходит домой и каждую ночь спит со мной. Я хочу спокойно спать с ним и не бояться, что влипну и забеременею. Черт возьми, да, я хочу вляпаться, хочу нарожать кучу детей. На что же еще я гожусь?
Она замолчала. Я тоже молчал.
- А ты хочешь детей?
- Да, - ответил я, - всегда очень хотел.
Я повернулся к ней чересчур быстро, точно чьи-то сильные руки взяли меня за плечи и резко повернули к Хелле. В комнате стало темнее. Хелла лежала на кровати, чуть приоткрыв рот, смотрела на меня, и глаза у нее сияли, как звезды. Я вдруг почувствовал, что меня тянет к ее голому телу. Я склонился над ней и положил голову ей на грудь. Мне хотелось быть с ней, как в тихом надежном убежище. И тут я почувствовал, как ее тело затрепетало, приникло ко мне, и словно раскрылись тяжелые врата укрепленного града, чтобы
король во славе своей вошел в его стены.
"Дорогой папуля, - писал я, - играть в прятки я с тобой больше на намерен. Я встретился с девушкой и хочу на ней жениться. Я бы и раньше не играл с тобой в прятки, да не знал, согласится ли она стать моей женой. Но она, легкомысленное создание, решила, наконец, рискнуть. Пока что собираемся соорудить свой утлый очаг здесь, в Париже, а потом, не торопясь, двинемся домой. Она не француженка, огорчаться тебе не придется (я знаю, что ты терпеть не можешь француженок, так как сомневаешься, что они обладают нашими
достоинствами - спешу добавить, что у них их вообще нет). Как бы то ни было, Хелла, ее полное имя Хелла Линкольн, родом из Миннеаполиса, родители ее живы, отец - юрист при фирме, мать - домашняя хозяйка. Хелла хочет провести наш медовый месяц здесь, а я, само собой разумеется, хочу то, чего хочет она. Так-то. Пожалуйста, пошли любящему сыну немного денег, им самим
заработанных. Как можно скорее. Хелла на этой карточке намного хуже, чем в жизни. Она приехала в Париж несколько лет назад заниматься живописью, потом обнаружила, что художница из нее не выйдет, хотела было броситься в Сену, но тут мы встретились, а остальное, как говорят, целый роман. Я уверен, папочка, что ты ее полюбишь, а она полюбит тебя. Что касается меня, то я с ней очень счастлив".
Хелла и Джованни встретились случайно. Хелла была в Париже уже три дня, за это время я с Джованни не виделся и даже не упоминал его имени.
Целый день мы шатались по городу, и целый день она рассуждала о женщинах, раньше эта тема не очень волновала ее. Она вдруг провозгласила, что быть женщиной очень трудно.
- Не вижу особых трудностей. В конце концов, находят себе мужа и точка, - возразил я насмешливо.
- Правильно, - сказала она, - а тебе не приходило в голову, что женщины вынуждены искать мужа и что это унизительно.
- О, ради Бога! - взмолился я. - Что-то не замечал, чтобы замужество
унизило кого-нибудь из моих знакомых женщин.
- Будет тебе, - сказала она. - Убеждена, что ни об одной из них ты
по-настоящему не думал. Поэтому и говоришь так.
- Конечно, нет. Надеюсь, они тоже. А тебя-то какая муха укусила? Ты чего плачешься?
- Вовсе я не плачусь, - сказала она. - Мне плакаться не от чего. Просто
мне кажется непереносимым все время зависеть от какого-то малознакомого небритого мужчины. Пока, наконец, не станешь самой собой.
- Что-то не нахожу большого сходства между этим небритым незнакомцем и мной, - сказал я. - Права ты только в одном: мне действительно надо побриться, но кто виноват, что я не могу отлипнуть от твоей юбки?!
И я поцеловал ее.
- Нет, сегодня ты мне не чужой, - сказала она, - но был чужим и убеждена, что когда-нибудь снова будешь.
- Если уж до этого дойдет, - возразил я, - то ты тоже станешь мне чужой.
Она посмотрела на меня, нервно улыбаясь.
- Я? Вот об этом я тебе и толкую. Мы сейчас поженимся и проживем вместе лет пятьдесят. И, скажем, все это время я буду тебе чужой, так ведь ты этого и не заметишь!
- А если я таким буду, ты заметишь наверняка?
- Для женщины, думаю, - сказала она, - мужчина всегда чужой, и есть что-то ужасное в постоянной зависимости от чужого человека.
- Но ведь мужчины тоже зависят от женщин. Над этим ты никогда не задумывалась?
- А! - отмахнулась она. - Мужчины зависят от женщин! Мужчинам просто нравится так думать. Это каким-то образом оправдывает их женоненавистничество. Но если какой-то мужчина действительно зависит от какой-то женщины, то, считай, он уже не мужчина. А женщина, наоборот, попадает в ловушку.
- Выходит, по-твоему, я не могу от тебя зависеть? А ты непременно будешь зависеть от меня? - Я расхохотался. - Хотел бы я посмотреть, как это у тебя получится, Хелла!
- Смейся, смейся, - насмешливо протянула она, - но то, что я говорю, не так уж глупо. Я эту премудрость постигла в Испании и поняла, что должна поступиться свободой, что не могу быть свободной, если привязалась, вернее, доверилась кому-нибудь.
- Кому-нибудь? А, может, чему-нибудь?
Она промолчала.
- Не знаю, - заговорила она, - но я начинаю думать, что женщины к
чему-нибудь привязываются от сознания собственного ничтожества. Они всем жертвуют ради мужчины, если могут. Конечно, до конца с этим могут смириться не все, и большинство женщин страдают от невостребованности их души. Это-то, по-моему, их морально и убивает, думаю даже, - добавила она, замявшись, - что, возможно, это убьет и меня.
- Хелла, чего ты хочешь? Почему ты вдруг решила возвести между нами эту стену?
Она рассмеялась.
- Ничего я не хочу и ничего не решила. Просто ты подчинил меня себе, и теперь я твоя послушная и горячо любящая тебя раба.
Меня прямо мороз продрал по коже. От растерянности я насмешливо замотал головой.
- Никак не пойму, о чем ты говоришь.
- Как о чем? - сказала она. - Я говорю о своей жизни. Теперь у меня
есть ты. Я буду тебя холить, кормить, мучить, обводить вокруг пальца. И любить. У меня есть ты, и я могу примириться со своим положением. Отныне у меня, как у любой женщины, есть масса причин посетовать на свою женскую участь. Но зато мне не будет страшно, ведь теперь я не одна.
Она заглянула мне в глаза и рассмеялась.
- О, сколько у меня занятий! - воскликнула она. - Я не перестану
развивать свой интеллект. Буду читать, спорить, размышлять, убеждена, буду из кожи лезть, только не думать так, как ты, и после многочисленных раздражающих тебя дискуссий ты уверуешь в то, что у меня заурядный женский ум и ничего больше. И, ведь Господь справедлив, ты станешь любить меня все больше и больше, и мы заживем счастливо.
Она снова рассмеялась.
- А ты, мой ангел, не ломай голову над этими проблемами. Предоставь их мне.
Ее веселость оказалась заразительной, и я опять замотал головой, смеясь вместе с ней.
- Ты просто прелесть, - сказал я, - только я тебя совсем не понимаю.
- Вот и чудно, - снова рассмеялась она, - будем к этому относиться, как к кофе после завтрака.
Мы проходили мимо книжной лавки, и Хелла остановилась.
- Давай заглянем на минутку, - предложила она. - Мне хочется купить одну книжку.
Я с радостным любопытством следил, как она беседовала с продавщицей. Потом стал лениво разглядывать книги на последней полке, устроившись рядом с мужчиной, который стоял ко мне спиной и листал журнал. Как только я очутился подле него, он закрыл журнал, положил его на место и повернулся ко мне. Мы
сразу же узнали друг друга. Это был Жак.
- Дэвид! - воскликнул он. - Кого я вижу! А мы уже решили, что ты уехал в Америку.
- В Америку? - рассмеялся я. - Нет, пока торчу в Париже. Просто был
занят.
И потом, терзаясь страшными подозрениями, спросил:
- А кто это "мы"?
- Кто? - сказал Жак с нагловатой улыбкой. - Я и твой малыш. Ты вроде бы бросил его одного в этой комнате без хлеба, без денег, даже сигарет не оставил. Ему, наконец, удалось уломать консьержку, чтобы та позволила ему в долг позвонить по телефону, и он разыскал меня. Бедняга так вопил, будто засунул голову в горящую газовую печь.
И Жак расхохотался.
Мы смотрели друг на друга. Он нарочно молчал. Я не знал, что и сказать.
- Я забросил кое-какую жратву в машину, - продолжал Жак, - и помчался к нему. Он уже собрался осушать Сену, чтобы найти тебя. Но я был уверен, что знаю американцев получше и что ты и не думал топиться, а просто исчез, чтобы собраться с мыслями. Видишь, как я был прав. Ты у нас известный мыслитель, и теперь тебе самое время понять то, что другие придумали до тебя. Я думаю, ты можешь пренебречь лишь одной книгой - маркизом де Садом.
- А где Джованни? - спросил я.
- Мне удалось, наконец, вспомнить отель Хеллы, - сказал Жак. - Джованни говорил, что вы ждали ее приезда со дня на день, и я подкинул ему блестящую идейку позвонить тебе в номер, он и отлучился для этого. Появится с минуты на минуту.
К нам подошла Хелла с книгой в руках.
- Вы, кажется, знакомы? - смущенно пробормотал я. - Хелла, ты не забыла Жака?
Она его не забыла, как не забыла и то, что Жак ей резко не понравился. Она вежливо улыбнулась и протянула ему руку.
- Как поживаете?
- Jesuis ravi, mademoisselle, - ответил Жак.
Он знал, что Хелла его не переваривала, и это его забавляло. Чтобы укрепить ее неприязнь, а заодно и показать, как в эту минуту он ненавидит меня, Жак почтительно поцеловал ей руку, и в его склоненной фигуре проступило что-то явно женоподобное, неприличное до омерзения. Я смотрел на него так, как смотрит человек на неотвратимо надвигающуюся на него смертельную опасность. Жак игриво повернулся ко мне.
- Не успели вы приехать, - пробормотал он, - как Дэвид стал от нас
прятаться.
- Да? - сказала Хелла и, придвинувшись теснее, взяла меня за руку.
- Как это недостойно его! Если бы я знала, ни за что не позволила бы ему так с вами обойтись, - она усмехнулась, - он никогда ничего о себе не рассказывает.
- Не сомневаюсь ни одной минуты, - сказал Жак, не сводя с нее глаз. -
Когда он с вами, у него находятся более увлекательные темы для разговоров. Поэтому он и прячется от старых друзей.
Мне до смерти хотелось уйти до прихода Джованни.
- Мы еще не ужинали, - сказал я, выдавливая улыбку, - может быть, встретимся попозже?
Я знал, что этой улыбкой молю Жака о милосердии.
Но в эту минуту колокольчик, оповещающий о появлении нового покупателя, зазвонил, и Жак воскликнул:
- А вот и Джованни.
Я почувствовал, что Джованни как вкопанный остановился у меня за спиной. Одновременно я почувствовал, как Хелла схватила меня за руку, как она вся напряглась, точно от страха, а с лица сползла маска равнодушия, уступив место неподдельной тревоге.
Первый заговорил Джованни, в его голосе слышались еле сдерживаемые слезы, ярость и облегчение.
- Где ты пропадал? - закричал он, - я думал, что тебя уже нет на свете.
Думал, тебя сбила машина или ты бросился в Сену... Где тебя носило эти три дня?
У меня еще хватило сил улыбнуться, хотя и довольно жалко. Однако, как ни странно, я был почти спокоен.
- Джованни, - сказал я, - позволь тебя познакомить с моей невестой.
Мадемуазель Хелла, мсье Джованни.
Он, конечно, заметил Хеллу, пока запальчиво корил меня за долгое отсутствие, и теперь тоже на удивление спокойно и вежливо пожал ей руку. Он буквально пожирал Хеллу черными, широко раскрытыми глазами, точно впервые видел перед собой женщину.
- Enchante, mademoisselle, - сказал он ледяным и безжизненным голосом.
Он окинул меня беглым взглядом, потом оглядел Хеллу. С минуту все четверо стояли так, точно все вместе фотографировались в фотоателье.
- Вот мы и собрались все, - сказал Жак, - почему бы нам теперь вместе
не выпить? На скорую руку? - обратился он к Хелле и, не дав ей вежливо уклониться от приглашения, предупредительно взял за руку.
- Не каждый же день встречаются старые друзья.
И он стал подталкивать меня и Джованни к выходу, увлекая за собой Хеллу. Джованни распахнул дверь, и колокольчик снова предательски зазвонил. Горячий вечерний воздух обжег наши лица, и мы неторопливо направились в сторону бульваров.
- Если я решаю съехать с квартиры, - сказал Джованни, - то сообщаю об этом консьержке, чтобы она, по крайней мере, знала, куда пересылать мою почту.
Я весь вспыхнул, на душе было скверно. Я заметил, что Джованни побрился, надел чистую рубашку и галстук, который наверняка принадлежал Жаку.
- Не понимаю, чего ты выходишь из себя. Адрес-то ты знал.
Но Джованни посмотрел на меня так, что мне захотелось плакать, и вся злость мигом улетучилась.
- Какой ты недобрый, - сказал он. - Tu n'est pas chic du tou.
Больше он не проронил ни слова, и до бульваров мы шли молча, лишь сзади до меня доносилось слащавое воркование Жака. На углу мы остановились и ждали, пока Хелла с Жаком присоединятся к нам.
- Милый, - сказала она, - ты оставайся и выпей с друзьями, если тебе
хочется, а я просто не в состоянии, к тому же чувствую себя неважно. Пожалуйста, извините меня, - обратилась она к Джованни, - но я только позавчера приехала из Испании и даже не присела с поезда. Давайте в другой раз, серьезно! Сегодня мне надо выспаться.
Она улыбнулась и протянула руку Джованни, но тот будто ее не заметил.
- Я провожу Хеллу домой, - сказал я, - и вернусь к вам. Только скажите, где вас найти.
Джованни неожиданно расхохотался и сказал:
- Мы будем дома. Не так трудно найти.
- Я ужасно огорчен, - сказал Хелле Жак, - что вы неважно себя
чувствуете. Может быть, выпьем в другой раз?
Он снова склонился к ее руке и опять поцеловал ее. Потом выпрямился и посмотрел на меня.
- Заходите как-нибудь вечерком ко мне, вместе поужинаем. - И,
подмигнув, он добавил: - Зачем же прятать от нас свою невесту?
- И в самом деле, ни к чему, - сказал Джованни. - Она нам страшно понравилась, - и, улыбнувшись Хелле, добавил, - постараемся и мы ей понравиться.
- Ладно, - сказал я и взял Хеллу под руку, - я попозже к тебе зайду.
- Если меня не будет дома, - сказал Джованни, и в его голосе прозвучали мстительные и в то же время плачущие нотки, - ты не поленись зайти еще раз. Я наверняка уже приду. Адреса еще не забыл? Это рядом с зоопарком.
- Помню, - сказал я и попятился так поспешно, точно выбирался из клетки с тигром, - попозже я загляну. A tout a l'heure.
- A la prochaine, - сказал Джованни.
Мы расстались, но я еще долго чувствовал спиной их взгляды. Мы шли, Хелла молчала. Как и я, она молчала потому, что боялась начать разговор.
Наконец сказала:
- Я просто не переношу этого Жака. От одного его вида у меня мурашки бегут по телу. Ты с ним часто виделся, пока я была в отъезде? - спросила Хелла, помолчав немного.
Я не знал, куда девать дрожащие руки и, чтобы как-то оттянуть ответ, остановился и закурил. Глаза ее прощупывали меня. Но Хелла, конечно же, ни о чем не подозревала, она просто была взволнована.
- А кто этот Джованни? - спросила она, когда мы снова пошли. И вдруг неожиданно прыснула.
- Я только сейчас поняла, что даже не поинтересовалась, где ты все это время жил. Ты жил с ним?
- Да, мы снимали захудалую комнатенку на окраине Парижа, - ответил я.
- Ты поступил нехорошо, - сказала Хелла, - сбежал от него на три дня и даже не предупредил.
- Господи! - возмутился я.- Да он же только мой сосед по комнате. Откуда мне знать, что он вздумает искать меня в Сене из-за каких-то двух дней, которые я не ночевал дома?
- Но Жак сказал, что ты его оставил без денег и курева, без ничего и
даже не сказал, что перебираешься ко мне.
- Я ему много чего не рассказывал. Но раньше он таких сцен не
закатывал. Наверное, выпил лишку. Я с ним потом поговорю.
- Ты думаешь к нему зайти?
- Если не к нему, - ответил я, - то в нашу комнату надо же заглянуть. Я
все равно собирался это сделать хотя бы для того, чтобы побриться. И я усмехнулся.
- Я вовсе не хочу, чтобы твои друзья обижались на тебя, - со вздохом
сказала она. - Надо пойти и выпить с ними, тем более, что ты обещал.
- Хочу - пойду, хочу - нет. Что я, женат на них?
- Хорошо, но если ты женишься на мне, это еще не значит, что надо
порвать отношения с друзьями. И это, разумеется, не значит, - сразу же добавила она, - что они должны мне нравиться.
- Хелла, - сказал я, - я все отлично понимаю.
Мы свернули с бульвара и подошли к гостинице.
- Он очень ревнивый, да? - спросила она.
Я смотрел на темную громаду Сорбонны, в которую упиралась наша темная, чуть бредущая в гору улица.
- Кто он?
- Джованни. Он, видно, очень к тебе привязан.
- Он итальянец, - сказал я,- а все итальянцы очень эмоциональные.
- Да, но этот даже для итальянца чересчур экзальтирован. Ты с ним долго прожил вместе?
- Месяца два. - Я бросил сигарету. - У меня кончились деньги, когда ты уехала. Я ждал денег от отца и на время перебрался к нему, так было дешевле. Джованни тогда работал и почти все время жил у своей любовницы.
- Да? - спросила она. - У него есть любовница?
- Вернее, была, - сказал я, - так же, как и работа. Теперь нет ни того,
ни другого.
- Бедный мальчик! - воскликнула она. - Неудивительно, что у него такой потерянный вид.
- Ничего, приободрится! - бросил я.
Мы стояли у дверей гостиницы. Она нажала кнопку звонка.
- Он близкий друг Жака? - спросила она.
- Не настолько близкий, чтобы это вполне удовлетворяло Жака, - ответил я.
- Я просто коченею, - сказала она, - рядом с мужчиной, который так
ненавидит женщин, как ненавидит их Жак.
- Ладно, - сказал я, - в дальнейшем постараюсь оградить тебя от его
общества. Еще, чего доброго, моя девочка простудится!
И я поцеловал ее в кончик носа. В ту же секунду из глубины гостиницы до нас донесся какой-то грохот, и дверь со странным лязгом распахнулась сама собой. Хелла заглянула в темный проем.
- Каждый раз думаю, осмелюсь ли я войти в эту дверь, - сказала она и посмотрела на меня, - может, ты немного выпьешь со мной в номере, а потом пойдешь к своим друзьям?
- Идет! - сказал я.
Мы зашли в гостиницу на цыпочках, тихонько прикрыв за собой дверь. Мои пальцы, наконец, нащупали выключатель, и тусклый желтый свет окутал нас. Чей-то голос выкрикнул нам что-то совершенно нечленораздельное. Хелла в ответ выкрикнула свое имя, пытаясь произнести его на французский лад. Когда мы поднимались по лестнице, свет погас, и мы с Хеллой захихикали, как дети. Мы никак не могли найти выключатели на лестничных площадках. Не знаю, почему мы так веселились, но нам действительно было весело. Так, хихикая и поддерживая друг друга, мы добрались до номера Хеллы на последнем этаже.
- Расскажи мне о Джованни, - попросила она, когда мы, улегшись в
постель, смотрели, как ночь поддразнивает чернотой белые накрахмаленные занавески, - мне интересно, какой он.
- Чертовски бестактно просить меня об этом сейчас, - сказал я, - и
почему тебя это так интересует?
- В этом нет ничего предосудительного. Просто я хочу знать, кто он, чем
живет и дышит?
- Я смотрю, он поразил твое воображение.
- Ничуть. Просто он очень красив, вот и все. Но в этой красоте есть
что-то старомодное.
- Давай-ка лучше спи, - сказал я, - ты уже заговариваешься.
- Где ты с ним познакомился?
- В баре, во время ночной попойки.
- А Жак там тоже был?
- Не помню. Кажется, был. Да, конечно, он вроде бы познакомился с Джованни той же ночью.
- А почему ты перебрался жить к нему?
- Я тебе уже говорил. Сидел на мели, а у него была комната...
- Не может быть, чтобы только из-за комнаты...
- Ну, хорошо. Он мне понравился.
- А теперь он больше тебе не нравится?
- Я очень привязан к Джованни. Ты его не видела, когда он в ударе, но, поверь, он очень славный парень.
Я засмеялся. Защищенный темнотой, чувствуя телом тело любимой женщины, успокоенный уверенным звучанием собственного голоса, я приободрился и с облегчением добавил:
- Я по-своему его люблю, действительно люблю.
- Мне кажется, он чувствует, что ты проявляешь свою любовь к нему довольно странным образом.
- Ну и что, - сказал я, - эти люди ведут себя иначе, чем мы. У них все
чувства на виду. Ничего не поделаешь. Я не могу так, как они.
- Да, - задумчиво протянула она, - я это заметила.
- Что ты заметила?
- Здешние парни и не думают проявлять большую привязанность друг к другу. Поначалу это шокирует и только потом понимаешь, что под их грубостью скрывается настоящая нежность.
- Да, - сказал я, - нежность.
- Хватит об этом, - сказала она. - Надо нам на днях пообедать вместе с
Джованни. В конце концов, он в некотором роде твой спаситель.
- Неплохая мысль, - сказал я, - не знаю, чем он занят в ближайшие дни, но думаю, что один свободный вечерок выберет для нас.
- А он, что, всюду таскает за собой Жака?
- Нет. Скорее всего, случайно забежал к нему сегодня вечером.
Я помолчал.
- Я начинаю понимать, - продолжал я, подбирая слова, - что такому
парню, как Джованни, довольно трудно жить. Париж, сама понимаешь, не пристанище удачников, и манна небесная на всех не сыпется. Джованни - бедный, в том смысле, что он из бедной, простой семьи. И в самом деле, здесь он мало на что может рассчитывать. Здесь огромная конкуренция. А при ничтожных деньгах трудно думать об устройстве хоть какого-нибудь будущего.
Поэтому многие такие, как Джованни, шатаются по улицам без дела и рано или поздно становятся гангстерами, сутенерами и бог знает кем еще.
- Да, холодно здесь в Старом Свете.
- Но в Новом Свете тоже не жарко, - сказал я,-а в Париже наступили
холода, уже осень.
- А нас согревает любовь, - засмеялась она.
- Мы не первые, кого в постели посещала эта мысль.
Однако некоторое время мы лежали молча, крепко обняв друг друга.
- Хелла! - наконец нарушил я молчание.
- Что?
- Хелла, давай, когда придут деньги, смотаемся из Парижа.
- Смотаться из Парижа? А куда?
- Все равно. Только бы смотаться, Париж надоел до чертиков. Хочу с ним на время расстаться. Поедем на юг. Может, там есть солнышко и тепло.
- Значит, мы поженимся на юге?
- Хелла, - сказал я, - ты должна мне поверить на слово, что я ничего не
могу затевать, ни на что решиться, не могу даже думать об этом всерьез, пока мы не смотаемся из этого города. Я не хочу здесь жениться, не хочу даже думать о женитьбе. Давай скорей уедем.
- Я не знала, что твои планы так изменились, - сказала она.
- Я жил в комнате Джованни несколько месяцев, - сказал я, - и больше не могу так жить. Мне нужно отсюда уехать. Ну, пожалуйста. Она нервно рассмеялась и легонько отодвинулась от меня.
- Ладно. Только я не могу понять, почему бежать из этой комнаты означает бежать из Парижа.
- Хелла, пожалуйста, не надо, - вздохнул я, - я не склонен сегодня к
пространным объяснениям. Может быть, если я останусь в Париже, то опять помчусь, сломя голову, к Джованни и тогда... Я осекся.
- Но почему тебя это мучает?
- Потому что я ничем не смогу ему помочь и не выдержу, если он станет опекать меня... Я американец, Хелла, и он думает, что я богач.
Я замолчал, сел на кровати и уставился в темноту. Хелла смотрела на меня.
- Он очень славный малый, я уже тебе говорил, но он такой
надоедливый... вбил себе в голову такие вещи обо мне, он думает, что я сам господь Бог. А его комната - такая грязная, вонючая! Скоро придет зима, там будет холодно...
Я снова повернулся к ней и крепко сжал ее руки.
- Послушай, давай уедем. Подробности я расскажу тебе, когда нас уже здесь не будет.
Наступило долгое молчание.
- Так ты хочешь отправиться прямо сейчас?
- Да. Как придут деньги, давай снимем где-нибудь домик.
- А ты убежден, что тебе не хочется домой, в Штаты?
- Да пока нет, - простонал я, - не про это я тебе толкую.
Она поцеловала меня и сказала:
- Мне все равно, куда ехать, лишь бы быть с тобой.
- На дворе уже почти утро, - сказала она, - хорошо бы нам немножко
поспать!
Я пришел к Джованни на следующий день поздно вечером. С Хеллой мы долго гуляли вдоль Сены, а потом я здорово поднабрался в нескольких бистро.
Когда я открыл дверь, в комнату ворвался свет. Джованни сидел на кровати, перепуганный насмерть, и кричал:
- Qui est la? Qui est la?
Я остановился на пороге, чуть покачиваясь, и сказал:
- Это я, Джованни, не шуми.
Джованни посмотрел на меня, лег на бок и, отвернувшись к стене, заплакал.
"Господи Иисусе", - подумал я и тихо прикрыл за собой дверь. Потом достал пачку сигарет из кармана куртки и повесил ее на стул. Зажав сигарету в пальцах, я подошел к кровати и склонился над Джованни.
- Брось, малыш, не плачь. Ну, пожалуйста, перестань плакать.
Он повернулся и взглянул на меня. Веки у него покраснели, в глазах стояли слезы, а на лице застыла странная улыбка - жестокая, виноватая и в то же время счастливая. Он протянул мне руки, и я, примостившись рядом, поправил волосы, сбившиеся ему на глаза.
- От тебя несет вином, - выдавил он.
- Вина я не пил. Поэтому ты так перепугался и теперь плачешь?
- Нет.
- А что случилось?
- Почему ты от меня ушел?
Я не знал, что и ответить. Джованни снова отвернулся к стене. Я надеялся, вернее, думал, что ничего не испытываю в эту минуту, но в самом укромном уголке сердца что-то защемило, заныло тоскливо и больно.
- Ты никогда не был моим, - сказал Джованни, - и, по правде сказать,
никогда здесь не жил. Не думаю, что ты меня обманывал, но и не говорил никогда правду. Почему, Дэвид? Бывали дни, когда ты все время сидел дома, читал, открывал окно или что-нибудь стряпал. Я не сводил с тебя глаз, но ты никогда ничего не говорил, а если и смотрел на меня, то невидящим взглядом. И так каждый день, пока я зарабатывал нам на жизнь.
Я молча смотрел мимо Джованни на квадратные окна, залитые слабым лунным светом.
- Чем ты был занят все время? Почему всегда молчал? Ты нехороший человек и сам это знаешь! Бывали дни, когда ты улыбался, а я тебя ненавидел в эти минуты, мне хотелось ударить тебя, разбить в кровь твое лицо. Ведь ты улыбался мне, как улыбался каждому встречному, ты разговаривал со мной так же, как со всеми. И всегда врал. Ты вечно таился от меня. Думаешь, я не знаю, что, когда мы занимались любовью, тебя не было в постели. Ты витал где-то, неизвестно с кем, но только не со мной. Что я тебе? Пустое место,
пустое. Ты отдавался мне, но не дарил мне счастья. Никогда.
Я поискал сигареты. Пачка оказалась у меня в руке. Я прикурил и решил, что надо что-то сказать, сказать и навсегда уйти из этой комнаты.
- Я не могу жить один, ты же знаешь, я тебе это не раз говорил. Что
случилось, Дэвид? Неужели мы никогда не будем вместе?
И он снова заплакал. Я сидел и смотрел, как слезы Джованни падают на грязную подушку.
- Раз ты меня не любишь, я умру. Пока не было тебя, я хотел умереть и не раз говорил тебе об этом. Как это жестоко - пробудить человека к жизни только для того, чтобы он потом еще страшнее мучился перед смертью.
Мне многое хотелось сказать ему. Но язык не слушался меня. И все-таки не знаю, что я испытывал к Джованни в эту минуту. К нему я не испытывал ничего, и в то же время испытывал страх, жалость и все возрастающее желание.
Он взял у меня сигарету изо рта, затянулся и сел на кровати.
- Такой, как ты, в моей жизни впервые. Я не был таким до знакомства с тобой. Слушай, Дэвид! В Италии у меня была жена, которая относилась ко мне очень хорошо. Она любила меня, и я любил ее. Она обо мне заботилась и ждала дома, пока я не возвращался с работы, с виноградников, и между нами даже мелких ссор не было. Никогда. Я был моложе и еще не знал того, чему позднее научился - не знал всех этих ужасных вещей, которым ты меня обучил. Я считал, что все женщины такие, как моя, и мужчины такие, как я, думал, что
ничем от них не отличаюсь. Тогда я не знал, что такое горе и одиночество, потому что рядом была женщина, и мне не хотелось умереть. Я хотел одного - жить до старости в своей деревне, работать на винограднике, пить домашнее вино и спать со своей женой. Я тебе не рассказывал про свою деревню? Она очень древняя, на юге Италии, стоит на холме и окружена стеной. Ночью, когда мы гуляли с женой, другой мир за стеной не существовал для нас - этот грязный, огромный, далекий мир. Мне даже не хотелось его повидать. Однажды мы с ней любили друг друга у этой стены.
Да, я хотел навсегда остаться в своей деревне, хотел есть спагетти, пить вволю вино, иметь кучу детей, стареть и толстеть. Вряд ли я тебе тогда понравился бы! Много лет назад мы могли встретиться с тобой в моей деревне - ты бы разъезжал по ней в какой-нибудь уродливой, толстобокой американской машине, пил бы наше вино и смотрел бы от нечего делать со своей равнодушной американской улыбочкой на меня и на нас на всех. Ты проехал бы мимо и после
рассказывал бы друзьям о том, что видел, убеждая их непременно съездить в эту деревню, потому что она чертовски живописна.
И ты бы не имел понятия о нашей тамошней жизни, однообразной, прекрасной, трудной, но полной страстей, как теперь не имеешь никакого понятия о моей жизни. Наверное, я жил бы там куда счастливее и не знал бы ваших гадких американских улыбочек. У меня была бы моя собственная жизнь.
Несколько последних ночей я лежал в этой комнате, ждал, когда же ты, наконец, вернешься и почему-то думал о том, как теперь далеко от меня моя деревня, как страшно жить одному в этом холодном городе, где всегда промозгло и сыро, среди людей, которых я ненавижу, где нет тепла и солнца, которое всегда есть у нас, и нет человека, с кем бы можно было поговорить или разделить жизнь, где я нашел любовника, который ни мужчина, ни женщина,
а что-то непонятное. Ты не знаешь, нет, какая это пытка - лежать ночью без сна и ждать кого-то. Наверняка ты этого не знаешь. Ты вообще ничего не знаешь, не знаешь никаких страхов, оттого ты так улыбаешься и думаешь, что комедия, которую ты ломаешь с этой коротковолосой, круглолицей девчонкой, и есть настоящая любовь.
Он бросил сигарету, и она задымилась на полу. Он снова заплакал. Я окинул взглядом комнату и подумал: " Нет, я этого не вынесу."
- Но в один погожий, недобрый день я ушел из деревни. Это был день моей смерти. Никогда не забуду этот день. Господи, почему я и вправду тогда не умер?! Помню, солнце сильно припекало мой затылок. Я шел по дороге, оставив позади деревню, сначала шел в гору, потом спускался по пологому склону. Как сейчас вижу: рыжую пыль под ногами, гальку, разлетающуюся в разные стороны, низкорослые деревья по обочинам и наши плоские домики, отливающие на солнце всеми цветами радуги. Помню, я плакал, не так, как плачу сейчас - горше и сильнее; с тех пор, как ты со мной, я даже разучился плакать. И тогда первый раз в жизни я захотел умереть. Я только что похоронил своего ребенка на кладбище, где покоились мой отец и деды, и бросил жену, которая плакала от
горя в доме моей матери. Да, у меня был ребенок, только он родился мертвым. Когда я увидел его, он был весь серый, скрюченный и не издавал ни звука. Мы пошлепали его по попке, окропили святой водой, помолились Господу, но мальчик не проронил ни звука - он был мертв. Совсем маленький мальчик, он мог вырасти сильным красивым мужчиной, и, может быть, даже таким, как ты, и
тогда Жак, и Гийом, и вся наша омерзительная шайка педерастов днем и ночью мечтала бы о нем и гонялась бы за ним. Но он родился мертвым, мой мальчик, наш с женой мальчик, он родился мертвым. Когда я понял, что он мертв, я сорвал со стены распятие, плюнул на него и швырнул на пол, мать и жена заголосили, а я выбежал из дому. Мы похоронили ребенка на следующий день.
После этого я ушел из деревни и приехал в этот город, где господь Бог покарал меня за мои грехи, за то, что плюнул на распятие. Здесь я умру. Это точно. Не думаю, что когда-нибудь еще увижу свою деревню.
Я встал. Голова кружилась. Во рту был привкус соли. Комната плыла перед глазами, как она плыла в то утро, когда тысячу лет назад я первый раз появился здесь.
- Cheri, mon tres cher, - донесся до меня протяжный стон Джованни, - не бросай меня. Пожалуйста, не бросай.
Я повернулся и крепко прижал его к себе, глядя поверх головы Джованни на стену, на мужчину и женщину, неспешно разгуливающих среди роз. Он заплакал навзрыд. Казалось, сердце его не выдержит и разорвется. Но и мое сердце разрывалось на части. Что-то внутри оборвалось, и от этого я был холоден, невозмутимо спокоен и бесстрастен. Но я должен был что-то сказать
ему.
- Джованни, - протянул я, - Джованни.
Он притих и стал меня слушать. Я еще раз невольно убедился, на какие уловки толкает человека отчаяние.
- Джованни, - сказал я, - ты же прекрасно знал, что когда-нибудь я от
тебя уйду. Ты знал, что моя невеста вернется в Париж.
- Ты от меня уходишь не из-за нее, - сказал он, - ты уходишь совсем по
другой причине. Ты так много врал самому себе, что наконец сам поверил в собственную выдумку. А я, я чувствую сердцем, что уходишь ты не из-за женщины. Если бы ты ее действительно любил, ты бы не был так жесток со мной.
- Она не девчонка, - сказал я, - она женщина, и что бы ты себе ни
придумывал, я действительно люблю ее...
- Ты никого не любишь, - закричал он, - и никого не любил. И поверь мне - никогда не полюбишь. Ты любишь свою непорочность, свое отражение в зеркале, ты, словно девственница, никого не подпускаешь к себе, будто у тебя между ног драгоценности: золото, серебро, рубины или даже бриллианты. Ты никому и никогда не отдашь свое сокровище, не позволишь и пальцем дотронуться до него - никому: ни мужчине, ни женщине. Ты хочешь быть
чистеньким. Ты думаешь: "Я пришел сюда чистым и уйду чистым", - ты не хочешь, чтобы от тебя дурно пахло хотя бы пять минут, хотя бы секунду.
Он резко и в то же время ласково схватил меня за воротник. Он брызгал слюной, в его глазах стояли слезы, скулы нервно подрагивали, а мышцы рук и шеи, казалось, вот-вот лопнут от напряжения.
- Ты хочешь бросить меня потому, что, когда ты со мной, от тебя дурно
пахнет. Ты хочешь меня возненавидеть, потому что я не боюсь дурного запаха любви. Ты хочешь убить меня во имя своих лживых ничтожных нравственных устоев. Но ты сам безнравственный тип. Ты самый безнравственный человек из всех, кого я встречал в жизни. Посмотри, посмотри, что ты со мной сделал. А ведь я люблю тебя. Ты это знаешь. Страшно подумать, как обошелся бы ты со мной, не будь этого.
- Прекрати, Джованни, ради Бога, прекрати это! Черт подери, как мне, по-твоему, поступить? Я не волен в своих чувствах!
- Да ты не знаешь, что такое чувства! Разве ты что-нибудь чувствуешь?
Что ты чувствуешь?
- Сейчас - ничего, - сказал я, - ничего. Я хочу скорее удрать из твоей
комнаты, удрать от тебя подальше, чтобы прекратить эту отвратительную сцену.
- Ты хочешь удрать от меня! - Он рассмеялся, но глаза его были полны горечи.
- Наконец ты сказал правду. А знаешь ли ты, почему хочешь от меня удрать?
Что-то внутри у меня сжалось в комок и замерло.
- Я не могу жить с тобой вместе, - сказал я.
- А с Хеллой ты жить можешь? С этой круглолицей, как луна, девчонкой, которая думает, что дети появляются на свет из-под капустного листа или из холодильника. Прости, я плохо знаю американские сказочки. С ней ты можешь жить?
- Да, - неуверенно пробормотал я, - с ней я жить могу.
Я встал. Меня всего трясло.
- Что за жизнь у нас может быть в этой тошнотворной комнатенке? Да и вообще, что за совместная жизнь может быть у двух мужчин? Любовь, любовь - только и слышишь от тебя, а нужна тебе эта любовь только для того, чтобы крепче стоять на ногах, скажешь, не так? Ты бы чего хотел: ходить на работу, выкладываться там до изнеможения, приносить домой деньги, чтобы я при этом сидел в этой клетке, мыл посуду, стряпал, чистил вонючую уборную, встречал
тебя на пороге поцелуями, спал с тобой и был твоей девочкой, твоей крошкой? Этого ты хотел бы? Вот что значит твоя любовь. Ты говоришь, я хочу убить тебя. А ты задумывался над тем, в кого ты меня превращаешь?
- Я пытаюсь сделать из тебя свою девочку? Если бы я ее хотел, она бы у меня была.
- А почему же ее нет? Значит, ты трусишь? И тащишь меня в постель,
потому что кишка тонка бегать за женщинами, которых ты, на самом деле, хочешь? Так?
Джованни побледнел.
- Ты мне все время твердишь о том, что я хочу, а я тебе - о том, кого я
хочу.
- Но я мужчина, - закричал я, - понимаешь, мужчина! Как мы можем жить друг с другом?
- Как это делается, - спокойно ответил он, - ты знаешь не хуже меня.
Вот поэтому ты от меня и уходишь.
Он встал, подошел к окну и распахнул его.
- Bon - сказал он и ударил кулаком по подоконнику.
- Если бы я мог удержать тебя здесь, я бы удержал, - закричал он, -
даже если бы мне пришлось избить тебя, заковать в цепи, уморить голодом, только чтобы ты остался. Я бы это сделал.
Он отошел от окна. Ветер развевал его волосы.
- Может, когда-нибудь ты пожалеешь, что я этого не сделал.
Джованни, как плохой провинциальный актер, размахивал передо мной руками.
- Холодно, - сказал я, - закрой окно.
Он улыбнулся.
- Ты ведь уходишь, какая тебе разница. Bien sur.
Он захлопнул окно, и мы долго смотрели друг на друга, стоя посреди комнаты.
- Больше мы не будем выяснять отношения, - сказал он. - Это имело бы смысл, если бы ты оставался. У нас с тобой, как говорят французы, une separation de corps, не развод, а просто разлука. Все, хватит. Мы расстанемся. Но я знаю, что ты принадлежишь мне. И я верю, я должен верить, что ты еще вернешься.
- Джованни, - сказал я, - я никогда не вернусь, и ты это знаешь.
Он замахал на меня руками.
- Хватит, больше никаких выяснений отношений. Американцам не дано чувствовать, где их судьба, нет, не дано. Они даже не узнают ее, глядя ей в лицо.
Он вытащил из-под раковины бутылку.
- Жак тут оставил бутылку коньяка. Давай пропустим по стаканчику. Так, кажется, говорят у вас в Америке.
Я смотрел, как он аккуратно разливает коньяк в стаканы, хотя его всего трясло - от ярости, боли, а может, от того и другого. Он протянул мне стакан.
- A la tienne, - сказал он. - A la tienne.
Мы выпили. Я не смог удержаться от вопроса:
- Джованни, а что ты теперь собираешься делать?
- О, - воскликнул он, - у меня полно друзей. Найду уж, чем с ними
заняться. Завтра вечером, к примеру, буду ужинать с Жаком. Не сомневаюсь, что и послезавтра буду ужинать с ним же. Он очень ухлестывает за мной и считает тебя чудовищем.
- Джованни, - беспомощно пролепетал я, - будь осторожнее. Пожалуйста, будь осторожнее.
Он иронически улыбнулся мне.
- Спасибо, - сказал он, - тебе надо было посоветовать мне это в ту ночь, когда мы познакомились.
Так мы в последний раз поговорили по душам. Я остался у него до утра, потом побросал вещи в чемодан и отправился в гостиницу к Хелле.
Никогда не забуду, как Джованни смотрел на меня в последний раз. Утренний свет заливал нашу комнату, напоминая мне о многочисленных утрах, в том числе и о том, когда я пришел сюда впервые. Джованни сидел на кровати совершенно голый, зажав в ладонях стакан коньяка. Его тело было неестественно белым, лицо серым, мокрым от слез. Я с чемоданом стоял у порога и, держась за дверную ручку, смотрел на него. Мне хотелось попросить
прощения. Но это превратилось бы в слишком долгую исповедь. Маленькая уступка себе навсегда замуровала бы меня с ним в этой комнате. А ведь, положа руку на сердце, именно этого-то я и хотел. Я почувствовал, как по моему телу пробежала дрожь и на миг явственно ощутил, как тону, захлебываюсь в его слезах. Голое тело Джованни, знакомое мне до мельчайших подробностей, матово сияло в утреннем свете и точно растворялось в окружающем нас пространстве.
И тогда в моем мозгу вспыхнула глубоко затаенная мысль, которой я боялся больше всего: спасаясь бегством от Джованни, я навсегда обрекал себя на магическую зависимость от него. Отныне я никогда не смогу забыть его тело, нашу с ним близость. Джованни не спускал с меня глаз, но казалось - он смотрит сквозь меня. Выглядел он довольно странно, разгадать выражение его лица было невозможно. Оно не было ни хмурым, ни злым, ни печальным.
Казалось, он просто спокойно ждал, что я преодолею разделявшие нас несколько шагов и снова обниму его. Он ждал этого, как ждут чуда на смертном одре, чуда, которое никогда не произойдет. Нужно было немедленно уходить! То, что скрывалось за маской его спокойствия, бушевало и в моей душе - я понимал, что еще немного и окончательно погибну в этом омуте, который зовется Джованни. Все во мне рвалось к нему, но ноги не слушались меня. Ветер моей
судьбы гнал меня прочь из этой комнаты.
- Adieu, Джованни.
- Adieu.
Я повернулся и вышел, не прикрыв за собой дверь. Точно яростный вихрь безумия окутал меня прощальным порывом, пробежал по спине, взъерошил волосы.
Я миновал узкий коридорчик. вышел в переднюю, прошел мимо loge, где мирно дремала консьержка и выскочил, наконец, на утреннюю парижскую улицу. С каждым шагом мне становилось все очевиднее, что путь назад отрезан. Голова была до странности пуста, вернее, мозг был точно огромная кровоточащая рана под наркозом. Я думал только об одном: "Настанет день, и ты будешь горько
это оплакивать! Скоро-скоро ты станешь горько плакать! "
На углу я вытащил бумажник, чтобы достать автобусные билеты. В нем оказались три тысячи франков, взятые у Хеллы, мое carte d'identite, мой адрес в Соединенных Штатах и какие-то бумаги, клочки бумаги, фотографии, карты.
На каждом клочке бумаги были записаны адреса, номера телефонов, памятки о свиданиях, на которые я ходил, а может, не ходил, имена давно забытых случайных знакомых, словом, следы несбывшихся надежд, конечно, несбывшихся, иначе я не стоял бы сейчас на углу этой улицы в состоянии полного смятения.
В бумажнике я нашел четыре автобусных билета и зашагал к автобусной остановке. Там уже стоял полицейский в своей синей пелерине, тяжелой, свисающей, как балахон, и с белой блестящей дубинкой в руках. Увидев меня, он улыбнулся и крикнул:
- Cava?
- Qui, merci. А у вас?
- Toujours. Чудный денек.
- Да, - мой голос предательски дрогнул, - осенью пахнет.
- C'est ca.
И он отвернулся, привычно оглядывая бульвар.
Я пригладил рукой волосы. Меня всего трясло, и вообще мне было плохо, хуже некуда.
Мимо шла женщина с сеткой, доверху набитой провизией. Наверняка с рынка. Из сетки торчала литровая бутылка красного вина и, казалось, вот-вот вывалится. Женщина была немолодая, но симпатичная, с крепко сбитым телом и такими же руками - сильными, крепкими. Полицейский что-то прокричал ей, и она ответила в тон ему такой же добродушной непристойностью. Он рассмеялся.
На меня он больше не обращал внимание. Я смотрел, как женщина шла по улице, и думал, что она наверняка идет домой, к работяге-мужу с грязными руками и к детям. Она миновала угол, освещенный узкой солнечной полоской, и перешла на другую сторону улицы.
Подъехал автобус, и мы, полицейский и я, оказались единственными пассажирами. Он встал у входа, я - в конце салона. Полицейский был уже не молод, но в нем ключом била такая жизненная энергия, что некоторое время я любовался им. Потом я долго смотрел в окно. Мимо проносились парижские улицы. Несколько лет назад, в другом городе и в другом автобусе, я тоже
сидел у окна и всматривался в лица прохожих, чем-то привлекших мое внимание, помнится, я придумывал каждому из них биографию или такие жизненные ситуации, где я играл главную роль. А сейчас я пытался прочитать на парижских улицах обещание или хотя бы намек на возможное спасение. Но вместо этого меня не покидало ощущение, что моему прежнему "я" просто приснился
сон. И сон этот каким-то образом перетекает в явь.
Дни летели один за другим. Не сегодня - завтра должны были наступить холода. Тысячи иностранцев, заполонивших Париж, исчезли, словно злые духи, по мановению волшебной палочки. Во время прогулок в парках тихо шелестели падающие листья, а после тяжко вздыхали под башмаками прохожих. Каменный Париж, еще недавно радужный и многоцветный, постепенно потускнел,
неотвратимо превращаясь в серый обыденный город, построенный из грубого холодного камня. На набережных все реже показывались рыболовы, и вскоре они совсем опустели.
Молодые люди и девушки будто потолстели, одетые в теплое нижнее белье, свитера, пелерины, капюшоны и кожаные перчатки. Старики выглядели еще старше, женщины казались неповоротливее. Сена тоже как-то выцвела, зарядили дожди, и вода в реке поднялась. Солнце заглядывало в Париж на каких-нибудь
два-три часа, и было очевидно, что скоро оно откажется от этой изнурительной повинности.
- Зато на юге нам будет тепло, - говорил я Хелле.
От отца пришли деньги. Целыми днями мы с Хеллой гонялись в поисках дачи, - искали в Изе, Кань-сюр-мэр, в Вансе, Монте-Карло, в Антибе и Грассе. В своем квартале мы почти не появлялись, все больше сидели в номере, с жадностью ласкали друг друга в постели, бегали в кино и подолгу обедали в забавных ресторанчиках на правом берегу. Настроение чаще бывало скверным, трудно сказать, откуда бралась эта хандра. Она нападала внезапно, точно
хищная птица, поджидающая добычу. Не думаю, что Хелла чувствовала себя несчастной, потому что я никогда так не льнул к ней, не цеплялся за ее юбку, как в то время. Но, вероятно, она смутно догадывалась, что цепляюсь я за нее чересчур крепко, с подозрительной какой-то лихорадочностью. Возможно, даже
она понимала, что все это не может длиться слишком долго.
В нашем квартале я иногда сталкивался с Джованни. Я боялся этих встреч и не потому, что Джованни почти всегда ходил с Жаком, боялся, потому что Джованни, хотя и был щегольски одет, выглядел очень плохо. В его глазах появилось что-то жалкое и порочное, он подобострастно хихикал над шуточками Жака, в его движениях и позах все чаще проступала педерастическая жеманность - смотреть на него было больно и неприятно. Я не желал знать, какие у него
отношения с Жаком, но пробил час, и я прочитал правду в презрительном и торжествующем взгляде Жака. Мы встретились как-то вечером на бульваре. Мимо спешили парочки. Джованни был пьян в стельку, дергался и выламывался, как кокетливая уличная девчонка, он словно заставлял меня выпить до дна чашу своего унижения. И я ненавидел его в эту минуту.
В следующий раз мы случайно встретились утром. Он покупал газету. Джованни смерил меня наглым взглядом и отошел. Я долго смотрел ему вслед. Придя домой, я с притворным смехом рассказал Хелле об этой встрече.
Потом он все чаще стал попадаться мне на глаза без Жака, с ватагой местных мальчиков, которых он когда-то в разговоре со мной называл piteux. Теперь он был одет гораздо хуже и почти ничем не отличался от них. Его близким другом оказался долговязый рябой мальчик по имени Ив, которого я мельком видел той памятной ночью в баре, он тогда забавлялся пианолой, а после, утром, разговаривал с Жаком в Les Halles. Как-то вечером, шатаясь один по кварталу, пьяный в стельку, я столкнулся с этим Ивом и угостил его вином. О Джованни я даже не заикнулся, но Ив с поспешной готовностью
доложил, что Жак и Джованни расстались. А это значило, что, скорее всего, Джованни вернется к своей прежней работе в бар Гийома.
Встреча с Ивом произошла примерно за неделю до того, как Гийома нашли мертвым в своей спальне над баром. Он был задушен кушаком собственного роскошного халата.
Глава V
Поднялся страшный скандал: всякий, кто был тогда в Париже, наверняка слышал о нем и видел портрет арестованного Джованни во всех газетах. Писались передовые статьи, произносились высокопарные речи, большинство баров, вроде подвальчика Гийома, было закрыто. Разумеется, ненадолго. В кварталах шныряли переодетые шпики, проверяя документы у каждого встречного, из баров исчезли tapettes. Джованни словно провалился сквозь землю, и его исчезновение лишь усиливало возникшее подозрение о его причастности к убийству.
Подобные скандалы всегда чреваты последствиями: прежде чем гроза пройдет стороной, расшатаются нравственные устои государства. Поэтому нужно было с предельной быстротой найти объяснение случившемуся и, конечно же, жертву. Многих мужчин, известных своими "les gouts particuliers", как уклончиво и насмешливо определяют эту склонность французы, все же трудно
было заподозрить в убийстве. Да и к "странным вкусам" в определенных кругах относились весьма снисходительно, не находя в этом никакого криминала, в то время как простые люди с явным неодобрением смотрели и на тех, кто предрасположен к отклонениям от нормы, и на тех, кто им потакает.
Когда нашли труп Гийома, испугались не только "мальчики" из квартала. Им особенно бояться было нечего. Испугались те, кто ловил их на улицах и покупал, ведь в случае огласки общественное положение этих мужчин, их репутация - все пошло бы прахом. Отцы семейств, сыновья из хороших домов и респектабельные искатели острых ощущений отчаянно хотели одного: свернуть дело, дать событиям привычный ход, чтобы беспощадный хлыст общественного мнения не прогулялся по их спинам. А пока скандал не утих, они не знали, что предпринять: то ли публично покаяться, прикинувшись жертвами, то ли остаться теми, кем они, строго говоря, и были - заурядными обывателями, противниками
насилия и радетелями торжества правосудия и здорового духа отечества.
Поэтому не в пользу Джованни было и то, что он иностранец. И хотя он еще гулял на свободе, с каждым днем, словно по негласному сговору, газеты все сильнее поливали его помоями, а о Гийоме писали все с большим почтением. Вспомнили, конечно, что ушел последний отпрыск одного из самых родовитых французских семейств. Специальные воскресные выпуски публиковали пространные экскурсы в историю его рода, а престарелая матушка Гийома, потомственная
аристократка, не дожившая до суда над убийцей, уверяла читателей в кристальной чистоте своего сына и сокрушалась, что распущенность так укоренилась во Франции, что такое преступление так долго остается безнаказанным.. И, конечно, такие пассажи встречались обывателями с одобрением. Мое удивление все росло: имя Гийома оказалось на редкость тесно
связанным с историей Франции, с французской честью и славой. Еще немного, и Гийом стал бы образцом французского мужчины.
- Послушай, - сказал я Хелле, - ведь он был омерзительный старый
педераст. Ничтожество.
- Допустим, но читателям это неизвестно. Ты об этом подумал? Если он и был таким, то, наверняка, не кричал об этом на каждом углу. Очевидно, об этом знали лишь в очень узком кругу.
- Да, но кое-кому это известно. Ручаюсь, что авторы газетной брехни
знают про Гийома все.
- Тем не менее нет веской причины поносить покойника, - рассудительно заметила она.
- А написать правду тоже нет веской причины?
- Они и пишут правду. Гийом из очень знатного семейства, его убили. Я
понимаю, чего ты хочешь. Они умалчивают о другой правде, настоящей, но газеты никогда о ней не пишут. На то они и газеты.
- Бедный Джованни, - вздохнул я.
- А, по-твоему, он его убил?
- Не знаю, похоже на то. Накануне вечером Джованни был в баре. Перед закрытием видели, как он поднимался по лестнице к Гийому и вроде бы оттуда не выходил.
- Он той ночью работал в баре?
- По-видимому, нет. Джованни просто пил там. Они с Гийомом, вероятно, снова подружились.
- Да, странных дружков ты завел в мое отсутствие.
- Черт возьми! Если б одного из них не убили, ты не нашла бы их
странными. И, между прочим, я их не считаю своими друзьями, никого, кроме Джованни.
- Ты жил вместе с ним. Неужели тебе трудно сказать точно, убил он или нет?
- Точно? Вот ты живешь со мной. Скажи, могу я убить?
- Ты? Конечно, нет.
- Откуда ты знаешь? Я и сам этого не знаю. Как ты можешь ручаться, что я такой, каким кажусь?
- Потому что... - она наклонилась и поцеловала меня, - я люблю тебя.
- А, я тоже любил Джованни.
- Но не так, как я, - сказала она.
- Я, может, давно уже кого-нибудь убил. Ты меня мало знаешь. Да и
откуда тебе знать!
- Что ты раскипятился?
- Будешь кипятиться, если твоего друга обвиняют в убийстве, а он
прячется неизвестно где. Еще спрашиваешь! Что мне, по-твоему, рождественские гимны петь?
- Не кричи. Просто я до сих пор не понимала, как много он для тебя
значит.
- Он очень славный малый, - выдавил я, - как подумаю о том, что на него свалилось, места себе не нахожу.
Хелла подошла ко мне и легонько положила руку мне на плечо.
- Давай скорее уедем из Парижа, Дэвид. Тебе надо отвлечься от этих мыслей. Не стоит изводиться, будто это случилось по твоей вине. Ты ни в чем не виноват.
- Знаю, что не виноват.
Но звук собственного голоса заставил меня замолчать. Я с ужасом чувствовал, что вот-вот расплачусь.
Полиция не могла поймать Джованни примерно неделю. Когда я смотрел из окна нашего номера на расползающуюся по Парижу темноту, я думал о Джованни: где он теперь прячется, может, сидит под одним из мостов, дрожит от страха, весь продрогший, и не знает, куда податься. Может, думалось, он нашел друзей и спрятался у них. Поразительно, как в таком небольшом, полном полицейских городе, он до сих пор не попался. Иногда я вздрагивал при мысли: а что, если
он придет ко мне просить у меня помощи. Или убить меня. Нет, утешался я, он не станет искать моей защиты, он наверняка считает это ниже своего достоинства. Теперь он, конечно, понимал, что об меня не стоит даже марать руки. Я смотрел на Хеллу, взывая о помощи. Каждую ночь старался поглубже запрятать в ее теле сознание своей вины и свой страх. Жажда обладания Хеллой сжигала меня, как лихорадка, и, пожалуй, единственное, что я мог делать -
это любить ее в постели.
Джованни, конечно, поймали. Рано на рассвете его нашли на барже, стоящей на приколе у набережной. Газетные трепачи вопили, что он удрал в Аргентину, и все были потрясены известием о том, что он оказался под самым носом у полиции, в центре Парижа. Но эта подкупающая неопытность преступника не внушила людям симпатии к нему. Джованни был преступником и притом жалким и неумелым, совершившим убийство по непонятным причинам. В самом деле,
сначала считали, что мотив убийства Гийома - ограбление, но Джованни выгреб из его карманов одну мелочь, не очистил кассу и даже не подозревал о том, что в шкафу у Гийома был другой бумажник, где лежало сто тысяч франков.
Джованни так и попался с ворованными деньгами. Он даже не сумел их потратить. Два-три дня он ничего не ел, еле держался на ногах, был бледный, неопрятный. В каждом газетном киоске на обозрение парижан была выставлена его фотография. Молодое, порочное, напуганное, удивленное лицо смотрело с портрета, точно ему самому не верилось, как это он, Джованни, дошел до
гильотины. Глядя на него, я понимал, как сильно в нем желание исправить непоправимое, как все в нем восстает перед неотвратимостью расплаты. И всякий раз мне казалось, что Джованни просит у меня помощи. Специальный газетный выпуск сообщал о том, как каялся этот закоренелый убийца, как призывал Господа и, рыдая, твердил, что не хотел совершать преступления.
Газета смаковала подробности убийства, делая упор на том, "как" оно было совершено, а не "почему". Истинная причина была слишком страшная, слишком откровенная для газеты и слишком сложная, чтобы Джованни открыл ее.
В Париже я, вероятно, был единственный, кто знал, что Джованни не хотел убивать Гийома, кто сумел вычитать из газетных строк, почему он это сделал.
Мне снова вспомнились тот вечер в нашей комнате и его рассказ о том, за что Гийом выкинул его на улицу. Я снова слышал его голос, видел перед собой искаженное гневом лицо и слезы на глазах. Я знал, какой он самолюбивый, знал, как ему нравилось чувствовать себя debrouillarc и бросать вызов окружающим, я словно бы видел, с какой развязной самоуверенностью он входит
в бар Гийома: Спутавшись с Жаком, он, должно быть, понял, что с любовью покончено навсегда, а раз так, то он может делать с Гийомом все, что ему вздумается. Собственно, это могло произойти и раньше, но ему не хотелось ломать себя, он хотел оставаться самим собой - Джованни. Гийом, конечно, знал (Жак не преминул ему сообщить), что Джованни расстался со своим ami de coeur. Может быть, он со свитой телохранителей даже появлялся пару раз на
вечеринках у Жака.
И Гийом, наверняка, знал, как и все завсегдатаи его бара, что Джованни бросил любовник, теперь он свободен, а, стало быть, доступен и готов пуститься во все тяжкие - такое случалось с каждым из этой братии.
Представляю, какой праздник был в баре, когда Джованни, самоуверенный и развязный, появился на пороге.
Я так и слышу голоса:
- Alors, tu es revenue, - Гийом смотрит на Джованни с откровенным
желанием.
Джованни видит, что Гийом держится с откровенным дружелюбием и понимает, что тот не будет вспоминать о скандале, который учинил в прошлый раз. И все равно Джованни тошнит от его вида, от его запаха, голоса и его жеманства. Он смотрит на Гийома, стараясь не думать о нем, а просто улыбается в ответ, но его тошнит и от улыбки Гийома. А тот, разумеется, ничего не замечает и предлагает Джованни выпить.
- Я думаю, тебе нужен бармен? - спрашивает Джованни.
- Так ты пришел просить работу? А я думал, что твой американец купил тебе нефтяную скважину в Техасе.
- Нет, мой американец... тю-тю, - Джованни развел руками.
Оба смеются.
- Все американцы такие. На них нельзя полагаться, - наставляет Гийом.
- C'est vrai, - отвечает Джованни, допивает коньяк, неуверенно
оглядывается вокруг, возможно, даже не чувствуя своей робости, и насвистывает. Гийом уже не может оторвать от него восхищенных глаз, не может совладать со своими руками.
- Приезжай попозже, к закрытию, потолкуем о деле, - наконец говорит он.
Джованни кивает и выходит из бара. Наверное, потом он встречает своих приятелей по ремеслу, болтает с ними, смеется и, чтобы убить время, напивается для храбрости. Ему нестерпимо хочется, чтобы один из этих мальчиков отговорил его идти к Гийому, убедил бы его, что не надо ему отдаваться. Но приятели говорят о том, что Гийом богат, что он старый и глупый педрила, и что, если не теряться, то можно его хорошо подоить.
На бульваре нет никого, кто бы поговорил с ним и протянул руку помощи. Джованни чувствует, что он гибнет. Он бредет один, то и дело останавливаясь. Ему хочется повернуть назад, бежать без оглядки, но бежать некуда. Дорога одна - в бар Гийома.
Он еще раз окидывает взглядом длинную темную улицу, точно ищет кого-то, но на улице нет ни души, и Джованни входит в бар. Гийом сразу же замечает его и украдкой манит к себе наверх. Джованни поднимается по лестнице. Ноги дрожат. Вот он в спальне Гийома, вокруг - шелковое пестрое тряпье, приторный запах духов. Джованни напряженно смотрит на постель Гийома.
Но тут появляется он сам, Джованни выдавливает из себя улыбку. Они пьют. Гийому не терпится, его жирное тело дрожит, он весь в испарине, но от каждого прикосновения Гийома Джованни все больше сжимается, в комок, стараясь увильнуть от его рук. Гийом исчезает за перегородкой, чтобы переодеться, вскоре появляется в своем шикарном разноцветном халате и требует, чтобы Джованни тоже разделся.
И, наверное, Джованни в эту минуту понимает, что этого ему не вынести, никаким усилием воли не преодолеть ему отвращения к Гийому. Тогда он вспоминает о работе. Старается уговорить Гийома, говорит трезвые, разумные слова, но уже поздно. Гийом наступает неотвратимо, и Джованни, измученный, полубезумный, уступает, теряет почву под ногами, сдается, и Гийом торжествует. Если бы этого не случилось, уверен, Джованни не убил бы его.
Но Джованни, тяжело дыша, лежит на кровати, а Гийом, удовлетворив свою похоть, снова принимает деловитый вид и, расхаживая взад-вперед по комнате, разглагольствует о том, почему Джованни больше не может у него работать. Но как Гийом не изворачивается, истинную причину отказа прекрасно понимают оба.
Джованни, точно постаревшая кинозвезда, утратил свою огромную власть над Гийомом. Теперь он открыт нараспашку для чужих глаз, его тайна узнана.
Джованни это понимает, и ярость, копившаяся в нем долгие месяцы, закипает, а воспоминание о руках и губах Гийома подливает масла в огонь. Он молча смотрит на Гийома и вдруг срывается на крик. Тот отвечает тем же. С каждым произнесенным словом у Джованни все сильнее кружится голова, перед глазами плывут черные круги. Гийом - на седьмом небе от счастья, он гоголем ходит по комнате. Он кривляется и пыжится изо всех сил, наслаждаясь состоянием
Джованни. Гийом выговаривает ему самодовольно и уверенно, злорадно замечая, что на шее у Джованни напрягаются жилы. Радуясь, что они поменялись ролями, Гийом что-то говорит, бросает одну за другой обидные фразы, ругательства или язвительные насмешки, и вдруг он читает в глазах онемевшего от ужаса
Джованни, что сболтнул лишнего и что этого уже не поправить.
Джованни схватил его за шиворот и ударил по лицу, вышло это невольно, бессознательно, но от этого удара, от прикосновения к Гийому сердце Джованни точно вырвалось из тяжелых пут, и теперь наступил его черед насладиться местью. Комната перевернулась вверх дном, в нос ударил приторный запах духов, полетели в стороны лоскутки дорогого халата. Гийом рвался из комнаты, но Джованни не пускал его. Теперь уже он неотвратимо наступал на Гийома. И, вероятно, в ту минуту, когда Гийом вцепился в дверную ручку, надеясь на спасение, Джованни набросил ему на шею кушак от его нарядного халата и затянул. Он не выпускал его из рук, плакал, проклинал Гийома, и чем больше тяжелело тело Гийома, тем легче руки Джованни затягивали петлю.
Наконец Гийом рухнул, Джованни тоже рухнул на пол, и эта комната, и Париж, и весь мир черной тенью смерти нависли над ним.
Когда мы нашли, наконец, подходящий дом, я понял, что мне здесь делать нечего. Мы нашли его, но он был мне не нужен. Но ничего изменить я уже не мог, да и не хотел. Поначалу мне думалось, что лучше всего остаться в Париже, быть поближе к Джованни, может, даже навестить его в тюрьме. Но я знал, что это не имеет смысла. С ним один раз виделся Жак, который постоянно общался с адвокатом Джованни и со мной. Жак убеждал меня в том, что я без него прекрасно понимал - ни я, да и никто на свете не в силах помочь
Джованни.
Он решил умереть. Сознался в убийстве, которое якобы совершил, чтобы раздобыть денег. Газеты смаковали скандальные подробности. Обсасывали то, как Гийом вышвырнул Джованни из бара. Они изображали Гийома несколько эксцентричным, но благородным и бескорыстным благодетелем и сетовали на судьбу, которая свела его с таким жестоким и неблагодарным проходимцем, как Джованни. Потом газетная шумиха улеглась. Джованни сидел в тюрьме и ждал суда.
А мы с Хеллой переехали в новый дом. Возможно, вначале я надеялся, что, хотя я ничего не смогу сделать для Джованни, мне удастся что-нибудь сделать для Хеллы. Должно быть, я надеялся, что и Хелла чем-нибудь поможет мне. Но она была бессильна, потому что мне все было невмоготу, и дни тянулись, как будто я сам сидел в одиночной камере. Я не мог выбросить из головы Джованни.
Жизнь превратилась в лихорадочное ожидание вестей, поступавших от Жака. Когда я думаю о той осени, помню только одно: я жду суда вместе с Джованни. Наконец он состоялся. Джованни признали виновным и приговорили к смертной казни. Всю зиму я считал дни, и жизнь превратилась в сплошной кошмар.
Немало страниц написано о том, как любовь превращается в ненависть, как душевный холод приходит на смену умершей любви. Это поразительная метаморфоза! Все было куда страшнее, чем толковали об этом книжки, куда страшнее, чем я себе это представлял.
Трудно сказать, когда я впервые понял, что Хелла мне надоела, что ее тело приелось мне, что оно непривлекательно и, вообще, она меня раздражает.
Все произошло как-то вдруг, хотя копилось исподволь давным-давно. Я смутно замечал это, когда Хелла кормила меня ужином и, наклонившись, легонько касалась кончиками грудей моего плеча. От отвращения меня прямо передергивало. Раньше мне нравился приятный, какой-то домашний запах ее белья, развешенного в ванной комнате. Теперь же оно оскорбляло мое эстетическое чувство и всегда казалось грязным. Ее тело, прикрытое этими дурацкими тряпками, стало казаться мне до смешного нелепым. Когда я смотрел на голые округлости ее тела, мне до смерти хотелось, чтобы оно было скроено грубее и крепче, как у Джованни. Ее полные груди наводили на меня ужас, и когда она лежала подо мной, я вздрагивал при мысли, что живым мне из ее
объятий не вырваться. Словом, то, что прежде пленяло и возбуждало меня, теперь вызывало отвращение.
Думаю, что никогда в жизни мне не было так страшно. Когда руки, сжимавшие Хеллу, невольно ослабевали, я вдруг понимал, что стою у самого
края пропасти и изо всех сил цепляюсь за Хеллу, надеясь на спасение. Каждый раз, когда руки против моей воли разжимались, я слышал, как в этой бездне воет ветер, я чувствовал, как сердце замирает и бешено противится роковому падению.
Сначала я думал, что все дело в том, что мы слишком много бываем наедине, поэтому я предложил Хелле немножко попутешествовать. Мы прокатились в Ниццу, в Монте-Карло, Канны и Антибу. Но денег было мало, а зимой на юге Франции нужна куча денег. Мы без конца бегали в кино, подолгу засиживались в пустых дешевых барах, много гуляли. И всегда молча. Получалось, что нам
больше нечего сказать друг другу. Часто пили, особенно набирался я. Хелла, вернувшаяся из Испании такой загорелой, сияющей, жизнелюбивой, как-то сникла, побледнела, казалась настороженной и неуверенной в себе. Она больше не спрашивала, что со мной, она свыклась с мыслью, что либо я сам не знаю, либо промолчу. Она молча наблюдала за мной. Я ловил на себе ее настороженный взгляд, терялся и еще сильнее ненавидел ее. Я смотрел на ее строгое,
грустное лицо и терзался от сознания своей страшной вины перед ней.
Наша жизнь теперь зависела от автобусного расписания. Мы частенько встречали зимнее утро в темном зале ожидания или мерзли на улице какого-нибудь безлюдного захудалого городишка. Домой приезжали на рассвете и сразу заваливались спать, не чувствуя ног от усталости.
Странно, но в эти утра у меня еще хватало сил заниматься любовью. Может, эти бессонные ночи каким-то таинственным образом возбуждали меня, не знаю. Но любовь была уже не та. Что-то переменилось: ни чувства новизны, ни радости, ни умиротворения, ни горячки - все было иным.
По ночам меня мучили кошмары, иногда я просыпался от собственных криков, иногда я так сильно стонал, что Хелла будила меня. Как-то раз она сказала:
- Я хочу, чтобы ты мне все рассказал. Выговорись, и я помогу тебе.
Мне стало стыдно и больно, я вздохнул и растерянно мотнул головой. Мы сидели в гостиной, в той самой, где я сейчас стою. Хелла сидела в мягком кресле под лампой с раскрытой книгой на коленях.
- Ты очень хорошая, - сказал я и, помолчав, добавил, - пустяки. Скоро пройдет. Это нервы шалят.
- Нет, это из-за Джованни, - сказала она.
Я внимательно посмотрел на нее.
- Ты ведь думаешь, что поступил жестоко, оставив его одного в его
комнате? - осторожно спросила она, - не надо казнить себя за то, что с ним случилось. Пойми, милый, ты же ничем ему не мог помочь. Зачем же так мучиться?
- Он был очень красивый, - сказал я.
Слова вырвались сами собой, и я почувствовал, что дрожу. Я подошел к столу, на котором стояла бутылка, и налил виски в стакан. Хелла не спускала с меня глаз. И хотя я больше всего боялся проговориться, молчать тоже было невмоготу. А, может, мне даже хотелось проговориться.
- Я не могу избавиться от мысли, что сам толкнул его под нож. Он так
хотел, чтобы я остался с ним в его комнате, он умолял меня. Я тебе не говорил, но в ту ночь, когда я ходил к нему за вещами, у нас дело дошло до драки. Я осекся, прихлебнул виски и добавил:
- Джованни плакал.
- Он тебя любил, - сказала Хелла. - Почему ты мне об этом не говорил?
Или сам не знал?
Я отвернулся, чувствуя, что краснею.
- Но ты-то в этом не виноват, - продолжала она, - как ты не можешь
понять? Ты же не мог запретить ему в тебя влюбиться! И ты не мог помешать ему... убить этого ужасного человека!
- Ты же ничего об этом не знаешь, - пробормотал я, - ничего не знаешь.
- Я вижу, как ты мучаешься.
- Нет, только я один знаю, как я мучаюсь.
- Дэвид, не уходи в себя, пожалуйста, не уходи. Я помогу тебе.
- Хелла, девочка моя, я знаю, что ты хочешь помочь. Но дай мне прийти в себя. Это все скоро пройдет.
- Я уже не раз это слышала, - сказала она устало, потом спокойно
посмотрела на меня долгим взглядом и спросила:
- Дэвид, а тебе не кажется, что пора ехать домой?
- Домой? Зачем?
- А зачем мы торчим в этом доме? И сколько еще ты собираешься сидеть здесь и есть себя поедом? И подумай, наконец, обо мне. Она поднялась и подошла ко мне.
- Поедем домой, прошу тебя, Дэвид. Я хочу выйти замуж, хочу иметь детей, хочу жить в своем доме, хочу тебя. Прошу тебя, Дэвид, зачем нам тратить здесь попусту время?
Я быстро отпрянул от Хеллы. Она застыла у меня за спиной.
- В чем дело, Дэвид? Чего ты хочешь?
- Не знаю, сам не знаю.
- Что ты скрываешь от меня? Почему не скажешь мне всю правду? Скажи мне правду, Дэвид.
- Скажи мне правду, Дэвид.
Я повернулся и посмотрел ей в глаза.
- Хелла, потерпи немножко, еще немножко потерпи...
- Да я согласна, - закричала она, - но ты-то где? Ты все время где-то витаешь, и я не могу тебя найти. Господи, если б ты только позволил мне быть
рядом...
Она заплакала. Я обнял ее. Обнимал ее и ничего не чувствовал. Я целовал ее соленые от слез глаза и шептал, шептал ей какой-то вздор. Я чувствовал, что ее тело напряглось от желания встречи с моим телом, а сам я противился и уклонился от этой встречи. И тогда я опять понял, что падаю в пропасть. Я отодвинулся от нее, и она вдруг задергалась, как кукла на веревочке.
- Дэвид, позволь мне быть женщиной. Делай со мной, что хочешь, мне все равно. Я отпущу длинные волосы, я брошу курить, я выкину книги.
Хелла попыталась улыбнуться, и от этой улыбки у меня защемило сердце.
- Дэвид, позволь мне быть женщиной, возьми меня. Больше мне ничего не надо, ничего, все остальное безразлично.
Она опять прильнула ко мне, а я стоял, как истукан. Она тормошила меня, с отчаяньем и трогательной доверчивостью заглядывая в глаза.
- Не бросай меня опять в этот хаос, Дэвид. Позволь мне быть рядом с тобой.
Она целовала меня. Но мои губы оставались холодными. Они будто ничего не чувствовали. Она снова целовала меня, я закрыл глаза, чувствуя
неимоверную тяжесть во всем теле. Казалось, мое тело никогда больше не откликнется на ее желание, никогда не отзовется на мольбу ее чувственных рук. Но когда оно все же проснулось, я как бы отделился от него и откуда-то с высоты, где воздух морозный и жесткий, наблюдал за тем, как мое безучастное тело бьется в объятиях чужого человека.
В тот вечер, а, может, на другой день, не помню, я дождался, пока Хелла уснет, и один уехал в Ниццу.
За ночь я исходил все бары этого сверкающего огнями города, а под утро, одуревший от спиртного и похоти, уже поднимался по лестнице какой-то подозрительной гостиницы. Со мной по лестнице поднимался матрос. А назавтра к вечеру вдруг выяснилось, что отпуск у матроса не кончился и что у него есть приятели. К ним мы и отправились. Провели там ночь и два дня подряд с ними не расставались. Последнюю ночь мы пили в каком-то переполненном баре. Я стоял у стойки, еле держась на ногах. В кармане - ни гроша. И вдруг в зеркале я увидел лицо Хеллы. Сначала я решил, что сошел с ума, потом обернулся. Выглядела она измученной и жалкой.
Довольно долго мы молчали. Я чувствовал, что матрос с любопытством наблюдает за нами.
- Она, видно, ошиблась и не туда забрела? - спросил он меня наконец.
Хелла посмотрела на него и улыбнулась.
- Если бы я ошиблась только в этом! - сказала она.
Тогда матрос уставился на меня.
- Вот, - сказал я, - теперь ты знаешь все.
- По-моему, я это давно знаю, - ответила она и, повернувшись, зашагала к выходу.
Я бросился за ней. Матрос схватил меня за рукав.
- Кто это? Твоя...
Я кивнул. Он так и застыл с разинутым от удивления ртом. Потом пропустил меня, поспешно проскользнул мимо и, уже стоя на пороге, услышал
его смех.
Мы с Хеллой молча шли по холодным незнакомым улицам. Казалось, город вымер и этой ночи не будет конца.
- Ладно, - сказала Хелла, - я еду домой. Господи, и зачем я только оттуда уехала!
В то утро, укладывая вещи, Хелла сказала мне:
- Больше ни минуты здесь не останусь, а то забуду, что значит быть женщиной.
Она была совершенно спокойна и очень красива.
- Вряд ли женщина может об этом забыть, - заметил я.
- Нет, есть такие женщины, которые забыли, что быть женщиной и терпеть унижения и обиды - не одно и то же. Только я этого не забыла, - продолжала
она, - хотя и жила с тобой. Поэтому я и уезжаю из этого дома, скорей бы сесть в такси, на поезд, на пароход - только подальше от тебя.
Я стоял на пороге нашей бывшей спальни и смотрел, как она мечется по комнате с лихорадочной поспешностью, точно человек, который собрался бежать - она бросалась то к открытому чемодану, то к ящику комода, то к шкафу, а я молча стоял на пороге и наблюдал за ней. Слова, будто хлебный мякиш, залепили мне глотку, и я не мог произнести ни звука.
- Хелла, пойми хотя бы, - с трудом выдавил я, - что если я кого и обманывал, так не тебя.
Она резко повернулась, лицо у нее было страшное.
- Разве ты не со мной спал, не меня привез в этот страшный дом, в это никуда, не на мне хотел жениться?
- Просто я хочу сказать, - попытался объяснить я, - что я прежде всего обманывал самого себя.
- Это, разумеется, меняет дело, - сказала Хелла насмешливо.
- Как ты не понимаешь, - закричал я, - ведь я не хотел, чтоб ты страдала из-за меня, это вышло против моей воли.
- Не кричи, - сказала Хелла, - вот уеду, можешь кричать, сколько угодно. Пусть услышат эти холмы и крестьяне, как ты виноват и как тебе
нравится чувствовать свою вину.
Она опять заметалась по комнате, но не так лихорадочно, как прежде. Мокрые волосы падали на лоб, лицо было влажным. Мне хотелось протянуть руки, обнять ее и утешить. Но какое тут могло быть утешение? Одна мука для обоих.
Она укладывала вещи, не глядя на меня, внимательно рассматривала каждую тряпку, точно сомневалась, не чужая ли она.
- Но я знала об этом, знала, - продолжала она, - поэтому мне так стыдно. Я видела это каждый раз, когда ты смотрел на меня, постоянно
чувствовала, когда мы ложились в постель. Почему ты тогда не сказал мне правду? Выжидал, пока я сама об этом заговорю? Какой ты жестокий! Все взвалить на мои плечи! Я надеялась, что ты первым начнешь разговор и была права - женщины всегда ждут объяснений от мужчин. Или ты этого не знаешь?
Я молчал.
- Мне не пришлось бы торчать в этом доме, не пришлось бы ломать себе голову, как пережить это долгое возвращение назад. Давно бы я сидела в своем
родном доме, ходила бы на танцы, и какой-нибудь парень был бы не прочь переспать со мной, и я не ломалась бы - почему нет?
Хелла нервно улыбнулась, зажав в руке кучу нейлоновых чулок, потом осторожно принялась запихивать их в чемодан.
- Тогда я сам ничего не знал. Я хотел одного: поскорее вырваться из комнаты Джованни.
- Вот ты и вырвался, - ответила она, - а теперь я вырываюсь из этого дома, и только бедный Джованни... поплатился за все головой.
Это была безобразная шутка. Хелла метила мне в самое больное место, но язвительная улыбка у нее не получилась.
- Нет, этого я никогда не пойму, - наконец сказала она и подняла на меня глаза, точно я мог объяснить ей, что к чему, - как мог этот жалкий
воришка так изломать твою жизнь? Да и мою тоже. Нет, американцам нельзя ездить в Европу, - продолжала она, попробовала рассмеяться и вдруг заплакала.
- Побывав здесь, они уже не смогут быть счастливыми, а кому нужен американец, если он несчастлив. Счастье - это все, что у нас есть.
Она заплакала навзрыд и бросилась ко мне. Я обнимал ее в последний раз.
- Неправда, неправда, - бормотал я, - дело не только в счастье, в нашей жизни есть вещи и поважнее. Только подчас они нам дорого обходятся.
- Господи, как я тебя хотела! Теперь каждый встречный мужчина станет напоминать мне о тебе.
Она снова попробовала рассмеяться:
- Мне его жаль! Жаль всех мужчин и жаль себя!
- Хелла, если ты когда-нибудь будешь счастлива, попробуй простить меня.
Она отшатнулась от меня.
- Нет, я разучилась понимать, что такое счастье и что такое прощение. Женщина создана для того, чтобы ее вел мужчина, но мужчин нет, их же нет!
Так что же нам делать, что?
Она подошла к шкафу, достала пальто, порылась в сумочке, вынула пудреницу и, смотрясь в зеркальце, вытерла глаза и накрасила губы.
- Помнишь, как это говорится в детской книжке, маленькие девочки не похожи на маленьких мальчиков. Маленьким девочкам нужны маленькие мальчики, а мальчикам, - она с треском защелкнула пудреницу, - я уже никогда не пойму, что им нужно, и никогда они мне этого не объяснят. Наверняка не сумеют.
Она пригладила волосы, откинула прядь со лба. В тяжелом черном пальто, с сильно накрашенными губами, она снова показалась мне как когда-то прежде холодной, ослепительной и невероятно беззащитной женщиной.
- Дай мне что-нибудь выпить, - сказала она, - пока ждем такси, выпьем за добрые старые времена. На вокзал провожать меня не надо. Буду пить їсю
дорогу до Парижа, а потом до самого дома, пока не переплывем этот проклятый океан.
Мы пили молча, прислушиваясь, не подошло ли такси. Наконец шины зашуршали о гравий, и мы увидели горящие фары. Шофер просигналил. Хелла поставила стакан, запахнула пальто и направилась к двери. Я взял чемоданы и пошел следом за ней. Пока вдвоем с шофером мы укладывали чемоданы в багажник, я все старался найти слова, которые хоть немного утешили бы Хеллу. Но так ничего и не придумал. Она тоже ничего не сказала. Стояла под темным зимним небом и смотрела куда-то мимо меня. Когда все было готово, я повернулся к ней.
- Хелла, ты правда не хочешь, чтобы я проводил тебя на вокзал?
- До свиданья, Дэвид.
Она взглянула на меня и протянула руку, она была холодная и сухая, как ее губы.
- До свиданья, Хелла.
Она села в такси. Я проводил взглядом машину и помахал на прощанье рукой, но Хелла не обернулась.
Горизонт за окном постепенно светлеет, и серое небо окрашивается в пурпурно-синие тона.
Чемоданы упакованы, в доме прибрано. Ключи лежат на столе. Остается только переодеться. Когда горизонт станет розовым, я сяду в автобус, доеду до городского вокзала, и поезд, вынырнувший из-за поворота, повезет меня в Париж. Только я почему-то никак не могу сдвинуться с места.
На столе лежит небольшой голубой конверт с запиской от Жака, в которой он сообщает о дне казни Джованни.
Я наливаю себе немного виски и слежу за своим отражением в оконном стекле. Отражение постепенно расплывается, словно я таю на глазах. Это
выглядит довольно забавно, и я смеюсь.
Наверное, сейчас перед Джованни распахиваются ворота и с тяжелым лязгом закрываются за ним. Последние в его жизни ворота. А, может, уже все кончилось или, наоборот, только началось. А, может, он все еще сидит в своей камере и вместе со мной наблюдает за тем, как занимается день. Может, в конце коридора уже слышатся голоса трех дюжих конвоиров в черном, и позванивает связка ключей, которые держит один из них. Тюрьма молчит, тюрьма ждет, замирая от страха. Джованни казнят одного? Или в этой стране казнят не в одиночку, а группами? Кто его знает. И что он сказал священнику?
- Переоденься, - говорит мне внутренний голос, - опоздаешь.
Я иду в спальню, на кровати валяется моя одежда, уложенный чемодан раскрыт. Я начинаю раздеваться. В этой комнате стоит зеркало во всю стену. Я помню о нем и его боюсь.
Лицо Джованни все время стоит у меня перед глазами, точно неожиданно вспыхнувший огонек в ночи. Его глаза горят как у тигра, поджидающего смертельного врага.
Я не могу понять, что в его глазах: если это ужас, то такого я никогда не испытал, если страдание, то такое меня миновало. Вот шаги приближаются,
вот поворачивается ключ в замке, вот конвоиры хватают его. Он вскрикивает. Они толкают его к двери камеры, коридор стелется перед ним, как огромное кладбище прошлого, тюрьма поглощает Джованни. Может, он стонет или, наоборот, не издает ни звука. Начинается его долгое путешествие, последнее путешествие. Или, может, он вскрикивает, и уже не в силах замолчать, кричит, надрываясь, кричит, а вокруг только каменные стены и железные решетки. Ноги у него подкашиваются, тело деревенеет, а сердце стучит, как молот. Может, он весь в испарине или нет? Он сам идет или его тащат? У них мертвая хватка, ему уже не вырваться!
Позади длинный коридор, железные лестницы, камеры, тюрьма - он в молельне у священника. Он стоит на коленях. Теплятся свечи, на него глядит пречистая дева.
О, пресвятая дева Мария...
У меня липкие руки, а тело - белое, сухое, жалкое. Я краешком глаза подглядываю за собой в зеркало.
О, пресвятая дева Мария...
Он целует распятие, приникает к нему. Но священник мягко отнимает у него распятие. Джованни поднимают на ноги. Это еще не конец пути. Теперь они направляются к другой двери. Джованни стонет. Он хочет сплюнуть, но во рту все пересохло. Он не решается даже попросить у них разрешения помочиться, чтобы оттянуть время. Он знает, что за дверью, которая сейчас закроется за ним, его неминуемо ждет нож. Вот он, выход из этого грязного мира, вот оно, избавление от грязной плоти, о котором Джованни столько мечтал!
Поздно, уже поздно...
Мое отражение в зеркале притягивает меня, как магнит. Я смотрю на свое тело, осужденное на смерть. Оно стройное, крепкое, холодное - само
воплощение таинственности. Что им движет, чего оно хочет - не знаю. Оно заключено в этом зеркале, как в ловушке времени, но оно спешит пробиться к свету истины.
Когда я был ребенком, я говорил, как ребенок, воспринимал мир, как ребенок, думал, как ребенок, но, когда стал взрослым, я забыл о детстве.
Я очень хочу, чтобы это пророчество сбылось. Я хочу разбить это зеркало и освободиться. Я смотрю на свой член - причину всех несчастий - и думаю, как спасти его от греха, как уберечь от гибели. Путь к могиле уже начался, а путь к полному распаду уже наполовину пройден. И ключ к избавлению, который бессилен спасти мое тело от него самого, спрятан в моей плоти и крови.
И вот дверь - перед ним. Вокруг Джованни темнота, а в его душе - тишина. Дверь отворяется, он один, отторгнутый от всего мира. Крошечная
полоска неба как бы кричит ему слова прощения, но он ничего не слышит. Потом все темнеет у него в глазах, он падает в бездну, и начинается его новый путь.
Наконец я отрываю взгляд от зеркала и спешу прикрыть свою наготу, которая никогда не казалась мне такой порочной и которую я хотел бы
сохранить в чистоте. Я должен, должен верить, что воля милосердного Господа, приведшая меня сюда, выведет заблудшего к свету.
Наконец я выхожу во двор и запираю дверь. Перехожу дорогу, кладу ключи в почтовый ящик своей хозяйки. Потом смотрю на дорогу, где стоят местные жители, мужчины и женщины, поджидающие первый автобус. Утро неожиданно пробуждает во мне мучительную надежду. Я беру голубой конверт, присланный Жаком, неторопливо рву его на мелкие клочки и смотрю, как они медленно разлетаются во все стороны. Но, когда я поворачиваюсь и направляюсь к остановке, несколько бумажных обрывков падают на мой воротник.


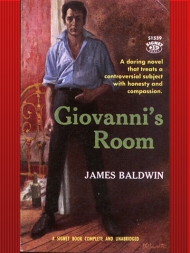
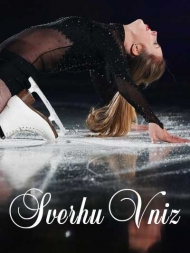

4 комментария