WXD
Северная сторона заката
Аннотация
У каждого своя Страна Чудес и свой Белый Кролик, за которым бежишь без оглядки, не особенно задумываясь, куда... Для опера из дежурной части капитана полиции Николая Белова, уже разменявшего четвертый десяток, таким провожатым станет мальчишка по имени Виктор Фишер. Как далеко они оба готовы зайти, чтобы понять, что же ими на самом деле движет - похоть, чувства или что-то ещё?
Продолжение - повесть "Спички".В ванной нашелся тазик — пластмассовый, ярко-зеленый, но Белов решил, что это будет слишком жирно, и мстительно вытряхнул из кухонного ведра пакет с мусором. Представил, как завтра Фишер сам же будет его драить, и криво усмехнулся — поделом.
Он успел как раз вовремя — Фишер свесился с кровати, слепо хватаясь рукой за простыню, за матрас. Схватив его за футболку, чтоб не грохнулся, Белов подтолкнул поближе ведро — и Фишера в ту же секунду вывернуло. Его скручивало долгих две минуты — тощее тело вздрагивало, заставляя трястись всю кровать — и Белов впервые порадовался, что спят они не вместе. Потом Фишер замер, глотая воздух открытым ртом — по щекам текли слезы, судорожные вдохи превратились в кашель — и Белов помог ему слезть на пол. Фишер сел по-турецки, тут же опустил голову на кровать, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Белов пошел на кухню за водой и уже оттуда услышал, что его снова полощет.
Наташа была очень мила, когда Белов, извинившись, запихивал Фишера в такси — мила и по-прежнему немногословна. Она не напилась в сопли, как он ожидал — и в ее молчании было что-то таинственное, такое, что оставляло простор для воображения и при других обстоятельствах обязательно бы его взбудоражило. Полгода назад он бы ее не пропустил. Теперь возможная тяга сократилась до сдержанной симпатии, но он все равно думал — вот ведь, не баба, а золото. И при ближайшем рассмотрении совсем не похожа на всю эту свинячью братию. Что бы там ни было, а глаз у Фишера оказался наметан.
Ее подруга была совсем не такой — тихой, невзрачной, и просидела за столиком все время, пока Фишер таскал Наташу по танцполу. И звали ее как-то невыразительно — то ли Валя, то ли Лена. Один раз Белов пригласил ее потанцевать, но она, сжавшись, отказалась — и спряталась за своим бокалом, к которому едва ли притронулась за весь вечер. Ее молчание было другим — самым обычным молчанием тихушницы при красивой подруге. Наташино — то говорило выразительнее слов, но при этом давало место загадкам и волю фантазии, а тут — ничего, все ясно и предельно скучно.
Белов ревниво наблюдал за Фишером и Наташей, хотя уже понял, что тот просто валяет дурака — кто знает, может, чтобы ему досадить или еще зачем-то. Например, вживается в антураж. Мотает нервы.
И Фишер не стеснялся. Он как будто точно знал, как себя нужно вести, что говорить, в каком месте улыбаться, а в каком — обнимать, и через полчаса офигевший Белов уже смотрел, как они целуются среди мелькающих парочек. Сквозь круговерть он заметил, как Фишер запустил пальцы под ее волосы, туда, где затылок, а чуть ниже — голая кожа, наверняка тонкая и гладкая. Сглотнул.
Вид Фишера, сосущегося с посторонней бабой, притягивал взгляд — приклеивал, как магнит железную стружку. Белов с неприязнью понял, что заводится — и отводил душу, представляя, что сделает с ним в квартире. Фишер это словно чувствовал — глотал все, что горело, но как будто не пьянел, и не отлипал от Наташи, и снова пил; Белову даже показалось, что он сам окосеет раньше — от гама, от слишком громкой музыки, от дыма и жирного запаха еды, которую готовили прямо на улице.
А потом Фишер вернулся за столик, криво рухнул на стул, и Белов понял, что все — готов.
В такси стало ясно, что Фишер в эту ночь к ебле совершенно непригоден — если только оприходовать тело в полной отключке. Белов на секунду представил себе это: закрытые глаза, безвольно повисшая голова, руки, с которыми можно делать что угодно — абсолютно все — и пришлось зажмуриться от короткого болезненного спазма в паху.
Сложив Фишера на заднее сиденье, Белов сел вперед — его горячей тяжести под боком он бы точно не выдержал. Фишер не возражал — он вообще ничего не говорил, просто отрубился.
— Э, браток, не вывернет его? — забеспокоился водитель.
Белов пожал плечами. Таксист вздохнул, но все-таки тронулся.
В такси Фишера не вывернуло, но уже на пороге стало ясно — сейчас будет блевать. Белов дотащил его до кровати и пошел искать подходящую посуду. Лучше всего, конечно, было бы его раздеть и просто запихнуть под холодный душ, но Белов побоялся, что тогда точно не удержится от соблазна. А приставать к пьяному в отключке — пусть это даже был Фишер — до такого он пока не опустился.
Проснувшись утром, Белов на секунду подумал, что только-только начало светать. Сел, потер глаза и только потом сообразил, что дело в наглухо сдвинутых жалюзи. Когда они вчера вернулись, жалюзи были приоткрыты.
Белов покосился — Фишер. Он вроде бы спал, замотавшись в простыню, как мумия, но видно было, что вставал ночью — ведро пустое и чистое, ну и окна задраены.
Накануне Белов просидел с ним около часа — следил, чтобы не повалился рожей в ведро. Пошел спать, только когда Фишера перестало скручивать каждые пять минут.
Как он вставал ночью, Белов не слышал.
Часы показывали вовсе не раннее утро, а половину двенадцатого.
Белов подошел к кровати, посмотрел. Фишер спал, и очень крепко — из простыни торчали только голые подошвы.
Вчерашняя злость на него улетучилась — не злиться же всерьез, что нажрался. Даже на фокусы с Наташей злиться не получалось, а ведь вчера готов был его с полом сравнять.
Вот долбоеб, думал Белов, но без раздражения.
Ему и самому было не очень — голова все еще гудела, во рту сохло, сейчас бы задремать по новой под телевизор, но телевизора в Ашотовой хате не было.
Поэтому Белов пошел в душ, потом спустился в столовую и на обратном пути зацепил минералки. Еду, подумав, брать не стал. Когда Фишер очухается настолько, чтобы жрать, то и спуститься сам сможет.
К приходу Белова Фишер по-прежнему валялся на кровати, но уже не спал. Смерил его хмурым взглядом, не отрывая головы от подушки, увидев минералку, оживился.
— Ханыга ты, — сказал Белов, — а еще типа музыкант…
— Это взаимосвязано, — буркнул Фишер, прижимая ко лбу запотевшую бутыль.
— И утренний пляж проебал.
— Заткнись, — сморщился тот. — Сходи, погуляй.
Похмельный Фишер, конечно, был компанией так себе, но почему-то вспомнилось, как он сам с ним остался позавчера — никуда не пошел.
Белов присел на его кровать, потеснив укутанные простыней ноги. Посмотрел, как он пьет — маленькими глотками, словно разболелось горло. Сквозь свежий загар проступали лиловые тени вокруг глаз.
Спросил:
— Ну что, герой-любовник. Херово тебе?
Фишер отлип от бутылки, отдышался. Белов отнял у него крышку, завернул.
— Давай-ка легче, а то сейчас опять скрутит.
Фишер обессиленно повалился на подушку. Над верхней губой блестели капли пота.
— Блядь, — пробормотал он. — В такие дни, — опустил веки, словно глаза болели, но продолжил: — Могу думать только о двух вещах. И никак не выберу.
Он сморщился так, что Белов даже забеспокоился. Простонал:
— Блядь, башка.
— Я не взял таблеток, — сказал Белов. Подумал, что сейчас придется топать в аптеку, а то ведь промучится до вечера.
— Я взял, — отозвался Фишер из подушки. — В рюкзаке валяется. На дне где-то.
Белов потянулся к торчащему из-под кровати рюкзаку. Смятые трусы и футболки, зажигалка, две пачки сигарет, обе открытые, бумажные платки, нафтизин, станок в пластиковой коробке — так и не отнес в ванную — какая-то книжка.
— Ты меня обыскиваешь, — донеслось с кровати.
— Так не обыскивают, — сказал Белов, продолжая рыться. — Просто вываливают все и смотрят.
— А личный досмотр?
Белов подумал — интересно, он сам бы тут нашел хоть что-нибудь?
— Кто тебя шмонал тогда, Кожин?
— Такое сало? Вроде он.
— Ну вот. Должен помнить про личный досмотр.
— Да уж, — Белов не видел, но хорошо себе представил его гримасу. — Такое забудешь.
— Нашел.
Фишер вытряхнул на ладонь сразу две таблетки. Запил, кашлянул.
Белов сел обратно, прижавшись спиной к стене. Фишер, охнув, перебросил ноги через его колени.
— Так между чем и чем ты там не можешь выбрать?
Фишер не сразу понял, потер рукой глаза. Потом заговорил — тихо, почти шепотом.
— А… Ты все про это. Одновременно хочется, знаешь, всех перебить к хуям — полить напалмом или там из огнемета. Чтобы корчились и бегали, а я бы стоял и смотрел. Всех, блядь, ненавижу, суки, обмудки, блядь.
Белов приподнял брови. Фишер продолжал:
— И хочется стать типа таким приличным обывателем, чтоб никогда больше не пить. Никого не обижать, ни во что не лезть, никуда не ходить. Понимаешь?
Белов понял по-своему.
— Стыдно?
Фишер удивился так искренне, что стало ясно — нет, не стыдно.
— За что? — спросил он.
— За фортели вчерашние, — все же сказал Белов.
Фишер коротко простонал, закрыв лицо руками.
— Бля… Хуево мне — вот поэтому.
— Думать надо было.
— Да иди ты в жопу. — Фишер даже попытался пнуть его коленкой — безуспешно. И добавил: — Кажется, я выбрал. Спасибо.
— Выбирай второе. А то, гляди, такую бабу просрал.
Фишер отнял ладони от лица, собрался вроде удивиться, но потом расплылся в вялой улыбке.
— А, Наташка… Я у нее номер взял, — и хрипло рассмеялся. — Ага, она ничо.
Белов почувствовал знакомое раздражение.
— Можно подумать, у тебя хоть раз баба была.
Фишер снова расхохотался чему-то своему — в конце смех потонул в одном длинном болезненном охе. Дернул плечом.
— Ты про что — про…
— Ну да, про это самое.
— Да была, была. — Фишер коротко улыбнулся, замолк на пару секунд, словно вспоминал, и воспоминания эти его забавляли. — Короче, классе в десятом пошли мы с пацанами в… — и тут же снова расхохотался, словно не поспевал за собственными мыслями. Попытался приподняться, не получилось, повалился обратно. И сообщил, схватив Белова за рукав: — Прикинь, она кончила! Я чот тупил, долго возился, ну и накинули мы прилично, а она…
— Давай без подробностей, — поморщился Белов. Вспомнил Наташу, руки Фишера на ее талии, и щека едва не дернулась.
Фишер ухмыльнулся.
— Ла-адно. Как скажете… гражданин начальник.
Белов чувствовал тяжесть его ног на собственных коленях, смотрел, как медленно он заводит руку под голову, а другой чешет бедро, против воли прикинул, какая будет реакция, если он к нему сейчас полезет. И, подумав об этом, уже не мог думать ни о чем другом.
А Фишер дурачился, кривлялся, шарил рукой по полу в поисках минералки.
— Я телок вообще люблю, — сказал он, вытирая рот тыльной стороной ладони. — Ну так… время от времени. Среди них очень ничего попадаются, вот как Наташка.
— А мужиков? — перебил Белов.
Фишер замолк, глядя на него как-то оценивающе. Кривляние заметно увяло, но он не злился — скорее, размышлял. Обдумывал что-то. Наконец, сощурившись, медленно спросил:
— Тебе как? С подробностями?
Белов смотрел на него — глаза отвести не получалось.
Неужели расскажет, пронеслось в голове. О чем?
Он опустил руку Фишеру на колено, сжал через простыню. Тот продолжал щуриться.
Белов не принял вызов — едва заметно повел подбородком из стороны в сторону.
Нет — и Фишер понял сразу.
Расслабился.
— Голова прошла? — облизнув сохнущие губы, спросил Белов.
Фишер пожал плечами.
— Не пойму пока.
Белов потянул вверх свою футболку. Бросил на стул, наклонился, опираясь на локоть. Фишер смотрел. Не отвечал, но и не отталкивал. А когда он коснулся губами его щеки, потом шеи, груди — фыркнул, словно от щекотки.
— Что? — спросил Белов и стянул простыню. Фишер был в шортах: он и ходил в них, и спал — не заморачивался.
— Сил нет. Я, блядь, труп. — При этих словах Белов вспомнил, как едва не поимел его ночью в отрубе.
И тут же завелся сходу, словно внутри нажали выключатель — поцеловал за ухом, стиснул бедро, прижался сбоку. Фишер прикрыл глаза и облизнулся. Двигаться он, похоже, действительно, не собирался.
Ну и отлично, про себя согласился Белов.
Почти улегся на него, горячо дыша в шею, расстегнул шорты.
— Ничего не делай, просто лежи.
Фишер вздрогнул раз, другой, третий — до Белова не сразу дошло, что он ржет, тем самым своим ублюдочным смехом. Он отстранился, не понимая, а Фишер сквозь кривую гримасу выдавил:
— Мальчик, просто лежи, дяденька только потрогает, и все, — и снова сорвался в сплошной лай.
На него стало невозможно смотреть — лицо покраснело, рот перекосился — Фишер на глазах превращался в уродливого клоуна из очень жестокого балагана.
Его хриплое бульканье в секунду выжгло все внутри, наполнило голову кровавой кашей. Столкнув ноги Фишера с кровати, Белов молча встал. Не зная, куда себя деть, вышел на балкон — иначе просто бы его покалечил.
Мыслей не было, была пустая рваная чернота — она собралась где-то в горле, противно щекотала, стискивала — и прежде чем закурить, Белов угробил три сигареты. Потом в сердцах жахнул по перилам — и те жалобно завибрировали в такт ударам крови.
Потом он тупо курил и думал — все, на хуй, домой. Вот прямо сейчас, шмотки в сумку, в машину и — домой. А его можно здесь бросить, ничего, доберется. Эта мысль Белову так понравилась, что он даже нашел в себе силы посмотреть в комнату — сквозь щель в жалюзи увидел, что Фишер тяжело тянется к своему рюкзаку, шарит в нем, достает портсигар, зажигалку.
Усевшись спиной к стене, он закурил, медленно пригладил волосы, почесал ногу, согнутую в коленке. Задержав дым, откинул голову к стене и выпустил — прямо в потолок. Из двери потянуло пряным запахом — хороший у говнюка запас, ничего не скажешь. Даже им, когда они приезжали за своей рентой, Антон никогда не подгонял ничего подобного. Белов с внезапным удовольствием втянул горьковатый дух, разбавленный уличной жарой, и подумал — надо сказать Кожину, чтоб шибче его тряс. И не брал у него больше всякий мусор.
Белов еще раз представил, как возвращается в комнату, спокойно одевается и валит на хуй. А Фишер пусть тут разъебывается, как знает. А дома… а что дома? Коробки? Белов внезапно сообразил, что не вспоминал о них очень давно — с весны точно. Фишер за окном затянулся еще раз. Расслабленно повесил руку на колено.
Белов загасил бычок в срезанной пивной банке и взялся за дверь.
Фишер сунул остаток самокрутки обратно в портсигар и со вздохом повалился на подушку.
Белов сдернул со стула футболку, но надеть не успел. Фишер сказал очень тихо:
— Иди, пожалуйста, сюда. — Фраза звучала ломано, зыбко, словно он пробовал на вкус слова из другого языка, произносил вычитанную в разговорнике конструкцию.
Белов замер с футболкой в руках. Он хотел бы не услышать, не обратить внимания, спокойно одеться и так же спокойно уйти, но Фишер использовал запрещенный прием — ударил его по яйцам и продолжил спокойно добивать ногами. Как под гипнозом — преодолевая встречное течение, борясь с зыбучими песками — Белов потянул футболку вверх. Расправил горло. Заставил себя сосредоточиться только на этом.
Слова Фишера ударили в висок:
— Не уходи.
Кровь залила весь ринг. Ни зрителей, ни судей — спасти его было некому.
Выдохнув, он швырнул футболку обратно на стул. Повернулся. Фишер лежал, задрав лицо к потолку — Белову показалось, что пальцы чуть вздрогнули и кадык дернулся.
— Чо тебе еще? — Белову показалось, что голос звучит нарочито устало, неискренне, картинно. Тупо. Почему-то подумалось, что Фишер сейчас заморочит ему голову, наплетет с три короба, он, Белов, раскиснет — и тогда Фишер ударит контрольным, снова скажет какую-нибудь особо изощренную мерзость, вывернет его наизнанку — и поимеет.
Но Фишер молчал — долго, с полминуты, а потом повторил:
— Иди сюда.
Он не подвинулся, не изменил положения, не повернул к нему головы.
Белов усмехнулся.
— Пожалуйста?
— Пожалуйста, — без выражения согласился Фишер.
Этому просто нельзя было противостоять. Никак — вообще. Размазанный по рингу Белов не мог даже моргнуть, чтобы защититься.
Он опустился сверху — кровать глухо скрипнула — Фишер закрыл глаза. И приоткрыл рот, и руки забросил ему на шею. Его кожа пахла дымом недавней самокрутки, а губы были такие податливые, что Белова повело уже через секунду — так, что голова закружилась. Фишер поднял подбородок, запустил пальцы в волосы на его затылке, направляя туда, где ему было приятнее — Белов даже не представлял, что пальцы Фишера могут быть такими нежными. Он целовал его шею, возвращался к губам, гладил живот — и тянул минуты, как мог, старался не спешить, потому что знал — такого Фишера, возможно, никогда больше не будет. Тот и сам лежал почти неподвижно, словно боялся обрушить лавину — только пальцы двигались. И губы, когда он отвечал — словно сдавался, выходил из укрытия с поднятыми руками.
Белов понимал, что надолго его не хватит, и Фишер словно услышал, словно сам хотел растянуть этот раз в бесконечность — сжал его предплечье, прошептал глухо, сорванно:
— Давай матрас на пол сложим. И второй.
Белов сглотнул, приходя в себя. Оба тяжело дышали, оба избегали резких движений, оба как будто боялись — и не могли заставить себя встать. Через секунду Фишер притянул его обратно — и сам стал целовать. На этот раз Белову досталось осторожно прислушиваться к его прикосновениям, к движениям языка, губ — и подчиняться. И останавливать теперь тоже пришлось ему.
— Тихо… погоди. Давай все-таки матрас.
— Давай, — выдохнул Фишер.
Но когда попытался вывернуться из-под Белова, безотчетно потерся пахом о его бедро — медленно, почти без нажима — сквозь грубую ткань шортов. И коротко застонал. И вместо того, чтобы отпустить, прижался теснее. Белов прихватил губами повлажневшую кожу на шее, медленно повел выше, к подбородку, оставляя одну метку за другой. Фишер легко дернулся, заметался. Вдавил пальцы в ягодицы Белова и выдохнул:
— Вот так. Еще.
Белов сообразил, что если они не встанут сейчас, то до матраса в ближайшее время дело не дойдет вообще, коротко поцеловал его в подбородок, в губы, в нос, в щеку — дальше, до стриженого виска — и осторожно отстранился.
Фишер смотрел на него и не смотрел — мутно и как-то испуганно. Кое-как поднялся. Пока Белов возился с матрасами, сам стянул шорты, пнул, не глядя, под кровать.
Все дело не заняло и минуты, но Белова вдруг охватил страх — что за эту минуту все изменилось, что Фишер сейчас снова понесет всякую хрень, что мир рухнул, что все кончилось и надо было пользоваться моментом.
Фишер молчал. Белов нерешительно подошел к нему со спины, обнял, стал целовать. Обычно в такие моменты Фишер сжимался, норовил утянуть его на кровать — даже если было темно. На этот раз он откинулся ему на грудь, сам подставил шею — и только задышал быстрее, когда член Белова коснулся ягодиц.
И стоял так, пока он его гладил, обнимал и трогал везде, куда мог дотянуться.
А позже, на матрасе, Фишер сполз вниз по его телу — дразняще медленно, задевая и прижимая собой член — и устроился между бедер. У Белова перехватило дыхание, когда он еще даже не начал. Фишер сразу впустил его глубоко — скользнул губами по всей длине, от головки до основания — и тут же вернулся обратно. Очертил языком конец, снова наделся ртом почти до самого лобка — Белов, ничего не соображая, вцепился в матрас, воздух царапал горло. Фишер сжал его ногу под коленом, сгибая, отводя в сторону, при этом не прекращал скользить — языком, губами — и каждым движением почти размазывал по скрипящим пружинам.
Слепо двинув рукой, Белов сжал его плечо — и кончил так, что под веками побелело, а звуки вокруг померкли на долгих несколько секунд. Фишер замедлился, почти замер, гладя его теплыми пальцами, прижавшись предплечьем к бедру.
Белов подумал, что если он его потеряет, то сойдет с ума — или что-нибудь похуже — подумал просто и буднично, как о чем-то давно решенном. Словно устал уже спорить с самим собой — и, наконец, согласился.
Когда Белов вышел на балкон, было еще темно, а теперь над дальними домами пролегла тонкая лилово-розовая полоса — и растеклась на половину неба утренней дымкой. Было тихо. Вдалеке изредка проносились машины — и больше ничего, тишина, зыбкое рассветное марево глотало звуки.
Фишер уснул часа три назад — перекатился с протяжным вздохом на живот, зашарил в темноте по полу, разыскивая то ли воду, то ли сигареты, и уснул прямо так — с вытянутой рукой. Они отлипли друг от друга от силы минут на сорок, когда уже начало вечереть — Фишер поплелся в душ, а Белов сходил за едой. О пляже даже речи не зашло. Потом медленно ползли сумерки, и Белов целовал его осунувшееся лицо: заострившийся нос, потемневшие веки — следы похмелья, недосыпа и усталости. Фишер рассеянно водил пальцами по его спине, прижимался к плечу покрасневшими губами и сипло дышал.
После он уснул, а Белов крутился с боку на бок и пялился в темный потолок. В итоге плюнул и пошел на балкон.
Было ли с ним такое когда-нибудь? Хотя бы похожее? Белов давил в пивной банке десятую сигарету и вспоминал. Перебирал какие-то далекие эпизоды — юность, школа, институт. Поездки в пионерлагерь, армия, учеба. Чьи-то лица, имена — давно затертые воспоминания. Получилось вытащить только что-то очень давнее — бабушкин деревенский дом, жара, лето, и ему, Белову, пятнадцать. Там была соседка — Вера. Днем он сталкивался с ней в саду, как будто случайно — за двумя соседскими огородами не было отдельных садов, раскинулся один огромный, общий. Там Белов собирал яблоки для козы или просто прятался покурить. В саду они с Верой валяли дурака — забирались на деревья, рылись в садовом мусоре, даже в прятки играли. А вечером бегали в кино, в местный клуб, каждый со своей компанией, и там вели себя совсем по-другому. Не шутили, не дурачились, не улыбались друг другу, старательно избегали взглядов, даже рядом лишний раз не вставали. Белов тогда не задумывался, почему так, но каждый день шел в сад и там тихо свистел под яблонями — и Вера приходила.
Однажды бабушка уехала в район и там заночевала. Белов после кино не пошел с пацанами на школьную площадку, улучил момент, когда Вера осталась одна, без своих девчонок, и, отчаянно краснея, предложил ее проводить. Он помнил, что у него страшно потели руки, так что он постоянно прятал ладони в карманы, а Вера шла рядом и что-то быстро говорила — он даже не слышал, что.
Ребята там, на школьном дворе, постоянно затирали про девчонок — кто, с кем, куда и что делали. Белов знал, что больше половины этих россказней — обычная ботва, но слушал и серьезно кивал, как все остальные.
Они поравнялись с Вериным домом и прошли его, не сговариваясь. А потом… В общем, тогда — Белов помнил — он испытывал что-то похожее. Отдаленно, но похожее. После целыми днями ходил, как шальной, — и думал только про нее. Вера ждала его в саду, и после кино — на скамейке возле собственного дома, они забирались на чердак или снова шли в сад — так продолжалось до конца лета.
Потом Белов уехал, кажется, даже писал ей, а она отвечала, но недолго. Следующим летом его отправили в спортивный лагерь, он собирался поступать в физкультурный и зарабатывал себе разряд по плаванию, а когда, наконец, попал в деревню спустя года три — Веры там уже не было. Он не стал спрашивать.
Насколько Белов помнил, она не была похожа на Фишера — ни капли. Но что-то тогда происходило такое, от чего голова переставала думать, а сердце стучало одновременно в висках и в горле.
Больше ничего подобного не повторялось — до нынешней весны.
Он курил, курил, отмечал, как рассветная полоса ширится, растет, подбирается к их дому и уже отвоевала себе большую часть неба. Что же с ним делать? А если точнее, с ним и с собой. Или, может, только с собой — Фишер-то тут причем. Он ему разрешает, он вынужден, играет в игру, как может, — Белов никогда по-настоящему не задумывался, чем эта игра закончится. Ну, заводится по ходу дела, так он сам честно сказал еще вначале — да, хочу.
Все, о чем получалось думать, стояло перед глазами — его лицо, запрокинутый подбородок, прикрытые глаза, когда он усаживался сверху, и теплые движения рук вдоль тела, словно Фишер заново изучал его, исследовал, старался настроить так и этак. И у него получалось. Еще бы.
Теперь все было по-другому. Очередной рубеж, еще одна точка невозврата — и не вырваться целым, даже если он вдруг решится бежать. Фишер его отравил, пропитал инфекцией, влез ему под кожу — и все внутри разнес до основания.
Хорошо, спасибо, беру, еще, сильнее, остаюсь, делай что хочешь — только сам не сбегай. Чувство-не чувство, Белов не знал, как назвать, оно не помещалось ни в сердце, ни в голове — он сам оказался внутри.
Белов посмотрел вниз — четвертый этаж. Он много раз выезжал на самоубийства, столько, что все уже и не помнил. Но прыгуны там точно были — один ухитрился сигануть даже со второго этажа. Белов никогда их не понимал, а скорее, просто не задумывался что да как, почему и что у человека может происходить в голове, если он верит, что сбежит куда-то, пролетев всего лишь пару этажей.
Он затушил последний бычок и вернулся в комнату. Устроился на матрасе рядом с Фишером, подобрался близко, как мог, — тот даже не шевельнулся. Прижался губами к выпирающей лопатке и осторожно обнял. И заснул сразу же.
Вечером пошли бесцельно бродить под неохотно затухающей жарой — Фишер был задумчивый, почти вялый. Говорили мало. Народ вокруг курсировал так же — кто-то с фотоаппаратом и туристическим азартом, кто-то просто бродил, прикладываясь к пиву.
Дошли до самого центра, свернули в парк. Возле невысокой сцены собралась разноцветная толпа. Фишер прижал ладонь козырьком, сощурился. Белов увидел, что кожа на обгоревшем носу собралась гармошкой. Отпускной, пляжный Фишер смотрелся еще младше, чем обычный — об этом Белов старался не думать.
От сцены доносилась музыка, кто-то вроде пел. Белов присмотрелся — яркие костюмы, сарафаны, баян, типа народная самодеятельность.
Когда он хотел уже свернуть на одну из боковых дорожек, Фишер схватил его за футболку, удерживая. Он стоял, склонив голову, как будто прислушивался, а потом дернул Белова еще раз:
— Ого! Ты только послушай, чисто Зыкина же, почти не отличить! Как косит годно, пошли посмотрим.
Белов не очень понял, как Фишер с такого расстояния сумел что-то разобрать и что он в этом нашел особенного, ну поет кто-то и поет, каждое девятое мая в городе такого пачками, но все-таки потопал следом. А Фишер, чем ближе подходил, тем сильнее оживлялся — ловко обогнул собравшихся, юркнул туда, где народу поменьше, встал. Белов пристроился с краю, посмотрел.
Под Зыкину «косила» тетка средних лет в ярком казачьем костюме — синяя юбка с тесьмой и вышивкой, блузка с широкими рукавами. Два баяниста, девчонки помоложе — хор, вот и весь закос. Белов прислушался. В творчестве Зыкиной он не особо разбирался, впрочем, как и в любом творчестве, но признал — солировала тетка действительно неплохо. Это была старая песня про молодого моряка, который едет на побывку — он, конечно, слыхал ее, и не раз, но никогда не прислушивался. А теперь вот прислушался — и помимо воли усмехнулся.
А Фишер загорелся — черт знает, что он в этом нашел — но стоял, лыбился, и глаза сияли. Белов снова почувствовал что-то очень похожее на ревность — понимал, что глупее ничего не придумаешь, но этими эмоциями он давно не распоряжался.
Допели. Тетка легко поклонилась, улыбнулась зрителям, и Фишер захлопал первым — громко, ничуть не стесняясь, и так заразительно, что вялые аплодисменты вокруг превратились почти в овацию. Солистка даже покраснела от смущения и удовольствия — и улыбнулась уже прицельно Фишеру. Он крикнул «бис», и к удивлению Белова, народ поддержал. Он сам бы так не то что никогда не сумел — просто не решился бы, даже если бы ему каким-то чудом вдруг понравилась песня. Это ведь всего лишь песня. Но Фишер видел в этом что-то свое, малопонятное, точнее, непонятное совсем, — а может, просто выпендривался.
Белов вздохнул — нет, не выпендривался. Ему действительно нравилась эта песня, эта солистка и ее манера, и стоило смириться с тем, что он, Белов, ни хера в этом не смыслит.
Тетка что-то шепнула баянистам и запела — снова про морячка. Белову показалось, что на этот раз даже с большей выразительностью. Фишер слушал — так увлеченно и искренне, что Белов почувствовал себя почти сволочью. Подумал — да что, блядь, не так? Ну нравится ему, да и пусть развлекается, в чем дело-то. Он его когда-то неразборчивой блядью считал, из тех, кто пойдет тусить в клуб и дрыгаться на синтетике, а тут на тебе — какую-то Зыкину слушает, хлопает, о господи, и как в этом разобраться. Хотя, конечно, вряд ли одно могло помешать другому.
Когда переборы пошли быстрее и солистка спела про то, что моряк не влюбился ни в одну девчонку, Фишер легко рванул к себе девочку из хора — ту, что стояла ближе, — и закружил в вальсе. Она даже не успела как следует испугаться — через секунду уже смеялась. Яркая юбка разлеталась от шага, ноги Фишера мелькали в волнах ситца, он ни разу не сбился, не налажал, девчонке оставалось только слушаться — и позволять себя вести.
Белов едва сдержал кривую гримасу — нет, Фишер все-таки был выпендрежником, им и оставался, медом не корми, дай куда-нибудь вылезти. И чем больше зрителей — тем, само собой, лучше.
Под последние аккорды Фишер вернул девчонку на место, народ захлопал. Он даже чмокнул ее в раскрасневшуюся щеку, а потом что-то сказал солистке — наверное, благодарил, Белов не расслышал в общем гаме.
Когда Фишер вернулся к нему, Белов уже раза три пообещал себе не портить ему настроение, но все-таки не выдержал:
— Выебнулся?
Фишер закатил глаза. Он был довольный, растрепанный — от недавней меланхолии ничего не осталось. Кивнул на тент кафешки:
— Пошли попить купим.
Белов хмыкнул. Фишер вдруг ощетинился:
— Слушай, ты привык строем ходить по периметру, так не мешай другим веселиться. Нехер по каждому поводу ебало корчить. Тебя что, прям так за жопу берет, когда людям весело?
Он не останавливался — шел по дорожке спиной вперед, лицом к Белову.
На языке вертелось — не когда другим людям, а когда тебе. И я понимаю, что это неправильно, не дурак. И добавил бы еще: под ноги смотри, наебнешься.
Вместо этого Белов махнул рукой и сказал, меняя тему:
— Может, на пляж?
Фишер продолжал хмуро его гипнотизировать — целых секунд пять, и дальше шагал спиной вперед, не давая Белову отвести взгляд, а потом все-таки не выдержал, рассмеялся.
— Только воды сначала. Или, во, лучше пивка!
Белов улыбнулся в ответ.
— Иди уже.
На пляже задержались почти до темноты — все разошлись, осталось только несколько припозднившихся парочек. Белов уже совсем не прочь был вернуться в квартиру — ужин, душ, затащить Фишера на развороченную лежанку из матрасов, и снова сходить с ума, насколько хватит сил.
Но Фишер как будто никуда не собирался — молча сидел на песке, глядя в темнеющие волны. Белов уже хотел сказать — давай сворачиваться, но Фишер его опередил. Спросил нечитаемым тоном:
—Ты правда завел бы дело? Ну, если бы я тебя послал?
Белов растерялся. Умел он вот так — без перехода, без подготовки, внезапно и врасплох, и вот что хочешь с этим, то и делай.
Фишер спросил и даже не повернулся — продолжал смотреть перед собой.
Шум моря успокаивал, лишал вопрос остроты. Но вряд ли стоило обманываться.
Я хотел тебя так, что готов был нагнуть прямо там, в кабинете — мысленно ответил Белов. Раздеть, сожрать, сделать что угодно — и сделал бы. Я перед этим обдрочил ванну в квартире у сестры. А они с племянником за дверью стояли. А еще раньше я почти поселился возле твоей затраханной Академии. Понимаешь?
Такой был ответ — если прямо.
Но вместо этого Белов ответил своим вопросом — худший вариант из всех возможных.
— А ты вообще хоть посмотрел бы на меня без этого?
Фишер ничего не ответил. Посидел с минуту, пропуская песок сквозь пальцы. Потом резко встал. Дошел до прибоя и ждал, пока вода коснется ног. Медленно пошагал дальше, а когда волны поднялись до бедер, словно резко раздумал — и вернулся.
Белов следил за редкими вечерними звездами. Настроение испортилось, у Фишера, видно, тоже.
— Назад? — чтоб не молчать, спросил Белов.
Фишер, не заботясь, смотрит на него кто-нибудь или нет, скинул плавки и не спеша натянул шорты. Впрочем, на этот раз зрителей поблизости не было.
Белов свернул полотенце и вытряхнул песок из сандалий.
На следующий день Фишер потащил его в аквапарк, а через день — в какой-то местный заповедник. Развлекался он самозабвенно: облазил каждую горку, сунулся на все аттракционы, потащил кататься на катере, а от поселка надумал возвращаться пешком. После восьми километров по пляжным камням Белов готов был рухнуть и умереть на месте, а Фишер только обмахнулся футболкой и уселся с пивом на террасе кафешки.
Из проволоки он, что ли, раздраженно думал Белов, поливая затылок холодной водой. И тут же мысленно усмехался — ага, из колючей.
Фишер загорел, и ему это шло, впрочем, Фишеру шло все. На него, легкого, угловатого, словно обведенного солнцем по контуру, смотреть было больно, как на яркий свет.
Белов ревниво наблюдал, как запросто он находит общий язык со всеми подряд: с официантами, с таксистами, с другими отдыхающими — любого пола и возраста. Иногда он замечал, что Фишер провожает взглядом какую-нибудь особенно яркую компанию — и взгляд у него то ли задумчивый, то ли вовсе грустный. Это были только взгляды, мимолетные, пустые, но Белова встряхивало от них, как от электрических разрядов. Конечно, Фишер предпочел бы проводить время с кем-то вроде — с теми, кто готов ходить, ездить, не вылезать из моря, пить, пока льется, у кого есть запал и кто не тащит на себе лишних два десятка лет. Белов думал об этом и умирал по пять раз на день. А вернувшись в квартиру, мучил его до утра — до серого рассветного марева, выматывал так, что Фишер засыпал на полуслове.
Так продолжалось четыре дня, а потом Фишер то ли отравился, то ли словил какую-то инфекцию, и идиллия померкла.
Утро началось с того, что он, шатаясь, поплелся в ванную и долго там блевал. Когда Фишер вышел, Белов хотел сказать, что, как честный человек готов жениться хоть завтра, но увидев его лицо, решил придержать шутку до лучших времен.
Вместо этого спросил:
— Ну? Какие планы?
— Сбивать аэропланы, — огрызнулся Фишер. Болезненно морщась, снова залез на матрас и не добавил ни слова.
Белов бестолково стоял рядом и не очень понимал, что делать. Прикинул — нет, ни с чем таким он вчера вроде не перебарщивал, ужинали в знакомой столовке, не бухали. Правда, днем Фишер с размеренным автоматизмом обычно пихал в рот все, мимо чего проходил: овощи-фрукты, всю подряд уличную еду, даже ту, к которой Белов не прикоснулся бы после недельной голодовки, запросто глотал сырую воду из-под крана и не очень утруждал себя мытьем рук.
Фишер молчал, как будто уже умер или вот-вот готовился, и оценить степень недомогания по укутанному простыней телу получалось плохо. Подумав, Белов решил сходить на завтрак, а потом уже разбираться — может, его через пару часов отпустит, как ни в чем не бывало.
Не отпустило.
Белов нарочно не спешил, на обратном пути сделал крюк до аптеки. Девушка в окошке оказалась понятливой, а может, народ с такой бедой заходил регулярно — сходу выложила перед Беловым целый набор первой помощи.
Когда он вернулся, Фишер был в ванной. Он злобно отказался от лекарств, а когда Белов попробовал настоять, взорвался:
— Ты, блядь, дебил? Какой смысл в себя все это пихать без противорвотных, оно через минуту обратно полезет! — Швырнул на голую кровать упаковку сорбента. — Ты, блядь, когда-нибудь пробовал это говно в нормальном состоянии глотать? Попробуй, узнаешь много нового. — Фишер замер, отдышался, вытирая рот краем простыни.
Было видно, что истерика дается ему с трудом, но полить всех и вся напалмом очень хочется. Выглядел он хреново — бледный, потный, с перекошенным лицом. Осев на матрас, пробормотал:
— Лучше бы воды принес, да что ж за нахуй такой, ну бля, ну не можешь, так не берись, оставь ты меня просто в покое. Блядь, убил бы…
Очень хотелось сказать, что раз у него такой опыт, какого хуя сразу не поберечься, но даже представлять было противно, что тогда начнется. И вообще.
Белов молча вышел из квартиры.
Хочет загибаться там в одного — ради бога, кобыле легче. Оглядев залитую солнцем улицу, Белов не спеша двинул к пляжу. Твердо сказал себе, что так даже лучше — гулять с Фишером было все равно что носить в кармане гранату с наполовину выдернутой чекой. Только теперь, шагая в одиночестве, он вдруг понял, в каком напряжении был все эти дни — ни выдохнуть до конца, ни расслабиться. Конечно, Фишера обвинять не стоило — Белов сам себя накручивал и дразнил, но легче от этого не становилось.
Он долго играл в волейбол на пляже, потом засел с пивом под каким-то навесом. Телефон, разумеется, молчал. Куда там, Фишер, небось уже все кишки себе выблевал, хорошо, если додумался ведро в комнату притащить. Вспомнилось, что они за последние дни ни разу по-настоящему не ругались — не иначе, это переизбыток собственного яда так его подкосил, внутрь все пошло. Задумавшись, Белов не сразу сообразил, что к нему обращается женщина — в руках у нее был поднос, лицо наполовину скрывали большие солнечные очки.
— Извините, — сказала она, — не очень вам помешаю? — И опустила поднос на край стола.
Белов осмотрелся — свободных мест, действительно, не осталось.
Кивнул. Женщина села, сняла очки. У нее оказалось скуластое бледное лицо с целой россыпью веснушек — или недавно приехала, или вообще не любила загорать. Веснушки и тонкий острый нос очень ее молодили: было видно, что ей сильно за тридцать, и годы были заметны, но почти не ощущались — как мелкие титры внизу кадра. Люди с такой внешностью Белова всегда немного удивляли — они словно замирали на одном рубеже и время на них, казалось, не действовало.
— Вы простите, но пока я там возилась, — женщина кивнула на стойку, — последнее парковочное место угнали.
Белов пожал плечами, коротко улыбнулся, мол, о чем вы, никаких проблем. Женщина улыбнулась тоже. На ней была простая синяя майка, и бретелька то и дело сползала с левого плеча.
— Я здесь с подругой встречаюсь, — продолжала она, — так что уйти просто так нельзя. — Похоже, мысль о том, что она может кого-то напрячь даже в таких мелочах, не давала ей покоя.
Белов глотнул пива, посмотрел — на подносе была минералка, зеленый чай, какой-то салат. Приподнял свое пиво, как будто салютнул.
— Забудьте, никаких проблем. Я все равно засиживаться не собираюсь.
Она склонила голову — хорошо, решили, никто никому не мешает.
Он тянул пиво, исподволь наблюдая — она ковырялась в салате, время от времени рассеянно прикладывалась к минералке, достала телефон, нажала несколько кнопок. Мимо ходили люди, с пляжа доносило предвечерний бриз. Тени удлинились, горизонт время от времени выплевывал то катер, то скутер, то длинные прозрачные облака. Было хорошо и спокойно — почти незнакомое, давно забытое чувство. Белов заметил, что тянет время, мучает несчастную кружку, с которой в другой раз расправился бы за пять минут.
Ее телефон заиграл так неожиданно, что оба вздрогнули.
Послушав с минуту и вставив редкие «да», «бывает», «вот же, а», она чуть нахмурилась и убрала мобильник в сумку. Растерянно качнула головой:
— Надо же. Оказывается, зря сидела.
А когда она встала, Белов зачем-то спросил:
— Что, планы изменились?
Женщина легко пожала плечами.
— Вроде того.
Сам себе удивляясь, Белов поднялся следом.
— А хотите… вместе погуляем? Или вы спешите?
Женщина коротко приподняла брови, пару секунд смотрела на него, словно раздумывала, а потом улыбнулась по-настоящему.
— А давайте погуляем. Теперь уже не спешу.
Ее звали Светлана. Они медленно пошли в сторону набережной. Очки она надевать больше не стала. О себе упомянула — приехала недавно с родными, с семьей сестры, рассчитывая повидать давнюю подругу, но сегодня вот — кивнула через плечо на оставшуюся позади кафешку — не сложилось.
С ней оказалось хорошо — легко, просто, а главное, спокойно. Не было ощущения, что из него поминутно тянут жилы, то и дело дергают за нитки и дразнят, как собаку. Наверное, он просто отвык от нормального общения — за все время, проведенное с Фишером, начиная с весны, он общался только с сестрой и сослуживцами, тут не то что отвыкнешь — замычишь и залаешь.
Бриз остужал жару, руки от волейбола с непривычки казались тяжелыми, но это была теплая тяжесть, переходящая в вечернюю истому. Странным образом все, что должно было вызывать дискомфорт, сделалось почти приятным.
Белов коротко упомянул о работе, поделился впечатлениями от отдыха, Светлана слушала, говорила сама. Она работала в каком-то контрольном ведомстве, Белов не очень понял, по работе много ездила — и увлекательно об этом рассказывала.
Они присели передохнуть под очередным уличным тентом, она не отказалась от пива, и Белов сам не заметил, как они перешли на «ты».
Она ему нравилась — просто, по-хорошему, без лишних уловок — Белов поймал себя на том, что рассматривает ее — исподтишка, но пристально. Пепельные волосы до плеч, прямая спина, небольшая грудь под синей майкой. Спортивная фигура без каких-то особенных форм, — а ведь ему всегда нравились дамы попышнее, так, чтобы было за что подержаться. Тут же в голове немедленно нарисовался Фишер, и Белов не сдержался — хмыкнул вслух. Светлана улыбнулась. Спросила:
— А ты разве здесь совсем один?
Белов сообразил, что ничего не говорил об этом, даже когда она рассказывала о себе. Замялся.
— Ну, почти. С… племянником. — На фоне недавней легкости эта ложь выглядела громоздкой, навязчивой, как шкаф, занимающий половину комнаты — и сводящий на нет всю простоту. Он не ожидал, что такая мелочь прозвучит настолько коряво — хотя догадывался, что сам преувеличивает, что это шутки воображения, прочно отравленного Фишером.
Светлана кивнула. Больше на тему «племянника» он распространяться не стал и боялся, что она спросит. Не спросила.
Они вернулись на тротуар, пошли дальше. Заметно вечерело, и Белов хорошо понимал, что дальше нормальные люди в такой ситуации или продолжают знакомство, или обрывают его навсегда — им не по шестнадцать лет, они на отдыхе, оба — свободны, оба испытывают друг к другу симпатию.
Белов решил, что пойдет дальше — и мысли о Фишере эту решимость только подогревали.
И когда он уже раздумывал, что лучше предложить — ночной пляж или кино, или честно сказать, что не мастер на выдумки, а расставаться так сразу не хочется — в кармане запищал телефон.
Это была смска: «принеси минералки». Короткая. Без вопросов, уточнений и, само собой, без извинений. Похожая на внезапный нокдаун в самом конце победного матча. Белов знал, что нужно сделать — закрыть сообщение, выключить телефон и, как ни в чем не бывало, опустить его в карман. И продолжить. Но оказалось поздно — видно, на его лице все было написано, как на огромном плакате.
Светлана в ответ на его взгляд натянуто улыбнулась и сказала:
— Смотри-ка, а ведь ты меня до самого пансионата проводил. Удобно как вышло. — Махнула рукой в сторону массивной вывески в отдалении. «Лазурная сказка», разглядел Белов. — Мы там остановились.
В общем, ситуацию еще можно было исправить, но настроить мысли на нужный лад больше не получалось — Белов вдруг подумал, что Фишер там совсем один, и не с банальным похмельем, а с настоящим отравлением, что он блюет с самого утра и наверняка уже встать не может, раз решил написать ему.
Бля, подумал Белов. Сердце противно сжалось, а потом отозвалось в желудке тревожной тошнотой.
Он попрощался со Светланой — хотелось надеяться, что достаточно вежливо и тепло, — а мысленно уже забирался в такси и ехал обратно.
Одновременно точила досада на себя — вот же черт, в кои-то веки встретил интересную бабу и так лажанул. Херово как вышло.
Она легко махнула рукой и перебежала дорогу.
Добираясь до квартиры, Белов уже так себя накрутил, что воображал Фишера подыхающим от обезвоживания или вроде того.
Свет в комнате горел. Фишер лежал пластом, утопив щеку в подушке, но было видно, что ничуть он не умирает, а судя по мокрым волосам и валявшемуся на кровати полотенцу — вставал, ходил в душ.
Кондиционер он выкрутил так, что даже Белов поежился.
— Заболеешь, — сказал он, подавая ему минералку.
Фишер поморщился.
— Мне так легче. — И присосался к бутылке.
Белов скинул пыльную футболку, подобрал полотенце — еще влажное. Присел на корточки.
— А вообще как? — Краем глаза он заметил, что Фишер все-таки распотрошил лекарства — некоторые теперь аккуратно лежали на подоконнике.
Тот неопределенно подвигал в ответ рукой.
— Как-как. Погано. — Кивнул на минералку. — Если сейчас не сблюю, то, наверное, выживу.
Белов хмыкнул.
— У меня год назад такое было, — добавил Фишер. — И почти в это же время — в августе. Бля, думал, ебу дам, ба даже скорую вызывала. — Он вдруг хрипло прыснул. — Они, короче, сказали, что заберут меня в инфекционку, и началась беготня с заламыванием рук.
Очень хотелось дотянуться до него — и погладить. По мокрым волосам, по плечу, — а потом, наверное, обнять. Вместо этого Белов сказал:
— Не будешь грязные пальцы в рот тащить.
Фишер криво усмехнулся.
— Давай еще расскажи мне, что за едой нельзя говорить и нужно жевать… сколько там раз?
Белов легко толкнул его, и Фишер уткнулся носом в подушку.
Вернувшись из душа, он выключил свет, с наслаждением растянулся на матрасе. Замотавшийся в простыню Фишер забился куда-то к самому краю. Белов в темноте пошарил рукой. Спина вздрогнула под его ладонью — наверняка сполз бы еще дальше, но было некуда. Фишер торопливо заговорил:
— Слушай, я серьезно сейчас не…
Белов обхватил его за плечи.
— Просто иди сюда. Ты же так на пол свалишься.
Фишер пробубнил что-то себе под нос, но больше возражать не стал — позволил притянуть себя ближе и даже обнять.
Белов коснулся губами мокрого затылка.
— Уснуть сможешь? Не тошнит?
Фишер вздохнул и ничего не ответил.
Белов вспомнил — а послезавтра ведь уезжать.
День прошел скучно — Фишер не блевал, но был вялый и двигался так, словно подошвы прилипали к полу. Поворчав, все-таки пошел в столовую, но взял себе только чай, а при взгляде на еду скривился.
Вечером Белов сходил на стоянку, забрал машину, доехал до пляжа. Прикинул — постоит ночь во дворе, небось ничего не случится.
Спать легли рано. Перед этим Белов разобрал с пола завал из матрасов и подушек — утром должен был приехать Ашот, посмотреть квартиру и забрать ключи, так что рисковать не стоило.
Белов слушал в темноте возню Фишера и одну за другой гнал мысли о том, как было бы лучше его сейчас разложить — на спину или на живот, или поставить на четвереньки, или еще как-нибудь — и что сделать после. Но Фишер хоть и не блевал больше — ходил весь день зеленый, двигался неуверенно, жалко, и одного воспоминания об этом было достаточно, чтобы почувствовать себя отпетой сволочью.
Белов уже подумал, что придется тащиться в сортир, притворяясь, что приспичило, иначе точно не уснуть, но сам не заметил, как отключился.
Проснулся он резко, словно толкнули — и тут же приподнялся на локте, осматриваясь. Сквозь жалюзи сочился едва намечающийся рассвет. В густой серой темноте Белов разглядел силуэт Фишера — тот застыл в дверях и как будто смотрел на него.
— Чего бродишь? — хриплым спросонья голосом спросил Белов.
— Забыл горшок под кровать поставить, — со знакомой интонацией отозвался Фишер.
Белов подумал — о, ну вот, кажется, очухался.
Фишер почему-то не спешил ложиться — постоял еще, словно раздумывал, почесал плечо, глянул на жалюзи. Потом как будто принял решение и — Белов едва не присвистнул — сам шагнул к его кровати.
Стоило отдать ему должное — решив что-то, Фишер никогда не ломался, не лепил горбатого и не прятал свои намерения за чем-то другим, просто брал и делал. Так было и на этот раз — он молча опустился на край и, чуть склонив голову, посмотрел на Белова.
Уродовать момент любыми словами было бы глупо — и Белов не стал. Так же молча притянул его к себе — на себя — и зарылся лицом в растрепанную макушку.
На тесной койке было не слишком удобно — Фишер повертелся, устраиваясь, неловко ткнулся носом Белову в щеку и притих. Начало вышло нерешительным, томным — Белову казалось, что после вчерашнего Фишеру может повредить лишний напор и любые резкие движения. Он, как мог, сдерживался, целовал его, вытянув рядом на узкой кровати, и скользнул рукой вниз, только когда Фишер сам начал нетерпеливо ерзать. Белов позволил ему повернуться на бок — лицом навстречу, и перебросить ногу через свое бедро. Фишер тяжело задышал, прижал острую лодыжку к его пояснице, притянул руку Белова к отвердевшему члену — и сам сжал пальцы поверх. Голова от этого шла кругом — как всегда.
Спустя полминуты Белов устроился сверху, и все равно удерживал его за плечи, не давая ускориться и перехватить инициативу. Фишер пару раз прошипел что-то злое, но потом сдался, подчинился выбранному Беловым ритму, только кусал губы и жмурился до морщин на переносице.
А Белова совсем повело — склонившись к самому лицу Фишера, он скороговоркой шептал ему в губы всякие нежности — и тот выгибался, приподнимал подбородок, словно хотел поймать каждое слово. Потом до боли стиснул его предплечья, скрестил лодыжки на пояснице и так замер на долгих несколько секунд — и Белов замер тоже, прислушиваясь, как тепло пульсируют под его животом короткие спазмы.
В какое-то мгновение ему показалось, что он вот-вот задохнется: ошеломительное, опустошающее чувство, почти паралич, почти смерть. Он сходил от Фишера с ума, и все равно не думал, что способен чувствовать его так — и с каждым разом только сильнее. Он просто выпал из реальности — смотрел на его искаженное, покрытое испариной лицо, и внутри все сжималось от странного щемящего чувства. Фишер заморгал, открыл глаза — тяжело, словно просыпался — и с протяжным вздохом притянул Белова к себе. Прошептал что-то на ухо — неразборчиво и сердито, и снова притих.
Передышка продлилась от силы минут пятнадцать; Фишер едва дал Белову прийти в себя, вывернулся из его рук и сам забрался сверху. Теперь, уняв первое возбуждение, он двигался медленнее, легче — долго целовал, лаская рукой, почти прижимался всей грудью, чертил узоры на влажной коже, на липком от спермы животе, пачкая их обоих и совершенно этого не стесняясь.
Раньше Фишер так себя не вел — всегда вскакивал первым, спешил убрать все следы, сбегал в душ. То, что он делал теперь, было как-то слишком интимно, слишком близко и непристойно, и Белов с удивлением понял, что заводится ничуть не слабее, чем перед этим.
Дыхание перехватывало, рук Фишера становилось мало, и он, сразу улавливающий любую перемену, казалось, должен был это почувствовать. Но Фишер словно не замечал — так же медленно дразнил Белова, то сжимая, то отпуская член, терся животом, целовал куда придется, наверняка оставляя засосы, и как будто вообще не слышал тяжелого дыхания, срывающегося в стоны, не чувствовал рук на своем теле.
И когда Белов уже почти был готов испортить все его представление — подмять под себя лицом в подушку, Фишер сел на него верхом, сжал бедра худыми ногами — как будто пришпоривал. Белов застонал, почти вскрикнул. Затаив дыхание и прикрыв глаза, Фишер медленно насаживался на его член, упираясь одной рукой в грудь, а другой — в стену. Опустившись до основания, он осторожно выдыхал, замирал на секунду, приподнимался — и все повторялось снова.
Белов сминал в пальцах простыню, хватался за все подряд, чтобы не сорваться в слишком жесткий ритм — и сил не осталось даже на стоны.
Когда в дверь позвонили, Фишер стоял на коленях к Белову спиной, вцепившись в изголовье кровати до побелевших костяшек — и рама глухо вздрагивала и тряслась в такт резким толчкам.
Звонок повторился. Белов с шумом втянул воздух, стиснул скользкое от испарины плечо и ускорился. Фишер прерывисто выругался, но только сильнее прогнулся навстречу, матрас под ними крупно вибрировал, словно сопротивлялся такому издевательству. Белов обхватил Фишера за талию, дернул на себя, нащупал член.
Сползая вперед под его толчками, Фишер выдохнул:
— Подожди, я… я… Блядь!
Звонок повторился снова — раз, другой, третий, как будто наскоро подстраивался под их ритм, потом все слилось в одну непрерывную трель: оргазм, визг звонка, задушенные стоны несчастной кровати. Фишер вскрикнул, и Белов довольно грубо зажал ему рот, а потом оба повалились вперед, кровать в последний раз надсадно скрипнула и все затихло.
Белов старался отдышаться и вернуть остатки разума, Фишер барахтался под ним, такой же потный и невменяемый.
Звонок коротко напомнил о себе, видно, уже отчаявшись кого-нибудь дозваться.
Фишер с силой вывернулся и подхватил полотенце с пола. Сквозь жалюзи пробивался невыносимо яркий свет. Сморщившись и неловко взмахнув руками, Фишер оглядел себя, замотался в полотенце, кое-как пригладил волосы. Невооруженным глазом было видно, что руки у него трясутся, как после недельного запоя. Лихорадочно сдирая с матраса простыню, Белов мысленно схватился за голову. По большому счету, можно было ничего и не трогать — и так все становилось ясно с порога.
Хорошо хоть вещи додумались собрать со вечера, осталась мелочь — отдать ключи, попрощаться с Ашотом и не сгореть при этом со стыда.
Вытирая пот со лба тыльной стороной ладони, Фишер поплелся открывать. Белов на секунду представил, каким увидит его сейчас Ашот — и захотелось провалиться сквозь землю. Фишер: затраханный, мокрый, с шеей без единого живого места и при этом злой, как собака.
Так быстро Белов, наверное, не одевался никогда — разве что в армии.
Когда Ашот возник в дверях, его дежурная улыбка радушного хозяина изрядно померкла и держалась на голой инерции. За спиной у него мелькнул Фишер, и следом тут же хлопнула дверь ванной. Понятно — смылся, бросив его, Белова, расхлебывать.
Невольно покосившись на изнасилованную кровать, Белов сказал:
— Извини, друг, проспали.
Ашот коротко кивнул, даже не стараясь скрыть гримасу отвращения.
Белов состроил морду кирпичом — хотелось верить, что вышло убедительно.
Все-таки Ашот держался неплохо — молча повздыхал, цепко оглядывая квартиру, покосился на вышедшего из ванной Фишера, снова поцокал-повздыхал. Что бы он там себе ни думал, высказать это вслух он не решился.
Через пять минут они уже выезжали на облитую солнцем, полную машин магистраль. Фишер, без сил скорчившись под ремнем безопасности, истерически ржал, и Белову впервые не хотелось надавать ему в ответ оплеух.
Когда до дома оставалось с полсотни километров, небо как-то незаметно затянули тучи. Ветер поднимал вдоль обочины облачка пыли, неохотно гнал перед собой мелкий придорожный мусор, словно напоминал, что впереди привычная рутина и пора уже загрустить. Белов и загрустил — безотчетно, вяло, не находя сил сопротивляться накатившей хандре. Каждая вывеска соглашалась с ней, каждый дорожный указатель — и бегущая слева сплошная, серая от бесконечных колес, и хилый прибитый пылью кустарник.
Без того немногословный Фишер окончательно замолк— заткнул уши плеером, отвернулся к окну и, кажется, задремал. Это было настолько знакомо, что у Белова ком подкатил к горлу.
Все правильно — отпуск кончился, все, что было там, оставалось там, а они возвращались.
Белов покосился на Фишера — казалось, предосенняя хмарь почти слизнула весь его загар, и чем ближе они подъезжали к дому, тем бледнее становилась кожа.
А ведь он приходил попрощаться, вдруг подумал Белов, и от этой мысли — настолько же простой, насколько и нелепой — он дернул руль так, что машину занесло. Фишер приподняв голову, хмуро посмотрел на него — Белов сообразил, что там, на отдыхе, он этого взгляда не видел, считай, отвык от него. Почти фирменный взгляд, впору лепить торговую марку — прищуренный, мутноватый, но такой тяжелый, что оставалось удивляться, как он вообще помещается у Фишера на лице. В глазах плескалась темнота и брызги бензина.
Белов отвернулся, внутренне надеясь, что это не выглядело, как суетливая слабость.
Фишер отвернулся тоже и снова закрыл глаза.
Комментарий к Части 3
«Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно» — Льюис Кэрролл, «Алиса в Стране чудес»
Часть 4
Рабочий кабинет встретил Белова кривой стопкой папок на столе — когда он две недели назад запирал дверь, сдавал дежурному ключ, их не было, — и толстым слоем пыли. Как будто он отсутствовал не каких-то четырнадцать дней, а минимум месяц.
— Ага, — потирая руки, пробасил Кожин, вломившийся следом. Кивнул на папки: — А это ребята тебе самое смачное собрали, как отдохнувшему. Давай, давай, впрягайся.
Белов усмехнулся.
— А убрать тут чо, устав не позволил?
Кожин заржал в ответ.
— Не гуди, Коляныч. Это ж как шмон — по чужому кабинету без хозяина лазить.
— Значит, шлак весь собрать и сюда вывалить хозяин не нужен, а как…
— Да не бухти ты! — Кожин встал напротив стола, прищурился: — Ну-ка, ну-ка, покажись… Вот, совсем другое дело! — И понизив голос, словно передавал секретную сплетню, сообщил: — А то мы тут уже за тебя переживать начали, типа Коляныч наш зарапортовался, пора реально отдохнуть, мало ли, так теперь приятно посмотреть, сразу видно — другим человеком вернулся! Загорел, все как надо. Колись, куда ездил-то?
Белов нашел в ящике какие-то салфетки, принялся собирать пыль.
— Да тут недалеко.
— На дачу к Оксанке, что ли? Не пизди, загар южный.
Белов опустился на стул, посмотрел на Кожина. Чувство было будто никуда и не уезжал.
Смена выдалась суматошной, после обеда вызвал Новиков под предлогом сообщить какие-то решения по отделу с прошедших планерок, потом до позднего вечера разгребал бесконечный бумажный завал, а потом позвонила Оксанка. Разумеется, с упреками — почему не сообщил, что вернулся, когда зайдешь повидаться — привычная ботва. Белов мысленно усмехнулся — ведь не жена, не его баба, а предъявы абсолютно те же. И подумал еще, что сам совсем недавно доставал Фишера похожей херней. Эта очевидная мысль была настолько неприятной, что Белов решительно ее отмел — поспешил переключиться на что-то другое.
Это оказалось не так просто — теперь, когда дни не были заполнены его постоянным присутствием, для размышлений оставалась уйма времени. И еще — для подспудной, гложущей исподволь тоски. Пока еще исподволь.
Он к нему привык. Он привык, что Фишер постоянно рядом, что можно говорить с ним, смотреть, трогать, и пусть он временами был невыносим, Белов с радостью согласился бы на любые фокусы, оставайся он по-прежнему с ним. По-настоящему, каждый день.
От этих мыслей стало неуютно и страшно — как рядом? Жить с ним, что ли? Но это же бред. В качестве кого? Как он предъявит его Оксанке, сослуживцам, соседям, в конце концов? И что-то внутри в ответ железно припечатывало — да, именно так. Остальное было несущественно.
Вечером, уже дома, Белов растерянно вертел в руках телефон. Позвонить? Привет, как дела. Как день прошел. Я соскучился. Спокойной ночи. Любая из этих фраз выглядела верхом кретинизма — как селедка в кармане, как сандалии зимой, как… Белов мысленно прокручивал эти безобидные фразы, вертел их, поворачивал и переставлял в разном порядке.
Нет. Он не мог даже позвонить, не говоря уж о том чтобы сказать что-то хоть отдаленно похожее. Здесь, дома, действовали обычные правила, установленные еще весной, — редкие звонки, чтобы договориться о встрече, все сухо, деловито, по существу.
Но это ведь глупость, думал Белов. Почему, блядь, почему? И вспоминал все, что происходило между ними там, в тесной Ашотовой квартирке. Разве можно так запросто — после всего? И тут же всплывала кривая ухмылка Фишера — можно. Более того, других вариантов просто не существовало. Они дома. Точка.
Непрошибаемая действительность отделила Фишера сразу же — и Фишер с готовностью с ней согласился. Даже, пожалуй, с облегчением. Белов привез его в знакомый двор, пара ничего не значащих фраз — давай, пока, созвонимся — и все. Конечно, так и должно было случиться. Разумеется. Само собой. Фишер хлопнул дверцей и, не оборачиваясь, скрылся в подъезде. Даже рукой не махнул. Белов издевательски спрашивал — а ты на что рассчитывал? Что ты вообще себе представлял? Ничего не представлял, в том-то и дело. Старался не думать об этом до последнего. А теперь не получалось — в полутемной квартире среди пыли и знакомых стен, сидя на разбитом еще с весны диване — не получалось.
В открытое окно дышал городскими запахами август — словно издевался. Вечер, машины, дым случайных сигарет, а на стуле — забытая Фишером футболка, бросил впопыхах, когда уезжали. И больше ничего.
Все. Дальше — привычное расписание с одной ночевкой в неделю, ехидные комментарии, сухие усмешки, сорванное дыхание, скрип дивана, и немедленный побег после. В наушники, в сон, в молчание, в свою жизнь. А он, Белов, только досадная помеха, забор, который нужно обходить, заборы не звонят, чтобы пожелать спокойной ночи. И уж точно не спрашивают, как прошел день. Они только мешают спокойно идти куда нужно, а еще лишают свободы. Глупо говорить о преимуществах заборов, вряд ли отыщется хоть одно — разве что поссать возле, если приспичит.
Белов все смотрел, смотрел на телефон — и вдруг пожалел о недавней поездке. Сожаление было безосновательным, глупым — все равно что пнуть стул, о который расшиб палец, или обидеться на дорожную пробку, если опоздал.
Покрутив телефон, Белов завел будильник и аккуратно положил трубку на пол рядом с диваном.
Он вцепился в работу, а мысленно — полуосознанно — считал дни. Точкой отсчета было возвращение. Белов смотрел на телефон, нажимал кнопки, бродил по меню. Фишер не звонил. Это был очень странный и изощренный самообман: Белов делал вид, что работает, живет, как жил, а сам не убирал со стула криво повисшую на спинке футболку. Белов прекрасно знал, что Фишер не позвонит, но не выпускал из рук телефон. Он с кем-то говорил, а думал только про него.
Порча — сказала бы бабка Роза. Когда Белов был маленький и проводил в ее доме почти каждое лето, она часто так смотрела на соседскую скотину, прищуривала матово-карий глаз и коротко бросала: порча.
Порча. Отрава.
К слову, скотина после такого обычно начинала болеть и скоро подыхала.
Доходя до этой неизменной точки в своих мыслях, Белов злился, почти зверел и чудовищным усилием заставлял себя не думать про Фишера. Хватало не больше чем на пару часов.
Два дня. Три. Пять.
На шестой день — это была суббота — Белов, скрывая страх за той же злостью, набрал знакомый номер. Ответили. Короткое «да» — и тишина.
— Ну? — С какой-то отчаянной развязностью спросил Белов у молчащей трубки.
— Что «ну»? — неприязненно отозвался Фишер.
От звука его голоса внутри разлилось пьянящее, почти физическое облегчение.
— Чего пропал? — стараясь совладать с собой, не спалиться, хрипло спросил Белов. И тут же почти увидел знакомую ухмылку.
— Не подумал, что каждый день надо отмечаться, — серьезно сказал Фишер. — Извини, упущение. По телефону достаточно будет? Или...
Белову хотелось сказать — прекрати. Просто перестань паясничать — на одну минуту. Пожалуйста. Вместо этого он сказал:
— Лучше лично. Когда тебя ждать-то?
Трубка снова замолчала. Сквозь телефон сочилось раздражение.
Фишер пришел вечером. Пил пиво на кухне, сорил фисташками, смотрел непроницаемо, потом привычно заперся в ванной. Все было, как и раньше, — и Белов чувствовал полное бессилие перед этой стеной.
Хуй с тобой, как хочешь, подумал он.
Фишер хотел по-разному, он не спорил, не отталкивал его — тоже как и раньше. Его тело отзывалось на каждую ласку, отвечало на любое прикосновение, и, забывшись, Белов исступленно размечал старую сетку побледневших кровоподтеков — на шее, на груди, на плечах — новыми следами. Утром Фишер пил кофе и сваливал.
Ни слова не было сказано о том, что еще не кончились каникулы, что ему пока некуда спешить, что время есть — было бы желание. Хрупкое равновесие грозило превратиться в конец света — стоило только нажать одну-единственную кнопку.
И Белов молчал. Он даже по-своему привык к этому: снова работал, навещал Оксанку, пил пиво с Кожиным, несколько раз свозил Тимоху — племянника — на стрелковый полигон и в эти моменты почти забывал про Фишера.
Потом наступал вечер, и деваться было некуда. Футболка на стуле — Фишер ее так и не забрал — редкие смски от сестры, городской шум за темным окном.
Белов по-настоящему мечтал о ночных дежурствах. Когда он не знал, что может быть по-другому — что это «по-другому» все-таки существует в одной плоскости с Фишером — было легче.
Шел сентябрь. Начались занятия, Фишер становился все более угрюмым с каждой встречей, словно его нарочно накручивал кто-то там, за кадром — или он сам себя накручивал.
Сезонное обострение, мрачно шутил про себя Белов. У всех психов так.
Но Фишер не был психом. Загар совсем исчез с его кожи, вернулся близорукий прищур, в смех все чаще вплетались знакомые истеричные нотки — он был таким всегда.
Однажды сорвались две подряд встречи — сначала Фишер жестоко простудился, даже по телефону было слышно, что не врет, потом Белов дежурил в выходные — и пришлось звонить ему среди недели.
Фишер отвечал односложно, отрывисто, Белов думал, что пошлет обязательно, но не послал. Пришел вечером, сразу шмыгнул на кухню, там снял мокрый от дождя джемпер.
И не успел Белов подумать об этом — началось.
Фишер сходу выдернул из своей сумки широкий ламинированый лист, демонстративно взмахнул им и пришпилил к холодильнику магнитами — как будто гвоздями приколотил.
Белов скрестил руки на груди.
— Смотри, — кивнул Фишер. — Это мое расписание. Вот — понедельник, вторник, среда... вся неделя. Видишь? — Белов молчал. Фишер настаивал: — Смотри. Понедельник, вторник: с восьми до часа — теория-история, концертный репертуар, гармония и даже, блядь, физическая культура. Я не выдумываю, не вру, эта хуйня есть в открытом доступе. Вот. Теперь дальше — после обеда, с двух часов. Понеслась: репетиции. С двух и, сука, до посинения. Сколько выдержишь. Если будешь сваливать раньше шести, то с зачетами проблемы обеспечены. Хорошо, допустим, в шесть ты свободен. Добираешься до дома, жрешь, примерно с девяти — свободное время. Но это не каждый день, потому что три раза в неделю репетиции с пацанами — у Лехи дома. Бросить я не могу, это не обсуждается. Ты понимаешь? Даже у зеков есть — как это? — личное время перед отбоем, а я свое должен тратить на...
— Тебя пожалеть? — перебил Белов.
Фишер взорвался:
— Меня не доставать!
— Ладно, ты хочешь сказать, что так заебываешься за своим инструментом, что дома четко в десять валишься спать? Чисто рабочий у станка, надо же.
Глаза Фишера опасно потемнели, руки он спрятал за спину. Белов на что угодно готов был спорить, что он сейчас стискивает кулаки, вдавливает ногти в ладонь до покрасневших лунок. Сузив глаза в черные щелки, Фишер прошипел:
— Не пизди, о чем не знаешь. — Кивнул на расписание: — Я наглядно объяснил? Доходчиво?
Белов чувствовал, что следом за ним теряет контроль. Исходящая от Фишера злоба захлестывала, подхватывала — буквально сносила. И побуждала отвечать в том же духе.
— Я что, заебываю тебя не переставая, ежедневно? Требую, чтобы ты мне каждый вечер обеспечивал отсос перед сном? — При этих словах Фишер шагнул вперед. Белов продолжал: — Не слишком ли шумное представление для одного звонка, не?
От удара в глаз перед лицом заплясали электрические мухи, удар в живот согнул пополам — но уже в следующую секунду Белов собрался. Швырнул Фишера спиной на мойку — навесные шкафы глухо задребезжали — и сграбастал в кулак воротник его рубашки. В самом дальнем шкафу что-то беззащитно звякнуло и разбилось; Фишер побледнел, принялся ловить воздух раскрытым ртом, дернулся, но зря — тут же приложился виском о край шкафа. Белов рывком выпрямил тощее тело, хотел швырнуть на кухонную скамейку, но Фишер вцепился в его футболку, почти прилип — не отодрать. Было тесно, Белов неловко переступал на одном месте, прижался к стене — на пол посыпались лопатки-шумовки, сложенные в настенную сушилку. Фишер хотел замахнуться — Белов перехватил его руку. Это уже было смешно. Удар вышел несильный, больше звонкий — Белов хотел ограничиться оплеухой, но в последний момент ладонь все же сложилась в кулак. Фишер охнул и криво повалился на стол.
Почему-то сразу стало страшно — не так, как давным-давно в подъезде, и не так, как накануне поездки два месяца назад, по-другому страшно — скорее даже тоскливо. До ломоты в висках, до перехваченного горла.
Что же мы творим, подумал он.
Склонился над Фишером — тот молча смотрел на него из-под прищуренных век и осторожно трогал пальцами треснувшую губу. Белов безотчетно накрыл его руку своей, Фишер болезненно сморщился и с силой его оттолкнул.
Это все было очень, очень тупо — настолько, что не было слов.
Сквозь голову непрерывным потоком несся почти сверхъестественный ужас, кухонное освещение высверливало глазницы, хотелось немедленно что-то сказать такое, сделать — чтобы положить конец происходящему. Прекратить — сразу, одним щелчком выключателя. Чтобы все вернуть и исправить — немедленно.
Белов тяжело опустился на скамейку. Фишер кособоко поднимался со стола — как недодавленный паук.
На холодильнике острыми бликами ламината подмигивало расписание.
— Я могу тебя каждый день отвозить после учебы, — растерянно сказал Белов. — Просто отвозить, куда скажешь. Так будет быстрее, чем в транспорте.
Фишер без сил повалился обратно на стол. Молчание длилось секунд пять, а потом до Белова донеслись знакомые полузадушенные взвизги. Фишер медленно сползал со столешницы на пол, лица его Белов не видел, и это было к лучшему. Смех, больше напоминавший кошачий вой пополам с вороньим карканьем, иглой впивался в барабанные перепонки.
Дождь затихал, потом начинался снова — и так всю неделю. Он то сливался в частый дробный ритм, то распадался на мелкую изморось, делал дни серыми, а вечера окрашивал в грязную желтизну осенних фонарей.
Согласно вывеске забегаловка была суши-баром, согласно реальности — третьесортной чебуречной, где суши были последним, что стоило заказывать.
Ни Фишер, ни Антон никогда не брали там ничего кроме кофе и булочек — это еще худо-бедно можно было считать безопасным. Даже пиво не брали.
Но на этот раз хотелось пива — по-настоящему, до выступившей слюны и осязаемого вкуса на языке.
Над дверью звякнули колокольчики. Антон был на месте — сидел за своим любимым столиком. Фишер сразу прошел к стойке, чтоб не ждать официантку, а оттуда уже присмотрелся.
Игорь Лазутин — тип с непонятным прозвищем Массив, какая-то девочка, и Антон с ними.
Фишер попросил пива. Взял чистую пепельницу.
Вообще-то, хотелось выпить и сразу лечь, но до дома еще предстояло добраться. Это был обычный осенний пиздец, когда сил ни на что не оставалось и все вызывало ненависть — не раздражение, а именно ненависть. Только с Антоном было нормально.
Антон, низко склонившись вперед, почти опустившись на стол, что-то доказывал Массиву. Девчонка с отсутствующим видом смотрела в свой планшет.
Любому, кто его знал, Антон казался странным, но в чем эта странность, никто не сумел бы толком сформулировать. Девчонки делали большие глаза, сосредоточенно сжимали губы, потом тянули задумчиво — о, ну... он странный. Парни реагировали примерно так же: Антоха? Да, странный он.
Фишер поначалу тоже пытался. А потом дошло — и глубоко копать не пришлось. Дело было в ракурсах. Если выстроить их один за другим в определенном порядке — и менять с нужной скоростью, то странность улавливалась сразу. Понятно, что для такого открытия требовалось время.
У Антона было очень примечательное лицо — узкое, с чистыми правильными чертами, а неестественный контраст черных волос и бледно-серых глаз делал его каким-то ненастоящим, похожим на карнавальную маску. В определенных ракурсах Антоново лицо смотрелось идеально красивым, почти пугало своим совершенством — как минимум, вызывало неловкость. Странно было видеть его под простым флисовым капюшоном на фоне разбитых дворовых качелей. Потом — раз! — Антон поворачивался, смотрел сверху вниз, сводил к переносице слишком густые черные брови, под которыми глаза казались еще более светлыми, чем обычно, и его физиономия превращалась в лубочно-инфернальную карикатуру — такими, наверное, иезуиты воображали подручных сатаны в аду. Инфернальный Антон ничем не напоминал недавнее совершенство, мечту живописца.
Фишер не раз уговаривал его наведаться к ним, на факультет живописи — наверняка нашлась бы куча желающих воплотить эти изменения в портрете. Антон в ответ только усмехался. Это был бы такой портрет: крупный план, прямой анфас, четко разделенный надвое, словно сама природа прочертила продольную границу сверху вниз. Два совершенно разных лица.
Странность продолжалась в фигуре: у Антона были слишком узкие и не по-мужски покатые плечи, при этом он был высоким, да еще и сутулился, так что впечатление иногда производил гротескное. Здесь тоже дело было в ракурсе — иногда ничего, иногда — жуть. Наверное, поэтому никогда не носил ничего с коротким рукавом.
Но по-настоящему восхищало, как Антон с такой своей внешностью обращался. Все в нем — стрижки, одежда, обувь, манера — прекрасно сочеталось с этими зазубринами и смотрелось до неприличия непринужденно. Словно он, не задумываясь, напялил на себя первый попавшийся шмот и теперь блистал в нем просто потому, что так и надо.
Антон посмотрел, и Фишер махнул ему от стойки. Подхватил свое пиво, направился к столу. Антон продолжал начатый разговор.
— Нет уж, Игорек, — тихо гнул он свое. — Нет, это еще не повод жениться.
Фишер прислушался. Массив обеспокоенно глянул на него, словно ждал поддержки. Девочка — кажется, ее звали Даша — безучастно смотрела в планшет.
— Почему же? — Осторожно заговорил Массив, как будто пробовал трясину тонкой слегой — видно, уже пал жертвой каких-нибудь изощренных Антоновых силлогизмов. — Мне с ней хорошо. Мне ни с кем так не бывает, и не было, как с ней. И поэтому я женюсь.
Фишеру показалось, что он больше себя уговаривает, чем Антона.
Антон покачал головой, изображая печаль векового опыта.
— Нет, Игорек, ты пойми. Вот смотри — мне ни с кем так не бывает хорошо, как с Фишкером, — Фишер сумел при этом сохранить лицо серьезным. Антон, наоборот, сгустил свое до скорбной маски. — И что же мне теперь — на нем жениться? «Мне с ней хорошо» — это еще не все, Игорек. «Мне с ней хорошо» — это, скорее, повод задуматься...
— Бля, все вовсе не так!
— Все вовсе так!
Массив почти кричал, глаза у него округлились и выпучились, белок взбороздила красная сетка сосудов.
Фишер сообразил — сначала Антон его накурил, а теперь издевался. Менял тезисы, незаметно подсовывал кривые сравнения, накачивал свои доводы софизмами, доебывался до деталей — и выворачивал наизнанку все, о чем говорил Массив.
Даша умирала над планшетом. Наверняка курили втроем — догадался Фишер.
Понурившись, Массив тяжело качал головой — видно уже боялся что-то говорить, потому что Антон брал его слова — и возвращал обратно в виде уродливых кадавров.
Фишер закатил глаза. Антон посмотрел на него и коротко улыбнулся. Снова повернулся к Массиву:
— Подумай об этом.
Пиво пошло отлично — хоть что-то за последнее время пошло отлично, подумал Фишер.
Антон хлопнул его по плечу.
— Ну что, домой?
Фишер аккуратно поставил пустой бокал.
Даша словно очнулась — отложила планшет, вскинулась на Антона.
— Подожди, ты куда это? Ты же обещал...
Фишер округлил глаза в притворном ужасе, прижал указательный палец к губам.
— Даш, ты что. Тихо, ты что! С ним так нельзя, он — личность. — Дашины глаза в ответ тоже округлились, она искала в сказанной Фишером чуши что-то, чего там не было. Антон надевал куртку. Фишер, не моргая, посмотрел на Дашу. — Понимаешь?
Она медленно покачала головой.
— Я и сам не понимаю, — легко махнул Фишер.
Антон уже звенел колокольчиками на выходе.
На улице Фишер криво улыбнулся.
— Что, расправился с убогим? Думаешь, теперь он раздумает жениться?
— Я посеял зерно сомнения, — серьезно сказал Антон. — А это существенно.
— Да ну? Слушай, где-то я такое уже слышал, вот прямо слово в слово. Погоди…
— Представь — года через два, когда бедный Массив поймет, что с ней совсем не так хорошо, как казалось вначале, когда убедится, что не просто нехорошо, а невыносимо, он вспомнит этот разговор в подробностях и будет себя проклинать, что не…
— Да ладно тебе, словоебие же самое настоящее. Он такой гашеный, что даже не понимает, о чем вы говорили.
Антон вздохнул.
Они медленно шли по расплывающейся от влаги улице, и темнота на границах перекрестков смешивалась с желтыми взрывами фонарей.
Не сговариваясь, пошли пешком — было сыро, но пока еще очень тепло. Закурив, Фишер сказал:
— А ведь это чистая правда, если разобраться. Если просто хорошо вместе, еще не значит, что нужно бегом сходиться, жениться и покупать телевизор. Так?
Антон молчал. Фишер тоже — ждал. Антону пришлось отозваться.
— Это ты к чему?
— Ты же сейчас затирал про это. Хочу послушать мнение эксперта.
— То есть, — в голосе Антона слышалась улыбка, — тебе понадобилось немного словоебия?
Фишер рассмеялся.
— Допустим.
— Хорошо, начнем. — Антон размазал окурок по мокрому асфальту. — Тебе хорошо с кем-то?
Фишер медленно повел плечом, поправил ремень сумки.
— Не знаю. Смотря что под этим понимать.
— У, как все запущено. Ладно, тогда нужно определиться с терминами и понятиями. Пойдем от простого — есть люди, с которыми тебе просто хорошо, что бы это ни означало?
— Есть. Ну, вот ты, например.
— Шикарный пример. Готов ли ты, раб божий, в болезни и здравии, в богатстве и бедности, ля-ля-ля, пока смерть не разлучит нас? И купить телевизор?
— Нет, не могу, — сразу выпалил Фишер. Изобразил в воздухе неопределенный жест. — Если только добровольное сожительство двух свободных людей, которым хватает компа с колонками и не нужен телевизор.
— Ага, — Антон поднял вверх указательный палец. — Значит, все-таки чего-то не хватает.
— Так ебли не хватает. Какие же это отношения, если с телевизором и без…
— То есть, плотские радости для тебя более существенны, чем…
— Ты упрощаешь, а сам прекрасно понимаешь, что я имею в виду.
— Хорошо, тогда другая крайность. Что у нас с еблей?
Фишер фыркнул. Долго молчал, а потом сказал — раздельно и тихо:
— Вот тут вся засада. У меня как-то с этим никогда не складывалось, ну так, чтобы все вместе. Если с человеком нормально, интересно и вообще все хорошо, мне надоедает. Быстро. Почти сразу — или вообще не начинается.
Антон покачал головой.
— «Космополитан» читать не пробовал?
Фишер засмеялся и толкнул его локтем. Продолжил:
— Знаешь, у меня люди делятся на два типа — которые могут меня трогать и которые нет. Не могу переносить, до трясучки, — вспомнив знакомые ощущения, Фишер передернулся. Антон присвистнул. — И вот я никогда не спал с теми, кому… не позволил бы погладить себя по голове, назовем это так. То есть, это не значит, что я спал со всеми, которые…
— Понял, — кивнул Антон. — Со мной ты не спал. Продолжай.
Фишер вздохнул, достал пачку. Даже с Антоном говорить про все это было невыносимо. Хер знает, зачем начал. Наверное, просто не предполагал, что дойдет до таких откровений.
— И вот тут так получилось, что я, ну, попробовал с… блядь, по голове бы не позволил, точно. Сука, близко бы не подошел!
Антон повернулся, посмотрел на него, но промолчал. Фишер не ответил на его взгляд. Прикурил, тряхнул головой, выдохнул. Нет, он просто не мог. Антон бы понял, в его обширных антропологических наблюдениях нашлось бы место и такому, но он не мог.
— Не, друг, извини, я не готов. Что-то я погорячился.
Антон легко пожал плечами.
— Ну… из той информации, что ты мне сообщил, я понял, что у тебя проблемы.
Фишер затянулся, кивнул.
— Ладно, а дома что?
Вокруг начинался знакомый район — многоэтажки, дворы, стихийные стоянки. Истекающие мутным светом павильоны. Фишер уже неделю жил у Антона — в последнее время он не справлялся с собой, забирался мыслями в самые темные лабиринты, где оставаться одному было слишком страшно. Там никого не было — только Белов. И злость, ярость, отвращение — к самому себе. Он просто оказался слабаком. Не боец. Ничтожество. Чмо. Он ничего не мог — и делать вид, что все идет по плану, он тоже больше не мог. Что-то пошло не так.
Фишер скривился.
— Не могу дома.
— А бабушка?
— Она думает, что у меня, как это, бурный роман, — последние слова он выделил почти сериальной интонацией. — Спрашивает, кто она, просит познакомить.
— А у тебя?.. — не отставал Антон.
Фишер развел руками.
— Как видишь.
— Н-да. — Антон помолчал пару секунд, потом с воодушевлением выдал: — Слушай, а если наплевать на условности и того… купить телевизор?
Фишер против воли усмехнулся. Нет, все-таки Антон любую тему схватывал на лету. А вслух сказал:
— Невозможно.
— Почему? Кто там у тебя? Таджик со стройки? Студент из Нигерии?
Фишер мрачно кивнул.
— Близко, но еще хуже.
— Блядь! — Антон даже остановился. — Спидозник из хосписа?
Фишер поморщился, полез за очередной сигаретой. Вздохнул.
— Сука, как страшно жить.
— Не то слово. Начальник военкомата?
Фишер толкнул его, махнул рукой.
— Давай лучше пива возьмем.
— Дома коньяк есть.
— Хорошо звучит — дома…
— Еще как. Может, все-таки передумаешь насчет меня? Ну, в-богатстве-и-в-бедности. Телевизор, конечно, не обещаю, но…
Заржали. Белова Фишер не видел уже почти неделю — с последней драки на кухне.
А ночью, когда он уже почти засыпал под медленно плывущие по потолку тени — до утра в комнате горела лампа, подслеповатая, кривая, с вращающимся абажуром, в котором были вырезаны фигурки и звезды — Антон сполз с дивана и решительно уселся на его матрас.
— Фишкер, два слова.
— А?
— Сядь.
Отчаянно зевая, Фишер выпутался из одеяла, сел, откинувшись на холодную стену.
— Если без словоебия. Я просто расскажу, а ты послушай.
Фишер посмотрел — светлые Антоновы глаза в мутном свете лампы очень нехорошо горели. Казались почти белыми. Думая о чем-то, он качнулся, как пьяный. Фишер против воли замер.
— Ну… в общем. Ты Игнатова знаешь? Торговые центры «Космос», фонд «За руки вместе», райончик этот — Игнатовка?
Антон говорил почти шепотом — быстро, напористо. У него — вечно расслабленного, насмешливого, почти фланелевого — никогда не было таких интонаций. Фишер прищурился. Появилось дурацкое желание прижать ладонь ко рту.
—Иг-на-то-ва? Ты хочешь сказать, что…
Антон быстро кивнул.
— Да-да-да. Три кинотеатра, развлекательный комплекс в пригороде и еще хуй знает что. Весь город, угу. Ты все правильно понял.
Конечно, Фишер знал Игнатова — точнее слышал о нем. Любой в городе про него слышал. Каждый, так или иначе, имел с ним дело — ходил в его кинотеатры, работал на его имуществе, покупал вещи в его торговых центрах. Игнатов! Даже Фишер, никогда такой херней не загонявшийся, знал, что это какой-то очень крупный делопут — именно в масштабах всего города.
— Ну вот, — продолжил Антон. — Короче, Игнатов, да. — Запнулся — подбирал слова. Снова начал: — Он очень хотел, чтобы сын стал его идеальным наследником, ну, знаешь, как в фильмах. Клан, семья, большие деньги — такая хуерга. Насмотрелся «Крестного отца», наслушался всякого дерьма, там же три извилины в башке, и те только под бабло заточены. И мысли исключительно в форме стандартных шовинистских штампов — ну, не тебе объяснять.
Фишер кивнул. Антон перевел дыхание.
— Короче, шовинистское быдло — горе в семье. Или, — Антон коротко хохотнул, — белая ворона — горе в семье. Сначала все шло более-менее гладко — неудачный сын учился в Москве, потом во Франции... Не смотри на меня так, а то мне кажется, что у меня хуй на лбу вырос. Так, сын учился и особо не выступал. Думал, быдло перебесится, постареет, устанет — и оставит уже всех в покое. Ага, щас. Его через старческий маразм еще крепче скрутило, видимо. Я без деталей, ладно? Ах, бля, не получится без деталей. Ну, тогда… — Антон резкими движениями закатал оба рукава — он и дома всегда ходил с длинными — и Фишеру захотелось прикусить собственную ладонь. И отвернуться. Предплечья были исполосованы продольными рубцами — неестественно белыми даже на фоне светлой кожи. Их было много — очень. Антон с отсутствующим видом качнулся из стороны в сторону. — Я сидел в трех психушках. Не в одной — в трех. Последняя была обычная, областная. Этот козел думал, что нагнет меня рано или поздно, так или иначе, а я, — Антон хрипло хохотнул, — уже тогда знал, что нет. Не нагнет. Понимаешь?
— Это ты тогда сделал? — сухим шепотом спросил Фишер. Моргать не получалось. Отвернуться — тоже.
— Это я все время делал, — ответил Антон. — Я честно ему сказал — отъебись. Отъебись, здесь тебе ничего не светит. Он решил, что я понтуюсь. А я… ну да, это, — он рвано кивнул на предплечья, — таблетки — три раза, даже вешался. Только в окно не выходил — решетки. Меня пасли круглосуточно, — глаза Антона блеснули фанатичным азартом. — Но я бы рано или поздно все равно сумел. Потом в Собачнике, ну, в областной, нашелся какой-то врач, который доходчиво ему объяснил, что я безнадежен. Псих, понимаешь? — Антон свесил язык, скосил глаза. Покрутил пальцем у виска, присвистнул. — Ку-ку. Ага. Что со мной каши не сваришь и не замутишь образцово-показательный семейный бизнес. Глухо.
Фишер чувствовал, что от мурашек спина у него онемела. Тяжело сглотнул. Пересохшие веки никак не хотели моргать.
Антон глубоко втянул воздух. Склонил голову. Лицо поменяло выражение — на матрасе снова сидел Ваалберит, попсовый вариант, продукт масскульта.
— Такая вот странная история.
Фишер остекленело смотрел на него.
— Ебать.
Антон усмехнулся.
— Есть немного.
— Послушай, но как же… то есть, если бы он от тебя не отвалил, ты бы…
Антон посерьезнел, коротко кивнул.
— Да.
— Но, блядь, так же нельзя!
— Он хотел пустить мою жизнь по пизде. Какой смысл, если твоя жизнь все равно перестает быть твоей, и кто-то распоряжается в ней, как у себя в сортире?
Фишер шумно выдохнул. На секунду появилась мысль, что Антон все про него знает — по-настоящему все: про Белова, про коробки, про ночь в отделе, про то, что началось дальше, — знает и теперь рассказывает это… зачем?
В голове все перемешалось.
Антон жестом фокусника достал откуда-то круглую лабораторную капельницу, которую приспособил под дудку. Расправил на крышке свежую фольгу, поболтал чуть мутноватую воду внутри. Получался миниатюрный стеклянный кальян.
Фишер отер лоб одеялом. Антон бегло на него покосился.
— Я это к чему рассказал-то… Зря, да?
— Да нет, не в том дело. Просто, следуя твоей логике, я теперь бегом должен начать самовыпиливаться, пока он… — Фишер сообразил, что почти проболтался. Поморщился, но все-таки закончил: — Пока он от меня не отвалит.
Антон присвистнул, округлил глаза. Накрыл пятерней лоб.
— Бля, во я долбоеб, бля, бля. Фишкер… бля, прости, я реально не хотел! Я не думал, что… А-а-а… — И закончил без кривляний, совсем другим тоном: — А надо?
— Что — надо?
Антон задержал дым, надув щеки, помахал рукой. И выдохнул вместе с сизыми кольцами:
— Ну, чтобы отвалил?
Фишеру показалось, что его ударили под дых. Он даже закашлялся, хотя еще даже ни разу не напаснулся. Сполз лицом в подушку, давя подступающий к горлу хохот. Прохрипел:
— Блядь, я щас заплачу.
Антон покачал головой. Сказал серьезно:
— Ясно.
— Чего тебе ясно?
— Да все. — Если бы Антон умел похабно ухмыляться, то здесь бы без такой ухмылки не обошлось. — Получается, твоя бабушка не так уж и ошибается, чо. Насчет романа.
— Иди ты в жопу.
Фишер снова уселся спиной к стене, забрал у Антона колбу.
Долго сидели молча — минут десять, не меньше. Дым неохотно рассеивался, уплывал в невидимые глазу щели. По потолку рассеянно двигались звезды и звери.
Антон заговорил первым.
— Я просто хотел тебе рассказать. Никто ведь не знает.
Фишер тяжело шмыгнул носом — во рту пересохло, говорить не хотелось. Но он спросил:
— А… теперь что? Ну, вы с ним…
— Ничего особенного. Он пару раз пытался выйти на контакт, но мне оно на хер не надо. — Антон пожал плечами. — Это ж он меня крышует. Ну, точнее, кто-то из его приказчиков по этому району. Думает, я не знаю. Еще деньги переводит каждый месяц, но я не прикасаюсь. За хавиру вот сам плачу, ну и вообще.
Фишер подумал, что его загоны просто смехотворны по сравнению с Антоновым пиздецом. Тот как будто услышал его мысли.
— Нет, сейчас все нормально. Сейчас все хорошо.
Фишер опустился на матрас, сдвинулся к краю. Приподнял одеяло. Антон сдернул с дивана свою подушку, положил рядом. Он привычно пах чем-то очень теплым, и Фишер быстро задремал — как всегда.
А утром он сидел в узкой клетушке сортира и прислушивался к возне Антона за дверью — если накануне не было гулянок, Антон вставал очень рано. Фишеру стихийно потребовалось остаться одному — и условного кухонного одиночества тут было явно недостаточно.
Дальше начинался обычный учебный день — преподы, сокурсники, беготня по этажам, разговоры и лекции, какое уж тут одиночество.
Опустив крышку, Фишер сел, откинулся спиной на неслышно журчащие пластиковые трубы. Достал сигарету. Вчерашнее пиво кислило во рту сквозь мятный вкус зубной пасты.
Десять минут назад он увидел за окном незнакомое утро, незнакомую погоду — не ту, по которой они вчера возвращались домой. Поднявшийся ветер высушил влагу, затянул все ломаным серым пергаментом — небо, землю, двор, дома. Даже желтая сентябрьская листва казалась блекло-бурой — ветер таскал ее, дергал, бросал из стороны в сторону и, похоже, очень радовался, когда удавалось сцапать больше двух-трех листьев. Тут отломилась рыжая ветка. Там в воздух взвилась целая охапка. Слабые летели в серых вихрях, стойкие держались.
Фишер затянулся, вспоминая заоконный пейзаж.
Утро все расставляло на свои места.
Он все думал про Антонову историю. Буквально она звучала так: достал нож — бей, а не можешь — не доставай. И иди до конца. Решил — делай, а не решил — не хер прыгать. Но что тогда оставалось? Дальше-то что?
Фишер встал, зачем-то спустил воду. Потрогал лицо, словно проверял, все ли на месте.
Внезапно до дрожи захотелось посмотреть на Белова — прямо сейчас, только посмотреть, он и сам не знал, для чего, просто увидеть и свести внутри какой-то неосознанный баланс.
Чтобы прогнать это щекочущее чувство, Фишер нарочито громко щелкнул задвижкой.
Антон сидел перед монитором. «Фоулз» из колонок звали, приглашали, подмигивали — давай! Давай-давай-давай.
— Я так понимаю, тебя сегодня не ждать? — не оборачиваясь, отозвался Антон.
— Не ждать, — согласился Фишер.
— Ну, удачи. Привет сантехнику из жэка.
Фишер, хмыкнув, толкнул его в плечо.
Выйдя в подъезд, достал трубку. Он никогда не звонил первым — если только не надо было предупредить, отменить или что-то вроде. Чтобы договориться — никогда не звонил.
— Слушаю, — сказал Белов.
Наверняка, сидел сейчас в отделе среди своих вертухов.
Фишер сразу перешел к делу.
— Вечером сможешь?
Повисла пауза, и Фишер почувствовал мстительный укол — Белов растерялся. Но тут же сказал:
— Во сколько придешь? Может, подхватить тебя?
Фишер уже собрался привычно отказаться — знал, что Белова это огорчает, иногда почти бесит, как же, лишить беднягу куска контроля — но почему-то не отказался:
— Давай. Я в начале седьмого выйду.
Он еще не знал, что сделает и скажет, но отчетливо понимал, что уже достаточно пустил на самотек. Пора было сменить тактику.
И купить телевизор — хохотнул рядом воображаемый Антон.
Вечером Белов встретил Фишера обычной каменной рожей — подождал, пока он свалит сумку на заднее сиденье, пристегнется. Фишер по привычке захотел откинуться на подголовник, но тот оказался до упора утоплен в спинку. Эта неожиданная мелочь вдруг кольнула — кого это он здесь катал? Чувство было непривычным, но очень четким — Фишер даже не сразу сообразил, как на него среагировать. Тело тут же подсказало, что спинку тоже ворочали — подняли под прямым углом. Проходные попутчики обычно не настраивают под себя сиденья, и то, что переднее пассажирское давно, еще с весны, застыло в одном положении, казалось привычным, нормальным и незыблемым.
На языке вертелась куча подъебок про рост таинственного пассажира — типа, дядюшка, пусть лучше это будет мелкая баба, чем ребенок — а глухое раздражение уже распускалось в голове, в груди.
Белов посмотрел, как он возится с сиденьем, сказал:
— Племянника на дачу отвозил в выходные.
Фишер коротко кивнул, но раздражение никуда не ушло — только сменило цель. Теперь Фишер досадовал на себя, на свое недавнее чувство — ну, ну, давай, скажи — очень похожее на ревность. На то, что оно вообще возникло и оказалось на удивление сильным. Из-за какой-то херни — из-за поднятой спинки! Нет, не так — из-за хуй знает кого — из-за Белова!
Час от часу не легче.
Ты просто устал, Фишкер, сказал он себе. Выдохни.
Фишер смотрел, как мимо проносятся витрины и светофоры, и думал: всему этому просто нет здесь места. Он сам точно не знал, что имеет в виду, это были только обрывки, Фишер ловил их и складывал вместе.
Здесь есть только ветер, темнота, дома, кабинеты, коридоры, чьи-то стоны за кадром — от боли или удовольствия, все равно. Есть Антон с изрезанными руками. Есть придурок Массив со своим дырявым мозгом. Есть много людей — и одна темнота.
Он вдруг вспомнил ту далекую ночь в отделе, не кабинет Белова, а провонявший перегаром и бомжами обезьянник. Фишер сидел на металлической скамейке, он уже знал, что Белов не остановится, но все равно думал — где я? Что это за место такое, не прямо тут, не клетка с прутьями, а вообще — где я? И становилось страшно. Сейчас мысли почему-то имели тот же привкус — параноидальный душок протухшего мяса, в который складывались городские улицы, осень, усталость, вечерний свет.
Фишер встряхнул головой. Вдруг захотелось, чтобы за окном было утро.
Белов сказал:
— А я как раз сам звонить собирался. Короче, дело есть.
Фишер усилием воли прогнал муть из мозгов.
— Слушай, давай до дома, ладно? А то я, знаешь, — он изобразил руками и голосом недавнюю токкату. — Надо в себя прийти. — И физически ощутил изумление Белова с левой стороны — почти жар на щеке. Чего уж, к таким ответам он не очень привык.
Фишер вздохнул.
Напряжение ушло, стало почти уютно. Сразу захотелось, чтобы они никогда не доехали.
Белов вдруг повел носом, коротко посмотрел на него. Не то нахмурился, не то просто сосредоточился.
— Парфюм сменил?
Фишер не сразу понял.
— Чего? — Отогнул воротник куртки, принюхался. — А… Это Антонов.
И тут же запоздало понял, что зря он такое ляпнул.
Белов тут же подобрался; Фишер почувствовал, как вниз по плечам пронеслись знакомые мурашки.
— Значит, на Антонов шалман у тебя время есть.
Фишер со стоном откинулся на спинку.
— Ну не начинай ты, я прошу. И так голова, как чердак. — И к собственному удивлению вдруг добавил: — Я у него ночевал. Всю неделю.
Электричество в салоне стало почти осязаемым — густым и колким. Фишер видел, как руки Белова стиснули руль, как стрелка на спидометре резко дернулась — и голова вдруг закружилась от почти болезненного похуизма.
Фишер обмяк на сиденье.
Я, блядь, устал, сказал он себе. Только не сегодня. Пожалуйста.
Но нет, все должно было случиться именно сегодня — он сам так решил, правда, толком не знал, что конкретно. Неделя после драки на кухне выжгла все внутри — тупой борьбой непонятно с чем, с самим собой, с большими химерами и пустячными мелочами. С Беловым — в собственной голове. И снова с собой. Американские горки.
Ему нужна была передышка.
Просто успокоиться и лечь на дно лодки. Передышка — хоть ненадолго. Он не рассчитал силы.
Белов, наконец, заговорил:
— А что так? Из дома поперли, что ли?
Фишер равнодушно пожал плечами.
— Интересно, в твоем классификаторе вообще есть место нормальному взаимодействию? Ну, между людьми? — Белов приподнял брови, но ничего не сказал. — Чтоб без «поперли», без «руки по швам», без «стоять-бояться»? Есть?
Белов снова замолчал. Фишер апатично ждал — может, совсем заткнется.
Но Белов вдруг сказал, глядя перед собой:
— Есть. Но с тобой как-то, понимаешь… косячно выходит.
Фишер от удивления даже приподнялся. Белов все так же смотрел вперед.
— Ладно, — облизнув пересохшие губы, медленно сказал Фишер. — Принято. И добавил, хотя не собирался: — Насчет Антона — просто так вышло, никто меня никуда не выгонял. Что бы ты там о нем ни думал, мне это вряд ли интересно. Антона не трогай.
Белов хмыкнул.
— Да я уж понял.
Фишер кивнул.
— Хорошо.
Что ж, похоже, не только ему потребовалась передышка.
На кухне Фишер пошмыгал носом, скомкал бумажный платок, швырнул в ведро — попал, ловко вышло. Расстегнул пуловер.
— Блядь, я как бомж — с хаты на хату. — Прозвучало уныло.
Возившийся у холодильника Белов спросил:
— Что все-таки случилось? Тебе жить негде?
— Да нет, нормально все. Просто заебало. Ну, бывает так… — Проще было удавиться, чем объяснить. В том и была трудность, что Белову нужно было объяснять, а тому же Антону — не нужно. Он понимал все сам. Фишер махнул рукой. — Короче, считай, что у меня тяга к бродяжничеству.
Он ждал, что Белов выдаст на это что-нибудь в своем духе, но тот молча поставил на стол сковородку, миску с салатом, тарелки. Потянулся за пивом.
Фишер вдруг вспомнил прошлый раз и исподтишка огляделся — нет, кухня выглядела, как обычно. Ничего не разбилось, не сломалось — сушилка висела на прежнем месте, а в ней поблескивала посуда.
— Тогда слушай, тебе понравится.
Фишер вспомнил, что еще в машине Белов говорил про какое-то дело.
— Короче, у нас тут сосед с третьего квартиру сдает. Спрашивал позавчера, не нужно ли кому из знакомых.
Фишер даже вилку опустил, хотя жрать хотелось неимоверно.
— На третьем этаже? В вашем подъезде?
Белов жил на первом.
— Ну да. Однушка. Не такая, как моя, но тоже нормальная. Правда, пустая совсем, без мебели, зато дешево.
Фишер прищурился.
— Погоди, ты хочешь, чтобы я…
Телевизор — скорбно вздохнул над ухом Антон, и Фишер почувствовал, как в горле щекочет знакомая лавина. Прикусил изнутри губу и повторял мысленно — только не начинай. Только не сейчас.
Но, похоже, его рожа выглядела и так достаточно перекошенной — Белов нахмурился, замолчал.
Фишер выдохнул, потер рукой лоб. Задумался.
В общем, дома у него никогда не было трудностей — иди, куда хочешь, гуляй, где нравится, только предупреждай. Бабушка никогда его в таких вещах не щемила. Вот и теперь, с недельной отсидкой у Антона — поворчала, конечно, истолковала все по-своему, но вмешиваться не стала. Так у них было всегда. Но это же…
Фишер снова перевел дух. Мысли запрыгали, опережая одна другую.
А ведь прокатит, подумал он. Она просто решит, что я реально с кем-то встречаюсь, тут никак не обойтись без собственного пространства. Допустим, у меня девушка. Не в комнате же мне с ней запираться — Фишер мысленно запнулся об это «с ней», но продолжил.
Так у них просто не было принято — ба скорее сошла бы с ума от того, что внук при ней не стесняется трахаться, пусть и за закрытой дверью. Она прекрасно поймет желание съехать.
К щекам прилила кровь.
Голова тарахтела, как пишущая машинка. Так. Объясню, что решил попробовать пожить один, то-се, как пойдет, ненадолго, ба, я тебя люблю, но ты понимаешь…
Так замертво падали два зайца сразу — он действительно не мог временами находиться дома. И второй — с Беловым. Все же решение — какое-никакое, плохое-хорошее, а решение. Для начала вполне годилось. Попробовать. Проверить — себя, а не его. С ним-то давно все было ясно. И пусть это был тонкий лед, пусть не всегда получалось пригнуться или наоборот прыгнуть вперед, это было что-то новое. Почти авантюра.
Выдохнув, Фишер откинулся на спинку.
Белов напряженно смотрел на него.
Фишер мысленно ухмыльнулся. Нет уж, стоп, не так сразу.
— А сколько стоить будет?
Белов понял по-своему.
— Да недорого совсем, по знакомству же. Ну и я мог бы…
Фишер дернул подбородком.
— Не в этом дело. У меня есть деньги, мама присылает. А если… — Фишер со вкусом покатал на языке следующую фразу. — А если я откажусь, то что?
Белов медленно выпрямился, скрестил руки на груди, склонил голову. Посмотрел на Фишера — не то чтобы с интересом, но как-то изучающе. И вдруг улыбнулся.
— А почему нет-то? Я же тебя не замуж зову. Ты не успеваешь, тебе неудобно — это раз. Дома надоело, как выясняется — это два. А тут хороший вариант. — Белов пожал плечами — вышло как-то совсем просто. Фишер видел его разным, но таким — никогда. На язык просилось сотня разных колкостей, но он молчал, ждал. — Короче, если ты откажешься, я скажу, что ты странный.
Фишер подумал — вот это да. Едва вслух не произнес. Хотелось присвистнуть, но он себя одернул — обольщаться все-таки не стоило.
Правда, ехидства сдержать не получилось.
— И что, на этот раз обойдется без коробков?
Белов посерьезнел, в упор посмотрел на него.
— А тебе как больше нравится?
И Фишера вдруг прорвало:
— Мне нравится, когда я сам все решаю. Когда мне, блядь руки не выкручивают, не строят по стенке, когда я сам выбираю, с кем трахаться, куда идти и что делать. — Не вытянул — последнее слово все-таки соскользнуло в хрипящий шепот. Голос кончился. — А то ты сам не знаешь.
Белов поморщился, но глаз не отвел.
Потом вдруг встал и вышел куда-то — вроде в прихожую.
Фишер почувствовал, как внутри все дрожит — противно, мелко. Так всегда подступала тошнота — поначалу неслышно, украдкой, почти мягко.
Белов быстро вернулся, сел на место. И аккуратно выставил перед Фишером три коробка. Те же самые — с елкой на лицевой части.
— Специально захватил сегодня. Как чувствовал.
Фишер сглотнул.
Жест, конечно, был чисто символический. Если бы Белов захотел, он в любой момент мог найти другие — и не только коробки. Да он мог бы просто закрыть его в отделе на сутки — и делать что угодно «до выяснения обстоятельств». Коробки были сущей ерундой, если разобраться. Но Фишер смотрел на них — и не моргал. Не мог себя заставить, как ночью на матрасе, когда Антон закатал рукава.
Белов молчал.
Фишер медленно протянул руку и взял один. Открыл, понюхал. Скривился.
— Курить это, я так понимаю, нельзя.
— Ну, твой Антон такое всему району втюхивает.
Фишер так и не понял, в какой момент оказался на ногах — и сам он встал или Белов его поднял. В задницу впивался край мойки — как в прошлый раз, и бессилие накатывало похожее — но совсем другое. Шкафы опасно дребезжали — тоже, как и неделю назад. Он вцепился Белову в плечи, чтобы не соскользнуть, а тот вытягивал из-под ремня его рубашку, целовал — в губы, в шею. Фишер плыл под ударами пульса и думал: не что-то пошло не так, а все.
Фишер рассматривал комнату, а Белов рассматривал его. Он свалил вещи возле двери, закатал рукава рубашки и застыл по центру, переводя взгляд от стены к стене. Комната была чистая, светлая, но абсолютно пустая — гулкая ровная коробка.
Сумок у Фишера оказалось всего две — и еще знакомый рюкзак, с которым он ездил на юг.
На самом деле Белов не представлял себе, как он здесь устроится, потому что любые попытки сосватать ему какую-нибудь мебель Фишер решительно отмел.
Не глядя на Белова, он расстегнул одну из сумок и чем-то загремел — на свет появились хромированные рейки, россыпь вешалок, крепления. Быстро прилаживая рейки одну к другой, Фишер спросил:
— Ты насос не захватил?
Белов вспомнил — действительно, он говорил что-то о насосе из машины, но оно прошло как-то мимо ушей.
— Принесешь? — не дожидаясь ответа, Фишер снова полез в сумку и достал что-то в плотном черном чехле. — Матрас надуть надо.
Из пластика и хрома быстро вырастала стойка для одежды.
Белов хмыкнул — вот же зараза, какой продуманный.
Тогда, после разговора на кухне и коробков, они очень быстро перебрались в комнату — и там, на привычном диване уже окончательно помирились. Во всяком случае, Белов решил рассматривать это именно так.
Фишер снова расслабился, почти как тогда, на юге, был уступчивый и слегка виноватый — сам тянулся к Белову, сам целовал, и предутренние часы пришли очень незаметно. Белов обвел пальцами смазанный темнотой контур скул, коснулся его губ и понял, что уснет уже в следующую минуту. Фишер еще полежал, вытянувшись сверху, потом скатился на свое привычное место, повернулся спиной и вдруг раздельно произнес — каким-то стеклянным голосом:
— Я соскучился.
Белов мгновенно проснулся. Так Фишер, похоже, объяснял свой сегодняшний пыл.
Сил не было уже совсем ни на что, только обнять его сзади, прижаться всем телом и разрешить себе поверить, что теперь все будет нормально. Правда, согласен ли Фишер на это «нормально» и какое оно в его понимании, он выяснять не рискнул — и не собирался.
А утром с удивлением обнаружил, что он в квартире один — и на часах целая половина девятого. Проспал. Не услышал будильника, ни своего, ни Фишера, пропустил всю его утреннюю возню, даже ухом не повел.
На кухонном столе нашлась записка, прижатая грязной чашкой: «Все узнай и перезвони, вечером могу посмотреть, в выходные перееду».
Белов понимал — что-то случилось, как минимум, у Фишера в голове. Что-то он задумал, не иначе, и не очень получалось такому Фишеру доверять — просто, без всяких задних мыслей. Такого Фишера — сговорчивого, спокойного, без вспышек истерики и дурного блеска в глазах — не существовало в природе. Но выяснять Белов не спешил, его останавливал полусуеверный страх — тьфу, как бы не сглазить. Если начать вникать в природу неожиданного подарка, тот запросто мог исчезнуть, как в сказках.
И он не вникал.
Тем более, вечером Фишер уже больше походил на себя прежнего — язвил, ухмылялся, а главное — как будто смущался всего, что было накануне. Словно он здорово перепил, натворил под этим делом глупостей — не смертельных, но все же — и теперь старался все сгладить нарочитой грубостью и насмешками.
Белов не возражал.
Пусть, думал он. И так было понятно, что Фишера не перекроить и не переделать, и то, что он так легко согласился на квартиру, не спорил, не провоцировал, уже выглядело каким-то волшебством.
Он его вроде бы знал уже неплохо — и вместе с тем не знал совсем.
За час с лишним комната превратилась в место, похожее на жилье. Сам Белов никогда не понимал такого минимализма, хотя знал, что подобное сейчас вроде бы даже в моде — никакой мебели, все на полу, одежда без шкафа, поднос с чашками, считай, там же, где и обувь, ноутбуки-провода, и как во всем этом передвигаться — непонятно.
— Вот, — оглядывая комнату, подытожил Фишер. Похоже, результат ему нравился. — И никакого телевизора.
— А что, нужен? — отозвался Белов.
Фишер заржал, с размаху повалился на матрас. Рубашка его давно выбилась из-под ремня, правая штанина задралась, воротник перекосился. Он закрыл глаза, словно думал о чем-то, а когда открыл, то без улыбки уставился на Белова — в упор. Белов моргнул. Горло почему-то перехватило.
— Удобно? — спросил он зачем-то.
Фишер похлопал рукой по надутому боку.
— Иди, попробуй.
Фишер тихо шмыгал носом в бумажный платок и думал про новый год. Про новогоднюю ночь, если точнее. А конкретно — что же делать с бабушкой. Они об этом не разговаривали, но Фишер точно знал, что она его не просто ждет — это было бы еще полбеды, — а ждет с подружкой. Той самой, ради которой он так внезапно свалил из дома.
В дни его редких набегов бабушка осторожно пыталась расспрашивать, но сильно не давила — и Фишеру хватало сил прятаться за общими отмазками, обтекаемыми и пустыми.
Да, ба, красивая.
Да, все прекрасно.
Да, успеваю, ты же знаешь.
Она знала. Только это и спасало, что знала — с учебой все было хорошо.
Репетирую. Не бросаю, ты что. О, слушай, пойдем, поиграем. И Фишер округлял глаза от напускного энтузиазма, бросал недопитый чай, тащил ее в гостиную. Играл ей что-нибудь из того, что она любила: Шопена и Листа — особенно Шопена, подбирал на память случайные вещи, услышанные мимоходом, добирался до классиков джаза, возвращался к Листу, добегал до Рахманинова, а в конце соображал, что снова подбирает полузнакомую мелодию, и отключившийся мозг шепотом подсказывал — Монк, «Северная сторона заката».
Но все-таки с новым годом нужно было что-то решать.
Фишер очнулся, когда кто-то толкнул его в плечо. Спрятал салфетку в карман и наткнулся на укоризненный взгляд завкафедрой — словно она говорила специально для него, а он вздумал задремать.
Собрание было стремительным и неорганизованным — как всегда. Фишер знал, что речь идет о дне рождения Академии — празднование, юбилейные выступления, какие-то мастер-классы и прочая лабуда. Его это интересовало постольку-поскольку, разве что из-за бабушки — дата в этом году была круглая, ее наверняка пригласят в число почетных гостей.
Нечаева на этом курсе у них не вела, и Фишер на автомате расслабился — какая разница, что там плетет посторонний препод, пусть и завкафедрой.
Отвесив Фишеру положенную порцию укоризны, она продолжала — голос у нее был глухой, невыразительный, приходилось прислушиваться:
— Все помнят, что юбилейная неделя у нас открывается праздничным концертом. Не все? Все? Хорошо. В прошлом году у кафедры специального фортепиано не было сольного исполнения, Таня Крупеник играла в составе квинтета, и это было, конечно, замечательно, здорово, все запомнили и восхитились. Так. Но в этом году… Друзья, в этом году не просто день рождения Академии, все знают, что это настоящий юбилей — сорок пять лет. Наша альма-матер начиналась с двух факультетов, тогда еще не было самостоятельного фортепианного отделения…
Может, Богатыреву ей привести, снова думал Фишер. Или Женьку Маляр? С этими можно договориться по-тихому, так и так, выручи… Нет, ни фига не годится — обе отсюда. Позвонит каким-нибудь своим сплетникам, все ж на виду, вот будет весело — как Витя с Ланой? Да вы что? А мы и не знали. И, по большому счету, не хотелось убивать новогоднюю ночь на лживую комедию — гости, натянутые улыбки, ох-ах, поздравляю, как хорошо, о, смотрите — без пяти! Витя, открывай шампанское.
Фишера снова кто-то толкнул — Нечаева смотрела прицельно на него, продолжая свою телегу:
— …И поэтому открывать праздничный концерт вместе с другими будет сольный исполнитель с фортепианного отделения. После долгих споров — они были очень жаркими, не сомневайтесь, мы решили, что это будет, — Нечаева выдержала паузу; народ невольно затих, — Витя Фишер. — Нечаева театрально вскинула руку, тут же прижала ее к груди.
Фишер машинально посмотрел вокруг, даже оглянулся, словно ожидал увидеть за спиной того самого Витю, которого она сейчас назвала. Кто-то засмеялся.
Слева зашептались — Фишер краем глаза отметил, что это Воинов и Ковальчук, четвертый курс, местные звезды.
— Да-да, — кивнула Нечаева. — Каждый год в юбилейных концертах принимали участие лучшие из лучших, и это были старшие курсы. Многие из них к тому моменту получили звания лауреатов, побеждали в престижных конкурсах, фактически — сложившиеся профессионалы. Но, как я говорила, нам предстоит необычный юбилей, можно сказать, знаковый, и мы решили, что пора сломать стереотип. Дорогу начинающим, да? — Вцепившись взглядом в Фишера, она повторила с нажимом: — Да?
Фишер тупо кивнул.
Подумал, что бабушка от такого известия не просто выпадет в осадок — с ума сойдет. И тут же в голову пришло отчетливое: скажу ей, что мы уже расстались. Блядь. Идеально.
Нечаева кивнула в ответ, подхватила со стола свою папку.
Заговорили все. Кто-то полез с поздравлениями, у кого-то во взгляде читалась откровенная зависть. Воинов с Ковальчуком трепались уже в полный голос. Фишер даже не пытался прислушиваться.
Нечаева остановилась возле него.
— Витя, не надо тебе говорить, что это колоссальная ответственность. — Фишер вдруг понял, что в тех самых жарких спорах по поводу кандидатуры солиста она была против него. Наверняка предлагала Ковальчука или Лапину — это были ее студенты. — Поговори с Нелли Вагановной, подберите с ней что-нибудь… ну, ты понимаешь. Настоящее! Мы все, — Нечаева обвела взглядом зал, — на тебя надеемся.
— Да, — деревянным голосом согласился Фишер. — Хорошо.
Под напором всеобщего оживления он внезапно сам начал волноваться — хотя по-прежнему особого трепета не ощущал.
Нечаева хотела еще что-то сказать и даже открыла рот, но резко передумала, покачала головой и вышла.
Фишер не питал иллюзий по поводу такого поворота — хотя, честно, не ожидал. Ну еще бы. Крупеник, выступавшая в прошлом году со струнным квартетом, была без пяти минут выпускницей, ее ждала столичная консерватория, а стена комнаты, небось, не умещала всех конкурсных дипломов. Фишер никогда не значился в числе выдающихся — хотя, разумеется, не плелся в хвосте. Он всегда стоял чуть в стороне, иногда вел себя слишком небрежно, к «священному огню искусства» относился без должного придыхания. Он не пер напролом, не высовывался вперед, работал как бы в полсилы — и на курсе поговаривали, что он «себе на уме».
Фишер прекрасно все это знал. Но он также знал, что достаточно хорош — уж точно не хуже Ковальчука с Воиновым, только шума от него было меньше. Нелли Вагановна, их куратор, его заметно выделяла, но больше присматривалась — в витрину его никогда не ставили, на серьезные конкурсы не посылали.
Теперь, наверное, пошлют, машинально подумал Фишер.
Он знал, что прекрасно справится, и даже без особого труда. Снова подумал о бабушке, о том, что она скажет, как отреагирует — и невольно улыбнулся. Конечно, процентов на восемьдесят участие в концерте — ее заслуга. Точнее, ее преподавательского прошлого. Ну и деда, пожалуй. Как же, образцовая иллюстрация — династия, преемственность, пресловутый «огонь» и «служение искусству».
Нелли Вагановна ждала его в пустом классе — сидела за фортепиано, пролистывая одну за другой какие-то старые аппликатуры. Увидев Фишера, кивнула, похлопала по второй банкетке.
— Ну что, — начала она без предисловий, — новая гордость и надежда? Осчастливили тебя?
Фишер пожал плечами.
— Вроде того.
Нелли Вагановна усмехнулась чему-то своему.
— Ладно. Есть идеи, что будешь играть? Что бы тебе самому хотелось?
Фишер улыбнулся.
— Вторую сонату Шопена.
— Серьезно?
Пожав плечами, он разгладил углы аппликатур.
— Да.
Нелли Вагановна чуть нахмурилась и сказала — без всякой иронии:
— В целом, неплохо, но, знаешь, слишком нарочито. Лишний эпатаж. К тому же, мое мнение — это уже такая стереотипная вещь, очень банально. Впрочем… — Задумавшись, она наиграла первые такты, словно что-то прикидывала. Он ей не мешал. Честно говоря, Фишер не рассчитывал, что предусмотрен какой-то выбор, думал, за него и так уже все решили.
Но Нелли Вагановна легко хлопнула по крышке и сказала:
— Знаешь что. Раз ты так котируешь Шопена, то как насчет первой баллады? Которая соль минор?
Пробежала пальцами по клавишам, заиграла вступление. Фишер хмыкнул.
— А это не слишком нарочито? Я так думаю, фильм не смотрели только слепые. Попсово как-то, что ли.
Она кивнула, оторвалась от клавиш.
— Ну, знаешь, тебе не перед международным жюри выступать. Кто там будет? Родственники, почетные гости, из горадминистрации кто-нибудь. И свои, конечно. Обычная публика, не стоит кормить их особой экзотикой. А так — не затасканно, но узнаваемо, не слишком сложно, но и не пустяк. Вот вальс или что-нибудь из рапсодий — это была бы пошлятина. К тому же… — Нелли Вагановна, не смущаясь, обвела его оценивающим взглядом. — Отлично вписывается в образ. Гармония во всем — уже полдела.
Фишер пожал плечами. Чуть потеснил ее за инструментом, взял один за другим несколько аккордов, начал играть. Нелли Вагановна вслушивалась, нахмурив брови, потом незаметно закивала в такт, через минуту уже строила темп взмахами руки.
— Так… вот здесь, правую, правую подтяни. Та-та-та… раз! И-и… Так, стоп! Давай сначала. Смотри, вторая фраза вступления у тебя, ты ее как палку швыряешь, а надо, тише, ровнее, она должна звучать как вопрос. Вперед, и-и…
Два часа пролетели незаметно — Фишер сам удивился. Нелли Вагановна мимоходом что-то рассказывала из своего исполнительского опыта, шутила и, главное, — слушала. Фишер даже близко не думал, что подготовка окажется такой увлекательной. Общие занятия были совсем другими.
Наконец, спохватившись, она посмотрела на часы, тут же поднялась.
— Ой, вот это да, у меня же подготовительные через… да уже начались! Так. Дома послушай и посмотри чье-нибудь исполнение — Гаврилова, Цимермана, там найдешь. Оценишь — что тебе в их манере близко, что не идет, где сыграл бы по-своему, ну, понимаешь. Потом обсудим. — Уже от двери крикнула: — И фильм, фильм пересмотри!
Фишер кивнул. Улыбнулся. Внутри поселился какой-то щекочущий азарт — теперь хотелось не просто отметиться и доставить удовольствие бабушке, а выступить по-настоящему.
Он еще раз сам сыграл все от начала до конца — как помнил.
Когда Фишер позвонил, Белов брал объяснения у какой-то бестолочи и думал, как бы побыстрее ее спровадить. Ответил на автомате, и Фишер после его «слушаю» бессовестно заржал, передразнил:
— Капитан Белов у аппарата.
Белову было не до смеха.
— Ладно. Я, в общем, чо — заезжать сегодня не надо, я дома уже.
— Ого, — сказал Белов. — Рано ты.
— Ага, получилось так.
— Ну, договорились. До вечера.
— Давай.
Белов, поморщившись, подал бестолочи на подпись бумаги. Задребезжал внутренний телефон, из трубки бодро пролаял Кожин:
—Коляныч, ты все? Тут потерпевшие пришли.
— Давай, проводи.
Кончался ноябрь, и за все это время Белов ни разу не почувствовал знакомой тоски. И все еще не верил в то, что происходило.
Фишер быстро обжил новое место, больше не выступал насчет времени — может, и правда, все его претензии тогда сводились к неудобству, во всяком случае, Белову очень хотелось в такое поверить. Но он хорошо понимал, что дело вовсе не в этом, и с ума Фишер сходил не из-за лишних двух часов в неделю. Потому что теперь-то они виделись почти каждый вечер — не считая дней, когда Фишер ночевал у бабки или Белов отсиживал очередное дежурство.
Ему иногда нестерпимо хотелось спросить — но Белов сам толком не знал, как прозвучит этот вопрос, о чем он будет, как его вообще произнести, и поэтому не спрашивал.
Это правда ты? Это мы? И так будет всегда? Звучало ужасно, тем более что ни в какое «всегда» Белов не верил.
Это был не Фишер. Фишера подменили после возвращения с юга.
Фишер? Который посылал его через слово, нес околесицу и пользовался любым случаем, чтобы пойти наперекор, уязвить посильнее? Которого он кошмарил в отделе больше полугода назад? Да ладно. Нет, конечно, он отдал ему эти несчастные коробки, и тот вопрос они как бы закрыли, но все же — не верилось.
С другой стороны, это был тот самый Фишер, с которым он провел десять дней в Анапе на дешевой съемной хате — именно тот.
От всего этого временами голова шла кругом, но больше не было никакой тоски — и Белов впервые за долгое время мог сказать про себя, что абсолютно счастлив.
Обычно, если не было репетиций или еще какой ерунды, Белов забирал его после занятий, по пути выполнял пустячные просьбы типа бросить мелочи на телефон, купить нафтизин, прихватить пива — и это неимоверно грело. Это было то самое, настоящее, то, чего хотелось — вместо «некогда», «отвали», «не надо», «я сам». Теперь Фишер был не просто недостижимым кем-то, за чьей жизнью наблюдаешь со стороны — и с ума сходишь от невозможности к ней прикоснуться — он был рядом.
Нельзя было сказать, что Фишер прочно у него поселился — это было не в его характере. Как-то он даже подчеркнул с нажимом, что снял хату не для того, чтобы не вылезать из его, Белова, квартиры, а чтобы жить одному. Но это не звучало обидным посылом, это было нормально — обычное человеческое объяснение. Белов не настаивал.
Все выходило как-то просто, без напряга — он что-то делал там, у себя, потом спускался попить пива, и в такие вечера обычно оставался ночевать. Иногда Белов поднимался на третий этаж и даже несколько раз засыпал на надувном матрасе, но все-таки матрас был узковат для двоих.
Все оказалось даже лучше, чем на юге, где Белова давила всмятку энергия Фишера — его возраст, его ритм. Здесь оно как-то притуплялось, стиралось — еще и потому, что они никогда не бывали на людях вместе, а дома, за закрытой дверью, поладить с его неуемной силой было гораздо проще.
Конечно, у Фишера оставалась его жизнь — никуда не делся Антон, друзья, учеба, еще какие-то люди, но при таком раскладе примириться со всем этим оказалось на удивление легко.
Был подлый голосок, который шептал время от времени — он всего лишь пока не давал тебе поводов для ревности. Как только он решит по-настоящему увлечься чем-нибудь, тебя сразу понесет по бездорожью. Пока что он увлечен тобой — играется, пробует. А потом…
Белов усилием воли гнал такое из головы — вроде получалось. И старался слишком много не думать.
А там будет видно, — говорил он себе.
Вечером Фишер позвонил.
— Ты чо там, спишь уже, что ли?
Белов повесил на шею полотенце, завернул кран.
— В ванной был.
— Давай, поднимайся, кино посмотрим.
Наверху, у Фишера, среди отбрасываемых лампой теней Белов сообразил, что раньше они ничего такого вместе не делали, хотя, казалось бы, мелочь — кино. Обычная вечерняя мелочь.
У Белова телик, конечно, был, но при Фишере он никогда его не включал — само собой — даже не задумывался, какой там.
— Чего ты вдруг решил? — спросил Белов, наблюдая, как он возится с ноутбуком. Балкон был приоткрыт, пахло сигаретами и тонко, едва различимо — травой.
— Там пиво в холодильнике, достанешь?
Белов пошел на кухню, переступив по пути через сумку Фишера, ком грязной одежды, вымытые и разложенные для просушки кроссовки. Со временем выяснилось, что с виду безалаберный Фишер в быту куда более сноровистый, чем он, Белов. Во всяком случае, многодневных залежей пыли у него не наблюдалось, и швабра сушилась на балконе регулярно — он ловко приспосабливал комнату под свое «напольное» существование, катал из угла в угол стойку с одеждой, за секунду находил нужную вещь в разрозненном хаосе. Он гладил рубашки прямо там же, на полу, подстелив тонкое полотенце — и, если начистоту, выходило у него куда быстрее и лучше, чем у Белова на гладильной доске.
Фишер уселся на матрасе, спиной к стене, кивнул, приглашая упасть рядом. Привыкнуть к этой «подножной» жизни Белов никак не мог — ни стульев, ни дивана, ни даже табуретки паршивой, ползай по полу, как таракан.
— По учебе надо, — пояснил Фишер, устраивая на коленях ноутбук. Повозился, усаживаясь удобнее.
Первые кадры оказались черно-белыми, и Белов уже перепугался, что весь фильм будет таким же, но, к счастью, пронесло. Дальше много говорили, ходили, что-то делали, и, в общем, было на что посмотреть, но Белова больше интересовал Фишер, привалившийся к его боку — твердое плечо, прижатое к ребрам, теплое дыхание, которое он ощущал всем телом. Не удержавшись, Белов обнял его, почти укладывая к себе на грудь, Фишер раздраженно дернулся, не отрывая глаз от экрана.
Белов вздохнул, постарался сосредоточиться. Долговязого еврейского пианиста было жаль, но пиво расслабляло, музыка за кадром убаюкивала, и пару раз Белов почти всерьез задремал. Все-таки, кино на его вкус оказалось скучным — разрушенные улицы, солдаты, гетто, душераздирающие толпы людей со звездами-треугольниками на белых повязках. Понятно — война, всем было хуево. Временами становилось интересно, но тоскливо. К чему смотреть все эти ужасы, когда вокруг и так проблем хватает.
А Фишер смотрел — внимательно, почти самозабвенно. Время от времени останавливал какой-нибудь кадр и отматывал назад, смотрел снова. Белов ничего не спрашивал, только ловил его движения собственным телом и все крепче задремывал под тихие звуки с экрана.
Проснулся он оттого, что Фишер его пнул — по-настоящему, ногой под ребра. Белов открыл глаза, не соображая, что случилось и который час. Фишер стоял над матрасом и презрительно щурился.
— Ну, ты конь вообще! Охуеть.
Белов, продирая глаза, поднялся, сел.
— Бля, задремал.
— Задрема-ал, — передразнил Фишер. — Мне эту тему играть через два месяца. На праздничном концерте.
Белов зевнул.
— Это чо? Которую?
Фишер безнадежно махнул рукой, сдернул с подоконника одеяло, подушки.
— Ложись, давай. — Толкнул Белова на матрас и сам улегся рядом.
Это было куда лучше, чем тоскливое кино про тоскливых людей.
Белов привычно обнял его со спины, не давая отодвинуться. Фишер всерьез злился — пару раз дернулся, толкаясь своими костями, прошипел что-то, потом затих. Может, завелся оттого, что Белов не заинтересовался будущим выступлением.
Свободной рукой Белов перебрал пряди на макушке, поцеловал за ухом — Фишер не отозвался. Но все равно он был рядом — легкий, теплый, уже очень привычный и близкий.
— Спокойной ночи, — прошептал Белов ему в затылок.
— Я будильник на шесть поставил, — буркнул в ответ Фишер.
— Годится.
Фишер вздохнул, еще поерзал, но все-таки расслабился. Даже повернулся в ответ на очередной короткий поцелуй — подставлял шею.
Из-за нового года бабушка, конечно, расстроилась, но выручило участие в концерте — как Фишер и рассчитывал. Это напрочь отмело любые вопросы — она немедленно оживилась, защебетала, бросилась звонить кому-то. Фишеру даже стало немного стыдно за свои байки про «девушку», хотя одно с другим было никак не связано, и ложь касалась только его личной жизни. Да и была, если разобраться, целиком во благо.
А потом она спросила:
— Ты сам скажешь Галочке про концерт? Или ты ей уже звонил?
Фишер пожал плечами.
— Пока не звонил.
Настроение резко испортилось. Он точно знал, что мать не приедет, и бабушка это знала, но каждый раз исправно заводила одну и ту же шарманку.
— Да ты что. Витя!
— Я не дозвонился, — вяло отбивался Фишер. — Вечером еще попробую.
— Обязательно, ты что! Вот это да. Такая новость, а он…
Фишер криво улыбнулся.
Узнав про Шопена, она сама предложила с ним позаниматься, но Фишер отказался. Знал, что с ней настрой будет не тот, да и как самостоятельную творческую единицу она его все же не воспринимала, хоть никогда и не говорила об этом напрямую. Все время полуосознанно сравнивала с дедом, и, понятно, счет был не в его пользу. Фишер подозревал, что ни время, ни любые его свершения — будь это хоть первая премия имени Чайковского — никак не повлияют на ее мнение.
Зато на занятия с Нелли Вагановной он спешил едва не бегом — и часы пролетали незаметно.
Во время четвертой встречи, когда он сыграл все и не получил ни одного протяжного «Сто-оп!», Нелли Вагановна как-то очень тепло пожала ему руку и сказала:
— Думаю, все будет хорошо. Более чем.
И Фишер старался.
Новый год налетел стремительно. За пару дней Фишер узнал, что бабушка уехала в какой-то дом отдыха — отмечать со старыми друзьями. Все-таки обиделась. Но Фишер против воли почувствовал, как у него гора свалилась с плеч. Одной головной болью стало меньше.
Ему нравилась нынешняя жизнь. В целом, она мало отличалась от прежней — разве что Белов постоянно находился рядом, и это, если быть честным, оказалось совсем неплохо.
Он почти договорился с собой, хоть иногда и просыпался ночами с тяжело колотящимся сердцем, и в голове неслась начавшаяся еще во сне карусель: что ж ты творишь. Какого хрена ты делаешь, тебя поимели, вывернули наизнанку, поставили раком, а вместо холодного равнодушия получалось только подставляться — еще и еще. Вместо того чтобы его уничтожить, сидишьи размазываешь сопли. И возвращались знакомые химеры — досада, ненависть, страх. Обида — ни на кого конкретно, и на всех сразу. Тупик. Неспособность даже к настоящему разрушению. Трусость.
Но он действительно ничего не мог сделать. Он уже пробовал — еще тогда, весной, с Григом. Бесполезно. Тело оставалось пустым и равнодушным, удовольствие сужалось до механической разрядки — и больше ничего. Ни фейерверка, ни смерти в конце, все ровно, правильно и спокойно — и все не так, не так. От первого и до последнего прикосновения, словно знакомую мелодию исполнял механический автомат, все ноты на месте, никакой фальши — и при этом абсолютно не трогает. Фишер подозревал, что если бы они тогда не поехали к нему, а тупо пропустили пива в кафешке, воспоминания были бы те же. Никаких эмоций.
Если, конечно, не считать того первого раза у стены, когда он кончил не с ним, а с Беловым в собственной голове, но об этом Фишер не любил вспоминать.
Тогда он вынужден был признать отчасти: вся эта стыдная возня — не просто гормоны и цепочка физиологических реакций, что-то в этом есть, но анализировать это что-то остро не хотелось. Оно было больное, мерзкое — но собственному телу оказалось наплевать.
Теперь подступал новый год, и по итогам у него не было ничего — репетиции у Лехи, пара концертов в засранных забегаловках. Проходная херня, к которой он всерьез не относился — даже не хобби.
Зато был Белов: типичный мент, районный пес, спортивные каналы, бухло на дежурстве со скуки, шашлык по выходным — с такими же недоумками-ментами, «украдено четыре пенджака» и «не будешь слушаться — покалечу». И никакого чувства юмора. Пропасть, дно.
Фишер вздыхал, кривлялся, но спасительная ярость теперь таяла слишком быстро. Белов таким не был — или был, как минимум, не до конца. Он же видел, знал его уже больше полугода. В том-то и дело, что не был. Это оказалось тяжело, плохо — безопаснее было видеть в нем скота, недочеловека, кусок мяса. На юге все пошло не так, закрутилось, сплелось — и фарш, как выяснилось, назад не проворачивался.
А когда Белов отдал ему те затраханные коробки, внутри и вовсе что-то сломалось. И починке, похоже, не подлежало.
Быстро же ты сдулся, мысленно шипел Фишер. Но тот, кому это едкое шипение предназначалось, молчал и закрывал глаза.
А тридцать первого, утром, глаза пришлось открыть — и все-таки посмотреть.
Началось все с телефонного звонка — Фишер долго путался в одеяле, выискивая телефон, тонкий корпус выскальзывал из пальцев, а голова никак не хотела просыпаться. Судя по кромешной темноте — в комнате и за окном — стояла совсем глухая ночь.
Бабушка, пронеслось в голове.
Но это оказалась мать.
— Витя, с наступающим! Ви-тя! — она почти кричала — фоном в трубку несло уличный шум, гудки машин, чьи-то голоса.
— Мам, — пробормотал он, — мам. — Спросонья получался только хриплый шепот. Фишер сел на матрасе, стараясь продрать глаза.
— Витя, мы… — голос перерос в веселый визг, прерываемый шумом мотора, словно ее окатила из лужи проезжающая машина. — У вас еще не новый год? Который час?
— Ночь, мам. Тридцать первое.
— Ой, прости-прости, я что-то не подумала, — гул усилился, словно она приблизилась к большой толпе, — это из-за перелетов все. Я в Сан-Паулу! Будем здесь праздновать, уже празднуем! — Снова голос потонул в шуме и визгах.
Фишер упал обратно на подушку, закрыл глаза.
На заднем плане грохнула музыка.
— Витя, подарок там у тебя на карточке, если что. Ты же говорил, что хочешь машину, ну вот, теперь совсем большой, можно и машину. Ты как? Еще не отмечаете?
Фишер потер переносицу — нос нестерпимо заложило, ни вдохнуть, ни шмыгнуть. Он никогда в жизни не говорил матери, что хочет машину — потому что никогда ее не хотел.
— Нет, пока не отмечаем. Я спал.
— Ох, ну извини, мы в твоем возрасте никогда не спали, — мир с той стороны трубки бушевал, подтверждая, что и сейчас спать там никто не думает, — тем более за день до новогодней ночи. Смотри, все проспишь! Ну, целую, созвонимся еще.
Фишер приподнялся на локте.
— Мам, погоди. Я хотел сказать, что через месяц у меня…
Телефон молчал. Шум, частью которого был ее голос, отрезало километрами и часовыми поясами.
Фишер снова сполз на подушку, закапал в нос.
Подумал — вот она, реальность. Доброе утро.
Телефон сообщал, что в этой части реальности едва-едва начало четвертого.
Через десять минут Фишер понял, что заснуть больше не сможет, убрал одеяло, включил свет, налил воды в чайник.
Вообще-то, получалось, что уже тридцать первое, а он толком даже не знал, где будет праздновать. Позавчера еще собирался начать у бабушки, а потом двинуть по настроению — к Антону, к Лехе на дачу или еще куда-нибудь. Как пойдет. Теперь получалось, что официальная часть с домашней елкой, салатами и мясом по-французски отменяется целиком, и уже после обеда можно прибиться к любой компании — только выбирай.
Закипевший чайник отключился, Фишер полез за чашкой, нашел сигареты.
Накануне выпал снег — настоящий, новогодний, открыточный. В такую погоду чья-нибудь загородная дача выглядела просто идеальным вариантом. Тот же Леха с пацанами — совсем неплохо. Тем более что когда надоест, можно двинуть на все четыре стороны — и праздновать так до посинения. Мечта.
Поежившись, Фишер натянул домашний свитер, подошел к окну.
Даже фонари горели через один — за стеклом лежала плотная зимняя темень. Настроение упало в ноль. А ведь, укладываясь со вечера, он уже предвкушал праздничную суету, строил планы, что-то прикидывал.
Как-то само собой выходило, что Белов в эту новогоднюю программу совсем не вписывается. Фишер сразу сообщил, что встречать будет у бабушки, а дальше еще сам не знает — Белов, может, и обозлился, но виду не подал. Даже словом не возразил. Пожал плечами и сказал, что тогда поедет праздновать к сестре на дачу — с ребятами из отдела.
Фишер не мог поверить своему везению и тому, как все удачно складывается — от бабушки отделался, Белова с хвоста скинул. В самом деле, такая лафа не могла продолжаться вечно.
И не продолжилась.
К десяти утра Фишер лежал на матрасе и все острее чувствовал себя больным в изоляторе — притом, и болезнь, и изолятор он назначил себе сам. Сначала просто думал о матери, о чем-то еще — тревожном и размытом, а после в голове четко обозначилось: а ведь им всем насрать. И тут же — тоже мне, открытие. Новость, блядь.
Матери — понятно, иначе и не было никогда. Еще бабушка. Он примерно представлял, о чем она думала — ну, раз Витя теперь совсем взрослый, встречается с какими-то таинственными девушками, не требует больше подарков и живой елки, можно и о себе подумать. И она была абсолютно права. Пусть ее решение оказалось отчасти приправлено обидой, но донимать его она не стала бы ни за что. На этом строились все их отношения — на доброй воле. Это она приучила его, что припирать человека к стенке не просто бестактно — жестоко и подло. Он был полностью согласен.
Остальные, кто там еще? Антон, народ с курса, Леха с пацанами. Нет, конечно, каждый из них будет рад, если он появится, закрутится и польется все, как обычно, но кто заметит, если он не придет? Да никто. В лучшем случае тройка звонков — Фишер, ты где? Придешь? Нет? А чо так? А, ну ладно. С наступающим. Никто даже не услышит, почему он вдруг не может прийти, всем плевать, и это была не новость. Это был стиль общения, норма, уровень, который всех устраивал. Он сам его практиковал — и довел до совершенства. Никто никому ничего не должен. Прекрасно.
Но легкость, с которой все от него отказывались — или откажутся в перспективе — обескураживала.
Даже Белов. Белов, который, по идее, должен был на стенку лезть от невозможности в очередной раз запереть его в квартире и трахать до утра — с готовностью свалил к своим недоумкам.
Фишер поморщился.
В голове кто-то съехидничал: ты еще начни ныть, что у вас же, как ни крути, отношения, а тут — праздник, и получается, что он тоже…
Совсем некстати вспомнилось, как Белов втирал ему давным-давно на кухне, что когда люди встречаются, не должно быть расписаний и смен. Что-то такое.
Смех забулькал в горле короткими спазмами, через несколько секунд его уже нельзя было контролировать — Фишер смеялся, смеялся, смеялся, и тело складывало пополам, подбрасывало на матрасе, как от электрических разрядов. Потолок содрогался в такт, переносицу пекло, горло саднило, но он смеялся — и никак не мог остановиться.
Белов позвонил днем, сказал, что все еще на службе, домой заскочит только вечером, но его, Фишера, наверное, уже не будет. Поздравил с наступающим.
Фишер к тому моменту твердо решил, что никуда не пойдет — отключит телефон и отпразднует в одиночестве, после полуночи обязательно потащится гулять пьяным, и, может, к тому времени его отпустит, а нет — так и хер с ним.
Белову он ничего не сказал.
Сходил за бухлом, долго спал после обеда, потом ползал по любимым кинопабликам, накачал какой-то музыки в плеер. Дико пожалел, что на новом месте нет инструмента — поиграть, опустошить голову своими и чужими аккордами, дать волю рукам — это было бы самое то. Даже подумал, не пойти ли в бабушкину квартиру, но все-таки отмел эту мысль — ведь потом приедет и поймет, что он приходил, значит, не так уж хороши оказались праздники. Или что-нибудь в этом духе. Нет, сказал себе Фишер. Нет.
На пару минут включил телефон, позвонил Антону. Поздравил. У того уже дым стоял коромыслом — слышались голоса, музыка, хохот.
— Ты что, Фишкер, нынче не с нами? Нет? Ну приятного тебе. Когда зайдешь, второго? В общем, если что — я дома.
И все.
Фишер посмотрел на часы — начало девятого. Сунул телефон под подушку. Врубил на полную громкость какой-то из поздних концертов квартета Тейлора и пошел на кухню за бухлом.
Звонок в дверь он услышал сразу — замер перед холодильником, как вор, растерялся. Подумал — из-за музыки, что ли? Вот же, блядь, только какого-нибудь придурка из квартиры напротив сейчас не хватало. Мелькнула мысль, не проигнорить ли, но все-таки решил открыть.
За дверью стоял Белов.
Он был в куртке, на воротнике и волосах дотаивал снег.
Нужно было что-то сказать, но мысли слиплись, как жвачка, и Фишер только смотрел, дурак-дураком, сжимая в руке бутылку. Все, попалился, думал он, но настоящей злости не было. Ничего не было, одна растерянность — словно его внезапно разбудили.
Прочистив горло, он выдавил кое-как:
— А ты разве не уехал?
Белов хмыкнул.
— А ты?
— Собирался как раз, — кивнул Фишер и тут же представил себя: мятая домашняя футболка, перекрученные от лежки на матрасе штаны, босиком, с бутылкой. Как же, бегом собирался.
— И я собирался. Вышел сейчас, смотрю — у тебя свет. — Сказав это, Белов замолчал, словно ждал его реакции.
Фишер вздохнул. Внутри что-то тяжело и мягко дернулось, застыло.
Белов пригладил волосы. Кажется, тоже не знал, что сказать — или знал, но не получалось.
Фишер отступил на шаг.
— Заходи.
Подумал: сейчас Белов сунется в комнату и поймет, что если я куда и собирался, то только обратно на матрас. Но это почему-то совсем не казалось важным.
Водку Фишер собирался запивать почему-то колой, во всяком случае, в холодильнике у него отыскался именно такой набор — водка, двухлитровая «Кока-кола» и бутылка шампанского. Даже какого-нибудь несчастного сока не нашлось.
Фишер только дернул плечом.
— Вот такая я свинья.
Белов не стал спрашивать, когда он все-таки собирается по своим гостям — и собирается ли вообще — и так было ясно, что никуда он не пойдет. Фишер тоже не стал интересоваться, в какой момент у Белова изменились его собственные планы. Просто принес с кухни выпивку, стаканы, даже какую-то еду, и запросто расставил все это перед матрасом.
Белов подумал про накрытый Оксанкой стол, про ребят, которые его ждали, про Тимоху — и вспомнил, что даже не позвонил. По их расчетам, он как раз вот-вот должен был подъехать. Достал телефон.
А потом музыка стала как будто громче, Фишер шумно высморкался в полотенце и протянул ему рюмку, а следом — стакан тошнотворной газировки. Выпилось на удивление легко — даже поморщиться не пришлось. Кола смешно щекотала нос, обожгла пузырьками горло, заглушив вкус водки, бодро прошлась по пищеводу. Белов прикрыл глаза. Фишер усмехнулся.
— Ну вот. А с соком тоскливо.
Он выключил верхний свет, оставив притулившийся в углу ночник. Музыка и вкус во рту почему-то напоминали первые попойки на школьных и лагерных дискотеках, да и реквизит был подходящий — наструганная наспех нарезка, стаканы-бутылки, все вперемешку прямо на полу.
Выпив свое, Фишер откинулся на стену, поводил головой в такт музыке, нашел сигареты. Потом сказал:
— Мама дала денег на машину.
Белов не сразу понял.
— Ты к ней, что ли, собираешься? Когда? А чего не на поезде?
Фишер свободной рукой принялся сооружать себе бутерброд. Булка — кетчуп — сыр — салатный лист — колбаса — майонез — снова булка. Не верилось, что он все это удержит, тем более одной рукой.
— Нет, купить машину, свою. Ну, типа новогодний подарок.
Белов даже опустил стакан с газировкой, который было поднял. Фишер вовсе не выглядел человеком, которому на новый год вдруг прилетел такой подарок.
— Охренеть. Я не понял — ты не рад, что ли?
Фишер пожал плечами, одним укусом срубил третью часть бутерброда — не уронил, не измазался. Прожевав, вытер губы тыльной стороной ладони и сказал:
— Ну, представь: тебе дарят на новый год компьютерный стол. Или… не знаю, кресло-качалку. Кухонный комбайн. Ты сильно обрадуешься?
— Да ты сравнил. — Нет, Белов не в силах был понять. Ведь машина — своя собственная. И без всяких затрат — с неба, считай, упала.
Фишер махнул рукой, скривился.
Белов не стал спорить.
— В конце концов, она же тебе денег дала, ну, купишь, что хочется.
Было видно — Фишер уже не рад, что заговорил на эту тему. Он дожевал свой бутерброд, придвинул рюмки, снова налил.
— У тебя и прав пока нет, так что рано париться, — добавил Белов, чтобы свернуть вопрос.
— Права у меня есть, у нас в школе вождение было. Не в этом, блядь, дело. И вообще, насрать, забей. — А когда выпил, все-таки сказал: — Ощущение такое, понимаешь — как будто говна навернул… Короче, все, забыли.
Белов хотел еще спросить — где же мамаша работает, раз у нее есть деньги на такие подарки, но по лицу Фишера было ясно, что забыли так забыли — полностью. И не стал. Тем более, Фишер невольно напомнил о больном — о том, что он всего лишь два года назад закончил школу. Как ни крути, все раз за разом возвращалось к этому, не сбежишь и не забудешь. Не спрячешься. Глядя на его лицо, Фишер даже спросил:
— Что, не пошло? На, еще запей.
Глотая терпкую газировку, Белов думал, что лучше бы он поехал на дачу — и прекрасно знал, что все равно бы остался.
Полночь наступила внезапно — Белов даже не успел понять, что происходит. Еще минуту назад они расслабленно валялись на матрасе, а потом Фишер дернулся, вскочил, громко прошлепал на кухню — и вернулся с шампанским. Белов неловко выпрямился, сел. Его здорово развезло — то ли оттого, что никакой закуски, кроме газировки, по большому счету, не было, то ли из-за того, что он ни разу не поднялся, как сел, так и сидел, даже в сортир не тянуло.
Фишер, расставив колени и сосредоточенно закусив губу, открывал бутылку — не удержался, в самом конце тряхнул разок. Густая пена выплеснулась неохотно, почти лениво и вся — на Фишера. Не задумываясь, он растер густой мазок прямо по щеке, начал наливать в стаканы из-под колы. Белов зачарованно смотрел, как молниеносно испаряется с кожи белая змейка, как темнеют спереди на футболке неровные пятна. Пульс против воли зачастил, в животе сделалось жарко.
Фишер снова насвинячил — пена из стаканов расползлась по полу — но ему было плевать. Отсалютовав своим, он выдал скороговорку с поздравлениями, и опрокинул в себя шампанское так, словно дня два ничего не пил вообще. Следом тут же присосался к бутылке, и снова по шее поползла пена — как мутные щупальца.
Отдышался, хохотнул, глядя на Белова.
Тот сделал пару глотков — боялся смешивать, и без того уже в голове что-то едко вздрагивало.
— Так, — заявил Фишер, поднимаясь, — теперь прогулка.
Сквозь музыку, которая почему-то с каждой минутой становилась все громче, уже прорывались уличные хлопки петард.
— Какая к херам прогулка, — отреагировал Белов, — ты на ногах еле стоишь.
Фишер рассмеялся.
— Я? Да так и скажи, что сам встать не можешь. — Отступил на шаг, тяжело пошатнулся.
Белов ничего не ответил, но встать сумел действительно только с третьей попытки. И тут же его так занесло, что лампа в углу дробно зашаталась, а рюмки со звоном покатились к стене.
— Тихо, — пробормотал Фишер, хватая его за предплечье и притягивая к себе. — Стоять.
Белов уже смирился с тем, что под его весом они сейчас оба рухнут на пол, но Фишер падать не собирался. Наоборот, он как-то очень уверенно подался навстречу, удерживая равновесие, вот только губами промазал — проехался Белову по щеке. Тело обрело центр тяжести, и комната перестала шататься; Белов опустил руку Фишеру на затылок, медленно выровнял траекторию. Они долго целовались, пока голова совсем не закружилась — пришлось прерваться, успокоить дыхание. Единственное, чего теперь хотелось, — снова вернуться на матрас, но тогда с новогодней ночью будет покончено. Они просто отрубятся — оба.
Фишер цепко держал его за рукав и как-то бездумно улыбался. Белов улыбнулся в ответ — и в голове на удивление прояснилось.
— Ну что, — сказал он, старательно выговаривая окончания. — План… такой. Спускаемся ко мне, надо пожрать нормально. Тогда попустит. А потом…
По лицу Фишера снова растеклась улыбка — шальная и пьяная.
— Гулять потом. Гу-лять. — Нетвердо переступая с ноги на ногу, он принялся натягивать свитер.
Музыка — что-то ритмичное, гулкое, похожее на джаз, но сильно сдобренное басами — припирала к стене, почти не давала дышать. Белов расслабился и позволил мелодии заполнить голову целиком.
Проснувшись, Белов долго лежал с закрытыми глазами — просыпаться по-настоящему было страшно. Главным ощущением была головная боль. Тоже разбуженная, она тяжело ворочалась внутри черепа, давила на переносицу, скреблась, устраивалась — и ждала, когда ему надоест притворяться, чтобы обрушиться лавиной, разнести голову изнутри.
Боясь даже сглотнуть, Белов прислушался — тишина. Плотная первоянварская тишина, если конечно, календарь не успел умчаться дня на три вперед. Мало ли.
Прислушался еще — на этот раз сквозь тишину и скрежетание головной боли просочилось сонное дыхание под боком. Белов пошевелил рукой, нашарил край пледа, спину — Фишер. Накатило почти физическое облегчение — рефлекторное, вне рассудка, какое он всегда испытывал, осознавая его близость.
Но в целом ничего хорошего не было — в рот словно насыпали колючего пересохшего песка, боль скребла с обратной стороны висков, да и воспоминания о прошедшей ночи ничуть не бодрили.
После еды и горячего чая Фишер вдруг сказал, прислушиваясь к взрывам петард:
— Наши тоже сейчас на даче взрывают.
Белов уже открыл рот, чтобы спросить, почему он все-таки остался дома, но произнес совсем другие слова:
— Что, тоже хочешь фейерверк устроить?
Фишер сонно мотнул головой, приподнял уголок рта и ничего не ответил — вылитый карнавальный пьеро у растерзанной елки. Пожалуй, в таком состоянии отговорить его от прогулки было легче легкого, но Белов вдруг выпалил — может, повелся на тон или на маску пьеро:
— Ну и пошли, если хочется. У меня с прошлого года тоже где-то валялись.
Фишер преобразился в одну секунду.
— Хлопушки? У тебя? Да ладно.
На самом деле Белов сильно скромничал — «валялся с прошлого года» у него почти целый ящик, в котором кроме простых петард пылились разные вертушки, римские свечи и даже коробка ракет, взлетающих с воем и свистом.
— Откуда? — присвистнул Фишер, перебирая яркие упаковки.
— Эхо войны, — хмыкнул Белов.
Года два назад они закрывали какой-то полуподпольный склад пиротехники, и весь отдел натащил себе оттуда сколько смог. В прошлый новый год всю ночь палили почем зря — как раз на даче у Оксанки, а потом Белов свалил остатки в эту самую коробку и забыл про нее. Теперь вспомнил.
Фишер залез в нее почти с головой — оживился, словно и не сидел минуту назад с кислым видом. Распотрошил все, а потом — Белов не успел даже вмешаться — дернул нитку огромной пневмохлопушки. Раскат оказался такой, что даже люстра зашаталась — и все вокруг окатило волной блестящего конфетти.
— Ебать, — выдохнул Фишер, и тут же заржал глядя на Белова. Тот оттащил его от ящика.
— Слушай, давай поосторожнее, а.
Но это было все равно что попытаться заткнуть вулкан. Не прекращая смеяться, Фишер стряхнул блестки с волос Белова, с воротника, коротко задевая пальцами шею. На секунду захотелось прижать его к дивану и не отпускать, пока обоих не скрутит сон.
Может, лучше бы он так и сделал, но куда там — Фишера было не остановить.
К счастью во дворе оказалось пусто — взрывы и хлопки доносились издалека, народ напивался дома. Снег лиловел в отсветах фонарей, где-то играла музыка, Фишер в распахнутой куртке раз шесть пронесся туда и обратно по раскатанной в лед дорожке.
Потом Белов радовался про себя, что они успели уйти подальше на пару кварталов — от поднявшейся канонады одновременно завыло несколько припаркованных тачек, над головами гулко бухнула оконная рама, кто-то заорал, матюгнулся. Через секунду пиликнул домофон, и Фишер, схватив Белова за руку, потащил его вглубь дворов — за гаражи. Белов бежал, неловко балансируя на поворотах, про себя крыл Фишера последними словами — и себя заодно.
Ладно, у него-то вместо мозгов овсянка, думал он, а ты-то куда, полудурок. Совсем долбанулся на старости лет.
Далеко им убежать не удалось — и, к счастью, за ними никто не погнался.
Фишер поскользнулся, перебрал в воздухе руками и повалился ничком — прямо Белову под ноги. Не успев даже притормозить, Белов рухнул сверху, отвесно, как поваленное дерево. Локоть Фишера тут же угодил ему под дых, глаза засыпало снежной крошкой, из-за барахтающегося внизу тела никак не получалось найти опору. Фишер ерзал, Белов шарил ладонями в снежной каше, белые искры набивались в рукава, где-то далеко залаяла собака, кто-то загорланил.
Наконец Фишер оставил попытки выбраться, раскинул руки и громко заржал. Отплевываясь, Белов кое-как приподнялся, но не успел он толком встать, Фишер перекатился на спину, рука поехала, колено заскользило, и они снова сплелись посреди снежного месива.
Слева темнели коробки гаражей, справа перемигивались электрическими окнами дома, кое-где сквозь темноту стекол прорывались тусклые всполохи елочных гирлянд. Небо расчистилось, снег больше не валил. Ближайший фонарь светил лениво, вполсилы.
— Блядь, ты совсем, что ли, придурок? — Белов уже всерьез бесился, но больше сказать ничего не смог, — а собирался, что-то там про «ебаный детсад» — не смог, потому что уперся во взгляд Фишера, плывущий, сонный, почти обдолбанный. Фишер больше не смеялся. Он смотрел на него снизу вверх и не моргал, и Белов понял, что он его обнимает — руки без перчаток на затылке, колено упирается ему в бедро, и больше не было морозных укусов снега, только зимняя темнота и тишина.
Фишер приоткрыл губы, не отводя своего странного взгляда. Призрачное дыхание коснулось щеки. Белов наклонился, даже не стараясь устроиться удобнее — глупо устраиваться удобнее посреди сугробов в полутемном дворе — отогнул перекрутившийся капюшон и поцеловал его.
Фишер ответил — медленно, будто нехотя, но одновременно крепко сжимал его затылок, не отпускал, не давал остановиться. Они целовались, и Белов не чувствовал ни промокших на коленях штанов, ни растаявшего в рукавах снега, ни уколов холода в остывших пальцах. Голову снова наполнила та же музыка, что он слышал у Фишера в квартире, — и несла, и захватывала. Заслоняла собой зимний двор, ночные дома — весь снежный пейзаж, весь мир.
Он не помнил, кто из них первым отстранился и кто сказал: надо домой, не помнил, как вставал и что говорил — и говорил ли.
Дома они снова что-то пили — Фишер отыскал в холодильнике бухло, потом ушел в ванную и застрял там. Проходя мимо, Белов заметил, что он не запер дверь, как делал это обычно. Машинально открыл, сунулся — Фишер лежал в наполненной до краев ванне, откинув голову на бортик. Грелся.
Открыл глаза, глянул мутно, сказал:
— Помоги встать, а.
Белов неловко переступил с ноги на ногу, потянулся было за полотенцем, но представил, как он сейчас развернет его, подаст Фишеру — готовая сцена из идиотского фильма — и не стал.
— Давай, что ли, руку. Совсем развезло?
Фишер не ответил. Вцепился в запястье Белова, дернул на себя — резко, без предупреждения. Тот попытался ухватиться — за стену, за клеенчатую занавеску, за воздух — матюгнулся и тут же нахлебался воды пополам с пеной. Фишер ржал — истерично, громко, заглушая плеск льющейся на пол воды.
Фыркая, Белов пытался подняться, что-то сказать, оттолкнуть Фишера, утопить его прямо под краном, как взбесившегося кота; намокшая одежда тянула вниз, хлопья пены повисли на стене обрывками паутины. Фишер, смеясь, тянул его на себя, нашаривал вслепую застежку ремня и бормотал — сбивчиво, сквозь хохот:
— Давай, иди сюда, хорош дергаться.
И когда он, наконец, справился почти с его футболкой и повел губами вверх — от груди к шее, выше — Белов прекратил попытки вернуть эту ночь в рамки нормальности.
Он помнил, что позже как-то оказался на диване, запутавшийся в полотенце Фишер упал сверху, Белов подмял его под себя, намокшая махровая тряпка мешала, а за окном, кажется, начинало светать. Больше ничего вспомнить не получалось.
Решившись, Белов досчитал про себя до пяти и открыл глаза. Боль прострелила переносицу, иглой воткнулась в левый висок, заметалась внутри черепа. Снова пришлось зажмуриться и отсчитать еще десять. Дальше пошло легче.
Белов сбросил одеяло, сел. Впервые порадовался привычке Фишера задергивать на ночь шторы — яркого дневного света он бы сейчас точно не выдержал. На полу валялось скомканное полотенце, сам Фишер, в три слоя обернувшись пледом, дрых без задних ног.
В коридоре обнаружилась мокрая одежда — Белов споткнулся о собственный свитер, о штаны, наступил еще на что-то. Ванная встретила полнейшим разгромом — едва просохший пол, тюбики-щетки-флаконы валялись на полу, даже пластмассовый таз почему-то оказался в углу, хотя до этого был надежно втиснут под раковину.
Белов поморщился и мысленно махнул рукой. Нет уж, убирать это все точно придется Фишеру — да еще и по шее вкатить бы неплохо. А потом вспомнил, что они вытворяли здесь ночью — сначала прямо в ванне, потом на полу среди луж и вымокших тряпок, дальше, кажется, у стены, а после Фишер... В этом месте голова отказала, зато низ живота повело острым болезненным спазмом — даже дыхание перехватило.
Белов торопливо отвернул кран, хлебнул теплой, пахнущей трубами воды. Сунул голову под струю.
Фишер был не просто невыносим, он был опасен для здоровья, для имущества, для репутации — для нормальной человеческой жизни. Белов усмехнулся, кое-как приходя в себя, — вот новость, надо же, опасен он. Спохватился.
Вернувшись в комнату, Белов решительно взялся за край пледа. Фишер замычал, накрыл голову подушкой. Белов сбросил ее на пол, и следом все остальное — одеяло, вторую подушку, ободранный с Фишера плед. Устроился в ногах, мысленно давая ему минуту, чтоб очухался.
Фишер проснулся, тяжело перекатился на спину, уставился перед собой. Облизал шелушащиеся губы, моргнул — раз, другой — совсем не понимал, где находится и что происходит. Он лежал сейчас — голый, беззащитный, помятый, почти слепой, как застигнутый врасплох крот, — и даже не старался закрыться.
Белов смотрел и точно знал, что сейчас сделает — рассчитается с ним за все его фокусы. Отлично, ночью никто ему не мешал устраивать какой угодно цирк с конями, а теперь его, Белова очередь.
Фишер приподнялся, с трудом фокусируясь, тут же рухнул обратно. Слабо оскалился:
— Это чо — бэдэсээм по воскресеньям? Учти, я такую хуйню...
— Заткнись, — сказал Белов, нашарил на полу уцелевший квадратик гондона, оторвал зубами край фольги.
Фишер потер глаза, лоб, снова скривился. Взгляд сделался более осмысленным, но сил сопротивляться не было. Голос звучал хрипло и глухо.
— Так. А если я сблюю?
Белов сжал костлявое колено, проехался ладонью вниз, до щиколотки. Забросил ступню себе на плечо.
Фишер рефлекторно попытался закрыться, но под рукой, понятно ничего не нашлось.
Белов подтянул его поближе, не давая опустить ногу. Ухватил вторую.
— Бля. Ты чо собираешься делать?
Развел бедра пошире, огладил с внутренней стороны, скользнул пальцами к заднице. Фишер дернулся.
— Собираюсь посмотреть...
— Ты чего-то еще не видел? Ну-ка, дай я...
— ...Как ты меня хочешь.
Белов схватил его за горло — а другой рукой накрыл уже вполне напрягшийся член.
Тяжело втягивая воздух, Фишер разжал его пальцы на шее.
— Ебанулся совсем. А если я не хочу?
Белов резко двинул кулаком вдоль члена — раз, второй, еще жестче — третий. Растер большим пальцем выступившую влагу.
— Точно не хочешь?
Фишер долго смотрел на него в упор своим странным нечитаемым взглядом, то ли пытался загипнотизировать, то ли думал о чем-то, а тем временем грудь его поднималась все чаще, пересохшие губы приоткрылись, вот-вот — и застонет.
Фишер не застонал. Он оттолкнул руку Белова и, не отводя глаз, коснулся ногой его лица. Легко очертил пальцами щеку, подбородок, медленно провел подушечками по губам. Белов замер. Подошва у него была сухая, жесткая, чуть царапала. Он снова вернулся к щеке, с нажимом потерся щиколоткой — самой косточкой — и прикрыл глаза. Белов подумал, что там кожа нежнее, тоньше — и наверняка горит под уколами вылезшей за ночь щетины. Не выдержав, он с силой прихватил его лодыжку, прижался к ней губами, поцеловал, прикусил выпирающую косточку. Фишер вздрогнул, едва заметно выгнулся.
Белов стиснул его под коленками, подобрался ближе и без паузы подался вперед. Это оказалось нелегко — слишком туго и жарко, Фишер тут же напрягся, громко охнул, словно его ударили, пробормотал что-то — может, просил притормозить. Это было невозможно, немыслимо — и Белов про себя попросил прощения за то, что сейчас делал, но остановиться никак не мог. Фишер вытянулся в струну, тут же заставил себя расслабиться, крепко сжатые губы побелели, пальцы впились Белову в плечо. Он молча старался приладиться к выбранному ритму, на ходу привыкая, открываясь, впуская его — и зажмурился, когда Белов особенно резко толкнулся. Заведя вверх правую руку, Фишер зашарил в поисках опоры, нащупал подлокотник и вцепился в него, изогнув запястье под почти неестественным углом.
Еще пара секунд, думал Белов. Четыре. Максимум — пять.
Фишер беззвучно стонал в такт дыханию, в такт его толчкам, и на животе блестели протянувшиеся от члена влажные нити-следы.
Три. Две. Две. Одна.
Белов резко задвигал рукой вдоль его члена и тут же кончил сам — молча, ярко до боли, до стиснутых зубов. Фишер вскрикнул, выгнулся, насаживаясь до основания, выругался — грязно, злобно, от всей души.
— Я тоже тебя люблю, — шепнул Белов, упав сверху, и даже не сообразил, что он такое сказал.
Новогодняя ночь оставила ощущение разрушенного, брошенного за спиной города, но остаток праздников прошел вполне спокойно. Хуже остального было то, что он так и не сумел внятно объяснить Оксанке, куда вдруг пропал в новогоднюю ночь, на что она жутко обиделась.
Фишер спал почти целыми днями, и Белов молча удивлялся, как он так может — с утра до вечера протирать постель, словно так и надо. Он спал — и оживал только к вечеру: встряхивался, вставал, пил кофе, лез в душ, садился за свой ноутбук. Уже второго Фишер выяснил, что вай-фай, который он успел подключить у себя, добивает до первого этажа, и радовался этому, как ненормальный. Белов не понимал такой радости по поводу сущей ерунды — впрочем, с Фишером он постоянно чего-то не понимал, оставалось только смириться. Такая плата вовсе не была неподъемной, если задуматься, — вообще мелочь по сравнению с возможностью видеть его, прикасаться, быть с ним каждый день.
Фишер по вечерам занимался какими-то своими делами, однажды сходил к Антону, как-то раз вроде бы съездил в институт. Ночами он то ли смотрел фильмы, то ли еще что, а под утро приходил на диван, забирался под одеяло, будил Белова. Потягивался, прижимался всем телом, молча обнимал — и Белов тоже молчал.
В эти предрассветные часы между ними не было ни тревоги, ни неловкости, ничего, что так или иначе стояло за спиной в другие дни — в каждый из дней, сильнее, легче, ближе, дальше, но обязательно маячило рядом.
После Фишер мгновенно засыпал, Белов обнимал его со спины и лениво думал ни о чем. Однажды, задремывая, Фишер сказал сквозь протяжный зевок:
— Знаешь, а идея с машиной и ничо себе, в общем. Если уж так получилось.
Белов промолчал — только хмыкнул.
Дальше все вошло в привычную колею — и понеслось по ней как-то слишком резво. Дни сменяли один другой: служба, дежурства, привычные заботы, неудачная попытка помириться с Оксанкой, еще одна — чуть лучше, что-то еще.
Фишер часто задерживался в Академии — приближался тот самый концерт, к которому он готовился с осени, а кроме этого его всерьез захватила идея с машиной. В свободные вечера он лазал по каким-то автомобильным сайтам, искал, прикидывал, но с Беловым особенно не делился. Тот обычно заглядывал через его плечо, видел на мониторе очередной форд или мазду и говорил что-нибудь вроде:
— Раньше весны не вздумай даже и соваться.
Фишер в ответ на его слова только отмахивался. Впрочем, очень скоро репетиции пошли одна за другой — до концерта оставалось чуть больше недели, и автомобильная возня отступила на второй план.
Белов как-то спросил его про выступление, больше по обязанности, все равно был уверен, что Фишер, как всегда, отделается парой односложных фраз. Но тот на удивление охотно рассказал — про какой-то там юбилей Академии, про бабку, про то, что его внезапной кандидатурой задвинули местных талантов, про бесконечные репетиции и что теперь он может сыграть выбранную для выступления вещь с завязанными глазами в обратную сторону. Это был первый раз, когда Фишер с такой готовностью делился с ним подробностями своей учебы — подробностями другого мира, который существовал параллельно и о котором Белов толком понятия не имел.
Это было важно. Это что-то значило — и среди прочего еще и то, что для Фишера оно было не проходным выступлением типа экзамена, а настоящим событием, таким, где он хотел отличиться, по-настоящему блеснуть.
Белов слушал, кивал, спрашивал, и вдруг — не успел даже осознать — под грудью разлился первый укол ревности. Не постепенно, не исподтишка, не спустя время — а разом, внезапно, «бабочкой» между ребер. Он даже дыхание затаил и непроизвольно сжал руль — дело было по дороге домой.
Блядь, тоскливо думал Белов, блядь, да что же это со мной за хуйня.
Ничего не подозревающий Фишер продолжал рассказывать — вроде про свою преподавательницу, увлекся, ничего не заметил.
Он не должен был этого чувствовать, это выглядело безумием, это не имело смысла — это и было безумием, — но он чувствовал, и внутренне леденел, словно в порывах чудовищного ветра.
Сердце тревожно сжалось.
Фишер примолк — что-то уловил, он всегда все схватывал на лету, впитывал эмоции тут же, стоило им просочиться из спинного мозга на подкорку, — но пока не разобрался, в чем дело.
Белов отчаянно поспешил уйти в сторону:
— Так погоди, я не понял, много там будет гостей?
Фишер помедлил пару секунд, как ищейка, выставившая нос по ветру и не желавшая уходить со следа, но потом сдался и все-таки ответил:
— Человек двести, я думаю.
Белов кивнул и тут же покосился на Фишера — испугался, что его жест будет смотреться слишком преувеличенно. Тот не заметил — или только сделал вид.
Неделя пролетела незаметно — как один огромный предгрозовой час.
Фишеру было не до чего — занятия, репетиции, он появлялся дома часов в девять, ел и сразу валился на свой матрас. Белов поднялся к нему в один из таких вечеров и уже минут через двадцать вернулся к себе —разговор не клеился, о том, чтобы его обнять, и речи не шло. Фишер хоть и не скандалил, но одного взгляда на его угрюмое лицо хватало, чтобы почувствовать себя не просто лишним — пустым местом. Возможно, будь у него силы для взвинченной истерики, он бы устроил одно из своих показательных выступлений, но сил, похоже, не было. Фишер взял пиво, которое принес Белов, буркнул что-то неразборчивое и уткнулся в ноутбук.
Белов уговаривал себя не дурить. Ничего в этом не было такого — устал, задергался, нервничает, мало ли. Пройдет это сраное выступление, и все будет как раньше. И тут же в голову лезло: какое раньше? Когда раньше? Раньше у них было разное — и часть этого раньше Белов, не раздумывая, вычеркнул бы, стер и никогда не вспоминал.
Головой он все понимал, но сердце жило своей жизнью, отгородившись от любых доводов разума.
Нет, что-то не так, думал он, и тут же мысленно повышал голос — успокойся, дебил. Успокойся и не порть никому жизнь, ни ему, ни себе.
В день выступления — это была суббота — Белов как раз вернулся с дежурства. Фишер был дома — собирался.
Белов точно знал, что нужно сделать: позвонить ему, перекинуться парой слов, пожелать удачи, спросить, не нужно ли чего, и лечь спать. Так или иначе, с понедельника все пойдет как раньше — хорошее «раньше», уточнял он мысленно. Но холодный скользкий червь копошился и копошился внутри, точил, жрал — нет уж, не надейся, теперь все будет иначе. Белов не знал, как именно, но был уверен, что погано.
Переодевшись и позавтракав, он долго слонялся из угла в угол, не зная, куда себя приткнуть. Из рук все валилось. Он дал слабину — позволил холодному червяку взять верх, накручивал себя, и чем дальше, тем меньше оставалось шансов успокоиться.
Бред, билось в голове. Бред. Ты не запрешь его в четырех стенах, не изолируешь от всего мира, ты не сможешь так — и он не сможет. Стоит ему уловить хоть малейший намек на силу, на контроль, на противоестественную ревность — и все. Приплыли. Не будет больше ничего.
Ближе к обеду Белов взялся за телефон, но тут же его отложил. Схватил ключи, зачем-то обошел всю квартиру. Вышел в подъезд.
Фишер открыл не сразу, а открыв, тут же вернулся в комнату — едва кивнул.
Играла музыка — одна мелодия, без слов, Белов бросил прислушиваться уже на третьей секунде. Сам Фишер суетился с утюгом — гладил рубашку. В комнате пахло сигаретами, свежим паром и кондиционером для белья, утюг сердито шипел, выбрасывая новые горячие порции.
Белов присел на матрас. Рядом валялась развороченная сумка, поверх — раскрытая коробка с черными туфлями на шнурках. Посреди комнаты привычно пестрел хлам — носки, диски, футболки, какие-то книги. Поднос, заставленный чашками и пустыми банками из-под пива, притулился в углу.
На одежной стойке под чехлом висел пиджак — Белов машинально вспомнил, что Фишер на днях говорил что-то про химчистку.
Стоя на коленях, согнувшись, Фишер отточенными движениями утюжил свою рубашку — Белову досталась только спина, позвонки сквозь футболку и голые подошвы.
Волосы он уже пригладил — пряди, казавшиеся от воды еще темнее, были аккуратно зачесаны назад. Белов знал, что не пройдет и часа, как они начнут по одной непослушно выскальзывать на лоб, на виски, а Фишер будет быстро поправлять их всей пятерней, а перед выступлением, может, пойдет в туалет и снова пригладит, наскоро пройдясь влажными пальцами...
Заорал телефон — Белов даже подпрыгнул на матрасе. Фишер протянул руку, вскрикнул, матюгнулся — голого предплечья коснулась шипящая струя. Кое-как ответил, прижимая трубку плечом:
— Да, ба, собираюсь, ты что. Через полчаса, да. Нет, все, такси вызываю, и мы тебя подхватим. Да оделся уже почти, все, все, не суетись. Взял-взял, ну ты чо. Да! Давай, позвоню.
Белов тупо слушал, молчал. Фишер снова был далеко — не достать, не схватить, не приблизить. И это было нормально, правильно, а он — он, Белов — совсем сошел с ума.
— Может, помочь чем? — через силу выдавил Белов, уже зная, что услышит в ответ. Это было все равно что предлагать свою помощь в какой-нибудь космической лаборатории. Блядь, да его тут словно и не было — мебель, упавший под ноги сувенирный истукан.
Фишер фыркнул, дернул плечом. Выдернул утюг из розетки. Помчался в ванную, на ходу стягивая футболку, вернулся уже в одних трусах. Сдернул со стойки брюки от костюма, начал натягивать, другой рукой стараясь справиться с телефоном. Споткнулся о носки, выругался в голос, злобно швырнул телефон на матрас.
Белов рассмотрел на голых ключицах бледные, почти выцветшие следы — отметки их последней ночи. Давно — неделю назад, в прошлый выходной.
Возясь с застежками, Фишер бросил:
— Вызови такси, будь другом, а. Пиздец, я протелился, ебанат.
Белов нажал вызов — номер уже светился на экране — а сам продолжал следить взглядом за Фишером.
Брюки в поясе был немного широки и сразу повисли низко, открывая сбоку резинку трусов. Ремень — ремень отыскался не сразу, на подоконнике за скомканным одеялом. Рубашка. Рубашка и...
Белов уже несколько секунд как нажал отбой и не сразу заметил вопросительный взгляд Фишера, а заметив, зачем-то покосился на телефон и кивнул:
— Сказали, десять минут.
Фишер как раз возился с манжетами и, кажется, хотел что-то сказать, но наткнулся на лицо Белова, на его глаза, и закрыл рот. Почти замер — хотя за секунду до этого носился, словно ужаленный. Белов смотрел, как топорщится вокруг шеи жесткий расстегнутый воротник, смотрел на смуглые костлявые пальцы, терзающие пуговицу, на голую грудь, на живот над покосившимся поясом брюк. На несколько прядей, уже успевших свалиться на лоб. На угловатые запястья в широких манжетах. Фишер стоял перед ним и все медленнее двигал руками, лицо исказилось — и было непонятно, от злости или чего-то другого.
Во рту против воли пересыхало, и сердце колотилось быстрее, быстрее — что-то происходило — и он боялся — и он не боялся — нет, он просто не знал.
Вот Фишер сейчас застегнет свою рубашку, ловко затолкает ее под ремень, побросает в сумку манатки, схватит чехол с пиджаком — что там еще ему нужно — и уйдет. Уедет, убежит. Уже почти убежал.
Фишер рефлекторно отступил на шаг — он все понял раньше самого Белова, и в глазах на этот раз холодной тенью мелькнул настоящий страх.
Белов рывком поднялся с матраса и одним движением прижал его к стене. Фишер вскинул руки, наверное, хотел оттолкнуть, но тут же их опустил — белые манжеты, одна застегнута, вторая — еще нет, безвольно повисли вдоль тела. Белов сжал сзади его шею, коротко поцеловал, скорее даже облизал, тут же припал губами к горлу.
Фишер выдохнул, очнулся, разжал зубы — изо рта полилась привычная матерная грязь, пустая, почти механическая, но он не сделал ни одного движения, чтобы помешать. Просто откинулся спиной на стену, а глаза вцепились в какую-то точку на потолке.
Белов опустился на колени, одновременно целуя его вздрагивающий живот, прихватывая кожу и дергая пряжку наполовину застегнутого ремня.
Фишер вонзил пальцы ему в плечо, сам полез расстегивать брюки, сдвинул вниз резинку трусов, освобождая член. Двигая рукой, направляя его в рот, Белов наскоро поднял глаза — Фишер прижался затылком к стене и крепко зажмурился, словно перед ним было что-то страшное.
Скользя языком и губами, Белов завел ладони под рубашку, облапил поясницу, поднялся к позвонкам. Фишер тяжело опустил руку ему на затылок, не давая двигать головой, лишая места для маневра. Он коротко дышал, но больше не матерился — просто не мог. Через секунду Белов почувствовал, как худое тело напряглось под его пальцами, каким горьковатым и терпким стал привкус на языке, как настойчиво упирается в щеку отвердевшая головка. Белов в последний раз впустил его глубоко, прижавшись лбом к теплому животу, прислушиваясь, как ноет кожа головы под напором цепких пальцев.
Это все было неправильно, Белов ни за что не сумел бы четко объяснить почему — но неправильно, совсем. Словно он опаздывал, наверстывал, спешил, только вместо нормальной человеческой дороги выбрал почему-то путь через нехоженый пустырь — и двигался по нему вперед спиной.
Он толком не успел это додумать, ухватить, как Фишер дернул его за руку, заставляя подняться. Глаза у него были сумасшедшие, почти больные, словно все это время он успешно маскировался, сдерживался, а теперь дал себе волю. Даже не застегнув штаны, он толкнул Белова к стене — туда, где только что стоял сам. Нетерпеливо сжал член прямо через ткань, ощупал пальцами по всей длине, словно примеривался, потом рывком распустил завязки домашних треников. Белов приложился затылком к холодной стене, и в это время заголосил телефон — такси, подумал он, это такси.
Фишер даже не притормозил. Он впустил его, влажно прихватив губами прямо под головкой, саму головку покатал на языке, как конфету, а потом наделся ртом до основания, словно с разбега — Фишер часто так делал, когда не хватало терпения на долгие медленные ласки. И теперь — только теперь было еще резче, еще жарче, и времени совсем не осталось — он торопливо двигал головой, скользил покрасневшими губами, чуть задевая тонкую кожу кромкой зубов.
Белов шумно втянул воздух, посмотрел вниз — темная макушка дергалась неритмично, судорожно, рука в сползшей манжете вцепилась в стену, широко расставленные колени упирались в пол, разрушая идеальные стрелки. Посмотрел, и понял, что сейчас — вот-вот.
Фишер на секунду выпустил член изо рта — хотел перехватить руку или еще что, и зачем-то при этом поднял взгляд вверх, посмотрел на Белова снизу, и все это — перепачканные слюной губы, его, Белова, конец в сантиметре от покрасневшего рта, пальцы — худые, неопрятные — ударило, словно током.
Замолкший было телефон заорал снова, но Белов ничего не слышал — завороженно смотрел, как густые струи ложатся прямо на удивленное, растерянное лицо Фишера — на щеку, на губы, на подбородок — и дальше, длинными нитками ползут на шею, на белый жесткий воротник.
Несколько долгих секунд Фишер стоял в той же позе, не шевелясь, словно не в силах был поверить в случившееся, потом медленно поднял рукав, и уставился на мутную влажную кляксу, расплывшуюся возле манжеты.
Белов поправил штаны. Сердце все еще колотилось, дыхание спотыкалось, никак не желая успокаиваться. Снова завопил телефон, казалось, еще громче прежнего. Очнувшись, одной рукой лихорадочно сдирая рубашку с плеча, Фишер бросился к матрасу, почти прыгнул, словно мобильник был добычей, которая вот-вот могла скрыться где-нибудь за плинтусом.
— Да-да, сорок седьмая, — хрипло зачастил он, — вызывали, да, выходим, две минуты!
Он принялся вытирать лицо скомканной рубашкой, потом ухватился за валявшееся на матрасе полотенце, тут же бросился к одежной стойке.
Белов понимал, что лучше ему сейчас не встревать, но все-таки не сдержался:
— Может, тебя отвезти? Нахрена такси-то.
Фишер посмотрел на него так, что язык тут же онемел — словно в рот пальнули из баллончика с анестетиком.
Он уже напяливал другую рубашку, тоже белую, наспех содранную с одной из вешалок, с мучительной гримасой дернул воротник, подтянул повисшие манжеты.
— Сука, запонки дома. Блядь, убить тебя, уебка, мало.
Через минуту Белов, стоя на площадке перед запертой дверью, слушал, как он несется вниз, перепрыгивая сразу через три ступеньки, и на ходу что-то кричит в трубку.
Дома нашлась водка, оставшаяся с новогодней ночи. Белов тяжело опустился за стол и одним махом опрокинул в себя сразу полстакана — первого, который попался под руку.
Еще переступая порог, он вспомнил почему-то далекий, словно из другой жизни, эпизод на юге — грязное, прокопченное дымом и запахами кафе, музыка, и Наташка — гладкая, высокая, с черными волосами, которую Фишер подцепил прямо у стойки.
Он ведь почти не ревновал тогда — не по-настоящему, не всерьез, не так — почему? А потому, ответил Белов сам себе, что Фишер просто валял дурака, выпендривался, и это было видно.
Еще: новый год. Он ведь без особых претензий смирился с тем, что Фишер свалит куда-то на всю ночь или дольше, даже не объясняя толком, куда пойдет, что собирается делать, и опять — ни тоскливой злобы, ни сжимающей горло колючей паники, ничего. Ничего, похожего на то, что он испытывал сейчас.
Потому, думал Белов, настойчиво разматывая этот болезненный и, в общем, бестолковый клубок, потому, что сейчас ему не все равно — для него все это важно. Пиздец как важно. То самое настоящее, ради чего он легко готов забыть о чем угодно.
То, что случилось сейчас наверху, только усилило тоску и страх — это выглядело жалкой попыткой удержать его, использовав единственный известный и доступный способ, надо сказать, самый паршивый для такого случая.
Не ерунди, сказал себе Белов. Ты просто его захотел — как всегда. Мозги отключились, когда было иначе? И Фишер ведь был совсем не против — испорченная рубашка, реальная возможность опоздать, паникующая дома бабка, такси во дворе — и он не остановил его, не отказался. Почему-то от его отчаянного, молчаливого согласия было только хуже — черт знает почему.
Чтобы не думать, Белов поспешно наполнил стакан. Вместо закуски достал пепельницу, швырнул на стол сигареты.
Он заснул, когда совсем уже стемнело — не включая света, пробрался в комнату и рухнул на диван. Водка кончилась, но в холодильнике оставалось еще пиво, Белов тупо пересчитал банки, не понимая значения произносимых в уме цифр, и шумно захлопнул дверцу. На часы он даже не посмотрел — бессмысленно, ни к чему, он знал, что не поймет и эти дурацкие цифры тоже, попросту не запомнит. Фишер еще не вернулся, вот и все, что требовалось знать. Белов ему не звонил, не выходил в подъезд, но был уверен, что он еще не вернулся.
Проснувшись перед рассветом, разбитый, растрепанный, с тошнотворным привкусом во рту, Белов выполз на кухню.
На столе умирал вчерашний мусор — стакан, грязная чашка, пепельница, полная окурков, пара пивных банок, на самом краю — телефон. На полу к деревянной ножке прижималась пустая бутылка. Преодолевая ломоту в висках, Белов полез в холодильник, приложил ледяную банку ко лбу. Закурил, присев на скамейку, повертел в руке телефон — холодный корпус, темный экран. Ничего — ни смсок, ни пропущенных звонков. Он машинально отыскал номер, нажал кнопку вызова. Слушая тишину в трубке, едва малодушно не выбрал «отбой» — в самую последнюю секунду. А потом уже было поздно: «Телефон абонента отключен или находится вне...»
Все — не повернешь, не отмахнешься. Недоступен. Отключен или вне — вне пространства, где еще можно было до него дотянуться.
Белов тяжело потряс головой, сказал вслух:
— Долбоеб. Дебил ты, Коля.
Еще вчера — уже вчера — когда он еще был у себя, путаясь в разбросанной одежде, спеша между стойкой, матрасом и утюгом — уже нельзя было до него дотянуться.
Белов с треском открыл банку, ополовинил в несколько глотков. Докуривая, выпил остальное. Раздавил в пепельнице фильтр, вывернув на стол бычки пополам с пеплом, вернулся в комнату и насильно загнал себя обратно в сон.
Когда Белов проснулся во второй раз, за окном уже было светло — не утренним серовато-морозным светом, а по-настоящему, как бывает днем. Спина оказалась мокрая, и подушка тоже, и волосы на затылке — вспотел, как свинья, ворочаясь среди своих вязких кошмаров, ни один из которых, к счастью, не удавалось вспомнить.
На этот раз игнорировать время не получилось — час дня, начало второго. Теперь Белов не стал браться за телефон. На кухне сунулся в холодильник, тут же подумал, что начинать с пива не стоит, потому что точно потянет продолжить, а завтра все-таки на службу. На холодный пустой чайник даже не хотелось смотреть.
В ванной наскоро поплескал в лицо, почистил зубы, надел первую попавшуюся футболку.
В подъезде было тихо и холодно — грязные окошки рассеивали вокруг мутный свет, все казалось присыпанным пылью. Поднялся. Помедлил, прислушиваясь, — из квартиры не доносилось ни звука. В общем, это ничего не значило, дверь была плотная, а Фишер — если он находился там, в квартире — скорее всего еще спал. Белов два раза подносил руку к кнопке звонка — и оба раза отводил в последний момент. Это было как с телефоном — и жалко, и тупо, и непреодолимо все равно.
Когда за спиной раздались шаги, Белов замер, словно его застукали на чем-то мелком и постыдном — например, у чужого бензобака или с украденной магнитолой в руках. Стиснув зубы, он заставил себя обернуться.
Фишер был в нескольких ступеньках — тяжело переставлял ноги, придерживая на плече свою безразмерную сумку, и щурился на Белова из-под разлохмаченных волос. Все на нем было расстегнуто, висело неряшливо и криво — распахнутая куртка, ворот рубашки, полы пиджака. И лицо — лицо было помятое и бледное, как и положено после ночной пьянки.
Ничего не скажешь — победитель, почти выпалил Белов. Да он бы и выпалил — позавчера, два дня назад, неделю назад, легко создавая установившийся между ними грубовато-шутливый тон. Позавчера — да, но сегодня эти слова, уже готовые сорваться, почему-то застряли в горле. Он только и мог стоять, исподлобья глядя на него — уже поднявшегося на площадку.
Фишер покосился молча, достал ключ, щелкнул замком.
Вместо непрозвучавших слов, уже в прихожей, Белов сказал совсем другое:
— А с телефоном что?
Фишер, похоже, совсем не был настроен ругаться — и это отдельно злило. То, что он, кажется, действительно, был победителем — во всех смыслах. Отлично отдохнувший после заслуженного триумфа человек.
Он устало махнул рукой, сбросил с плеча сумку.
— Разрядился.
Едва разувшись, прямо в куртке прошел на кухню, хлопнул там дверцей холодильника. Забулькала вода, зашуршал пластик — глотая на ходу, Фишер вернулся в прихожую. Скинул куртку. Сияющий вчера костюм сегодня был весь измят, а из нагрудного кармана торчала увядшая чайная роза. Почему-то именно эта клоунская роза особенно выводила из себя.
В комнате Фишер, потянувшись, с размаху рухнул на матрас — разбросал руки-ноги, с наслаждением потянулся.
Белов застыл в дверях.
Фишер приподнялся с кислым лицом, стянул пиджак, принялся расстегивать рубашку. Не выдержал:
— Ну чо ты стоишь над душой, а?
Очень хотелось поднять его сейчас за шкирку, вытряхнуть из этой сонной расслабухи, чтобы похмельную гримасу перекосило трещинами и она сползла бы с его лица. Чтобы он понял — никаких шуток. Очень хотелось — и раньше бы он сделал именно так, а потом повалил бы его на матрас и трахнул. И Фишер бы ему все позволил — содрать штаны, вдавить себя в упругую поверхность, и стонал бы в голос, но — каким-то образом Белов очень хорошо это знал — такое оттолкнуло бы его еще дальше. Белов понимал — как раньше теперь нельзя, не подходит, теперь требуется что-то другое.
И противный незнакомый голос обиженно нашептывал тут же — а он? А ему можно как раньше? И еще хуже — можно?
Фишер продолжал раздеваться, больше не обращая на Белова внимания. Тот смотрел и едва подавлял желание накрыть щеку ладонью, чтобы вдруг не дернулась. Подумал: и он понимает тоже, иначе давно бы уже закатил тут свой привычный концерт. Так в чем же, блядь, тогда дело, в чем? Что не так?
Он постоял еще с минуту и молча вышел в прихожую, оттуда — за дверь. Просто ушел. Фишер что-то прокричал вслед, но Белов не разобрал, что именно.
Он все-таки купил себе машину.
Нельзя сказать, что Белов ждал внимания к своим советам, главным из которых был подождать до весны, да и к скорости, с которой Фишер воплощал свои решения в жизнь, пора было уже привыкнуть, но все-таки удивился. Наверное, потому что сам он все это время думал совершенно о другом, а Фишер, оказывается, ни о чем не думал — тачку выбирал. И в один из вечеров свалился как снег на голову:
— Выйдешь?
Белов не сразу понял.
— К тебе подняться, что ли?
— Да нет, на улицу выходи.
Натянув куртку, Белов вышел из подъезда.
Чуть в стороне стояла красная «Альмера», а рядом, заложив руки в карманы, ждал Фишер. Кивнул:
— Нравится?
Белов на секунду подумал, что это какой-нибудь тест-драйв — тачка была новая, блестящая, как игрушка, — но потом увидел свежую номерную пластину.
— Когда ж ты успел?
Фишер, похоже, оценил, что обошлось без поучений насчет сезона и прочего. Улыбнулся.
— С утра мотаюсь, только что из инспекции. Прикинь, все за один день успел! Заебся, как собака.
Белов покачал головой. Что в напоре Фишеру не откажешь, он и сам прекрасно знал, но даже по его меркам такая скорость тянула на подвиг.
— А чего не сказал? Вместе бы съездили, и в дорожном у меня знакомых полно. Новая совсем, что ли? Слушай, ну ты даешь.
В общем, не было ничего странного, что Фишер, не предупредив, молча отверг всякую помощь — скорее, стоило бы удивиться, если бы он ее попросил, но внезапность обескураживала. Вот так запросто: нет машины — вечером уже есть. И страховка, и учет, и номера.
Белов прошелся вокруг, рассматривая. Даже позабыл, что последняя их размолвка, строго говоря, не улажена — оба просто спустили все на тормозах, холодно, сухо, без единого слова. Так прошла неделя — Фишер звонил, говорил ровно, позволял себя забирать, один раз остался на ночь, но у Белова на душе скребли кошки. Случившееся перед концертом и после встало между ними странной преградой — прозрачной, пропускающей звуки, но разделяющей все равно. Серое небо, пластиковая пленка — Белов подносил руку к поверхности, стоял и смотрел, как Фишер на той стороне занимается своими делами, ходит, ездит, живет. И не отталкивает — и не приближается.
Пару раз ему казалось, что Фишер вот-вот заговорит о чем-то — воздух сгущался, тишина начинала звенеть, — но он молчал. Белов думал — спросить, что ли? О чем? Бред.
В конце концов, он просто приказал себе заткнуть паранойю и не сходить с ума. Получалось плохо, но с чего-то стоило начинать.
Теперь вот эта машина — и как тут на него было злиться? Фишер наморщил нос, устроил локти на крыше.
— Не перевариваю эти монументальные сборы — о, а теперь давай планировать, как мы спланируем поездку в салон, договоримся за месяц вперед, будем мусолить и тупить, ну на хуй, мозгоебство одно. Я выбрал уже давно, чего ждать-то.
Белов пожал плечами.
— Убьешь краску, пока все растает.
Фишер беспечно махнул рукой.
— Да и хер с ней. Какой смысл из обычной машины музейную ценность делать, я ездить хочу. Тем более, с ветра пришло…
— Дело твое, конечно.
— Мое. Ну а так — нравится?
Белов сощурился, открыл дверцу, заглянул в салон. Ниссаны он не особо любил, да и модель была из самых дешевых, но по сравнению с его калекой-маздой машина, конечно, производила впечатление.
— А чо красная? Лучше бы металлик какой-нибудь взял и не выделывался.
— Захотелось эту. Прокатить? — засмеялся Фишер.
Белов вскинул руку.
— Не-не-не, обойдусь. Я пока права своими глазами не увижу, хрен в нее сяду.
— О-о, ну тогда совсем не судьба. Там фотка такая, что я сам на них стараюсь не смотреть.
А ночью, обняв его перед тем, как заснуть, Белов спросил:
— Ну… а выступил-то как? Нормально все прошло?
Фишер помолчал секунду, а потом сообщил — совершенно серьезно:
— Мне сказали, что я охуенный.
Белов почувствовал знакомый укол.
— Это кто ж так тебя? — И сам удивился своему ровному тону.
Фишер дернул плечом — острая лопатка ткнулась в грудь, заставила сердце привычно пропустить удар.
— Да все. Там, короче, был один хер, режиссер из нашей филармонии, ну, из городской. Дед такой под сраку лет, так он первый вылез, лично знакомиться подходил, — Фишер глухо хохотнул. — Прикинь.
Белов действительно прикинул и немедленно захотелось встать, нет, вскочить — и встряхнуть его, вытрясти все подробности, даже затылок прихватило холодом, но вслух он сказал — раздельно и лениво:
— А ты, конечно, и рад стараться.
— Иди ты, — вяло огрызнулся Фишер. — Было бы ради чего. Кому нужен этот мавзолей, там все равно ничего приличного уже лет сто не играют, симфонический местный — название одно, доходяги, блядь. Ты чо.
— О как. А если бы оно того стоило, ты бы обязательно…
Фишер фыркнул и чувствительно двинул локтем.
— Да отвали. У тебя, блядь, только одно на уме.
— Слушай, а там, у себя в Академии, — Белов глумливо выделил последнее слово, — ты вот так же изъясняешься? Блядями через слово?
Фишер зевнул, потом ответил:
— Нет, там только блядями. Без лишних слов.
— И твоего симфонического деда инфаркт от такого не хватил, не?
Твердый локоть снова врезался Белову под ребра, но в голосе скользила усмешка.
— Да с хуя он мой-то?! Ну что ты метешь. Видел бы ты того деда, там пиздец, такая руина.
— Но на мальчиков видно сил хватает, раз знакомиться лез.
— Хорош. Это среда такая, ну как тебе объяснить. Он скорее бы удавился, чем позволил себе хоть один прямой намек, но считает своим долгом делать стойку на каждую смазливую рожу с инструментом. — Фишер помолчал, а потом добавил тихо: — Вообще-то, я правда хорошо сыграл.
В этом месте явственно вспыхнула красная лампочка — пора было притормозить, не то занесет, но Белов не мог успокоиться.
— Хорошая у вас среда.
— Как и везде. — Теперь в тоне Фишера отчетливо сквозил металл. Помолчав, он многозначительно добавил: — Желающих по мальчикам где угодно хватает. Веришь, сам бы не подумал.
Белов вздохнул. Нет, нужно было действительно остановиться. Спина Фишера напряглась, тишина ощетинилась сотней иголок. Белов осторожно придвинулся ближе — кровь, разбуженная разговором, никак не желала замедляться. Он прижался к нему грудью, животом, обнял обеими руками — прижал к себе, но Фишер не ответил. Буркнул сухо:
— Давай спать.
Добавить было нечего, настаивать — глупо. Белов освободил правую руку, отстранился. Фишер повернулся на живот и зарылся в подушку.
Теперь его не нужно было отвозить каждое утро.
Белову казалось, что они вообще перестали видеться — урывками среди недели, на ночь в выходные — словно вернулись в те дни, когда еще не жили в соседних квартирах и постоянно цапались из-за времени.
Белов молчал. Не то чтобы ему нечего было сказать, нет, — но он словно оцепенел. Мозг застыл, застыли язык и горло, только сердце стучало привычно — и что с этим делать, он не знал.
Зато Белов выяснил, что Фишер не врал — он действительно умел водить, более того, водил очень аккуратно. Никого не подрезал, не дергал сперепугу руль, как это бывает с новичками, не летел на светофор в последние секунды, пропускал пешеходов и смотрел по сторонам. Одним словом, не понтовался, но и не тупил — в самый раз.
Вроде бы такому полагалось только радоваться, но Белов осознал очевидную и очень неприятную вещь — его это бесило. Бесило, что Фишер не показал себя безмозглым и беспомощным дурачком, бесило, что даже умение вести себя на дороге нельзя было превратить в повод для превосходства. Нельзя было сказать — ну вот, бестолочь, я же тебе говорил, а ты меня не слушал. Так что давай, слушайся. Слушайся меня и будешь в шоколаде — и в безопасности. Нет, Фишер ни в чем подобном не нуждался — просто не нуждался и все. Как будто Белов протягивал ему, утопающему в трясине, надежный шест, а он в последний момент ехидно усмехался и выпрыгивал на кочку — удобную и сухую.
Раздражение перерастало в злость — на себя, а на кого еще было злиться. Не на Фишера же злиться за то, что он ловко ездил и отлично парковался — такое смотрелось бы даже смешно, если бы не настолько грустно. И он злился на себя, а дальше злость переплавлялась в знакомую тоску, в стыд, в тупую хандру. Это была яма.
Белов всего пару раз усаживался на пассажирское сиденье «Альмеры», и оба раза Фишер показался ему совсем чужим — почти незнакомцем, как-то слишком по-взрослому уверенным в себе. В яму проваливалось все: привычный Фишер, привычные слова, даже привычная одежда — он зачем-то обзавелся новой курткой, черт знает зачем, под занавес зимы. Белов смотрел на меховую оторочку капюшона, на неузнаваемый профиль — и цепенел. Слова, которых и так не хватало, застревали в горле.
Деточка выросла, проносилось в голове ехидное, и Белова выворачивало от одного только тона.
Случалось, что они так почти не пересекались неделями — Фишер учился, занимался какими-то своими делами, где-то ездил или ходил. Хуже всего было то, что он не закрывался, не прятался — если бы Белов его о чем-нибудь спросил, Фишер бы запросто рассказал, ничего не утаивая, как про злосчастный концерт. Вот только Белов боялся спрашивать — боялся и не умел. Кто знает, что пришлось бы услышать — он деда из филармонии с трудом перенес, даже короткое воспоминание вызывало жгучую ярость.
Оставалось подыхать, и он подыхал — молча, угрюмо, понемногу каждый день.
На автомате ездил на службу, смотрел по вечерам телевизор, звонил Фишеру — и слушал в ответ какую-нибудь торопливую лабуду.
Однажды утром на выходе из подъезда он столкнулся с Маратом — соседом, чью квартиру Фишер снимал. Марат жил теперь в Москве и появлялся редко — с осени Белов не видел его ни разу.
Поздоровались, закурили, потрепались ни о чем. Белов вдруг сообразил, что тут, по старому адресу, Марату, в общем, делать нечего, и забегал он наверняка нарочно — к Фишеру. Махнув наверх, он спросил как можно небрежнее:
— За деньгами заходил?
— Не, — сказал Марат. — С деньгами ровно все. Мне тут Тань Петровна звонила, ну со второго, Лехи Ильина мать. Жалуется, типа, когда к жильцу друзья приходят, бычки с балкона раскидывают, ну я сам решил зайти, глянуть, что и как. А дозвониться чот не смог.
Белов посмотрел на тротуар, туда, где Фишер обычно оставлял машину, — «Альмера» стояла на месте. Вспомнил, что сегодня пятница — Фишер в это время как раз должен был собираться в институт, вот-вот уже выходить, и значит…
— А что, он не дома разве?
— Нет, — пожал плечами Марат. — И телефон мертвый. Но это херня все, не забивай голову. По мне, пусть хоть на голове ходит, хоть бордель открывает, главное, чтобы платил вовремя, так что все путем. Я так, на минуту заскочил перед отъездом, все равно рядом был. Давай, помчал я.
Белов кивнул.
— Я, если увижу, скажу тогда, чтоб он тебя набрал.
— Да не парься, чо я, сам не наберу.
— Ну, счастливо тебе.
— Ага.
Дождавшись, когда Маратов «Паджеро» скроется из виду, Белов достал телефон. Так и было — номер Фишера отвечал стандартным трафаретом.
Бля, пронеслось в голове. Ох, бля.
Белов припомнил — Фишер вчера вернулся, он хорошо слышал, как хлопала дверца, как скрипела подъездная дверь. Белов научился на слух определять его возвращение и, к собственной досаде, ни разу не ошибся. Слишком это напоминало липкие дни, когда он за ним следил — и пугало, пугало не в шутку.
Так что же получалось — Фишер вернулся и снова свалил, оставив машину у подъезда. И ничего не сказал — хотя, если подумать, с какой бы стати. Свалил, отключил телефон, пропал неизвестно куда.
Белов зубами вытянул из пачки сигарету.
Мысли обрушились лавиной, словно вокруг собралась целая толпа, загудела, заговорила разом. И он сам не знал, чего в этих мыслях было больше — ревности или беспокойства.
Ведь он мог выскочить ночью за сигаретами, мало ли, почему нет — хотя за время, проведенное вместе, Белов выяснил, что таких форс-мажоров у Фишера не бывает, и куревом он всегда запасается основательно. Но мог — мог, допустим. Кому как не ему, Белову, знать, что случается с людьми, сорвавшимся среди ночи за сигаретами, за пивом, за чем угодно. Он хорошо знал — и в голове пронеслось несколько коротких, но красочных картинок, от которых сжалось горло.
Стоп, приказал он себе. Хорош. Прекрати. Хватит.
Фишер мог свалить к Антону — вполне. Точно. Наверняка так и было — машину бросил, пошел пивка попить, как обычно. Телефон — ну ладно, у телефонов действительно садятся аккумуляторы. Что не так, почему нет.
Белов говорил себе это, а в голове хороводом неслось: блядь, пиздец, пиздец.
Прикуривая третью, он посмотрел на его окна, снова достал трубу. Отключен.
Кое-как взяв себя в руки, Белов сел в машину. Проезжая мимо, посмотрел на безмятежную «Альмеру», словно та могла знать, куда вдруг подевался ее хозяин.
Дым жег язык, пульс глухо колотился в висках.
Белов заставил себя сосредоточиться на дороге. Главное — успокоиться, собраться, не пороть горячку. Не сходить с ума.
В отделе он сумел ненадолго отвлечься — переключился на утреннюю суету, привычные кивки и вопросы, все силы ушли на маску, на дежурное дневное лицо. А когда остался в кабинете один, первым делом схватился за телефон — едва не уронил, выдергивая из кармана.
Ничего не поменялось — недоступен, впрочем, Белов другого и не ждал.
Позвонить Антону? И что спросить? Слышь, дружище, Фишер не у тебя? Не заходил? Да ты не узнал, что ли — Белов с Цветкова, ну да, из отдела.
От одной мысли, что все это придется говорить, спрашивать, объяснять, и кому — Антону, желудок наполнялся липкой пустотой, а шею затягивало мурашками.
Он медленно опустился за стол.
Белов прекрасно понимал, что если так пойдет, он и Антону позвонит, и кому угодно, но еще не был готов — отчаяние не взлетело пока до неконтролируемой отметки.
С другой стороны, что он знал? Что Фишер не ночевал дома, вернулся, покрутился перед окнами и свалил неизвестно куда. Человек, не ночующий в собственной постели, вполне может ночевать в чужой, и это вовсе не значит, что с ним стряслась беда. Возможно, как раз наоборот.
Мысль была тихой, застенчивой — бочком протиснулась в мозг, стыдливо пристроилась с краю — но вполне жизнеспособной. Руки зачесались — захотелось вскочить, опрокинуть стол, разнести шкафы с папками, вешалку, окно.
Остановись, блядь, стоп, приказывал себе Белов, уймись, выдохни, соберись.
Все перемешалось, залитое сверху чем-то густо-серым, он ясно вдруг понял, что не так боится несчастного случая, внезапной ночной беды, как этой последней липкой мысли — чужое тело и Фишер рядом, кто-то, кого он даже не мог вообразить, — и Фишер, Фишер.
Кто знает, что он сделал бы в следующую секунду, если бы в это тошнотворное месиво не вклинился телефонный звонок. Белов оторопело смотрел на экран и машинально считал секунды, а телефон продолжал звонить, звонить — и номер был незнакомый.
Пальцы ожили, горло пропустило вдох.
— Да, — почти проорал он в трубку севшим голосом.
Сквозь шуршание и возню донеслось:
— Але.
Это был Фишер — точно он.
— Ты где? — Белов не успевал подбирать слова — и едва контролировал тон. Ноги вдруг ослабли, пришлось опуститься на стул.
— Я, э-э… в отделе я, в общем. На Южной.
Белову показалось, что реальность лопается по швам — а сам он давно из нее выпал и только тупо наблюдает со стороны.
— В каком еще отделе? Ты где?
— Да не ори ты. Говорю же, на Южной. — Голос у Фишера был торопливый и какой-то пришибленный. — Все. Короче, в отделе я, ночью забрали. Вроде бы.
— Чего? Что значит…
— Не могу больше говорить. Меня надо…
Бестолково вслушиваясь в короткие гудки, Белов подумал — убить тебя надо.
Схватил ключи, вышел из кабинета, стараясь не спешить. Южная — это был центр города, вообще не рядом, и как Фишера там «забрали ночью», он даже предположить не мог. По-хорошему, стоило бы позвонить туда, выяснить, что к чему, но Белов чувствовал, что не справится с таким простым делом — не сумеет говорить спокойно, не сумеет толково сложить два и два.
Слепив наспех какой-то отмаз, он торопливо вырулил за ворота.
Что там такое у него стряслось — хулиганка, драка, трава? С чьей-то хаты забрали?
Блядь, думал Белов. Блядь.
Отдел на Южной был образцово-показательным, новеньким, не то, что их районная дыра. Еще бы — центр города, как иначе. Белов припарковался напротив похожего на игрушку КПП. Проезд закрывал леденцово-полосатый шлагбаум, окошко будки было сработано из добротного металлопластика. У них, на Цветкова, и КПП-то никакого не было — только гнутые металлические ворота, которые чаще всего бросали открытыми.
За пультом дежурного хмурый сержантик листал какие-то бумаги. Белов показал ему свое удостоверение, кое-как с пятого на десятое объяснил в чем дело и даже сумел ни разу не споткнуться на слове «племянник». В дежурной части как раз сдавали смену, утренняя суета на Южной ничем не отличалась от такой же суеты в их отделе — звонил телефон, ходили люди, переговаривались, кого-то искали. Сержантик долгим взглядом изучил удостоверение, глянул в журнал регистраций. Куда-то позвонил.
— Да, говорит, Фишер его фамилия. Фи-шер. Ага, ночью задержали. — И, покосившись на Белова, спросил: — Какого, говоришь, года? — Белов ответил. Дежурный покивал чему-то в трубку, потом сказал: — В третий кабинет зайди. Туда, направо.
В третьем кабинете его встретил высокий опер в чине капитана — не проспавшийся, усталый, с расплывшимися на форменной рубашке пятнами пота. Похоже, дежурство он уже сдал и как раз собирался уходить. Назвался старшим смены, тяжело потер переносицу. Кивнул Белову на стул.
— Кофе не предлагаю, некогда. Так ты откуда, говоришь?
— С Цветкова, из четвертого. — Белов полез за удостоверением, но опер махнул рукой.
— Кто он там тебе, племянник?
Белов кивнул. Почему-то представилось, что сейчас этот усталый смурной мент скажет, что Фишера взяли за хранение в особо крупном или за драку с тяжкими телесными или за что-то похожее, иначе зачем вообще эта сцена в кабинете, что за херня, вывели бы в фойе, влепили поджопник для скорости, делов-то.
Капитан глянул на него изучающе, вытянул из стопки два листа. Белов посмотрел: два протокола — задержание, правонарушение. Ага, административка, мелкое хулиганство, отлично, ну.
Зная Фишера и его повадки, Белов мог предположить, как он отреагировал на внезапный патруль и что им сказал, парни психанули, вот и забрали, случается. Но дальше-то что, подержали, потрясли, штраф содрали. А тут — протоколы, правонарушение, задержание, блядь, все не как у людей. У них, на Цветкова, за такое и не брали-то почти никогда — все рожи местные, все свои, а если левый кто попадался, обычно рассчитывались сразу, и все. Но, понятно, чужой монастырь, чего уж. Главное, ничего такого, с чем нельзя было бы разобраться.
Но капитан не спешил — похоже, Белову следовало что-то узнать, прежде чем он получит своего «племянника» и укатит с ним восвояси.
— Племянник, значит, — повторил он и заметно поморщился. — Тут дело такое, понимаешь. Его на проспекте взяли, ну, во дворе. Отлить зашел, а у ребят этот двор как раз в маршруте.
Белов хмыкнул. Понятно, в маршруте, что на людном проспекте-то смотреть — никто не ссыт возле стен, не бухает под фонарями, не курит и не ебется, только зря протелишься и ничего не заработаешь. Хотя, конечно, хер знает, может, у них тут действительно культура. Похуй.
— И что? — поторопил он капитана.
— Ну и с нарядом у него там какой-то конфликт возник.
Белов понемногу начал понимать, куда тот клонит. Еще бы — конфликт. Ох ты ж, бля. А уж если пьяный был...
Белов вздохнул.
— Сильно... отконфликтовали?
Капитан похрустел пальцами, отвел взгляд.
— Умеренно. Нервный племянник у тебя, погорячились, конечно. С нарядом я разберусь, как положено, ты не думай, если что — сразу мне звони. Вот номер. — Белов взял желтый стикер с номером мобильного. — Скажу, сейчас приведут.
Белов поднялся. Встречаться с Фишером в этом кабинете, на глазах у этого капитана, ловить на себе его сощуренный взгляд он был не готов. Да еще и оценивать на глаз степень «конфликта», словно проверять, насколько сильно сосед подпортил твою вещь — твоего нервного «племянника» — это все очень напрягало.
— Я на крыльце подожду.
Капитан пожал плечами. Попрощались.
На самом деле, это все была фигня, главное, что не стряслось ничего по-настоящему серьезного, и в коридоре Белов позволил себе перевести дух. Он только теперь понял, какой неподъемный камень свалился с души.
Подумал: да уж, радостно. Действительно, фигня какая, отметелили, блядь, в темном дворе — главное, не в чужой же постели кувыркался, так? И сам отвечал, сжимая зубы — нет, сука, не так. Я все утро думал, что его убили в подворотне ради двух сотен — да что угодно вообще. По сравнению с этим ночь в отделе и пара синяков — хуйня полная.
На ступеньках он закурил, рассматривая хмурое небо. Внезапное облегчение — словно с груди сняли бетонную плиту — перерастало в досаду. Какого хера он вообще куда-то поперся на ночь глядя, ничего не сказал, не предупредил? Зачем таскался пьяный по центру, с кем успел набухаться?
Фишер появился минут через пять — неслышно спустился, встал рядом. Шагал он тяжело, но не хромал, шел прямо. Достал сигарету. Белов повернулся, жадно посмотрел: куртка цела, но грязная, штаны — тоже. Левый глаз опух, заплыл чернотой и, кажется, совсем ничего не видел. Губа была разбита, шея сбоку оцарапана, почти счесана. Кулаки непроизвольно сжались. Он знал, что сделает тот капитан — выберет стрелочника или тот сам вызовется, наорет на него и навесит месяц дежурств «в усиленном режиме». Он сам так наказывал, и его так наказывали — не новость. Если будет в особо херовом настроении, еще и премии лишит. Все. Разобрался.
Вдох получился шумным, хриплым, страшно захотелось вернуться и сказать — очень тихо: знаешь что, капитан, передумал я. Дай мне координаты этого вашего деятеля, я сам с ним поговорю, на том и разойдемся.
Белов два раза медленно моргнул, поморщился. Говорить такое надо было сразу. Для того капитан и предложил дождаться Фишера в кабинете, сразу все увидеть, сразу напороться на его разбитое лицо и расставить все точки, а он ушел — и, значит, дал понять, что вопрос снят.
— Поехали, что ли, — сказал Фишер.
Белов оглянулся на двери отдела и шагнул с последней ступеньки.
В машине Фишер полез в карман, нашел нафтизин. Сумки у него с собой не было. Запрокинув голову, закапал в нос, посидел так секунд десять. Потом достал телефон и тут же его включил. Набрал кого-то. На другом конце, видно, сразу начали говорить, не дав вклинить ни «алло», ни «привет». Ждали. Потом Фишер все-таки спросил:
— Во сколько? А, ясно. Так вы домой мне не додумались позвонить? Никто не звонил? Фу, слава богу. Не-не, нормально все. В отдел забрали, щас вот выпустили. Да живой, ну. Ага, бывает. Все, давай.
Убрав трубку, Фишер тяжело откинулся на подголовник, потер запястья — под правым рукавом мелькнула красная полоса. Белов сжал руль.
— Помнишь что-нибудь? Куда тебя вообще хер понес?
Фишер помолчал, глядя перед собой, но все-таки ответил:
— На днюху к товарищу одному позвали, спонтанно вышло.
— Спонтанно, блядь, — передразнил Белов.
— А праздновали они в «Точке», клуб такой на проспекте. После собрались к одному там, на хату, народ по пути в магазин завернул, вот тут не очень помню. Ну, как мне сейчас рассказали, — Фишер кивнул на телефон, — вышли потом, а меня уже хуй есть. Я вроде поссать пошел, там рядом с магазином арка. Я туда. Ну а дальше эти нарисовались. Бля...
Он вжался затылком в сиденье, зажмурил здоровый глаз. Белов видел, как вздрогнуло горло, Фишер поднял руку к шее, но тут же отдернул — царапины.
— Слава богу, домой никто не позвонил, а собирались — меня ж нет и телефон отключен, хэзэ, что случилось.
— А с этими ты чего не поделил? Ну, сунул бы денег, сотни три в самый раз, и развлекался бы дальше.
Фишер потрогал разбитую губу.
— Как у тебя все просто, красота. Сунул денег, вежливо попросил отпустить, тебя так же вежливо отпустили... бля! — Едва начавшая подсыхать трещина снова открылась, выступила кровь. Фишер осторожно потрогал губу языком.
— Выступать начал?
— Не успел. Они когда подошли, я как раз отливал. Один мне руку на плечо положил, я и повернулся. Ну и... спрятать не успел, короче.
Белов почувствовал, как брови у него ползут вверх, а глаза, делаются круглыми, как у совы.
— Погоди, так ты его...
Фишер непонятно булькнул — то ли кашлянул, то ли засмеялся. Прижал ладонь ко лбу.
— Ага. Прямо очередью от живота, жаль, что не насмерть.
Все, дальше можно было не рассказывать. Суть, так сказать, конфликта была ясна.
— Блядь, я же не нарочно.
Белов только головой покачал.
Дальше ехали в тишине, каждый думал о своем. Фишер, прикрыв глаза, делал вид, что дремлет, или правда задремал. Очень хотелось его обнять — просто обнять, и чтобы он смог заснуть по-настоящему. Одновременно Белов злился, но уже сам не знал на кого — на Фишера, на себя, на долбаного опера с Южной. На всех сразу — и ни на кого в отдельности. Раздражение бродило, запертое в груди, и выплеснуть его было некуда.
Когда до дома оставалось всего ничего, Белов не выдержал:
— Ты понимаешь, что он мог из тебя инвалида сделать? Прямо там, во дворе, и не тащить ни в какой отдел — отмудохать в мясо и по-тихому свалить всей шоблой.
Фишер кивнул.
— Так чо, может, мне ему спасибо сказать?
Похоже, не только Белова дергало изнутри — и он откуда-то знал, что ни один из них не остановится первым. Не в этот раз.
— Думать башкой прежде чем куда-то идти и что-то делать.
Фишер снова кивнул — словно соглашался с чем-то своим, известным только ему.
— Он, знаешь, так и собирался, как ты сказал — если бы его не остановили. Они там втроем шакалили. Чмо, блядь, колхозное.
Белов ухмыльнулся.
— Что поделаешь, среда такая.
Фишер скривился.
— Всегда знал, что хуевая среда.
— А тем, кто головой не думает, им все хуево. Только с ними почему-то такая поебень происходит, ни с кем больше, не обращал внимания?
— Да, — кивнул Фишер. — Я, конечно, сам виноват, что у кого-то есть безнаказанная возможность меня пиздить. Или шантажировать.
За деланным спокойствием тона Белов не заметил, что спина у него прямая, словно он проглотил палку, и голос обрел морозную четкость, как будто от льдины отлетали острые куски.
— Ну что, — продолжал Фишер, а Белов все еще не чуял подвоха, не понимал, что стычка уже вышла за рамки обычной грызни. — Я все усвоил, спасибо дяденька. Буду думать головой, прежде чем связываться с определенной... средой.
Во двор Белов влетел на такой скорости, что тормоза взвыли. В подъезд они вошли вместе, но Фишер на него даже не посмотрел — сразу пошел наверх.
Белов тут же пожалел, что не сдержался. Шагнул следом.
— Слушай, у меня есть...
Даже не обернувшись, Фишер сказал — тихо, но так, что он расслышал каждую букву:
— Да пошел ты.
Белов замер на нижней ступеньке. Через грудь пронесся сквозняк, и он с липким недоумением понял — ну вот, кажется, совсем все.
Он вернулся на службу, кое-как дожил до конца дня. После засел с ребятами в ближайшей пивнухе и зачем-то тянул, тянул время. Домой возвращаться не хотелось — при одной мысли о собственной квартире воротило.
Машину пришлось бросить возле отдела и вызвать такси. Он тяжело рухнул на пассажирское сиденье, назвал адрес и отчетливо понял, что нагрузился куда сильнее, чем следовало. Желудок сводило от ерша, голова болела, и стоило остаться в одиночестве, настойчиво полезли мысли о Фишере.
Сначала Белов говорил себе — хуй с ним. Побесится до завтрашнего дня, проспится, отойдет. Конечно, хорошего в этой последней странной стычке ничего не было, но и считать ее концом света не стоило. Он так себе говорил и понимал, что это чушь. Все было очень плохо — хуже не придумаешь.
Возле дома Белов первым делом глянул на его окна — темные. «Альмера» стояла на месте. Почему-то вспомнился Фишер, каким он видел его сегодня минут за пять до размолвки — грязный, усталый, с заплывшим глазом. Конечно, ничего нельзя придумать лучше, чем рассказывать человеку в таком состоянии, насколько он неосторожный идиот и сам виноват.
Не заходя в подъезд, Белов достал телефон, потыкал в кнопки. Начало первого. Просто нужно было подняться к нему и помириться. Положить уже конец всему этому говну — по-настоящему.
Февральский ветер забирался под воротник, с карнизов звонко капало — еще вчера город накрыло оттепелью. Белов поежился. По-хорошему, сегодня все же не стоило его трогать, тем более сам Белов себя чувствовал паршиво.
Фишер сказал утром: пошел ты.
Он быстро вдохнул — воздух был колючий, влажный, казалось, что вместе с ним в легкие просачиваются крупинки тающего льда. Повинуясь импульсу, нашел его номер, быстро нажал на вызов, чтобы не дать себе передумать. Пошли длинные гудки — включен, на месте. Один, второй, третий — на одиннадцатом гудке Белов понял, что ответа не будет. Набрал второй раз. После третьего гудка звонок сбросили. Еще раз. Вот теперь отключен.
Воздух, только что отдававший льдом, превратился в горячий пар. Белов снова посмотрел на его окна — кухня, рядом балкон. Пусто, темно.
Минуя собственную дверь, он сразу поднялся на третий.
Желание сделать что-нибудь стало нестерпимым, обжигающим, казалось, что, если Фишер не откроет дверь, он запросто пройдет сквозь нее — даже не притормозит.
Фишер, конечно же, не открыл. Трели сменяли одна другую: короткие, длинные, средние, сердитые, протяжные, одинаково раздражающие, но Белов и не думал прекращать.
Спина взмокла под курткой, головная боль превратилась в металлический набат, в один сплошной звонок, — а за дверью стояла мертвая тишина.
Белов никак не мог понять, трезвеет он или, наоборот, пьянеет еще сильнее, остался только этот изводящий зуд — сделать что-нибудь. Немедленно вернуть Фишера, почувствовать его рядом, не дать уйти, не дать отступить еще дальше — ведь и так уже ушел дальше некуда.
Да пошел ты — он и не подозревал, насколько крепко отпечаталась в памяти эта фраза, до буквы, до мельчайшего оттенка. Тихий голос Фишера заполнил голову, жег барабанные перепонки, Белов держал его на привязи целый день, а теперь позволил сорваться.
Он себя почти не контролировал — звонил, звонил, ударил в дверь ногой, кулаком и не почувствовал боли. На секунду прикрыл глаза и за разъедающим звоном пропустил щелчок замка, а когда посмотрел — дверь была открыта. В проеме стоял Фишер, и лица было не разглядеть — комнатная лампа не добивала до прихожей.
Он впустил Белова внутрь, закрыл дверь и только потом сказал:
— Ты, видно, думаешь, что соседи тебя не узнали.
Белов жадно вдохнул — раз, другой, выдохнул:
— Да в рот их ебать.
Фишер отступил в комнату, он шагнул следом. Синяк разнесло еще шире, но отек заметно спал. В слабом желтоватом свете Белов разглядел, что веко теперь открывает узкую щелку, хотя, конечно, все равно выглядело жутко. Трещина на губе запеклась в уродливую темную кляксу.
Среди тесных стен запахло мокрой одеждой, сигаретным дымом и перегаром — даже Белов почувствовал, каким тяжелым сделался воздух.
Фишер отступил к матрасу, тяжело сел, уткнулся лицом в колени.
— Блядь, ты дебил? Я понимаю, что ты нажрался и тебе все похую, но мне-то с этим куда?
Слова получались невнятные, глухие, Фишер простонал как-то картинно, и Белов подумал: выделывается.
— Я поговорить хотел, погоди. — В голове все перемешалось, мысли прыгали одна на другую. Он боялся, что Фишер перебьет, не станет слушать или снова пошлет — коротко, страшно, не оставляя выбора. — Я что…
— Поговорить? — вскинулся Фишер. — Поговорить? Ты, блядь, хотел еще о чем-то поговорить? — Он вскочил с матраса, замер перед Беловым — напрягшийся, перекошенный, готовый к прыжку. — Что, никак не заснуть без отсоса, да? И в рот ебать тех соседей — и всех. А ничо что у меня рожа такая, не воротит? Простыней накроешь? Или вот раком еще можно поставить, ну чо я тебе рассказываю. Или, может, наоборот, тебя такое еще сильнее заводит, а? Ну?
Фишер дернулся, задрал подбородок, выталкивая лицо в слабый круг ночника.
— Будешь драть меня и рассказывать, что я сам виноват и сам заслужил, ага? Вот так?
Скривившись, он резко двинул бедрами, едва не задевая Белова. Тот поперхнулся, отступил — от Фишера, от его тела и искаженного лица била такая волна ненависти, что больно было даже стоять рядом. Он весь превратился в один плотный багровый сгусток. Белов почувствовал, как по вискам стекает горячий пот.
— А я тут, сука, спал, я не хочу, я хоть сегодня могу выспаться спокойно? Не хо-чу, что ты, блядь, сделаешь, тоже меня отпиздишь? Ну, а чо, среда такая, хули теряться.
Его черты распадались на части, текли, дрожали, то сужались, то делались шире — Фишер исчез. Уже было непонятно, кричит он или смеется, слова слились в один сплошной визгливый гул. Белов на автомате подхватил с подноса кружку — остывшего чая в ней оставалась примерно половина — и выплеснул ему в лицо. Фишер дернулся, замер, глотая воздух — вниз на футболку потянулись ржавые потеки, но он снова стал собой. Страшным, лилово-черным, растрепанным — но больше не тем чудовищем, которое Белов видел секунду назад.
Обними его, требовал кто-то, прижми к себе, прижми и не отпускай, не давай говорить, дергаться, орать, заставь слушать. Хотя бы просто обними, ты же знаешь его, знаешь уже, чего стоит этот пиздеж, в кои-то веки сделай что-нибудь правильно. Скажи ему — скажи, что на самом деле думаешь. Давай же, блядь, ну!
Но руки были тяжелыми, как две неподъемные гири, воздуха не хватало, света не хватало, куртка давила на плечи, сковывала тело. К горлу подкатила горькая тошнота.
Что он мог ему сказать? Только блевануть под ноги — и свалиться на пол, как мешок с дерьмом.
Фишер согнулся пополам, упершись в колени, попятился к матрасу.
Белов отступил к двери.
Кто-то в голове почти кричал — стой, долбоеб, стой, что ж ты делаешь, придурок. Ты же за этим пришел, давай, говори, ты же все гробишь.
И Белов сказал — только совсем не то, что собирался.
— Лечись, ебанутый. Я больных не трахаю.
Дверью он хлопнул так, что со стены откололась штукатурка — и глухо посыпалась на пол.
Белов подошел к окну, отогнул штору. Улицу затянуло матовой влажной дымкой — густая пелена качалась под фонарями, размазывала фары редких заезжающих во двор машин.
«Альмеры» не было. Он не знал, когда Фишер уехал — да и вообще запутался в днях, никак не мог сообразить, то ли еще вечер субботы, то ли уже воскресенье. В голове не находилось ничего, что могло бы подсказать. И «Альмеры» не было.
После того как вышел из его квартиры — кубарем скатился по лестнице, пальцы тряслись, ключ скользил и падал — Белов долго блевал в туалете, а потом снова напялил промокшую от сырости и пота куртку, и пошел в магазин. Возле дома была круглосутка, где ему всегда продавали — пусть говно, но все же.
Он засел на кухне, потом спал, потом снова пил, уже в комнате, и злые, выжженные кислотным неоном слова начали притупляться, стираться из памяти, из головы. Что он делал дальше, ухнуло в черноту, но судя по количеству бутылок на столе и на полу — продолжал бухать.
Кое-что еще оставалось — в холодильнике и почему-то на подоконнике в самом углу, прятал, что ли. Белов посмотрел — коньяк. Значит, все-таки, выходил из дома, но как, куда — ни черта не помнил.
Он налил в ближайший стакан, достал из холодильника пиво. Через пять минут повторил. Голову наполнил уже ставший привычным туман, мысли потеряли четкость. Это было хорошо, это было правильно — Белов все равно не знал, что делать. Понятия не имел. В редкие минуты просветления он вспоминал всякое — в основном почему-то его страницу вКонтакте, которую и видел-то всего два раза. Там его звали Витей, и это было странно, словно речь шла о ком-то незнакомом, постороннем — Белов его так никогда не называл. Еще была далекая-далекая, отстоящая на тысячу световых лет бумажка, где он впервые прочитал — Фишер Виктор Андреевич, тысяча девятьсот девяносто четвертого… Под лопаткой вдруг кольнуло — а ведь уже целый год прошел. Даже больше — тогда в это время он как раз носился по следу, ездил к нему во двор, искал, ждал, высматривал, еще сам толком не зная, зачем ему это все нужно.
Год. Год. Нет, не год — сто. Больше. Так много, что теперь Белов вообще не мог вспомнить, как он без него жил — куда ходил, что делал, с кем встречался. Вот же черт — год. Хорошая дата, законченный круг. Пришло и ушло, началось и кончилось, и Белов точно знал, что сам во всем виноват. Чего он вообще хотел от ситуации, в которую его поставил? Ясно же было — еще тогда.
Чтобы заглушить этот настырный адский поток, Белов по-быстрому накапал себе еще. Прикончил пиво, открыл следующую банку. Хорошо — быстрее — еще лучше — и снова в отруб.
Но отруба не получилось — минут через двадцать он уже зачем-то топтался в прихожей, надевал ботинки, выдирал из-под вешалки свалившуюся куртку. В кармане нашелся мобильник — темный, насмерть разрядившийся. Белов бросил его на тумбочку.
Уличный воздух слегка освежил, но он знал, что это ненадолго — выпитое бухло вот-вот догонит остальное и в голове снова потемнеет. Хорошо. Отлично.
Он шел наугад, петляя по слякотным дворам, оскальзывался, обходил лужи, но ухитрился ни разу не упасть. Коньяк делал голову дурной, не своей, но в глазах все не мутилось и тело подчинялось — и двигалось.
Возле какого-то гаража остро захотелось лечь на снег, прижаться щекой к колючей зернистой каше и закрыть глаза. Идти было некуда.
Белов обогнул пару домов, кое-как осмотрелся в мутном тяжелом тумане, остановился возле подъезда. Сел на скамейку, снова посмотрел. И с тяжелым удивлением понял, что это Антонов двор — и подъезд тоже его.
Стряхнув с воротника капли влаги, он медленно поднялся. Открыл ободранную металлическую дверь — домофона не было. То ли Антон его постоянно ломал, то ли его клиентура — из кнопочных гнезд проглядывала мертвая электронная начинка.
Запинаясь об каждую ступеньку, Белов поплелся наверх. Ноздри забивала едкая кошачья вонь.
Антон открыл сразу — прищурился на слепую подъездную лампочку, уперся взглядом в Белова, явно не узнавая. Из-за приоткрытой двери плыла музыка, чем-то похожая на ту, что постоянно слушал Фишер, в коридоре было темно — не похоже на привычный Антонов бардак. После того, как он припер Фишера к стене теми проклятыми коробками, он к Антону больше не ездил — ни с Кожиным, ни с кем-то еще.
Антон снова прищурился, потом взгляд сделался попроще — узнал.
— Здорово, — кивнул Белов.
Антон цепко оглядел его, выхватывая все сразу — распахнутую куртку, кривой воротник свитера, торчащую снизу футболку. Молчал выжидательно, но Белов тоже молчал, и поэтому Антону пришлось все-таки начать.
— Ваши неделю назад заезжали, — сказал он. — Хорошо у меня все. Или ты решил… в частном порядке?
Антон не приглашал его в квартиру, дверь держал наполовину прикрытой, говорил через порог. Белов смотрел на его нескладную фигуру и думал — а если Фишер сейчас у него?
Дверной проем закачался, захотелось зажмуриться.
Из глубины квартиры послышался женский голос:
— Антош? Чего там, ты скоро? — В коридоре мелькнула белая футболка, смазанное темнотой лицо.
— Скоро, — не оборачиваясь, ответил Антон. Снова спросил: — Так чего тебе?
Белов хрипло прочистил горло. Как можно было ответить, чего ему, если он и сам не знал?
— Ничего. Я… в частном… порядке.
Антон смерил его долгим внимательным взглядом — «держал» его лицо, не давая отвернуться, моргнуть, отступить, словно изучал. Потом опять прищурился и сказал:
— А-а… Так ты и есть у нас сантехник. Вон оно что.
Белов решил, что ему послышалось спьяну.
— Не понял.
Антон махнул, переступил порог, осторожно прикрыл позади дверь. Откинулся на стену. Поморщился, словно надкусил лимон.
— Его тут нет.
Белов сглотнул.
— Кого?..
— Фишера. Да не кривляйся, не рассказывал он мне ничего. — Скрестив руки на груди, повторил: — Нет его. Ты же его ищешь?
Белов помотал головой.
— Я сразу понял, что нет.
— А что тогда?
Он все-таки позволил себе зажмуриться, потому что сердце колотилось в груди до спазмов, до тошноты. Нужно было сказать «ничего» и уйти. Нужно было вообще сюда не приходить. Он совсем, совсем слетел с катушек.
Прикинув что-то, Антон вдруг распахнул дверь, отступил в прихожую.
— Заходи.
Снова возник призрак в растянутой футболке до колен — Белов увидел длинные волосы, острые скулы.
— Тош?..
Антон кивком указал Белову на кухню, сам повернулся, обнял девчонку, повел в комнату, склонившись к растрепанной макушке.
— Извини, тут важный момент. Подожди минут десять, ладно? Я сейчас.
Белов, вытирая стену, ввалился на кухню. Сел. Вдруг четко осознал, где он — у Антона, у того самого Антона, который барыжит на весь район, с которым раньше у него был разговор короткий, и тот исключительно по делу. И что он здесь делает, и как тут оказался, Белов понятия не имел.
Это был тот Антон, к которому Фишер почему-то испытывал странную привязанность. Тип с каким-то вечно ускользающим лицом.
Антон вернулся с темной высокой бутылкой, ногой выдвинул из-под стола вторую табуретку, закрыл дверь. Музыку все равно было слышно — она просачивалась в невидимые щели, кралась вдоль плинтусов, вползала под дверь.
Белов опустил локти на стол, потер лицо ладонями.
Антон достал откуда-то стакан, налил до половины. Жидкость из бутылки оказалась пахучей, карамельно-темной, густой. Добавил воды из чайника. Сел напротив.
— Пей.
— Что это? — тупо моргнул Белов.
— Пей, не ссы. Легче станет.
Белов понюхал — запах был тяжелый, лекарственный, то ли настойка какая-то, то ли ликер неясного происхождения. Сделал глоток. Жидкость оказалась на удивление теплой, может, из-за воды, и очень крепкой — сразу обжигала язык до онемения, лишала чувствительности горло.
Антон сказал:
— Да уж, забавно.
Выпив все, Белов опустил стакан на край. Внезапно действительно стало легче — в голове прояснилось, но как-то странно: назойливая тяжесть отступила, все вокруг потемнело, сгладилось, приобрело округлость и больше не резало взгляд. И главное — несущееся галопом сердце успокоилось, притихло, подчинилось голове. Белов сглотнул, посмотрел на Антона — тот сидел и разглядывал его в упор, ничуть не стесняясь.
— Ты же хорошо его знаешь, — заговорил Белов. Вообще-то он понятия не имел, что собирается говорить, но теперь это почему-то ни капли не беспокоило. Музыка ползла, ползла, затекала в кухню — со всех сторон.
Антон коротко ухмыльнулся.
— Знаю.
Белов кивнул. Антон аккуратно сдвинул стакан к середине.
— Его нельзя не любить, да?
Белов снова кивнул и вдруг произнес — или кто-то произнес его голосом:
— С ним тяжело.
Антон хмыкнул.
— Еще бы. Ты хочешь, чтобы я тебе что-то сказал?
Белов пожал плечами. В его голове словно поселился кто-то другой — а он сам наблюдал со стороны.
Антон пытливо глянул исподлобья, снова тронул стакан. А потом заговорил — и голос его вдруг обрел неестественное эхо, словно звучал откуда-то из глубины. Из колодца или из вентиляционной шахты.
— С ним тяжело, это ты верно сказал. Представь себе книгу — ее невозможно читать. Она бестолковая, запутанная, сюжет скачет с одного на другое, большая часть текста — полная бессмыслица, чушь. Если во все это вчитываться и пытаться найти смысл — заболит голова. Я не шучу. Но в ней есть один кусок — не очень длинный, на пару глав, который охуенен — там все ровно, ясно, там живые герои и настоящая любовь. На этом куске отдыхает голова и глаза. Допустим, автор писал всю эту поебень ради одного-единственного куска. Смотри, смотри, представь: все остальное нечитабельно, помойка и хаос, но вот этот один кусок, из-за которого все писалось — он потрясающий. Он прекрасен так, что ради него можно простить любые огрехи, можно даже забить на корявый финал. Да на все. Та часть, которая совершенна, к сожалению, не может существовать без остального, тогда не будет истории, но это уже не важно. Эта часть есть. Ее видно. От нее невозможно оторвать глаз.
Антон замолчал, задумался, как будто к чему-то прислушиваясь. Белов потряс головой — в кухне вдруг сделалось почти совсем темно. В этом полумраке маячило лицо с неестественно светлыми глазами, Антон слушал что-то, чему-то кивал — быть может, музыке, странной мелодии, зазвучавшей, казалось, сразу отовсюду. Джаз. Или не джаз.
— Да, — медленно кивнул Антон. — Закат — охуенная штука, любовался бы вечно, смотрел и смотрел. Но у всего есть своя северная сторона. Понимаешь?
Белов облизал пересохшие губы.
— Не очень. — Голос почему-то упал до шепота.
— Ты придаешь слишком большое значение хуйне и не видишь главного.
— А... ты?
Антон ухмыльнулся. Музыка стала еще громче, а его голос — тише.
— А я вижу. Ради совершенства одного куска я прощаю и принимаю недостатки остального. Он — твоя северная сторона заката.
Белов завороженно смотрел на искаженное сумраком лицо. Это был какой-то другой Антон — будто и не он вовсе.
— Врубаешься?
— Нет.
Антон вдруг резко выпрямился, свет сделался ярче, музыка забилась обратно в щели, все стало обычным, прежним, каким было, когда Белов только вошел сюда.
— Ну и хорошо. Успеешь еще. — Голос звучал буднично, ровно, никакого эха, никаких монотонных, тревожных нот.
Белов встряхнулся, словно просыпаясь. Антон недовольно покосился на лампочку:
— Блядь, заебали перепады напряжения. И с проводкой пиздец.
Белов встал. В голове окончательно посветлело.
Антон поднялся следом.
— Да дома он небось, спит. Я его вообще с прошлой недели не видел. Иди и ты, проспись нормально.
Белов понял вдруг, что действительно жутко устал. Ноги почти не держали — но теперь не от выпивки, а от похмельной слабости.
— Дойдешь или такси вызвать?
— Дойду.
Антон кивнул. Подмигнул быстро и коротко — Белов в следующую секунду уже подумал, что ему это показалось.
Проспавшись, Белов в полной мере почувствовал, как это — опустился. Он хорошо помнил, что был у Антона, хотя детали этого визита смешались и частично стерлись, но что он у него был — сидел на кухне, разговаривал — это он помнил хорошо. Что-то он там плел, гнал непонятную ересь, но это было не важно — важно, что Белов к нему пошел. Сам. В такой штопор себя загнал, что вот — даже к Антону поперся. Белов знал, что он его не спалит — дело касалось Фишера, а Фишера Антон берег. Но с этим нужно было как-то дальше жить — он думал, и мысли шли отстраненно, по касательной, не задевая толком ни головы, ни сердца.
Опустился. Нужно жить. Что-то делать. Успокоиться. И сам же подводил итог — плевать.
В понедельник поехал на работу, сразу отметив, что «Альмеры» как не было, так и нет. Вечером нагрузил себя всякой домашней возней — постирал, убрался, привел в порядок кухню. К телефону запретил себе прикасаться — как алкаш в завязке запрещает себе смотреть на бутылочные полки. С этим и заснул — с тупым онемением в груди, с чувством, что медленно, но неотвратимо сползает в пропасть, и нет сил держаться. Снова — плевать.
А утром Белов услышал, как скрипнула подъездная дверь, сердце противно дернулось, он бросился к окну и не ошибся — Фишер.
Замотанный шарфом и в старой куртке, со своей сумкой через плечо, он шел к машине. Значит, все-таки вчера приехал.
Белов дернул куртку, схватил с тумбочки ключи — даже не успел подумать.
Запустив мотор, Фишер чистил лобовое стекло — за ночь двор присыпало снегом, слегка подморозило. Увидев Белова, стряхнул снег с перчаток, выпрямился. Опустил щетку на капот, закурил.
Он был без шапки, растрепанный, словно не до конца проснувшийся. Белов посмотрел: глаз открылся, синяк стал коричнево-зеленым, но это мог оценить только тот, кто видел его раньше, в целом все равно выглядело жутко.
Мотор урчал, от дыма его сигареты першило в горле.
— Слушай, давай замнем вопрос, — начал Белов. — Я извиняюсь. Извини. Ладно?
Фишер без выражения прищурился.
— Какой вопрос?
Это было невыносимо. Единственное, что он чувствовал во время таких препирательств — бессилие. Как будто продирался через километры заваленного буреломом леса. Действительно, а какой вопрос? Дурацкую перепалку про «среду» и советы думать головой? Но это же глупо, это же мелочь, по большому счету, — из-за чего тут вообще ссориться? Просто объяснить, что испугался, переживал, ревновал, — а потом увидел его с этими синяками, и все, понесло, сорвался. Ну, дурак. Да, объяснить, но как это сделать ярким мартовским утром возле машины, когда Фишер спешит, а он, Белов, топчется на месте, как полный кретин.
— Давай, рожай быстрее, — бросил Фишер — равнодушно. Безжалостно. — Опаздываю.
И дело было не в идиотской ссоре, не в том, что заявился ночью пьяный и трезвонил на весь подъезд, а в том, что просто все летело кувырком.
Фишер кивнул.
— Понятно.
— Вышло тупо, — Белов упрямо старался выдавить из себя что-то осмысленное. — Я, в общем, хуйню тогда сморозил, извини. И потом, ночью тоже погано получилось. Я об этом.
Звучало настолько жалко, что он самому себе был омерзителен.
— Я реально спешу, — Фишер подхватил с капота щетку, выбросил бычок. — У меня пара через двадцать минут. Если это все…
— Ты вечером приедешь?
— Пока не знаю, — поморщился Фишер. — Видно будет.
Открыл дверцу, сел — сбежал.
Белов заставил себя не смотреть вслед. Постоял с полминуты и пошел домой.
Вечером Фишер появился, но не один. Белов наблюдал, как в сгущающихся сумерках из «Альмеры» вышел какой-то пацан и две девчонки, у одной был объемистый пакет из остановочного супермаркета.
Было ясно, что звонить ему бессмысленно, только нервы трепать. А завтра? Завтра он вообще мог собрать манатки и перебраться обратно на бабкину квартиру, почему нет, он из дома никогда особенно не бежал. У него есть машина. У него есть какие-то ему одному понятные мотивы, впрочем, Белов не обольщался, скорее всего, мотив был только один — полный разрыв. С ним, с Беловым. И чтобы не выяснять отношения и не слушать его нытье, с каждым разом все более невнятное, он просто предпочтет молча скрыться. Он и этих-то сегодня небось пригласил, чтобы избежать разговора, встречи.
Белов почувствовал, как дергается щека.
Фишер сейчас наверняка пил пиво — и смеялся, и болтал, и брал у кого-то из пальцев самокрутку — там, наверху.
Бессилие подстегивало. Дождавшись, когда окончательно стемнеет, он надел куртку и вышел из подъезда. Огляделся — никого. Окна горели желтым вечерним светом.
Он пару раз качнул «Альмеру», уперев ладони в капот, подергал водительскую дверцу — сигнализация взревела так, что даже воздух завибрировал.
Белов быстро вернулся в квартиру, отогнул оконную штору и стал ждать.
Комментарий к Части 4
В сцене с фильмом речь идет о картине Романа Полански «Пианист»
Часть 5
Музычка играла, Фишер возился на кухне, и еще долго бы не обращал внимания на сигнализацию, если бы Ланка не сказала.
— Вить, — позвала она из комнаты, — у кого это тачка так орет?
Фишер прислушался — судя по звукам, точно его. Из окна ничего не было видно.
Схватив зачем-то шапку, он выскочил в подъезд. Внизу выяснилось, что машина стоит, как и стояла, черт его знает, что там переклинило — он обошел вокруг, подергал дверцу, проверил замки — все было нормально. И только наткнувшись в подъезде на Белова, он сообразил, в чем дело. Как всегда, он ухитрился застать его врасплох, впрочем, это было неудивительно — в последние дни он не давал проходу, не давал вздохнуть, кидался на него раз за разом с упрямством бультерьера.
Фишер остановился, перевел дух.
Белов смотрел исподлобья, угрюмый, как всегда.
Хотелось выругаться — в голос. Язык уже чесался от рвущихся слов — злых и жгучих. А ведь он пообещал себе, что будет сдерживаться — никаких больше скандалов и подобной херни. Фишер уже принял решение и твердо собрался ему следовать — конец, окончательное все, как можно скорее. К чему теперь психовать, только нервы портить. И Белову тоже. Он принял решение, теперь дело было за малым — не пересекаться с ним до переезда, не давать возможностей для очередной стычки. Возможностей — в первую очередь себе.
А когда Белов сомкнул пальцы на его запястье, Фишер запоздало подумал — ну вот, попал. Нужно было не приезжать сюда — заночевать у бабушки, у Антона, где угодно, а потом, когда его не будет, вернуться за вещами. Но нет, затупил, понадеялся на авось.
— Зайди, — сказал Белов.
Фишер глубоко вдохнул, словно там, за дверью его ждала водная толща, мешок без воздуха, словно он нырял — и не знал, когда в следующий раз получится вдохнуть.
Зайди.
Щелкнул выключатель, лампочка неохотно осветила знакомую прихожую. В груди что-то пугающе сжалось, губы пересохли. Ноги сделались чужими, и цель была одна — чтобы Белов ничего не заметил.
Он заставил себя смотреть на его лицо — смотреть, смотреть, пропуская через голову каждую черту, выискивая… что?
Ничего нового, ничего странного — всегда был такой, хрен поймешь, что он там чувствует на самом деле. Проклятая рожа, по которой слишком часто хотелось пройтись кулаком — и плевать, что там дальше. Хотелось пройтись пальцами — просто прикоснуться, почувствовать подушечками грубоватые черты, неровную кожу, твердые выступы скул. Брови, две продольные морщины на лбу — этого хотелось ничуть не реже, чем ударить. Фишер очень четко представлял себе, как это будет, как он сначала коснется пальцами лба, обеими руками, осторожно, медленно, чтобы ничего не пропустить, потом ниже: переносица, щеки, нос. Губы. А потом… Он никогда этого не делал — ни разу.
Белов хрипло дышал рядом, сжимая его запястье — Фишер всем телом ощущал эту тяжелую хватку, и ноги совсем предавали.
Конечно — нужно было избегать встреч, как следует избегать — чтобы не сорваться в очередной припадок. Можно было сто раз сказать себе так, но правду не спрячешь — вовсе не поэтому. А из-за желания — только из-за него. Оно возникало бесконтрольно, вышибало дух, мешало думать — совсем. Оно сводило на нет весь проклятый самогипноз — и от здравых мыслей ничего не оставалось.
Лицо Белова маячило совсем близко, свитер пах знакомой смесью табака и парфюма, пришлось упереться затылком в дверь, чтобы отстраниться хотя бы немного.
Фишер заставил себя дышать — ртом, вдох-выдох, неглубоко, небыстро, шаг за шагом выталкивая себя из пропасти, возвращая в реальный мир.
Не смотреть. Не чувствовать. Не трогать.
Он начал говорить — без выражения, первое, что приходило в голову — слова были всегдашним способом удержаться на поверхности, страховкой, вариантом алиби. Слова были ненавистью, без которой никак не обойтись.
— Долбанутый. Совсем поехал. Вот ты у меня уже где.
Еще слова были спусковым крючком — по сути, ловушкой.
Белов резко притянул его к себе. Фишер ожидал боли в незажившей губе, но боли не было — поцелуи вышли настойчивыми, но осторожными. И рука забралась позади под свитер, другая взъерошила волосы на затылке. Возбуждение хлынуло знакомой волной — кровью в уши, тяжестью в низ живота, привычной тянущей болью, безнадежным цунами, которое он никогда не мог остановить. Можно было только открыться, ответить, позволить — он слишком по нему скучал. Ему не хватало — вот этого самого. Только траха.
Фишер сам расстегнул ремень, сам прижимался к нему и просил — глухо, унизительно:
— Быстрее.
А после осталась только злоба — на себя, на него, на весь мир. Ничего нового. Он ведь принял решение, — а выходило так, что мозг отказывал, тело отказывало, идя на поводу у члена.
Фишер оттолкнул его руки, застегнул штаны. Кое-как нашел сигареты. Он так боялся, что однажды не сдержится — совсем разучится сдерживаться — и коснется его лица, обведет пальцами контур, сдаст себя с потрохами, лишится остатков обороны. Какие-то рубежи еще оставались, еще было куда отступать — и делать это следовало скорее. И так затянул, а ведь прекрасно знал, чем все кончится. Расслабиться захотел, отпустить вожжи — и теперь огребал вовсю.
Белов смотрел на него — глаза казались совсем черными от расширившихся зрачков.
Там, за коридором, была знакомая до мелочей комната — неопрятная, пахнущая пылью и Беловым — стул, кресло, телевизор, шкаф, диван.
Нужно было спасаться.
Фишер вскинул руку прежде чем успел подумать — и ударил. Крепко, коротко, без замаха — прямо в переносицу. Хороший вышел удар.
Прежде, чем щелкнул замок, он услышал, как за спиной трещит вешалка.
Утром было так погано, что Фишер плюнул — отрубил орущий будильник и с головой накрылся одеялом. Встать оказалось задачей непосильной.
Сказывался недосып — в последнее время со сном творилось что-то совсем неладное, он подолгу ворочался, а когда все-таки забывался неглубокой дремой, начинала сниться всякая херня. Он бежал куда-то — то ли искал, то ли сам скрывался, не поймешь, картинки были осязаемыми, душными, изводящими и заканчивались резким пробуждением, за которым неизбежно ползла головная боль.
Может, к врачу сходить, вяло думал Фишер. Может, сотрясение, мало ли.
Но вместо этого он заваливался к кому-нибудь на всю ночь — так, чтобы можно было оправдать бессонницу и дома не появляться заодно. И тянул, и отмахивался, хотя мог бы свалить сразу.
Вчера веселье не получилось — вернувшись, он так и потух на своем матрасе, пока Ланка не тронула его за плечо.
— Вить, мы пойдем, поздно уже. Лешка такси вызвал.
Фишер только кивнул, даже не попрощался как следует.
Он спал и не спал — ворочался, обдумывая надвигающийся день. День, действительно, надвигался — неотвратимо, как сраный айсберг.
Когда он успел настолько сдать? После ночи на Южной все понеслось с такой скоростью, что даже удивляться сил не осталось. Фишер вспомнил, как давно, осенью, сам себе говорил — мне нужна передышка. Это была настоящая усталость, авитаминоз, собственный недогляд, который и привел его сюда — в эту квартиру, слишком близко к Белову. То, что он чувствовал теперь, больше напоминало ломку. Но завязывать было нужно — и уже не было необходимости повторять себе очевидные истины. Заигрался. С Беловым ему ничего хорошего не светило. Он это знал. С вещами и на выход — вечером он сюда возвращаться уже не собирался.
Фишер внезапно разозлился на себя — возни предстояло много, а после обеда он все-таки планировал попасть в Академию, нужно было вставать и браться за дело, не прятаться под одеялом, не жалеть себя и не рассчитывать, что все само как-нибудь уладится.
Он резко сел на матрасе. Включил лампу. Подождал, пока голова прочистится — хоть немного. Сидел так, мутно пялясь в одну точку, и долго не мог сообразить, обо что спотыкается взгляд — угол матраса, пол, плинтус, стена. И что-то мешало, там, возле стены — отвлекало, как заноза в пальце.
Фишер машинально наклонился, протянул руку — пробка. Обычная винная пробка, засохшая, желтая. Вино он пил очень редко. Вспомнилось, как на новый год, открывая шампанское, не удержался, все-таки тряхнул бутылку, и как Белов на него смотрел, когда пена полилась на лицо. За этим воспоминанием неминуемо полезли бы другие, разные, Фишер схватил сигареты, вышел на балкон — почти выскочил. Швырнул пробку куда-то в темноту. В горле першило — кажется, простыл.
Мороз хватал за голые предплечья, царапины на шее саднило, снова разболелась голова.
Над соседним подъездом горел фонарь, и это смотрелось странно — обычно с освещением во дворе была напряженка. Наверное, фонарная кнопка находилась где-то в самом подъезде, и жильцы самостоятельно решали — светить или не светить. Напротив стоял белый микроавтобус, и Фишеру на секунду показалось, что это скорая. Он глотал дым, он пытался успокоиться — присмотрелся внимательнее. Заурчал мотор. От задней части машины отделился силуэт с каким-то огромным ящиком в руках, и когда перекошенная тень достигла границы света, Фишер едва не выронил сигарету — человек тащил в подъезд крышку гроба.
Он, не мигая, смотрел на неповоротливый ящик, на белые рюши вдоль края и думал — там кто-то умер. Ночью, совсем рядом, за стеной кто-то умер.
Фишер захлопнул фрамугу. Озноб никак не желал уходить. Хотелось высунуться с балкона по пояс и посмотреть, что будет происходить дальше — пусть он и понимал, что ничего не будет. Самое большое — из машины выволокут еще и гроб, если раньше не достали.
И снова: кто-то умер. Вот так все и заканчивается — живые тебя закопают и забудут, и поздно будет выставлять счет, ты ничего не будешь требовать, хотеть, тебя просто не станет. Пустота. Из темноты — в пустоту, заебись перспектива. И ничего — ничего, чтобы взять с собой.
В голову пришла шальная мысль — он мог сейчас выскочить из квартиры, всего-то потребовалось бы взять ключи и обуться. Пробежать два этажа вниз. Позвонить. Белов дома, наверное, еще даже не проснулся. Он откроет дверь — заспанный, помятый, можно будет зайти, сказать что-то или не говорить, протянуть руку и…
Фишер пнул матрас, столкнул подушки, одеяло. Нужно было собираться.
Он сосредоточился на простых действиях — ноутбук, вешалки, матрас. Расстегнуть сумку, собрать одежду. Стойка. Обувь. Старался не смотреть по сторонам, не вспоминать, не думать. Не вспоминать. Это сейчас под ребрами мерзко тянуло, привычка, затейливый биохимический процесс, стоит уехать, банальное с глаз долой — и все забудется. А потом появятся другие дела, другие воспоминания, другие люди и вещи — все было просто, как дважды два.
Когда Фишер закончил, мазды Белова во дворе не наблюдалось — и, значит, можно было преспокойно все перетащить в машину. Пятнадцать минут от силы. Часы показывали половину десятого, он вполне успевал ко второй паре, но когда, наконец, сел за руль, поехал совсем в другую сторону.
Он не стал по привычке выуживать из-за дверной обивки запасной ключ — позвонил. Трель звонка улетела вглубь квартиры и вернулась щелкнувшим замком.
Антон уже был на ногах, подтянутый и деловитый — и уже в прихожей Фишер заметил, что в квартире все вверх дном. Возле обувных полок стояла туго набитая сумка, рядом — большой туристический рюкзак.
Сам Антон тут же скрылся в комнате. Присвистнув, Фишер пошел за ним.
Вещи были кое-как свалены вдоль стены, диван без привычных подушек и пледа смотрелся голым и жалким.
Колонки гнали какой-то из старых треков «Пятницы».
Антон нашел на подоконнике пепельницу, порылся в ящике стола.
— Ты прям чуял — я как раз собирался тебе звонить. Что с лицом?
Фишер коротко рассказал, а сам ошалело рассматривал комнату.
— Переезжаешь, что ли?
Антон выпустил дым.
— Вроде того. Завтра поезд.
— Погоди, куда?
Фишер опустился на скрипнувший диван.
— В Москву пока что. Тема одна есть, пока не хочу рассказывать, потом, если выгорит.
Из колонок, словно издеваясь, запела Махалия Джексон: я на пути в Ханаан, и если бы Фишер не знал наверняка, что Антон никак не мог этого подстроить — у него в плеере стоял вечный рандом — натянул бы ему сейчас на рожу капюшон. Почему-то стало холодно.
— Ты… серьезно?
Нет, он знал, что рано или поздно так и будет — с самого начала знал. Но к таким вещам никогда не бываешь готов — и никогда не бываешь готов к тому, что при этом почувствуешь на самом деле.
Антон кивнул. На этот раз перед Фишером был его художественный вариант — пугающе-красивое лицо и очень спокойная улыбка.
— Что, прямо вот так — завтра?
Антон великодушно прощал ему растерянную гримасу, которая, наверняка, выглядела очень глупо, тупые вопросы и полный раздрай в голове. Вложил в пальцы самокрутку, которую Фишер машинально сжал, хлопнул себя по коленкам.
— Именно. Как там? Не помню, откуда цитата — этот город слишком устал от нас. Хотел тебя попросить вечером заехать — комп забрать. Ну и вообще, может, что из рухляди пригодится.
— Так ты насовсем?
— Любой отъезд — насовсем. А дальше как получится.
Докурили. Разговор не клеился.
Вертя в пальцах зажигалку, Антон глянул исподлобья и превратился в Ваалберита. Кивнул в сторону компьютера.
— Смотри сюда, чо покажу.
Фишер перебрался ближе к монитору. Антон открыл страницу с городскими новостями, ткнул пальцем прямо в экран. Начал читать, изображая выговор телеведущего:
— Городской бизнесмен Илья Игнатов, благотворитель, хозяйственник, хуй поносный, бла-бла-бла, объявил, что строительство третьего торгово-развлекательного комплекса начнется уже этой весной. Выбрано место — территория, пролегающая между окружной со стороны Саратовской трассы и крупным жилым массивом — место фактически бесхозное и неухоженное. Когда-то там располагалась крупная лесопарковая зона, в обиходе — Трехзаводка, из-за территорий трех заводов, окружающих… Сейчас эти заводы давно уже не… Надеемся, кусок ранее ничейной земли теперь заиграет всеми красками благоустройства…
— Погоди, это они про нашу Трехзаводку, что ли? — перебил Фишер.
— Именно. В моем районе, в ста метрах от моего, блядь, дома. Каково? И сюда добрался, хер скроешься. Нет, надо валить.
Фишер покачал головой.
Антон сунул ему под куртку завернутый в бумагу пакет размером с сигаретную пачку, воткнул в портсигар три оставшиеся самокрутки. Помог стащить вниз комп. А когда Фишер уже садился в машину, вдруг сказал:
— Ко мне тут на днях твой сантехник заходил.
Фишер медленно захлопнул дверцу. Он сразу все прекрасно понял, и не та была ситуация, чтобы тратить ее на лишнее — пускаться в объяснения, тупить, изворачиваться. Спросил только:
— Зачем?
Антон пожал плечами.
— Хуево ему.
Фишер посмотрел под ноги. Он не знал, что на это ответить.
— Ладно, — вздохнул Антон. — Номер у меня пока остается старый, если буду менять — сразу сообщу. Ты же в Москву набегаешь периодически? Так что не потеряемся.
Фишер взялся было за ручку, но Антон вдруг схватил его за рукав — потянул, почти дернул — и обнял. Горло свело — и слова не получались. Он вдохнул запах его куртки, волос, торопливо отстранился. Антон вскинул руку, сжатую в кулак. А когда уже сделал пару шагов, вдруг обернулся — и снова это был Ваалберит — прищур, ухмылка, глаза, светлые, как мартовский снег вдоль обочин.
— Эй, Фишкер. Если тебе удалось выжать из темноты хоть каплю света, кто ты такой, чтобы от нее отказываться?
И ушел. Фишер хотел что-то сказать, крикнуть вслед, но сказать ему было нечего.
Он по десятому, наверное, кругу мучил Рахманинова — ранние пьесы вперемешку с первой сонатой. Нелли Вагановна сошла бы с ума, если бы сейчас услышала, как он играет до середины элегию ми-бемоль, бросает, берется за первую часть сонаты, снова возвращается к пьесам — никаких попыток понять, что-то найти, проникнуть в материал, одно издевательство и треньканье вхолостую.
За этим занятием и застала его завкафедрой Нечаева. Надо сказать, после юбилейного концерта ее отношение к Фишеру стало заметно теплее, хотя, конечно, студент, ошивающийся в аудитории после девяти вечера, вряд ли мог рассчитывать на какую-то теплоту.
— Ты чего тут сидишь? — округлила она глаза, заглянув в дверь. На ней уже было надето пальто — собиралась уходить. — Иду, слышу, играет кто-то.
— Репетирую, — вяло откликнулся Фишер.
— А ну быстро домой, ты что. Через час тут закроют все, будешь спать на банкетках…
Фишер опустил крышку и потянулся к куртке, которую забрал из гардероба заранее.
На самом деле все было из рук вон плохо — бабушку он так и не предупредил, что приедет сегодня, да еще и с вещами, потому его внезапный поздний приход мог означать только одно — неприятности. Не подумал заранее, да что там — он вообще не думал. День прошел, как в липком тумане — одно, другое, Белов, Антон, снова Белов. Сил не было собраться.
Он шел по гулкому полутемному коридору и прикидывал, что, может, и не самая плохая идея — заночевать на банкетках. Впрочем, думать о таком всерьез было глупо.
На лестнице выяснилось, что не он один припозднился — со второго этажа появился тот самый симфонический режиссер, который подходил знакомиться после концерта. Фишер уже забыл, как его звали, но приветливо кивнул и улыбнулся, а тот прямо расцвел — догнал на ступеньках, потряс за руку.
— Витя, вы так поздно репетируете? И тут еще рассказывают, что студенты у вас не стараются.
Фишер нацепил на лицо вежливую улыбку. На самом деле ему сейчас вообще ни с кем не хотелось разговаривать — даже на коротком отрезке между лестницей и стоянкой — а уж тем более с этим типом. Он тогда сказал Белову «дед», но больше слукавил — режиссер был подтянутый, моложавый и немного напоминал Тихонова в «Семнадцать мгновений весны». Раньше он, наверное, был очень даже ничего.
— А я вот к Григорию Андреевичу заходил и тоже задержался, — продолжал режиссер. Начал рассказывать что-то про сезонные планы в филармонии, про тесное сотрудничество с Академией, еще какую-то ерунду.
Фишер считал ступеньки и думал — а, может, правда закрутить с этим дедом? Он наверняка сейчас потащил бы его поужинать — что-нибудь умеренно пафосное с вином, потом к себе домой. Там бедолагу, конечно, хватит на один полноценный раз, потом придется слушать бесконечный треп — вон заткнуться никак не может. Он, Фишер, стал бы звездой в местной филармонии, дед наверняка нетребовательный и спокойный, может, пропихнул бы его на пару престижных конкурсов, чем черт не шутит, — а там уже дело техники. Какое-никакое, все же имя, поездки, востребованность. И неважно, что классическое исполнительство его в смысле карьеры ничуть не волновало.
Симфоническая развалина — и он. Широкая двуспальная койка, которая наверняка не скрипит, новые простыни, следы домработницы в квартире. Неловкие липкие прикосновения. Фортепиано в зале, цветы. Породистая кошка или собака. Фишер едва не расхохотался своим мыслям — действительно, такой сценарий годился разве что в плохие анекдоты по накурке.
Режиссер подумал, что Фишер улыбается каким-то его словам и продолжил болтать с еще большей живостью.
Они подходили к стоянке.
— Витя, может, вас подвезти? Вам далеко добираться?
Но Фишер уже не слушал. На стоянке было пусто, от силы четыре машины и одна из них — старая мазда Белова. Бежать было некуда.
Дверца открылась, и появился сам Белов — знакомый силуэт в распахнутой темной куртке, он не прятался — ждал.
Вдоль позвоночника пронесся обжигающий разряд. Плетущийся рядом режиссер превратился в свинцовый довесок, в противопехотную мину — черт знает, что там у Белова на уме. С него станется и руки распустить — и так ведь сейчас на взводе. Одновременно мысли взлетали от апатичной пустоты до ярмарочного шума: за каким хером приехал, чего снова хочет, опять ведь начнет, ну неужели просто нельзя оставить его в покое. И еще — приехал, вот он, не слушай, не смотри. Приехал.
— Витя, вы слышите?
Фишер недоуменно покосился на режиссера.
— А? Нет, спасибо, я на машине.
— Ну, всего доброго вам. — Дед снова пожал ему руку, посмотрел долгим взглядом на Белова, ждущего возле «Альмеры».
— Да. Да, всего доброго, — эхом повторил Фишер.
Молча пискнул замками, распахнул водительскую дверцу. Белов так же молча сел на пассажирское сиденье. Свет в салоне Фишер включать не стал — не хотел показывать, что у него творится с лицом. Тишина длилась долго — минуты три. Фишер оперся на руль, опустил голову на руки. Белов шумно выдохнул. Потом спросил:
— Все, значит?
Фишер не ответил. А что было отвечать? Ясно и без того. Несмотря на все свои недостатки, идиотом Белов никогда не был.
— Помнишь, тогда летом ты спрашивал, посадил бы я тебя или нет? — Фишер отметил, что голос его звучит плохо — очень. Тяжелые, глухие интонации, как будто слова давались с трудом, и было больно вдыхать. — Так вот, посадил бы. Или… не знаю, может, выебал бы там, в кабинете. Что-нибудь сделал обязательно. Я совсем головой подвинулся тогда, ну ты сам видел. Со мной такого никогда в жизни не было. — Белов коротко тряхнул головой, потер лоб. — И дело бы завел, и закрыл бы тебя, потому что… В общем, мне тогда на тебя было плевать, мне тебя трахнуть хотелось, а остальное не волновало. Совсем.
Фишер чувствовал, что сердце бьется с перебоями — и при этом скачками движется вверх по пищеводу, обжигая желчью горло. Заткнись, хотелось ему сказать. Заткнись, не продолжай, не хочу ничего знать, уже не важно.
Но Белов продолжал.
— Я понимал, что это ничем хорошим не кончится, уже тогда понимал, но, честно, если бы мне сейчас предложили пройти все это заново и снова сделать выбор — я поступил бы точно так же. Ты мне нужен, с ума сойти как нужен. Я не могу без тебя. Я… я… — Голос его почти сорвался, Белов сделал паузу — Фишер снова услышал, как тяжело он дышит. — Но теперь это уже не твои проблемы, не парься. Я не могу стать другим.
Фишер помолчал с полминуты. Потом сказал без выражения:
— Я тоже.
Белов смотрел перед собой. Потом вдруг усмехнулся.
— Блядь, да я даже извиниться не могу. Потому что я ни о чем не жалею. Это неправильно — но я сделал бы так же.
Короткие фразы повисали в воздухе. Фишер сидел — и сил не было даже найти сигареты.
— Я не знаю, что тебе сказать. Я не умею ходить на поводке, никогда не научусь, и желания нет учиться, и когда-нибудь мы, нахер, просто поубиваем друг друга. Лучше покончить с этим сейчас, дальше будет только хуже.
Белов сигареты все-таки достал. Щелкнул зажигалкой.
— Я бы поискал компромиссы, но теперь это, кажется, уже неважно. Ты вроде все решил.
— Решил, — кивнул Фишер.
Белов как будто хотел сказать что-то, но в последний момент не стал. Коротко сжал его предплечье, и Фишеру показалось, что он через куртку чувствует, какая горячая у него ладонь.
Он ждал, когда мазда вырулит со стоянки и скроется за ближайшим поворотом, потом просто сидел, опустив голову на руки, потом все-таки завел машину.
Дорога была плохая, скользкая, то и дело заносило, хотя Фишер плелся едва ли не черепашьим шагом. Он не знал куда ехать. Просто бесцельно кружил по городу. Врубил на всю музыку, чтобы оправдать головную боль. Улицы были некрасивые, хмурые, пустые — и в свете фонарей казались еще более неприветливыми.
Через полчаса пошел снег.
Фишер вырулил на виадук, впереди мигнула фарами какая-то невнятная девятка — водитель вилял из ряда в ряд, то сбрасывал скорость, то снова газовал, и стоило Фишеру подумать, что лучше убраться от греха подальше, девятку резко занесло, дебил за рулем со всей дури надавил на тормоза. Фишер каким-то чудом сумел удержаться от паники, не притормаживая, ушел на соседнюю полосу, на последних метрах разминувшись с девяткой. Проезжая мимо, от всей души посигналил. Пульс частил со скоростью пулеметной очереди.
Остановился в каком-то дворе, долго курил, дожидаясь, пока перестанут трястись руки. Голова была пустая — думать больше было не о чем. Все закончилось.
От съемной квартиры остался только ключ — днем Фишер пытался дозвониться до Марата, сказать, чтоб искал новых жильцов, но безуспешно. Ключ болтался на общей связке — безобидный и бессмысленный.
Надо было Белову отдать, подумал Фишер.
В груди противно тянуло — он списывал это на недавнюю встряску. Нужно было ехать домой.
На другой конец города он добирался, как под наркозом, — замирал перед каждым пустым светофором, заранее врубал поворотники, плелся на сорока в час, и спина все равно покрывалась липким потом.
Он не сразу сообразил, куда приехал, а сообразив, начал смеяться — смеяться-смеяться-смеяться и, как всегда, не мог унять этот болезненный булькающий хохот. Открыл дверцу, почти вывалился из машины, набрал полную пригоршню колючего мартовского снега и окунул в него лицо.
На рассвете в соседний подъезд втащили гроб. На привычном месте стояла мазда Белова. Он все решил, закрыл все счета, он больше не собирался сюда возвращаться.
Лицо загорелось от ледяных крупинок, но этого было мало — хотелось нырнуть головой в ближайший сугроб.
Окна Белова были темные — и казались пугающе пустыми.
Фишер покрутил в руке связку с ключами и пошел к подъезду. Внутри все молчало — никто не предостерегал, не ругал, не запугивал. Пульс стучал, стучал — и снова взлетал до сумасшедшей отметки. Когда он замер перед его дверью, в ушах уже грохотало.
Меня сбил поезд, подумал вдруг Фишер. Прямо сегодня — сбил.
На звонок долго никто не реагировал, и Фишер уже тупо прикидывал, что заснет прямо на куртке в пустой квартире, когда за дверью послышались шаги. Медленные. Щелкнул выключатель. Лязгнул замок.
Фишер прикусил губу.
Белов смотрел на него так, словно не узнавал — лицо блестело от пота, горло футболки потемнело и волосы были мокрые. Он тяжело привалился к косяку, буквально повис на нем, и щурился в блеклом коридорном свете.
Фишер подумал — пьяный.
Легко толкнул Белова в грудь, отстраняя вглубь коридора, и тут же отдернул руку: кожа сквозь футболку не просто горела — полыхала. Фишер щелкнул замком, Белов тем временем начал сползать по вешалке вниз, утягивая за собой куртки, опрокидывая обувь с полок. Фишер в последний момент подхватил его, с трудом удержал. Кое-как закинул руку себе на плечо.
— Э, ты чего тут надумал?
Выпивкой от Белова не пахло, зато пахло болезнью — потом, разъедающим жаром, вымокшей постелью. Он вспомнил, как скверно звучал его голос там, в машине.
В комнате Фишер опустил Белова на кресло, выдохнул. Тот мутно посмотрел на него, откинулся на спинку. Попытался что-то сказать. Куртка с той стороны, где к ней прижимался Белов, в секунду сделалась влажной. Не нужно было даже термометра, чтобы понять, какие хреновые у него дела.
Фишер достал телефон, на ходу разуваясь. На бледное, покрытое пленкой испарины лицо он старался не смотреть. Вот теперь было по-настоящему страшно — очень.
Голова болела, горло саднило, и пить хотелось страшно — больше всего на свете. Последним нормальным воспоминанием было то, как он рухнул на кровать — едва успел раздеться. Все тело разваливалось на части, ног он не чувствовал, а голова напоминала низко гудящий генератор. Подумал перед тем, как провалиться в темноту, — надо бы найти градусник.
Захреновело ему уже утром, но Белов все равно поехал в отдел — сидеть дома было невыносимо. К вечеру стало еще хуже, а когда вернулся домой после разговора с Фишером — накрыло окончательно.
Он помнил звонок в дверь, но как открывал — не помнил. После Белов то выныривал, то снова потухал, в какой-то момент услышал голос Фишера и совсем этому не удивился. Не то было состояние. Фишер как будто спорил с кем-то в прихожей, и в голосе проскальзывали напористые, сварливые ноты — Белову почему-то показалось, что Фишер ругается с ним. Потом были еще чьи-то голоса и даже как будто лица, но деталей он не различал.
Когда Белов в последний раз пришел в себя, в комнате горел свет, а Фишер сидел на краю дивана — к нему лицом, и брови у него были нахмурены, а губы сжаты.
Не уходи, хотел сказать Белов, потом уйдешь, когда у меня в башке прояснится. А сейчас побудь здесь.
Наверное, у него все-таки получилось заговорить, потому что Фишер, по-прежнему хмурый и серьезный, склонился к нему и сказал:
— Я останусь. — И повторил: — Останусь.
Теперь Белов кое-как повернул голову — казалось, шея вот-вот заскрипит. Он бы зажмурился, не будь это так больно, или вообще уткнулся в подушку. Значит, ему не приснилось, не приглючилось — но как такое вообще было возможно?
Фишер лежал рядом, на самом краю — спал. Он был в рубашке и джинсах, лицо даже во сне выглядело осунувшимся, хмурым, сквозь тонкую кожу век проглядывали капилляры, отросшие волосы сползли на лоб. Незаживший синяк отливал зеленым.
Вчера Белов страшно жалел, что в машине темно — хотелось посмотреть на него, потому что он был уверен, что так близко видит Фишера в последний раз.
Он попытался сглотнуть, и горло отозвалось наждачным спазмом. Высвободил из-под одеяла руку, протянул — и погладил его по щеке. Фишер вздрогнул, тут же открыл глаза. Выпрямился, сел, внимательно глядя на Белова — словно только и ждал внезапной побудки. Быстро спросил:
— Ты как?
Белов кивнул, попытался махнуть рукой. Распухшее горло не слушалось. Фишер подхватил откуда-то с пола стакан, нерешительно замер, потом все-таки спросил:
— Сам сможешь?
Белов приподнялся на локте, преодолевая слабость, взял стакан.
Когда он снова рухнул на подушку, Фишер прижал ладонь к его лбу, подержал так, но убирать не спешил. А потом медленно, очень медленно, провел по щеке вниз — к подбородку. Белов накрыл его руку своей, поцеловал пальцы, потом запястье. Фишер смотрел прямо на него — в лицо — и не отворачивался, не отводил взгляда.
конец

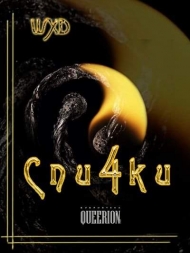
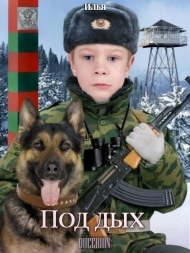

17 комментариев