Максим Гореин
Свободный воздух Дании
Подчинить всю свою жизнь любви, отдать себя любимому до последней капли – в этом слабость или сила?..
Повесть о человеке, самозабвенно любившем, и что получившем в итоге?

 Посвящается памяти моего отца.
Посвящается памяти моего отца.
1. Никому не верю
Эта история началась во второй половине 80-х годов прошлого века. 1-го апреля.
В тот день я был молод. Мне недавно исполнилось двадцать два, и я с переменным успехом учился на пятом курсе довольно престижного экономического вуза в городе трех революций. Учиться с постоянным успехом мне мешали патологическая ненависть к зубрежке и непростая личная жизнь. С ненавистью к зубрежке все понятно – многие страдают этим недугом. С личной жизнью обстояло гораздо сложнее. Дело в том, что у меня не было девушки. И причина была не в неказистой внешности: я высок, брюнетист и кареглаз, по внешним параметрам довольно конкурентоспособный экземпляр, разве что излишне худощав и нос сломан, но не сильно. И не в умственной неполноценности: ну, оценок из аттестата и зачетной книжки приводить не буду, скажу только, что в упомянутый престижный вуз я поступил самостоятельно, без блата и денег, несмотря на то, что родственники и знакомые отговаривали меня от этого шага, считая, что поступление туда и дальнейшее обучение без наличия дополнительных преференций – дохлый номер. А на кону, помимо непосредственно образования, многое стояло: не поступишь, и прощай гражданская жизнь – здравствуй армия! Только отец верил в меня. Он всегда считал меня чуть ли не гением и прочил мне великое будущее. И я поступил. Но я не ботан был. Нормальный был парень. Девчонкам нравился. Но мне самому девчонки нравились не особо сильно.
Сомнения в этой тонкой сфере окончательно развеялись во время колхозной практики перед первым курсом, когда я остался на ночь в бескрайнем картофельном поле сторожить сломавшийся грузовик с погруженным в него урожаем, собранным нашим факультетом. Остался не один, а с бутылкой водки и заросшим длинной щетиной, но симпатичным старшекурсником Леней, подрабатывавшим поваром в столовой корпуса, где жили практиканты. И то ли водка стала тому причиной, то ли необыкновенно вкусная картошка, запеченная поваром на углях, что проложила путь к моему сердцу и всему остальному, но когда речь зашла о сне, мы оказались с ним не под разными ватниками, как было задумано, а под одним, и я впервые был с парнем, вжимая его в пыльный, прожженный сигаретами матрас, выделенный нам для ночлега. И не было ничего более возбуждающего на свете, чем его крепкое, но податливое тело, чем его усиленно сдерживаемые стоны, чем его стремление подстроиться под меня и получить меня еще сильнее и глубже… После этой ночи я не мог спокойно ходить в столовую – вид одного только канареечно-желтого спортивного костюма, выглядывающего из-за поварского фартука, вызывал у меня эрекцию. Мне сразу хотелось снять с него и фартук, и костюм.
А до этого были какие-то девочки в школе – я не отставал от сверстников. И в чем-то даже опережал их. Потому что только у меня был секс с тридцатилетней мадам. И он был гораздо лучше, чем с девочками, но все равно не оправдал моих сексуальных ожиданий. Как в полной мере оправдал их позже повар Леня.
Так и покатилось. С Леней отношения не сложились. По возвращении в Ленинград, когда налет колхозной романтики спал, оказалось, что он жуткий зануда, да и интеллектом, если честно, не блещет – в институте он учился благодаря занятиям греко-римской борьбой (той, что с забавной позой в партере – мы часто в ней стояли, когда оставались тет-а-тет). Наверное, и он был в чем-то разочарован относительно меня: малость «не от мира сего», с резкими перепадами настроения, вечно витающий в облаках. Но иметь с кем-нибудь отношения мне очень хотелось. А где было взять эти отношения в тогдашнем СССР? В поле зрения были только кое-какие знакомые знакомых – круг относительно проверенных людей, весьма ограниченный из-за своей закрытости, где все друг друга знали. Это обеспечивало какой-никакой интим и не обеспечивало чувств. Чувства, как назло, возникали к гетеросексуалам – то к застенчивому аспиранту, только-только начавшему преподавательскую деятельность на кафедре нашего факультета, то к блестяще бесшабашному участнику институтской команды КВН, то вдруг внезапно к парню на дискотеке в каком-нибудь ДК. И эти беспросветные влюбленности отнюдь не делали меня счастливым. За студенческие годы я через многое прошел. Через болезненную самоидентификацию. Через страх разоблачения. Через бесконечно рушившиеся надежды. И через смешную попытку суицида, когда, оказавшись на даче у одного престарелого педераста, а не у Алекса с ФУЧРа*, по которому я в то время безответно страдал, на меня спьяну вдруг навалилась такая тоска и безысходность, что, наткнувшись в буфете на банку с надписью «крысиный яд», я съел половину ее содержимого и добил еще одной изрядной порцией алкоголя, чтобы умирать было не так страшно. Думаю, кроме самих крыс, мало кто знает, каков на вкус крысиный яд. И я не знал. Но, возможно, вкусное должно быть что-то, сладкое, чтобы вызывало аппетит. Поэтому, с удивлением проснувшись на следующий день в состоянии глубокого похмелья, но все же живым и здоровым, я выяснил, что яд, которым я наелся накануне, оказался всего лишь оригинально хранящейся сахарной пудрой. Я запивал похмелье и тошнотворную приторность пудры капустным рассолом и думал: а ведь я мог это сделать…
В общем, полный и довольно стандартный набор. Поэтому я и учился не блестяще, но до пятого курса дотянул и даже, в целом, более или менее справился со своими психологическими проблемами. По крайней мере, приучил себя не влюбляться в натуралов. Но личную жизнь так и не устроил, продолжая перебиваться неслучайно беспорядочными, бесчувственными связями.
1-е апреля в том году по погоде выдалось несоответствующее своему предназначению дня веселого. Это был пасмурный серый день, с подмороженным за ночь грязным снегом, совсем не весенний. На улицу было больно даже смотреть. Город замер в ожидании солнца и тепла. Люди были вялыми и сонными, казалось, они сознательно отказываются просыпаться, чтобы в забытье быстрее пережить затянувшееся серое межсезонье.
Тем легче оказалось выхватить краем взгляда из толпы пятно зелени. Я шагал по Садовой по направлению к институту, а он двигался мне навстречу – парнишка с волосами, выкрашенными в зеленый цвет. Должен сказать, что для тех времен, несмотря на начавшуюся перестройку, это было крайне непривычное зрелище, что и сейчас встретишь нечасто. Прохожие головы сворачивали ему вслед. И я тоже. «Надо же, реальный панк! – подумал я, автоматически приглаживая свои давно не стриженые, но зато естественного цвета волосы. – Вот делать нефиг!»
Позже я пытался рассказать историю про человека с зелеными волосами однокурсникам, но мне не поверили: 1-е апреля как-никак – никому не верю. Еще и посмеялись надо мной – мол, не мог выдумать чего поинтересней.
- Ага, надо было кнопок вам на стулья положить, - съязвил я, - или к декану пригласить. Вот это было бы оригинально!
- Не бухти, Жень, - сказал кто-то, примирительно хлопнув меня по спине. Так я и просидел всю первую пару с прилепленным на спину листом бумаги с надписью «FOOL». Англичане, блин.
После института я торопился по делам. Я быстро сбежал по эскалатору метро, но на стоящую на станции электричку не успел – двери захлопнулись прямо перед моим носом. Каково же было мое удивление, когда за стеклом вагона я увидел знакомую зеленую шевелюру. Зеленоволосый парень стоял у противоположных дверей и смотрел прямо на меня. И это было так смешно – снова встретить его, виновника моих утренних бед. Тут на меня накатило что-то: я поймал его взгляд, указал рукой на свои волосы, а потом сделал жест с поднятым вверх большим пальцем – мол, классная прическа, брат! Парень в удаляющейся электричке смотрел на меня растерянно, чем развеселил еще больше. И я все еще внутренне улыбался, когда подъехал к следующей станции, двери открылись, и в вагон вошел он.
Все мои внутренние улыбки тут же пропали. Мне стало неловко за свою выходку и я поспешил отвернуться, сделав вид, что я – это не я. Но парень, естественно, сразу меня увидел, ведь, как я догадывался, он специально из-за меня перешел на следующий поезд. Он прямиком направился к месту, где я сидел и, немного помедлив, опустился на сиденье рядом со мной. И что я теперь должен был с ним делать?
Я покосился в его сторону.
- Отличный цвет, - неуверенно произнес я в продолжение своего давешнего жеста, когда пауза неприлично затянулась.
- Ерунда! – живо откликнулся он. – Я вообще-то в рыжий хотел покраситься. Но девчонки с краской нахимичили что-то.
- Нормально нахимичили, - не мог не согласиться я.
- А, так тоже потянет. Главное, ярко. А то все такие серые вокруг. Я до этого блондином был. В смысле, покрашен. Надоело. Решил поменять что-нибудь ко дню рождения. У меня день рождения сегодня.
- Да ладно! – традиционно не поверил я.
- Нет, честное слово. Хочешь, паспорт покажу?
- Да верю я тебе. Не нужен мне твой паспорт.
- Нет, я все равно тебе покажу, чтобы ты не сомневался, - парень вытащил из, правда, широких штанин свой «серпастый, молоткастый» и протянул мне. – На, смотри.
Пришлось заглянуть в его паспорт. День рождения у парня действительно был 1-го апреля. Совершив в уме нехитрые подсчеты, я выяснил, что сегодня ему исполнилось двадцать лет. Из документа я узнал и его имя. Парня звали Эдиком. Фамилия – Сидоров. Сочетание показалось мне очень смешным. Эдуард Сидоров. Вот умора! Типа как у моей сокурсницы Барановой Сюзанны – тоже дурацкое сочетание. И ему действительно стоило перекраситься в рыжий цвет – к его фамилии это бы подошло. Хоть я ни с одним Сидоровым знаком до этого не был, в моем представлении Сидоровы обязательно должны были быть рыжими. Но, естественно, всего этого я Эдику не сказал.
- Ну, поздравляю! – я вернул ему паспорт.
- А ты приходи, - сказал он мне.
- Куда? – не понял я.
- На мой день рождения.
- Эээ… Да я не могу. Я по делам еду срочным. Никак не могу отменить.
- Хочешь, я с тобой съезжу за компанию? Мне все равно делать нечего.
Я, и до нынешнего момента потихоньку обалдевавший от этого кадра, обалдел окончательно. Но он так простодушно смотрел мне в глаза, что я, сам от себя такого не ожидая, промямлил:
- Ну, ладно, поехали, если хочешь. Раз уж делать нечего.
Срочные дела у меня были учебного характера. Шел последний семестр моего институтского обучения и предназначался он для диплома. Занятия в институте проходили всего пару раз в неделю, остальное время отводилось преддипломной практике и непосредственно самому написанию дипломной работы. Проходить практику меня распределили на завод «Электросила», и диплом у меня назывался соответствующе – «Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономических систем на примере завода «Электросила»». Практика сама по себе, в принципе, была делом не очень обязательным. И я все никак не мог доехать до этого завода. Но когда два месяца из четырех, отведенных на дипломную работу, истекли, решил, что пора бы браться за дело. И взяться за него решил прямо с первого числа. Поэтому так и торопился в тот день.
Завод располагался рядом с одноименной станцией метро. Мы несколько раз обошли огромную заводскую территорию, занимавшую целый квартал, тыркаясь в немногочисленные наглухо запертые двери, пока охранник у одних из ворот не поинтересовался, что нам тут требуется. Я объяснил ситуацию, и он любезно сообщил, что нам нужно не сюда, а на другую сторону Московского проспекта, в «Пентагон».
- Это у нас так управленческое здание называют, - пояснил он. – На нем вывески нет, но вы сразу его увидите, оно прямо рядом с метро.
- Надеюсь, это не первоапрельская шутка, - проворчал я. Мне уже надоело бродить тут вокруг да около.
К счастью, это не было шуткой. Нас пропустили в большое здание, выписав пропуска по студенческим. Как выяснилось при этом, Эдик учился на журфаке в ЛГУ – покруче, чем мой Финэк, будет. Потом мы долго ходили по кабинетам в поисках нужного мне человека, потом я обсудил с ним тему моего диплома и то, что от всех нас требуется, чтобы я его написал. Социально-экономическая система страны уже начала потихоньку разваливаться под воздействием перестроечных процессов, поэтому на мой вопрос о том, как же в целом происходит стратегическое планирование на предприятии, руководитель планового отдела сердито бросил:
- Да как-как?! С этим Горбачом разве что-нибудь запланируешь?! Мощности не загружены. Вот сколько заказов получим, если, даст бог, вообще получим, столько и выпустим. Вот и все планирование!
И эту мысль я должен был растянуть на сто листов.
Потом он отправил нас в заводскую библиотеку, выделив в сопровождающие тетеньку из своего отдела. Мало кто знает из местных жителей, что под Московским проспектом проложен длинный тоннель, соединяющий «Пентагон» с основными заводскими корпусами. Я был здорово удивлен и, шагая по кажущемуся бесконечным, тускло освещенному, гулкому коридору без окон и дверей, мне было даже интересно слушать тетенькин ностальгический рассказ о том, как хорошо работалось здесь в период развитого социализма. Да уж, по крайней мере, диплом на тему планирования тогда проще было написать, это точно.
В библиотеке мне вручили книжку по истории «Электросилы» и распрощались до той поры, пока у меня не появятся новые вопросы.
Все это время Эдик следовал за мной, маяча за спиной, как тень. Думаю, когда мы выходили из кабинетов, люди пальцами крутили у висков под впечатлением от нашей парочки. Что самое интересное, никто даже не поинтересовался, что это за молодой человек и что ему тут нужно. Видимо, это день смеха на них так повлиял, их и без нас уже зашутили. Может, они вообще воспринимали это чудо в зеленых перьях в качестве первоапрельского обмана зрения?
- Теперь ко мне? – спросил Эдик.
- К тебе, это куда?
- На Васильевский остров. Я в общаге живу.
- Не ближний свет. А сам откуда?
- С Белоруссии. Из Жлобина.
Название населенного пункта мне ни о чем не говорило. Но к смешному словосочетанию прибавилось – Эдуард Сидоров из Жлобина. Нда. Ехать в тот конец города не хотелось – совсем не по пути к дому.
- Так у меня подарка нет. И денег с собой, если честно, тоже.
- Да и не надо. Хорошая компания сама по себе как подарок.
И я поехал. Он ведь ездил со мной, веселил всю дорогу. Да и день рождения у парня, не отказывать же в праздник. К тому же теперь мне самому нечего было делать – вечер, как и социально-экономическое развитие завода «Электросила», распланирован не был.
Я думал, у него правда компания соберется, общага все-таки, место многолюдное и шумное, сюрприз какой к его приходу приготовят – специфика сегодняшнего дня давала широкие возможности для полета фантазии. Но он впустил меня в абсолютно пустую комнату, в смысле, в ней никого не было, и прикрыл дверь. От неожиданно охватившей меня по сравнению с коридором тишины я даже растерялся:
- А где все?
- Кто все?
- Сосед твой хотя бы, – уточнил я, заметив, что в комнате стоят две кровати.
- А, сосед. Так я один тут живу. Он у каких-то родственников перекантовывается, а койку так держит, на всякий случай.
- Повезло.
- Ну, в определенной степени да, - Эдик тем временем водрузил на стол навскидку примерно трехлитровую бутыль с темно-рубиновой жидкостью, выставил два стакана и кое-какую закуску, в основном, фрукты. – Это домашнее вино. У меня мать делает. Мы сами виноград выращиваем. Ты посиди тут пока, попей, а я в туалет сгоняю.
Я посидел, попил, вино было вкусным. Минут через пять я тоже захотел в туалет. Еще через десять мне стало невтерпеж, а Эдик все не возвращался. В конце концов, я решил, что мой организм для меня важнее, чем сохранность Эдиковых вещей, и вышел из комнаты на поиски местного туалета. Туалет располагался в самом конце коридора. Кабинки были открытыми, без дверей. «Господи, как тут люди-то живут?!» - ужаснулся я. Эдика там не оказалось.
Когда я вернулся в комнату, именинника все не было. Он появился еще минут через десять. Поинтересовался, не скучал ли я без него. Я ответил, что скучал необыкновенно – я уже немного запьянел. Эдик откусил яблоко, налил себе вина.
- За твой день рождения! – объявил я тост, мы чокнулись и выпили. – А я уж испугался, не первоапрельский ли это развод. А то сидел бы так до ночи, ждал у моря погоды, пока какой-нибудь здоровенный медведь не пришел и не стал бы допытываться, кто все его вино выпил. Так где ты пропадал-то так долго?
- Очередь в душ стоял.
Я крайне изумился:
- В душ?! – после туалета слово «очередь» меня уже не удивило. – У тебя другого времени нет? Зачем в душ?
- Ну, ты же не просто так ко мне пришел.
Эдик смотрел мне в глаза. Я не догонял:
- Я пришел? Это не я к тебе пришел, это ты меня сюда притащил!
- Ну да, значит, и я не просто так, - легко согласился он.
Только тут до меня начало доходить. А я вообще ни о чем таком не думал ровно до этой минуты. Да и сейчас не выражал согласие, ошалело молчал. Но Эдик продолжал смотреть мне в глаза и начал уверенно раздеваться. Он стянул с себя джемпер, оголив красивый, в меру подкачанный торс, снял джинсы, снял трусы. После чего подошел ко мне вплотную, взял мои руки и положил их себе на бедра.
Он был невысокого роста, сантиметров на десять ниже меня, я смотрел на него сверху вниз, меня качнуло на него и в какой-то момент мне показалось, будто я сейчас упаду прямо в его глаза. Он вдруг перестал быть и смешным, и смешливым, и даже его зеленая прическа стала смотреться естественно и гармонично. Я действительно падал. Я падал в его глаза, в его губы. Мы свалились на кровать. Я рылся в карманах в поисках презерватива, я срывал с себя одежду, стараясь не отрываться от него. Я целовал его лицо. Я целовал его затылок, зарываясь носом в зеленые волосы. И мне казалось, что никогда в жизни я не встречал ничего, пахнущего так же вкусно, ничего, на ощупь бывшего столь же приятным. Я падал в него. Я летел. Я не верил в происходящее. Не верил даже собственным ощущениям. Это было похоже на чью-то шутку. Возможно, Бога. Потому что все это было слишком хорошо, чтобы быть правдой.
-----------------------------------------------------------------------------
* ФУЧР – факультет управления человеческими ресурсами.
2. Счастье бывает
На следующий день во время занятий я только и думал, что о феномене по имени Эдик. Прошедшую ночь я провел у него. Обычно, когда я оставался с кем-то ночевать, то, если была такая возможность, ложился на отдельную кровать. А если такой возможности не было, в обязательном порядке требовал себе отдельное одеяло. Под одним одеялом я спать категорически не мог: мне было жарко, тесно, неудобно. И каким бы хорошим ни был секс, сон оставался моей личной территорией, пространством, в которое я никого не допускал – я должен был отдыхать, и от человека в том числе. Но с Эдиком все было по-другому. Мало того, что я не ушел на свободную кровать, несмотря на то, что кровати в общажной комнате были узкими, так еще и уснул с ним в обнимку, тесно прижавшись, с переплетенными с его ногами – под одним одеялом. И мне не было неудобно, и кожа в местах соприкосновения не потела.
Я вспоминал наше случайное знакомство, свою реакцию на его поступки, и у меня даже мелькала дурацкая мысль: а не гипнотизер ли он? Тема гипноза была тогда популярной, его возможности широко обсуждались. Как-то я даже пытался пойти на курсы изучения английского языка под гипнозом. Но перед этим необходимо было пройти через проверку на способность к массовому гипнотическому внушению. Проверка проходила в большом зале, гипнотизер работал со сцены. Суть эксперимента заключалась в том, что люди должны были, закрыв глаза, мысленно «посылать» кровь от сердца к кончикам пальцев на руках, руки при этом должны были непроизвольно раздвигаться в стороны. Тогда я тест на внушаемость не прошел – мне стало дурно. Вчерашний результат оказался прямо противоположным.
Эдик ждал меня у выхода с института. Он стоял на Банковском мостике, разглядывал грифонов. Я еле узнал его. От зелени на голове не осталось и следа – волосы были естественного русого цвета.
- Что, не узнаёшь? – поинтересовался он весело.
- Честно говоря, не совсем.
- На этот раз нормально получилось, без фокусов. Очень близко к моему настоящему цвету.
Я заново изучал его. Как все-таки сильно меняет человека прическа. Без зеленых волос внешность Эдика стала самой обычной. И он был совсем не в моем вкусе. Мне нравились блондины со смазливыми мордашками, чтобы на девочку было похоже. Странное явление: почему геям часто нравятся женоподобные мальчики и не нравятся женщины, а лесбиянкам наоборот – нравятся мужеподобные девушки и не нравятся мужчины? Эдик не был ни красив, ни некрасив. Правильный овал лица, высокий лоб, небольшие серо-голубые глаза, прямые брови, длинный нос – все самое обыкновенное. Только рот, пожалуй, привлекательный: линия удлиненная, красиво очерченные, сочно-розовые губы. Но ни капли женственности. В целом – ничем не примечательный, простой парень. Если бы я встретил его в толпе в нынешнем виде, то просто не обратил бы на него ни малейшего внимания. Как же хорошо, что девчонки тогда нахимичили.
- С чего такие перемены? Ты же хотел, чтобы ярко.
- А зачем теперь ярко? Я же уже встретил тебя.
Я предложил прогуляться. Кажется, погода была не слишком располагающей к прогулкам. Кажется, я этого не заметил. Эдик согласился.
- Знаешь, я срисовал тебя еще утром, на Садовой, - продолжал он. – Видел, как ты чуть шею не свернул.
- И что же? Следил потом за мной?
- Нее! Мне показалось, это ты скорее за мной следил, ты же не успел за мной в вагон сесть.
- Я не следил за тобой. Случайно получилось. И то, что я рукой тебе помахал, тоже случайно вышло. Обычно я таким не балуюсь. Не знаю, что на меня накатило.
- Ты веришь в судьбу?
Я вспомнил свою неудавшуюся попытку самоубийства.
- В какой-то степени верю.
- И я верю. Мне кажется, может, не все, но многое, что происходит с тобой, происходит не просто так. Иногда создается впечатление, что тебя кто-то ведет за руку по заранее определенной цепочке событий. Это может быть счастливая звезда или, наоборот, злой рок. Что они дергают тебя – один в одну сторону, другой – в другую. И важно понять, к чьему руководству прислушаться, куда повернуть, что сделать в тот или иной момент. И я считаю, что судьба дает нам подсказки, которые нужно правильно распознать, шансы, которые упускать нельзя. Что многие встречи, пересечения неслучайны.
- Интересная теория. Романтичная. Поэтому ты пересел на другую электричку?
- Да.
- И потом воспользовался гипнозом, чтобы я тебя не отфутболил? – озвучил я свои утренние мысли.
- Нет, тобой руководил не гипноз, - ответил Эдик серьезно.
- А что же?
- Любовь.
Я опешил от такой наглости:
- То есть ты утверждаешь, что я в тебя влюбился?!
- Да.
- Так, отлично у тебя получается признаваться в любви за других!
После этих слов я долго шел молча. Потом, наконец, решился:
- Ладно, допустим. А что ты? Ты… любишь меня?
- Люблю…
Я обожаю свой родной город. За великолепную архитектуру исторического центра. За его детальную продуманность. За то, что каждое здание в нем, каждый открывающийся вид подобен открытке – каждая со своим колоритом, со своим настроением. Какие-то из них впечатляют величием и торжественностью, как Дворцовая площадь с Зимним дворцом. Какие-то восхищают уникальной геометрией пространства, как стрелка Васильевского острова. Одни дышат романтикой и свободой, как тающие в дымке Финского залива башни подъемных кранов «Адмиралтейских верфей» и морского порта. Другие – камерностью и сказочностью, как домики на набережных малых рек и каналов в темное время суток. Обожаю Санкт-Петербург за его неподражаемую сдержанную атмосферу, за неспешный ритм, за дух утонченности. За непробиваемый патриотизм жителей, за их способность действовать в едином душевном порыве. За «европейскость», за непохожесть на другие российские города. За дождливость, за специфический климат, привычку к которому надо впитывать с рождения.
Когда меня охватывали особенно депрессивные настроения, и высиживать на лекциях не было ну никакого желания, я частенько вместо института, здание которого располагалось в центре, отправлялся бродить по городу. За пять лет у меня выработался свой постоянный маршрут: от Невского мимо Спаса-на-Крови на Марсово поле, потом в Петропавловку, оттуда на Стрелку, дальше на Дворцовую, снова на Невский, и по Грибоедова – в альма-матер. Прохождение маршрута неспешным шагом занимало полтора часа – ровно столько, сколько длилась одна пара. Ко второй я прибывал в более или менее исправном состоянии духа. Но никогда еще до описываемого дня я не вышагивал по этому маршруту таким счастливым.
Эд был… необыкновенным. Я старался взглянуть на него объективно, без розовой пелены, застилающей глаза по уши влюбленного индивида. Но под каким бы углом я его ни разглядывал, с каких бы позиций ни оценивал, он все равно оставался необыкновенным. Это был человек, сотканный из противоречий, нестандартный со всех сторон.
Мне странным образом нравился факт его провинциальности. Хотя я, как истинно городской житель, сторонился всякого рода деревенщины. А все, что лежало за пределами РСФСР, все союзные республики воспринимались мной как Тмутаракань, и до того, как в моей жизни появился Эд, я, честно признаться, плохо отличал ту же Белоруссию от Украины, так же, как, скажем, Латвию от Литвы или Узбекистан от Таджикистана. Во мне прочно сидел комплекс «большого брата». Поэтому я чувствовал себя по сравнению с Эдиком более искушенным столичным городом, более опытным, знающим, зрелым. Это вызывало желание опекать, наставлять, покровительствовать, реализующее мои мужские амбиции. Это возбуждало. Хотя и без этого поводов для возбуждения было выше крыши. Никогда еще у меня не было столь раскрепощенного, незакомплексованного сексуального партнера. Для Эдика не существовало ничего запретного или неловкого, никаких табу, никакого стеснения. Все желания выказывались открытым текстом и откровенными действиями. При малейшей возможности он тащил меня в постель, и мне сносило голову от его «блин, я так соскучился по тебе, что у меня очко уже просто ноет, сил нет!» И мне нравилась его сперма. Не потому что она была какой-то особенной, вкусной, а потому что это была ЕГО сперма. И он знал это, и кормил меня ею со своих пальцев.
Провинциальный мальчик, он, однако, был тонок и интеллигентен и с такой жадностью вгрызался в учебу, что я, привыкший схватывать только то, что хватается на лету, восхищался его упорством. Он собирался достигнуть больших высот в профессии, мечтая о работе журналиста на телевидении, оттачивал свое мастерство - дикция, тексты. И я был уверен на двести процентов, что достигнет, не может не достичь. Потому что если не он, то кто тогда?
Он писал стихи – жутко мрачные: про смерть, про кровь, про черноту, про жестокость и бессмысленность жизни. И при этом был удивительно легким и светлым человеком, в гардеробе которого не было ни одной вещи черного цвета – даже ботинки были рыжими. Мне безумно нравились его стихи, и он сам, и его ботинки. А он вечно не был доволен ни первым, ни вторым и порой даже третьим.
Он умел быть со всеми милым, вежливым и отзывчивым. Окружающие обожали его за веселый характер, за мягкость и безотказность. Но он не был слабым. В нем чувствовался стержень. Об этом свидетельствовало хотя бы то, что когда в 89-м наши вывели войска из Афгана, Эд был разочарован: «Жаль. Мне так хотелось работать там, вести репортажи с мест боевых действий. Где теперь я возьму войну?» Это была его профессиональная мечта - работать там, где тяжело и опасно, там, где требуется мужество – и она заставляла испытывать к нему глубокое уважение.
Я не просто любил, я боготворил его. Я казался себе таким заурядным по сравнению с ним и никак не мог понять, за что Бог дал мне такое счастье? Но Эдик твердил мне:
- Ты добрый. Ты очень добрый! Ты преданный. Ты никогда не откажешься, никогда не предашь!
- А ты, что ли, предашь?!
- И я не предам. Я люблю тебя и буду любить всегда. Но я не такой добрый, как ты. Я злой…
Если следовать логике Эда, то у нас с ним была любовь с первого взгляда. Я не слишком верил в такие штуки, но наши отношения трудно было объяснить чем-то другим. И это было удивительно: чувствовать, как с каждым днем ты влюбляешься все сильнее, погружаешься в человека все больше, растворяешься в нем, отдаешься без остатка. Каждый любит по-своему, лично я люблю вот так. Это отнимало все душевные силы и одновременно вдохновляло. Я успешно сдал госы и защитил свое «стратегическое планирование и прогнозирование на примере» с парадоксальным выводом об его полном отсутствии, повергшим в состояние прострации членов экзаменационной комиссии.
Отгуляв лето, одно из самых ярких в моей жизни, я устроился на работу, минуя армию и принудительное распределение благодаря связям моей матери, занявшей к тому времени место заведующей детским садом. В этом деле я и мой сокурсник Миша (тоже со своими связями) последовали совету руководителя наших дипломных работ, добрейшему завкафедрой пресловутого планирования и прогнозирования, который по секрету сообщил, что экономике страны скоро наступит полная жопа, все, что было создано в СССР, развалится в силу своей неэффективности, и что единственный сектор, который всегда будет на плаву – нефтегазовая промышленность, потому что наша страна как была сырьевым придатком, так и останется им в обозримом будущем. Результатом этого стала затрапезная должность в экономическом отделе предприятия «Леннефтепродукт», не дававшая мне на тот момент практически ничего, кроме перспектив. Но тут важно было зацепиться, и я работал именно на перспективу, т. к. в настоящем меня продолжали материально поддерживать родители. Родители поддерживали меня, а я – будущее советской журналистики. Будущее от поддержки отказывалось, но я настаивал. Ведь если есть проблема, то надо же ее как-то решать?
Проблема была достаточно серьезная. Как выяснилось, Эдику не просто так повезло с тем, что в общаге он жил один. Да и везением это можно было назвать с большой натяжкой. Дело в том, что сосед Эдика по комнате в один прекрасный день отказался жить под одной крышей с пидорасом.
- Но, думаю, Вовчик и так хотел отсюда умотать, - комментировал ситуацию Эд, - иначе было бы логичнее, если бы он меня отсюда выкинул. Просто ему, видимо, хотелось меня лишний раз унизить, поэтому он обставил дело таким образом.
- А как он узнал?
- Я переспал с ним.
- И он после этого?!
- Так один раз – не пидорас, ты же понимаешь. Где он, и где я? Многие мужики, которые даже постоянно парней трахают, не считают себя гомосексуалистами. Типа, трахать все, что движется, для мужика нормально. Он же трахает, не его. До этого мы год прожили с ним нос к носу. Вдвоем отмечали окончание первого курса, выпили. Он красивый. А у меня в Ленинграде, как приехал, не было никого. Ну, и полез к нему.
Я представил, как Эд отстоял очередь в душ и раздевался потом перед этим Вовчиком. Странно, но не было ни ревности, ни брезгливости – только легкий спазм возбуждения.
- Думал, судьба?
- Иронизируешь? Нет, может, и судьба, да не та. Просто выпил, и захотелось очень. В общем, как обычно это бывает. И мне показалось, что он был бы не против. А он и не был против, тоже пьян был. А утром, когда протрезвел, началась совсем другая история. И все бы ничего, если бы он меня шантажировать не начал. Сначала рефераты заставлял писать. Потом денег потребовал.
- И что ты?
- Заплатил.
- И что он? Отстал?
- Нет, конечно. Он все время требует денег.
- И ты платишь?!
- А что я могу сделать? Если я хочу здесь учиться, то у меня только два выхода: или платить, или убить. Но не убивать же его из-за этого, правда? – улыбнулся Эд.
- Ну, да, не убивать, - понуро согласился я.
Я видел потом этого парня. Действительно, очень красивый. И слышал, как он с Эдом разговаривал – как с последним дерьмом. Может, лучше было бы все-таки убить?
Все это несколько омрачало ситуацию, но мы справлялись. И это «МЫ» окрыляло меня.
Я больше не ночевал у Эдика в общежитии, т. к. это было слишком рискованно – могло навести окружающих на ненужные мысли. Но мы виделись практически каждый день, и не было дня, чтобы мы не созванивались. Поздними вечерами, когда наступало время расставаться, мы по нескольку раз провожали друг друга до метро и обратно. И мой дом, и его общага находились в нескольких остановках от ближайших станций, и, казалось, предстоящий путь пешком будет таким долгим. Но он пролетал за одно мгновение, и снова надо было прощаться. Прощаться не хотелось, и мы поворачивали в обратную сторону. Я смотрел на светящиеся окна домов и думал: как же хорошо семьям, живущим за этими окнами – им не надо уходить друг от друга. И я мечтал, что вот бы у нас с Эдом было такое окно – одно на двоих.
3. Я там, где ты
Год промчался на одном дыхании. Следующая весна цвела в майском разгаре. Ничто не предвещало.
Эд, как часто бывало, встречал меня у института на Банковском мосту. Но на этот раз у его ног стоял большой потрепанный чемодан.
- Эй, куда собрался? – поинтересовался я.
- Не знаю, - ответил Эдик, - но в общагу я больше возвращаться не могу.
- А что случилось?!
- Вовчик… он рассказал все.
- В смысле рассказал? Кому рассказал?
- Проще сказать, кому он НЕ рассказал. Да всем рассказал! Вся общага теперь знает, весь курс!
- Вот сука! Но ты же платишь ему. Как же так?!
- Он на работу куда-то устроился, говорят, весьма доходную, ему мои копейки стали неинтересны.
- Понятно. Ну, а рассказывать-то зачем?!
- А почему бы и не рассказать? Я ему больше не нужен. Почему бы не сделать мне гадость? Просто так, из ненависти, чтобы было больно.
- Но он ведь сам, сам был с тобой!
- О, об этой маленькой детали можно и умолчать! Наплел, что застукал меня с кем-то, что я к нему приставал много раз.
- И ему поверили?
- Как видишь. И у всех сразу мысль: а, ну да-да, мне этот Эдик тоже казался подозрительным, и имя у него хорошо рифмуется, и на меня он тоже как-то странно смотрел! А я, может, действительно смотрел. Я же не могу все время себя контролировать. Мне от правды никуда не деться. И неизвестно, что он дальше выкинет. В ментовку может сообщить запросто. Если уже не сообщил. Этот человек просто так не отстанет, я чувствую!
- Может, с ним все-таки поговорить? Попробовать договориться? Я бы постарался помочь.
- И что он? Опубликует официальное опровержение? Нет, спасибо, Жень, большое, но это бесполезно. И рано или поздно все равно бы рвануло. Тут деньгами не отделаешься. Тут другое. Глубже, хуже…
Хуже, казалось, уже некуда. Возвращаться в общежитие действительно не было никакой возможности. Продолжать учиться на дневном, соответственно, тоже. Поэтому Эд принял решение в срочном порядке перевестись на заочное отделение. А это означало, что он должен был уехать домой, в Жлобин - на два года, потому что заочная форма прибавляла к обучению еще один.
На время оформления перевода и досрочной сдачи экзаменов, чтобы уже не возвращаться в Ленинград на летнюю сессию, Эдик поселился у меня. Он ночевал на раскладушке в моей комнате, и я подолгу не мог заснуть, все смотрел на него в полупрозрачной темноте зарождающихся белых ночей. Он тоже не спал и тоже смотрел. Речи о сексе быть не могло, на двери в комнате не было замка. Да даже если бы и был, я же не мог запереться там наедине с парнем – спрашивается, для чего? Мы даже поговорить толком не могли, звукоизоляция в панельной «брежневке» не самая лучшая. Поэтому мы просто лежали и молча смотрели друг на друга. Утром мы разбегались каждый по своим делам, чтобы вновь встретиться за ужином у меня дома в присутствии родителей, которые, как назло, в эти дни никуда по вечерам не отлучались. Наконец, все формальности были утрясены и куплен билет на гомельский поезд.
Перспектива провести нашу последнюю ночь в Ленинграде в молчаливом разглядывании друг друга была невыносимой. Днем накануне отъезда Эд, как иногородний, смог снять одноместный номер в «Карелии» и въехал туда со своим чемоданом, а я ближе к вечеру появился в гостинице в качестве его гостя. Мы вывесили в коридор табличку «Не беспокоить» и задернули поплотнее шторы. Я не мог остановиться, не мог насытиться, не мог выпустить его из своих рук. Несмотря на уверения Эда в том, что это временная мера, что он будет приезжать на сессии, что обязательно вернется в Ленинград после окончания университета, я прощался с ним навсегда. Потому что, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.
Посещения в гостинице были разрешены только до одиннадцати вечера, мы оставили номер и всю ночь бродили по улицам. Вернулись к семи. Пара часов на сон, пара часов друг для друга – и пора окончательно паковать чемодан.
Я очень люблю поезда. Оказываясь на железнодорожном вокзале, я готов сесть в любой из них, уехать в любом направлении. Мне кажется, что в месте, где соединяются параллельные линии рельсов, обязательно должно быть что-то хорошее. Наверное, это ассоциации из детства, когда я каждый год на каникулах уезжал к бабушке с дедушкой – навстречу лету и солнцу. Я обязательно должен ехать, мне тяжело провожать…
- Ладно, уже совсем пора, - произносил Эд в очередной раз.
- Да, пора, давай, - в очередной раз соглашался я.
Мы стояли у входа в вагон и никак не могли прервать наше затянувшееся рукопожатие.
- Я позвоню, как доеду.
- Я напишу тебе.
- Ты особо не гуляй тут без меня, - улыбался Эдик.
- Ты тоже там поосторожней с очередными судьбоносными встречами, - улыбался я через силу…
- Молодой человек, поезд отправляется! – вклинилась проводница.
- Ну, пока! – Эд на секунду крепко обнял меня и заскочил в вагон. Потом его лицо появилось в окне купе, и поезд тронулся. Пока я мог его видеть, Эд махал мне рукой. Потом поезд, стуча колесами и переваливаясь на стрелках, буднично уполз за горизонт.
В оговоренное время Эд не позвонил. В течение первого часа я злился. На втором начал беспокоиться. К началу третьего я уже извел себя самыми страшными предположениями: не зря, значит, мне казалось, что мы навсегда прощаемся. И когда я мысленно похоронил его окончательно, раздался телефонный звонок. Слышно было плохо, сквозь треск в трубке Эд прокричал, что поезд опоздал на несколько часов, но в целом все в порядке, он дома. Я чуть не плакал от радости.
Вечером я уселся за обещанное письмо. В голове теснились тысячи мыслей, но среди них не было ни одной, сформулированной настолько четко, что можно было бы перенести ее на тетрадный лист. Я неплохо писал сочинения в школе, некоторые из них учительница даже зачитывала в качестве примера перед всем классом. Но одно дело писать сочинение по чужой истории, и совсем другое – по своей собственной. Как рассказать о своих чувствах? Где найти слова, чтобы объяснить, как сильно ты по нему скучаешь? Что живешь только ВМЕСТЕ с человеком, а время от встречи до встречи, от звонка до звонка – просто проживаешь на автомате. Как изложить на бумаге свою любовь? И можно ли доверить ее бумаге? Не попадет ли письмо в чужие руки? Не посмеются ли над ним? Не обратят ли во вред его автору и адресату?
Я просидел допоздна, но так и не родил ничего путного. От досады и тоски сводило скулы и выкручивало суставы в запястьях. Я смотрел на девственно чистый лист и думал: как я буду жить без Эда два года, если я и двух дней протянуть не могу?
Решение созрело к утру. Я проснулся с ясным осознанием того, что я должен сделать. Не будет никаких писем. И трескучих телефонных звонков тоже. Жлобин – так Жлобин.
Отрубить концы прежней жизни оказалось технически несложно: я написал заявление об увольнении из «Леннефтепродукта» и купил билет на поезд, отправляющийся через две недели. Я старался не думать о том, что ждет меня по приезде в Жлобин: где я буду жить, где я буду работать. Если пытаться решить все вопросы заранее, с выписками-прописками, то можно было вообще никогда не уехать. А я решил ехать во что бы то ни стало, и даже Эду не стал сообщать о своем прибытии. Я знал, что он будет против, что будет отговаривать, что не позволит рушить из-за него мои многообещающие перспективы, отказываться от того, что я имею. Где-то в глубине сознания даже свербила подленькая мыслишка о том, а вдруг Эд вообще не будет рад мне, что вдруг я был всего лишь его северно-столичным приключением, авантюрой, что не нужен ему сам по себе – без Ленинграда… Но я гнал от себя эти мысли, утверждаясь в том, что со своей стороны сделаю все, что смогу, а там – как карта ляжет. В конце концов Эд сам говорил о судьбе, вот заодно и проверим…
Сложнее всего было с родителями. Что сказать им? Чем мотивировать свой внезапный отъезд? Поймут ли они, если сказать им правду? Мать, как мне казалось, еще могла бы меня понять, но отец… Единственный ребенок в семье, любимый сын, наследник, продолжатель рода, оплот отцовских чаяний и надежд – педераст, бросивший все на свете и уехавший к черту на рога ради того, чтобы сливать свою семенную жидкость в гостеприимную попку мальчика-изгоя… Нет, пусть уж лучше думает, что я умер.
В свой последний рабочий день я передал дела бывшему сокурснику Мише, получил расчет за неиспользованный отпуск и попросил еще у родителей под благовидным предлогом. На следующее утро отец подбросил меня на машине до уже несуществующей работы, на которую я, естественно, не пошел, а вернулся домой, упаковал дорожную сумку и собрался было уходить, но остановился у порога. Я представил, как родители будут ждать меня на ночевку, как измученная бессонной ночью, заплаканная мать будет звонить на мою работу, как они узнают, что я уволился, потом обнаружат исчезновение моих личных вещей, как взволнованный отец будет сидеть в отделении милиции и умолять дежурного начать мои поиски, и как тот будет отказываться принять заявление, ссылаясь на то, что я уже взрослый, самостоятельный человек, погуляю и вернусь, что у них есть дела и поважнее, а отец будет строить тревожные предположения о том, что вдруг со мной все-таки что-то случилось, что у меня большие проблемы, раз я вот так внезапно и без предупреждения. Или вдруг начнут искать и найдут – в постели с парнем… Я вернулся в комнату и написал записку:
«Дорогие мама и папа. Я вынужден уехать в другой город. Причины объяснить не могу – вы все равно не поймете. Искать меня не надо. Когда вернусь, не знаю, быстро не ждите – может, года через два. Но не волнуйтесь за меня, у меня все в порядке. До свидания. Женя».
Даже в самом страшном сне я не мог предположить, что когда-нибудь буду уезжать из своего родного и так горячо любимого города насовсем. Моя мать была родом из Волгограда, и всю жизнь я подсознательно был настроен скорее на то, что однажды приведу в свой дом жену из каких-нибудь дальних краев. Но я стоял у открытого окна в коридоре купейного вагона в составе поезда «Ленинград – Гомель», провожал взглядом до боли знакомые городские пейзажи, прилегающие к Витебскому вокзалу, и не испытывал при этом ни малейшего сожаления.
Поезд прибыл в Жлобин субботним утром. Первое впечатление было обнадеживающим: в белорусском городке присутствуют девятиэтажки и ходят маршрутные автобусы. Но маршрутов я не знал и решил воспользоваться услугами такси, стоимость которых оказалась одинаковой для поездки в любую точку города. Таксист за десять минут доставил меня по указанному в бумажке адресу, написанному рукой Эдика ради моих почтовых отправлений, как оказалось, на самую окраину, и остановил напротив сетчатого забора, огораживающего участок с расположенным на нем самым обычным деревенским домом.
Калитка была не заперта. На входной двери дома не было звонка. Я постучал, но этот звук показался мне таким тихим по сравнению с тем, как мое сердце от волнения стучало в ушах. Я собирался ударить еще раз, посильнее, как дверь распахнулась.
В проеме стоял Эд и смотрел на меня ровно с тем же растерянным выражением лица, какое было у него, когда он уезжал от меня на электричке в метро:
- Ты?
- Я. Как видишь.
- Что ты тут делаешь?
- Приехал.
- Зачем?
- К тебе. Я насовсем приехал, - поспешил сразу объяснить я, предупреждая дальнейшие вопросы. – Точнее, не совсем к тебе, я где-нибудь в другом месте поселюсь, конечно, но в Жлобин насовсем.
- Зачем?
- Чтобы быть с тобой.
- Ты с ума сошел. Ты не должен был этого делать. Ты не должен ради меня уезжать из дома, не должен бросать работу. Мужчина не должен быть ведомым. Следовать за возлюбленным - это женская жизненная позиция, - отрезал Эд.
Нда, видно, все-таки не судьба…
- Ну, все мы немного женщины в определенной степени, - усмехнулся я, но совсем не весело. – Да мне вообще насрать! Мужское, женское. Какая мне разница?! Я не могу без тебя. А ты что… не рад?
Эд смотрел на меня строго. Мне хотелось взвыть. Но вдруг он засмеялся и бросился мне на шею:
- Да я безумно рад, Жень! Ты даже не представляешь, как я тебе рад! Так хреново было без тебя! Я каждое утро у окна почтальона караулил, высматривал, не принесет ли от тебя письмо. А писем все нет и нет. Я уже испугался, что потерял тебя, что не нужен тебе больше, что ты меня забыл. Ленинград ведь город большой, мало там, что ли, таких Эдиков? А ты сам приехал и говоришь, что я не рад. Да как тебе в голову пришло такое?! Я не то, что рад, я просто счастлив, счастлив, Жень!..
Сжигать старые мосты было просто, а вот строить новые оказалось несколько сложнее.
Жлобин – небольшой городишко районного масштаба в Гомельской области, количество жителей которого составляло около пятидесяти тысяч – меньше Ленинграда в сто раз. Большинство взрослого населения трудилось на местном металлургическом заводе. Больше работать, по большому счету, было негде. Поэтому я тоже отправился устраиваться на БМЗ*.
В отделе кадров меня встретили с некоторым недоумением. Пожилой кадровик долго и недоверчиво изучал мой паспорт на странице прописки:
- И что же сподвигло вас, Евгений Геннадьевич, перебраться из Северной Пальмиры в такую глухомань?
В ответ я наговорил что-то жутко патриотическое, в духе освоения непаханой целины, только в сфере промышленности. Из чего кадровик, вздохнув, сделал свой вывод:
- Понятно, перипетии личной жизни. Ладно, посмотрим, чем мы можем помочь молодому ленинградскому специалисту.
Я много раз сталкивался с тем, что жители нашей необъятной Родины почему-то с очень большой симпатией относятся к ленинградцам. Куда бы ни приезжала наша семья, нас везде принимали подчеркнуто дружески, старались оказать помощь в возникающих проблемах, отдавая нам приоритет относительно жителей из других городов, особенно москвичей. И это правило, похоже, снова сработало.
Помощь, однако, была негуста. Свободных вакансий по моей специальности на предприятии не оказалось. Единственным более-менее близким к моему экономическому образованию было место в бухгалтерии. А я как-то совсем не видел себя бухгалтером. Но мне пообещали, что со временем что-нибудь обязательно освободится и, как только появится возможность, меня переведут в другой отдел. Я согласился. Не идти же на мясокомбинат с моей нежной, практически вегетарианской философией.
С жильем дело обстояло тоже не идеальным образом. У завода было несколько своих общежитий, но все они были заняты под завязку. Мне предложили временную прописку, но о жилье я должен был заботиться самостоятельно.
В первый рабочий день меня привели в просторное помещение, заставленное десятком столов с сидящими за ними тетеньками разных возрастов и размеров, представили коллективу. Появление мужчины в женском царстве вызвало оживление, бухгалтерши потом еще целый день шушукались между собой, искоса на меня поглядывая. Мне выделили стол, единственно свободный – с самым неуютным расположением, на проходе. Завод был построен всего несколько лет назад, здания и их начинка были современными, новыми, свежими. Мой стол тоже. Главбух навалила на его чистую полированную поверхность груду бумаг по моему участку – бесконечные цифры, цифры, цифры… Я начал осваиваться, полез по ящикам, обнаружил там кое-какую канцелярию – ручки, карандаши – и огромные деревянные счеты с затертыми костяшками. Я тупо смотрел на это анахроническое устройство и мне стало вдруг так тоскливо. Где я? Что я здесь делаю?..
- А калькуляторов тут не полагается? – спросил я.
- Если вам удобнее на калькуляторе, Евгений Геннадьевич, вы можете написать служебную записку снабженцам – утвердят, внесут в план, купят, - успокоила главбух.
- Ладно, я сам куплю. Знаем мы эти долгосрочные планы.
Пока я подыскивал себе жилье, я жил у Эдика: спал на повети, мылся в бане, помогал в огороде. Познакомился с его родителями – интеллигентными, начитанными людьми, которых даже странно было видеть в этом сельском доме, между грядок с луком и помидорами. Потом я перебрался в найденную с трудом однокомнатную квартиру. Она была очень маленькой и в жутчайшем состоянии – с разводами на потолке от предшествующих протечек, со свисающими со стен обоями и скрипучей, готовой в любой момент развалиться мебелью. Зато я мог беспрепятственно встречаться там с Эдом, и цена за это не кусалась.
Потекла размеренная провинциальная жизнь. Я подбивал ведомости и сводил дебеты с кредитами в бухгалтерии металлургического завода, а Эдик писал статьи для жлобинской районной газеты «Камунiст». Наступали времена тотального дефицита и перебоев с заработной платой, и мы с тревогой ожидали, когда же и нам начнут выдавать зарплату собственной продукцией – стальной проволокой и газетами. Помимо работы делать в Жлобине было практически нечего. Единственные развлечения – библиотечные книги и хоккей. Я всю жизнь был футбольным болельщиком, к хоккею относился равнодушно, на играх не был ни разу, но Эдик был фанатом местной хоккейной команды «Белсталь». Он затащил меня на хоккейный матч с ее участием, и я был в восторге от живой игры: от динамики, от скоростей, от мужской силы, от зрелищной мощи ударов о борта. И все это происходило совсем рядом: площадка, в отличие от футбольных стадионов, была практически на расстоянии вытянутой руки, и ты оказывался втянут в игру, находился под ее напряжением, дышал в ее быстром ритме. Я тоже увлекся, и мы не пропускали ни одного домашнего матча.
Родителям я позвонил только один раз – перед Новым годом. Я боялся, что мать будет плакать, а отец старательно, но плохо сдерживая эмоции, выговаривать мне за то, что я вот так скоропостижно исчез. Все произошло именно таким образом – тяжелый разговор. Я жил и старался не думать об этом. По крайней мере, они теперь об этом знали – что живу. И что не думаю – тоже.
Все, вроде, устаканилось. И было таким до тех пор, пока в один холодный мартовский день Эд не появился на пороге моей квартиры с болезненно знакомым мне чемоданом.
- Опять?!
- Опять. – Эдик устало прислонился к косяку двери и закрыл глаза.
- Что на этот раз?
- Все то же.
- Вовчик?
- Да. Он и тут меня достал. Представляешь?
- С трудом.
- У него, наверное, весеннее обострение. Он узнал мой адрес и написал моим родичам письмо: очень обстоятельное и очень подробное – все-все про меня, и почему я уехал. Я, конечно, все отрицал, но отец пригрозил мне медицинским освидетельствованием. Я хотел блефануть, сказал «да пожалуйста!», думал прокатит, но отец и правда потащил меня к врачу. Пришлось сказать все, как есть. Я думал, он удавит меня прямо на месте, собственными руками. Ты бы видел его.
- И что теперь?
- А ничего нет теперь! Ни отца, ни матери, ни дома. Сказали, чтоб ноги моей там не было, что сына у них больше нет, что лучше бы я тогда сдох. У меня в детстве серьезное воспаление легких было, думали умру, еле откачали. Теперь счет выставили: вот мы тебе тогда, а ты нам что в ответ? В общем, невесело все, сам понимаешь…
Я еще никогда не видел Эда таким. Даже когда Вовчик рассказал о нем сокурсникам, Эдик держался отлично и шутя отмахивался от своих проблем. Но теперь он был разбит, раздавлен. Он неподвижно лежал на диване, с отсутствующим взглядом, уставившись в потолок. Я смотрел на него и практически физически ощущал его боль. Я сидел на краешке дивана и думал: почему он не убил тогда Вовчика? Почему Я его не убил?..
Я взял его руку и прижал к своим губам. У Эда были очень красивые, но сильные руки, с изящными, с тонкими кончиками пальцами.
- Я могу тебе чем-нибудь помочь?
Эд покачал головой:
- Ты и так помогаешь мне. Тем, что ты есть у меня, что не бросаешь, нянчишься тут со мной. Не знаю, что бы я вообще без тебя делал. Повесился бы, наверное. Я пока у тебя перекантуюсь, а потом тоже найду себе что-нибудь съемное.
- Не надо искать. Живи тут.
- Вдвоем с тобой? А ты представляешь, как это со стороны будет выглядеть, если мои родители дадут ход информации? Сарафанное радио в провинции работает быстро и без сбоев. Ладно я, мне терять уже нечего. Но ты? Вляпаешься – не отмоешься.
- Да мне все равно. Сколько можно прятаться? Жить в вечном страхе и вздрагивать от каждого шороха? А толку-то? Все равно можно где-нибудь проколоться. Так что живи здесь. Бывает же, что друзья напополам квартиру снимают, чтобы дешевле было, ничего такого в этом нет. Девчонок можно периодически в гости приглашать для отвода глаз. Да и предки твои, может, никому и не скажут, что сын гомосексуалист – стыдно же. Так зачем бояться заранее, мучить себя? А скажут – ну, значит, не повезло. Но жизнь-то и на этом не закончится. Придумаем что-нибудь.
- Это мы типа семья будем?
- Типа да.
- И кто будет выносить мусор?
- Не знаю. Решим по ходу. Могу я выносить.
Мне было стыдно за свои ощущения, но теперь я даже не знал, что мне делать больше: расстраиваться из-за того, что Эда выгнали из дома, или радоваться тому, что у нас будет общее окно, о котором я так мечтал…
Всю ночь мы изгоняли тоску сексом. В эту ночь мы впервые поменялись ролями. У меня уже было когда-то, но давно. В эту ночь Эд не был нежным и ласковым мужчиной, каким он бывал после, а наоборот – резким и агрессивным. Он вколачивал в меня свою боль, отдавал ее мне, и мне от этого было кайфово. Давай, давай, еще! Ради тебя, родной, – все, что угодно…
Теперь мы типа семья. Эта мысль крутилась в голове и мешала сосредоточиться на ведомостях отгрузки. Если бы я был женщиной, то мог бы помечтать о том, как я буду стирать его носки и гладить его рубашки. Но парню мечтать о таком не положено, к тому же Эд скорее всего сам будет стирать свое и гладить, как, впрочем, и я. По-другому мне представлялось с трудом. В итоге я пришел к выводу, что надо хотя бы купить что-нибудь особенное к ужину и немного разгрести творящийся в квартире бардак. Это у меня только в цифрах на работе порядок, а по жизни я жутко неорганизован, постоянно опаздываю, тороплюсь и поэтому у меня все везде разбросано. Но реализоваться моим благим намерениям в тот день так и не было суждено. Придя домой, я обнаружил там идеальную чистоту и Эдика, колдующего на кухне над чем-то аппетитно пахнущим.
- С работы сегодня удалось вырваться пораньше, - сообщил он весело и чмокнул меня в нос.
В Жлобине есть парк. Он тянется узкой полосой вдоль Днепра и так и называется – Приднепровский. Это главный парк города, он ухоженный, с аккуратными, уютными дорожками. Одна из них, с расставленными по ней скамейками, проходит вдоль самой кромки воды. Наша квартира располагалась недалеко от парка, и мы частенько сидели там, наблюдая за неспешным течением реки, иногда до поздней ночи.
- Представляешь, - сказал однажды Эд, глядя в звездное летнее небо, - я тут узнал, что в Дании приняли закон, разрешающий жениться людям одного пола. Это не совсем брак, им нельзя усыновлять детей, но в остальном все, как у гетеро.
- Да ладно!
- Нет, правда. У нас это, естественно, не афишируют, но мне стало известно по нашим журналистским информационным каналам.
- Нифига себе! Везет же людям. Вот бы у нас так.
- Ага, не дождешься.
- Уехать бы тогда туда… Насовсем.
- Да как ты уедешь из нашей Совдепии? Хрен выпустят. К тому же там такое условие, что один из партнеров обязательно должен быть гражданином Дании. Так что даже мечтать не стоит.
- Ну, пусть не жениться, так хоть жить там, где к тебе будут относиться по-человечески. Где нет уголовного преследования. Где не надо спасаться бегством от вовчиков, не надо скрываться от отцов. Там, где можно дышать свободой… И как не мечтать, Эд? Жизнь не стоит на месте. Все же может измениться. Даже в нашей стране. Я в это верю. По крайней мере, очень хочу верить… А если не мечтать, если не ждать, если не надеяться – то как жить вообще тогда?
----------------
* БМЗ – Белорусский металлургический завод



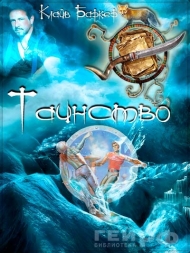
44 комментария