Артём Кузелев
Собаки на Сене
Париж, путешествие на барже по хмурой Сене, сырость, туманные рассветы...
На фоне этих импрессионистических видов - сложные взаимоотношения главных героев, пытающихся задержать ускользающие чувства.
 Из тех месяцев, что мы жили на барже, я лучше всего запомнил бесконечный дождь, миазмы Сены, затхлый запашок отсыревшей древесины и несвежих носков. Дождь шел сутки напролет. Сколько это продолжалось? Вечность. Так не свойственно Парижу и так естественно для нас с тобой. Дождь баюкал, дождь раздражал, заставлял кутаться в свитера и шали, делал все призрачным и сюрреальным. Постоянный насморк и боль в горле, холодные влажные ноги, посиневшие губы и парок изо рта – это то, что я помню лучше всего из того мгновения вечности. Приходилось экономить на топливе: не так уж много дров и угля оставила нам хозяйка этой развалины. Мы дрейфовали от причала к причалу, не останавливались подолгу на одном месте. Нехитрую снедь и вино мы покупали у береговых торговок, реже – выходили на набережные. Еда – не всегда свежая, коньяк (а уж тем более вино!) – часто разбавлен. Но это был наш с тобой рай. То время, где мы остались навсегда. Те месяцы длятся до сих пор.
Из тех месяцев, что мы жили на барже, я лучше всего запомнил бесконечный дождь, миазмы Сены, затхлый запашок отсыревшей древесины и несвежих носков. Дождь шел сутки напролет. Сколько это продолжалось? Вечность. Так не свойственно Парижу и так естественно для нас с тобой. Дождь баюкал, дождь раздражал, заставлял кутаться в свитера и шали, делал все призрачным и сюрреальным. Постоянный насморк и боль в горле, холодные влажные ноги, посиневшие губы и парок изо рта – это то, что я помню лучше всего из того мгновения вечности. Приходилось экономить на топливе: не так уж много дров и угля оставила нам хозяйка этой развалины. Мы дрейфовали от причала к причалу, не останавливались подолгу на одном месте. Нехитрую снедь и вино мы покупали у береговых торговок, реже – выходили на набережные. Еда – не всегда свежая, коньяк (а уж тем более вино!) – часто разбавлен. Но это был наш с тобой рай. То время, где мы остались навсегда. Те месяцы длятся до сих пор.Абсолютно голые, свежевымытые и выбритые мы
лежали на своем матрасе под всем этим тряпьем, которое досталось нам в
наследство от прежних обитателей баржи. В изголовье – три огромных белых свечи.
Ты – на спине – что-то мурлыкал под аккомпанемент своего mp3-плеера. Я – на
животе, на локтях – в который раз перечитывал Миллера (единственная книга на
русском, которую я соизволил взять с собой – увесистый второй том «Розы
распятия», с шестой главы «Плексуса»). Фоном – бесконечная влага, висящая в уже
прохладном воздухе, хлюпающая по реке, стучащая по жестяной крыше,
просачивающаяся кое-где, но влага здешняя, только наша, ничья больше.
Часам к двум ночи ты избавлялся от наушников и почти сразу же начинал сопеть. Твой, по-детски скорый и глубокий, сон окутывал тебя всего, успокаивал и примирял. Периодически – вздохи, какие-то почти всхлипы и стоны, невнятные возражения и забавные позы. В этой тесноте нашего незамысловатого ложа мы раскалялись друг на друге, становились влажными и липкими. Хотелось отстраниться друг от друга, но, наоборот, объятия становились еще крепче, ноги сплетались в узлы, носы и рты (невинная струйка слюны!) утыкались в шеи, уши и подмышки. Мы пропитывались друг другом. И, конечно, дождем, унылыми сигналами проходящих суденышек, шумом с берега, гнилостными запахами Сены и палой листвы.
Свечи я обычно задувал, когда занимался рассвет. Даже не рассвет, а эта необыкновенная серая, полупрозрачная, мутноватая пора. Часто все становилось белым от поднимающегося с реки пара и тумана. Три-четыре моих выдоха и помещение заполнялось таким сладким запахом потухших свечей и остывающего воска. Это напоминало детство и новогодние каникулы. Все пропитывалось волшебством и сказкой. Даже чудился запах елки и шоколада. Хотя… какой уж тут шоколад!
Растревоженный этим ароматом, ты на мгновение просыпался и сгребал меня в охапку, буквально подминая меня под себя. Мою шею щекотало твое горячее, кисловатое со сна дыхание. Я тихонько начинал выпрашивать:
– Саша… Саша (ударение, конечно же, на последнем слоге)…
Ты мычал и, наверное, начинал сердиться. Впрочем, ты никогда не говорил мне, что этот предрассветный ритуал раздражает тебя.
– Саша, Аполлинер…
Ты с шумом выдыхал и говорил:
– Спи, – и крепче прижимался к моей спине (горячий пах у ноги, птичка сердца в правой руке), так и не прочитав мне не сон грядущий. Этого и не требовалось – просто сонный ритуал, чтобы скрепить объятия. А когда мы проснемся, будут и Аполлинер, и Верлен, и Бодлер. И все в оригинале, с твоим нарочитым грассированием, почти неуместным здесь, но так забавляющим меня.
А пока я засыпаю под нестройную музыку дождя и сладкий аромат остывающих свечей.
Было около четырех часов дня, когда мы
проснулись, разлепили склеенные похмельным потом тела, продрали зенки. Голова
моя была пустой как чугунок, и такой же тяжелой. Тошнота, смрад, отекшая рожа.
Я покосился в угол на почти пятилитровую бутыль с адским пойлом, которое мы
пили полночи (даже не треть выкушали) – не то бренди, не то ром, впрочем,
эффект совершенно невероятный, так что ни на что этот напиток не похож – и
вспомнил, что мы снова подрались. С чего все началось-то? Помню лишь, что в
самом начале попойки, разговор был натянутым, с нотками-ноготками взаимных обид
и упреков. Полное непонимание друг друга. Мы говорим на разных языках.
– Парле франсэ! – настаиваешь ты каждый день, после каждого
моего к тебе обращения, перед каждым моим ответом на твой вопрос. Обижаешься,
если молчу или отвечаю на русском. Зачем? Я не знаю языка. Мне не интересен
французский. Не нахожу никакого очарования в разговорах с тобой на иностранном
языке. Мы на русском-то изъясняемся по-разному. К чему строить абракадабру на
французском? Подбирать французский эквивалент к неподобранному русскому. Ни
одного дня между нами не было покоя и идиллии. Это выматывает. И эти экзерсисы
ни к чему.
– Принеси водички… – твой стон. Плетусь к чайнику, по пути заглядываю в осколок зеркала. Так вот оно что! Левый глаз затек шикарнейшим фиолетовым синяком. Трогаю. Тело откликается болью. Сначала начинаю сердиться, почти прихожу в ярость. Сразу же остываю. Улыбаюсь. Мне даже в кайф. А что? я всегда любил синяки. Чем больше синяк, тем лучше. Особенно палитра, которая с каждым днем меняется: от бордового к фиолетовому, затем к зеленому и постепенно – к желтому. Давишь пальцем – приятная боль. Почти нежность.
– Ну, ты даешь…
– Ммм…
– Посмотри на мою рожу.
Разворачиваешься лицом ко мне… И мне становится стыдно. Обида мешается с раскаянием. Твой левый глаз тоже разукрашен. Только если меня мой фонарь веселит, то твое искаженное синяком и отеком лицо причиняет боль.
– Прости меня! – почти со слезами.
– У меня тоже? Дай зеркало.
Иду с чайником и осколком, в который мы смотримся при бритье.
– Мерде!.. Черт! Ну, ни х*я себе!
Ты на одном конце матраса, я – на другом. У тебя – осколок зеркала и подушки под задницей, у меня – закопченный чайник. Смотрим друг на друга. Совсем растерялись. Расстрелялись взглядами, искрами из глаз. И вдруг, одновременно… Смех! Гогот до судорог. Со стоном и иканием. Со слезами из глаз. Долго, по-ребячески неостановимо. Пальцами друг на друга. Волосы взъерошены, члены трясутся, животы дрожат.
Потом упали, улеглись валетом. Ты все еще хихикал, вспоминал нашу ссору, нашу пьяную драку, проклинал сомнительный алкоголь… А я был горд за тебя. Действительно, это же впервые ты ответил мне, дал мне сдачу (считайте у кассы!), собрал свои силенки в кулачок (детский, мальчишеский в твои тридцать два) и шандарахнул мне в рожу. Я как-то по-другому зауважал тебя. Мне стало приятно оттого, что ты способен на это. Я курил в потолок и улыбался. И уже не слышал, о чем ты лепетал на том краю матраса. Мое похмелье улетучивалось так же легко, как легко и незаметно вчера пришло опьянение.
Правой рукой я подносил ко рту сигарету, стряхивал куда-то там пепел, левой ощупывал отекший глаз. Я чувствовал боль, щурился и улыбался. Мне было хорошо. У меня появился новый ты.
Мон Шарантон. Я перелистал свой словарик, я искал
в разговорнике… Я не нашел, что такое Шарантон. Я просто глупо улыбался, когда
ты говорил мне эти слова. Делал вид, что мне приятно. Если б тогда я знал о
Шарантоне, если б тогда Верлен, Малларме, Сартр, Фуко и прочая-прочая оказались
под рукой не в подлиннике… Мне было б намного приятней. Вся эта готическая
романтика Парижа, парижские живодеры, могильщики и палачи, селившиеся
поблизости друг от друга… Все это дарило мне такое болезненное восприятие
жизни. Болезненное, но яркое. Красота безобразного, упадничество,
отвратительное и прекрасное неотделимые друг от друга, затуманенность сознания…
Из этого болота я черпал жизненные силы, этим питался, этим дышал, это
заставляло творить, бороть сон и опьянение, прорываться-просовываться наружу, в
реальный мир, видеть всю его зыбкость и нереальность, окончательно запутываться
в своих мыслях-видениях и… в конечном итоге тупо пялиться на серую, серную,
сонную, слепую воду Сены и плакать… ни о чем… неостановимо… до самого утра… до
момента, когда можно задуть свечи, вдохнуть их таящий аромат и уснуть, избавиться
от всей тяжести открывшегося мне…
Мон Шарантон, мон Бедлам. Когда я дурачился или смеялся без видимого тебе повода. Мне можно было б и не узнавать значения слов. Я догадывался, дочувствовался, доживал до их сути. Я знал, что ты хочешь сказать, но это знание приносило лишь боль. Я не привык быть в монологе, мне хотелось ответов, вопросов, обращений и голоса твоего. Понятного и может быть совсем безъязыкого. Просто звуков обращенных ко мне.
Ты стал для меня моим Парижем, моей Сеной, несущей гнилостные ароматы, поднимающей ил и тину, оголяющей остова каких-то железяк. Мон Пари… Мы умирали в ту осень. Судьба наша была предрешена. Лица наши отворачивались друг от друга, взгляды чаще устремлялись вдаль, как будто искали что-то за горизонтом, ждали спасения, руки тянулись лишь к дешевому пойлу или сигаретам. Наша любовь издавала последний вздох, закашливалась, отхаркивала кровавую мокроту, закатывала глаза… на ее лице проступала усмешка, как будто ей становилось легче… Нам двоим становилось легче и проще… с каждым днем, приближавшим нас к отъезду домой. Многоточия превращались в точки, пока еще не жирные и решительные, вопросительные знаки распрямляли спины. Разговоры смолкали, сходили на нет. Стихли ссоры.
Мон Пари, ты наконец-то впустил в себя лучи света (не солнца), разогнал облака стального цвета над своей головой. Ты позволил себе жить. Ты разрешил пожить мне…
«Ты плясал ли когда-нибудь так, мой Париж?
Получал столько ран ножевых, мой Париж?
Ты валялся когда-нибудь так, мой Париж?
На парижских своих мостовых, мой Париж?
Горемычнейший из городов, мой Париж!
Ты почти умираешь от крови и тлена.
Кинь в грядущее плечи и головы крыш, –
Твое темное прошлое благословенно!»
Приходила Наташка. Наше утлое суденышко
заполнялось ее щебетанием. Я называл ее своим воробышком. Растолкав нас опухших
с похмелья, Наташка начинала чирикать о том, как продвигаются ее переговоры с
какой-то-там-фирмой, для которой она делала кампанию. Приятно изломанный
русский перемежался парижским студенческим сленгом. Наташка хохотала, дула накрашенные
губки, соскакивала с места, снова садилась, заваливалась к нам в постель,
требовала кофе, щекотала нас, пищала о том, как она хорошо все спланировала и
что вставайте-сони-это-будет-ваш-самый-лучший-день-я-иду-вас-выгуливать. В
конце концов, она сама зажигала газ, отправляла тебя за хлебом, а потом, когда
ты все-таки натягивал джинсы и отправлялся на берег, бухалась рядом со мной и,
буравя меня своими черными глазками, цедила сквозь губы:
– Ну, как у вас?
– Наташа, я тебя умоляююю… Как у нас может быть? Все идет своим чередом… Я же говорил тебе, что все кончено. Единственное, что нас объединяет, это те жалкие деньги, которые мы платим тебе за приют. Если бы мы имели достаточно средств, чтоб разъехаться, мы бы непременно это сделали. Хватит ворошить прошлое.
– Жаль… Я так вас люблю. Вы для меня одно целое. Не представляю вас поодиночке.
И следом вкрадчиво вставляла (не могла удержаться):
– Он кого-то нашел?
– Наташ, мне все равно. Даже если и так, что такого? Хотя… когда бы он это успел? Днем он спит, а ночью квасит со мной.
– Что ночью?
– Бухает! – и рукой в сторону нашей бутыли с неопознанной жидкостью.
– Оу… Где вы это взяли?
Наташка просто зашлась в смехе. Она каталась по матрасам, все больше запутываясь в своей юбке, хохотала как сумасшедшая и визжала что-то на-французском.
– Это Саша добыл. Честным переводческим трудом. Пропустишь стаканчик?
– О, нет! Не хочу выглядеть как вы!
Она успокоилась и начала выпутываться из подола и простыни. Потом с хитрой ухмылкой она подошла к бутыли, сняла пробку, вдохнула и закашлялась. Кашель смешался с истерическим смехом, лицо ее побагровело, из глаз потекли слезы. Эти ее приступы смеха – единственное в ней, что могло меня раздражить:
– Господи, тебе и бухать не надо! Ты и так двинутая.
Откашлявшись и уставившись в наш осколок, Наташка начала поправлять макияж. От этого занятия ее речь стала растянутой, Наташка как будто подбирала слова:
– А у тебя как дела? Ты с кем-нибудь познакомился?
– Наташ, мне это не нужно. Меньше, чем через месяц я буду дома. А пока все время, пока я трезв, я стараюсь писать эти дурацкие обзоры. В конце концов, нам скоро станет нечего жрать.
– Ха! Зато вам есть, что пить. И твои статьи совсем не дурацкие обзоры, а довольно интересные материалы. Знаешь, у тебя такие странные впечатления и образы…
– Только в основном вымышленные!
– Зато за них платят.
– Да уж, дома я б за такую белиберду не получил бы и гроша ломанного.
– Слушай, где этот козлик? Нам придется пить холодный кофе.
Ее голос, ее акцент напоминали Дапкунайте. Как будто она не отрывала языка от неба и передних зубов. Кроме того, в ее речи я не слышал того грассирования, которым так щеголял Саша. Или не замечал его у Наташки, коренной парижанки? Впрочем, Саше видней, он – переводчик, он этим зарабатывал на пойло, сигареты, жрачку и жилье.
– Мон муано, как я буду без тебя дома?
Наташка улыбалась и уже совсем собиралась расплакаться, но Саша прервал наши нежности:
– Куда ты нас поведешь?
«В том, что происходит, виноваты мы оба. Но то,
что между нами, сильнее всех бед и проблем. Мы должны быть сильными и тогда все
у нас получится».
Твое сообщение. Далеко за полночь. Тебя все еще нет. Ты не предупредил, что задержишься, и теперь я схожу с ума. Полная неизвестность. Где ты? Все ли в порядке? Когда ты вернешься. Ночь растянулась в один бесконечный миг ожидания. Бумаги заброшены. Пепельница полнится. Я мечусь в замкнутом пространстве баржи. Сойти на берег? Зачем? Гашу свет и зажигаю свечи. Неизвестность и одиночество рождают во мне страх. Каждый шорох – опасность. Каждый крик с берега – твой крик. Каждый скрип, каждый всплеск – моя дрожь, мой резкий поворот головы.
Я заранее знаю, что ты где-то в городе. Пьешь в каком-нибудь кабаке (сегодня тебе должны были заплатить за очередные переводы), пристаешь к бармену, перекрикиваешься с посетителями… Этот сценарий известен, но к горлу все равно подкатывает комок. Мне страшно за тебя. Ты один в этом злом городе, пропитанном холодом и вековым смрадом.
Наташка по телефону сказала, что ничего с тобой не случится. И я знаю, что это так. Но это знание, эта уверенность не приносят покоя. Посидев с минуту, я соскакиваю из-за стола и подхожу к умывальнику. Смотрю в осколок. Мы ни в чем не виноваты. Просто все закончилось и… ничего уже не получится. Ты и сам это прекрасно знаешь. Просто алкоголь… Надеюсь, что твое завтрашнее разочарование, твоя досада не будет слишком сильной. Ты же сам говоришь, что мы должны быть сильнее. Так что не отворачивайся завтра от меня, не прячь глаз. Мы справимся, мы переживем. У нас все получится. Мы приедем домой, в Сибирь, и разбежимся по разным углам. Займем себя своими прежними делами, постараемся не появляться в «наших» местах, избегать «наши» маршруты… Наверное, ты сейчас очень пьян. Наверное, дым коромыслом. Шум вокруг и полутьма… Как же тебе одиноко в этом скопище хмельных голосов и взглядов!
Или ты веселишься. Выделываешь па под расстроенную музыку. Кадришь какого-нибудь итальянца. Французы для тебя слишком блеклы. Залпом пьешь одну за другой, закашливаешься и кричишь, чтоб повторили. Да, ты в своей стихии, в своей эпохе. Это твой Рив Гош, твой Сен-Жермен-де-Пре… Что там еще? Как же мне все это неинтересно!
А мне сейчас охота залезть под одеяло, скрючиться, скукожиться, свернуться калачиком во влажной постели и уснуть. А на утро проснуться с температурой, с кашлем и насморком, со стеклянными гриппозными глазами… с твоей заботой и твоим чувством вины. Твоим «мон пти», твоим «мон дье»… С аспирином и лимоном. Со звонками Наташке: что же делать? И со своим прощением.
А лучше всего – проснуться дома и ничего не помнить. Чтобы всего этого просто не было. Как и тебя. И этих месяцев, этого времени рядом с тобой. Этих записок, стихов и фотографий на моем винте. Наших совместных праздников и прогулок, наших поездок и наших попоек. Чтобы не было нашего кота, его шерсти на ковре и пледе. Чтобы не было того злополучного вечера восемь лет назад, когда я увидел тебя в клубе. И самих этих восьми лет проведенных в ожидании твоего появления. И чтобы никого вокруг. Без телефона и Интернета, без обещаний и встреч. Чтобы никого-никого. Чтобы так, как сейчас…
И вот ты приходишь.
Тревожишь мой сон. Лезешь под одеяло. Какой-то грязный и сырой. Хватаешь меня холодными руками. Прижимаешься влажными волосами к моей шее. Дышишь алкоголем и табаком. Начинаешь что-то хрипло мне говорить. Долгие паузы. Сглатываешь слюну, подбираешь слова. Несешь полную ахинею. Что-то о любви и том, как мы не можем друг без друга, о том, как убоги парижане, как тебе осточертела Сена и эта баржа…
Мне все равно. Я почти засыпаю вновь. Я знаю, что мне гораздо проще без тебя, чем с тобой. И ты мне совсем не нужен. Не мой калибр. Не мой формат. И все это после всех тех месяцев, всего того времени, что мы вместе. Сначала я думал, что поездка в эту страну, в этот город укрепит наш союз, мы станем ближе и счастливей… Похоже, мы, действительно, становимся счастливей. Мы понимаем, что нам нечего делать вместе. Что наши отношения приносят и тебе, и мне лишь разочарования и боль. Что было б лучше нам не встречаться вовсе.
Но пока… Пока мы еще не осознали этого окончательно. Нам еще трудно произнести это вслух без слез. Пока что мы отлаиваемся от этого понимания, отпугиваем его своим рычанием и оскалом. Пока что мы хватаемся за соломинки, жадно ловим взгляды и дыхание друг друга. Пока что мы цепляемся за руки и ноги. Стараемся не видеть всего ужаса, который сами же и творим. Разрушаем друг друга. Убиваем. Чтоб потом ничего не осталось. Не досталось никому. Чтобы только мое и ничье больше. Мое… ненужное мне.
Я говорю тебе:
– Через две недели мы расстанемся…
Ты, хмельной и не слышащий меня, говоришь, что через две недели мы будем дома, что все будет хорошо… Ты в очередной раз спасаешься сам и спасаешь меня. Мы не должны сейчас думать об этом. Пока что есть работа, есть жилье, есть Наташка, пока есть это тошнотворное пойло… Пока мир еще вертится вокруг нас, мы не должны чувствовать боль. Мы должны быть сильными в этой чужой стране. Мы должны быть вместе, чтобы защитить, чтобы спасти друг друга. Успеть на помощь при первом зове. Вздохе. Хрипе. Взгляде.
Сейчас мы не можем отпустить друг друга. Никуда. Никому. Ни за что на свете.


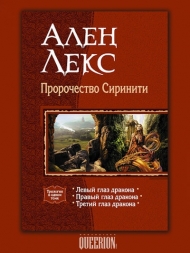


5 комментариев