Menthol_blond
Зима, весна, лето, осень
Аннотация
Год отношений, странных, вопреки законам логики, встречи, расставания, любовь… Цивилизация, состоящая из двух людей.
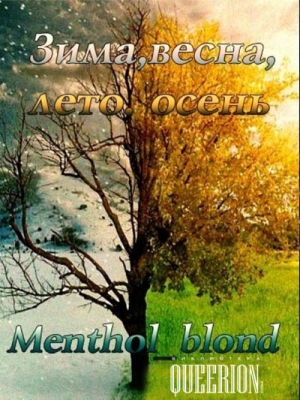 1.
1.Январь, да? Первый месяц. Как с чистого листа, потому что новый год начался. Впрочем, у разных народов по своему. В Израиле в сентябре новый год празднуют, в Китае и где-то еще на Востоке -- в феврале. Есть еще Старый Новый, исключительно наша мулька, праздник-дублер. Если ночь на первое января не задалась, то тринадцатого этот недостаток можно исправить. Мы с тобой, кстати, исправляли. Помнишь? Наверняка должен помнить, но вообще я это все к другому говорил. К тому, что если мы с тобой -- такая вот социальная единица, вроде как цивилизация в миниатюре, то летоисчисление должно начинаться со дня знакомства. Или с того дня, когда у нас все началось? Хм... Или лучше все-таки с января начать?
Итак, утро тринадцатого января две тысячи лохматого года от Рождества Христова выдалось вполне себе зимним и морозным. С разводами инея на стеклах входных дверей. С белыми барханами на скамейках скверика, с жесткими полосками снега, превратившими окна в учебное пособие "вид сугроба в разрезе". Впрочем, к полудню вся эта красота потемнела и размякла, словно попавшая в глубокую лужу новогодняя открытка. Ну вот, опять вместо сказочного января слякоть и другие радости мегаполиса. Но это тоже неважно. Асфальт в слякоти, тротуары в кисельно-сером месиве. Ты в легком смущении от простого вопроса:
-- Что у тебя с руками?
Пытаешься накрыть кулак ладонью, чтобы скрыть от меня лопнувшую кожу на костяшках. Одни болячки спрятались, зато другие теперь на виду. Можно подумать, что сбылась архаичная, медицински-дворовая страшилка -- "Будешь себя там трогать -- пальцы отвалятся". Ничего не отвалятся, конечно. Тем более, что тебя там в основном трогаю я. А трещинки на покрасневшей коже -- потому что без перчаток ходишь.
Первое время Витька врал мне, что их теряет. На третью встречу раскололся:
-- Я их не люблю. Все кажется, что, как только перчатки надену, сразу настоящая зима начнется, понимаешь?
Понимаю. Сам такой. Только старше на двадцать лет.
Восемнадцать и тридцать восемь. Целое поколение. Двадцать лишних январей, двадцать старших февралей и так далее, и тому подобное... Я старше Витьку на больший возраст, чем ему самому сейчас. Сложно. Причем не только в тех случаях, когда я объясняю, над чем сейчас шутил. Сложно не дать понять, как это: когда уже примирил себя с тем, что вот такого, взаимного, обоюдномужского интереса больше в жизни не будет. Когда на себе в каком-то смысле слова крест поставил. Не хотел, конечно, но... В общем, мысленно похоронил себя за плинтусом, а потом резко возродился. Иногда страшно от этого: кажется, будто я свою собственную юность себе обратно оттягиваю. Отнимаю ее от Витьки.
На "Виктора" ты, кстати, почти не откликаешься. Жесткое имя, паспортное, взрослое. В обиходе у нас другое -- "коллега", "кадет", изредка "Радость моя". Потому что Витька, действительно, в радость... Даже когда просто молчит, слушает и кивает. В зрачках плавает свет от прикроватной лампы...
Глазищи золотистые блестят. Как свежая заварка в чашке тонкостенного фарфора, как янтарные капельки меда на свету, как тяжелая полоса закатного солнца на чистом паркете, как... И сам себя обрываю на полуслове, потому что дыхание перехватывает. Замираю на секунду, будто оглядываюсь, хотя чего оглядываться, в моей квартире мы одни, а потом тянусь или прижимаюсь, или тыльной стороной пальцев по подбородку провожу:
-- Радость моя...
Идентичная дрожь при первом прикосновении, взаимные робость и неловкость, похожий жар в губах, и еще одна дрожь -- когда холод чужих пальцев кажется ожогом... Когда напряжение проходит, потому как понимаю, что ты тоже боишься и тоже не сильно это скрываешь... Когда прислоняешься к чужой спине, а кажется, что позвоночник гудит у тебя. Когда чувствительность такая, что контроль теряется даже не от прикосновений, а от горячего дыхания над зудящей и изнывающей кожей. А потом -- одновременное удивление, когда доходит, что у нас все получилось...
2.
Кафушка, расположенная в угловой булочной, за последние двадцать лет сменила штук пять официальных названий, пяток ремонтов и три десятка заведующих. Но кодовое название "Стекляшка" оставалось неизменным. "Стекляшкой" она оставалась и сейчас -- бетонная стена с обоями под кирпич и три запотевшие стеклянные витрины. Запах свежего кофе и сохлых слоек с повидлом и песком, разведенный кипятком и соком кагор, именующийся глинтвейном... А в дополнение к ним -- золотисто-зеленый аквариум с рыжими рыбами, мудрыми и наверняка прокуренными. И дым всегда стоял не коромыслом, а вопросительным знаком от дискуссий, сквозняк наметал от дверей дождевую пыль и обрывки "самых важных" разговоров, нитка чайного пакетика трепетала на ветру, как леска крошечного змея...
Прийти вовремя, никого не застать. Тянуть свой кофе -- медленно и почти тоскливо, потому как на второй денег может не хватить, а сидеть просто так -- неуютно. Антон, когда про это узнал, почти сердился -- заказывай, а я потом приду и оплачу. Но это неудобно.
Так что -- просто кофе. Без сливок, сахара и намеков. И цивильный разговор. То есть не разговор. Внутренний монолог, слегка обиженный. Потому что Антон опаздывает. А тут неуютно. И за окном гроза ненормальная, ей в мае полагается быть, а не в середине марта.
Ливень по стеклу размазался. Густые потеки. Только фары за окном видно и невнятные фигуры. Будто рама не оконная, а от полотна импрессионистов. И вот это черное пятно может быть чем угодно -- прохожим, который мимо "стекляшки" идет, или все-таки Антоном, промокшим насквозь и слегка запыхавшимся. Почему-то, когда просто по улице бежишь, на тебя все оглядываются, а когда под дождем и без зонта -- то это нормально: человек вымокнуть боится. Антону без разницы, хотя пальто уже выжимать можно. Главное, чтобы Витька не ушел.
Теперь Антон встряхивается, выбирается из черной шкуры. И старается не сбиваться на виноватый тон, когда в очередной раз объясняет, что на работе завал, и пораньше освободиться не было никакой возможности, а уйти и оставить все на коллег тоже никак нельзя.
Витька кивает. С печальным и очень умным видом, как профессор на экзамене. Салфетка на черном столе белеет экзаменационным билетом. И у Антона неизвестно почему мгновенно леденеют руки и даже колени под брюками. Будто и вправду сейчас билет вытащит. Не сможет на него ответить и будет навсегда изгнан. Не то из "стекляшки", не то из легкомысленной витькиной жизни.
Но Витька не спрашивает, Витька молчит. Опоздание-то не первое, и даже не пятое по счету. Уже ругались из-за этого. Уже мирились.
-- Послушай... у меня действительно много работы... И я действительно не мог уйти ровно в шесть.
Витька снова кивает. И улыбается:
-- Знаешь, есть такой анекдот. Детский совсем. Подходит внучек к деду-адмиралу и говорит: "Дедуля, я никак запомнить не могу, а на каком ты корабле плавал. То ли "Шлюха", то ли "Проститутка". Дедуля багровеет, хватается за сердце и кричит: "Запомни, внучок, я служил на эсминце "Безотказный". Смешно?
Не особенно. Зато не сердится.
-- Так, стоп, подожди. Ты на что намекаешь?
Витька не намекает, Витька дразнит. Молчит и при этом смотрит на собеседника очень умными глазами. Как персонаж старой байки про собаку Павлова и абитуриента. Или просто, как собака. Которая в любви признается молча, выражая ее поскуливанием и прикосновениями шершавого языка. У Антона, кстати, язык тоже шершавый. Интересно, кто из них чья собака?
Но такого Витька говорить не будет. Он в любви, если честно, пятый раз всего признается. Правда, четыре раза из этих пяти -- Антону, но это уже мелочи.
--Так вот, Тош, ты и есть эсминец "Безотказный".
3.
Май, сессия на горизонте. То есть, у Витьки на горизонте, Антон свои последние сессии пятнадцать лет назад сдал и торжественно отметил. И теперь на правах дипломированного специалиста может категорично руководить подготовкой. Притащить с балкона короткую стремянку, на четыре ступеньки, как в библиотеке. Растопырить ее посредине коридора.
Коридор слегка напоминает замковую галерею -- длинный, странно-узкий, с лампой-фонарем под высоким потолком, с ровным блеском стекла на том месте, где должны быть стены. Вместо них вплотную, так, что обоев не разглядеть, -- книжные полки. Тяжелые суровые тома в потертых обложках, матерчатые корешки учебников и старых собраний сочинений, золотистый шрифт словарей и справочников.
Витька ругается, но честно лезет по чудо-лестничке на самый верх, доставать очередной нужный фолиант. Антон с трудом скрывает ухмылку и наблюдает за партнерскими трепыханиями. А потом шагает из дверного проема в коридор.
Сейчас он придвинется ближе, положит ладони Витьке на бедра, сильно обхватит -- так, будто они не в коридоре дурачатся, а где-нибудь над обрывом, по-над пропастью... И руки отпускать нельзя, внизу бездна. Витька дернется слегка, но вырываться не станет.
-- На одну ступеньку спустись? -- а руки не разжимаются, держат крепко. Не больно, а просто уверенно.
И Витька, ничего не понимая, кивнет, и обязательно спустится, но сперва все-таки прихватит с полки нужную книгу. Шагнет неловко, глядя себе под ноги, приближая напряженную спину к лицу Антона. Замрет. Чуть покачнется. Почувствует привычные уже касания: Антон убрал ладони, передвинул их вперед и наощупь, не глядя, расстегивает на нем джинсы с заедающей молнией. Касается темной ткани белья, огибает косой шов и резинку. Пальцами по бархатистой мякоти, по жестким кольцам волос в паху, по оживающему телу... Неслышные касания, беззвучные...
А потом обе тряпичные шкурки -- и джинсовая, и вторая -- потихоньку сползают вниз, к изнанке коленей.
Поцелуи лопаются на коже капельками воздуха. И дрожание, напряжение, нарастающий сладкий жар пока еще не прорываются наружу, лишь намекают о себе короткими стонами: Витька от своей полушкольной конспирации так и не избавился, реагирует шепотом. Он поводит лопатками, которые до сих пор скрыты под рубашкой, не выпускает столь актуальную книгу из рук, наоборот, трется об нее острыми сосками... Пытается, не смотря на спутанную одежду, чуть-чуть развести ноги, приготовиться к любому движению Антона.
А тот разворачивает Витьку, так осторожно, будто это не ступенька в полуметре от пола, а гимнастическая трапеция где-то под куполом. Молча, одними жестами, просит усесться на верхнюю площадку стремянки. И опять целует, поглаживает, тыкается носом во впалый живот и в воронку пупка... А потом торжественно скользит губами, деликатно присасывается, точно и ласково щекочет шершавым языком... И сравнение просится только одно, про какой-нибудь волшебный рог, в который трубили, призывая на помощь мифическое чудовище, или поднимали вместо кубка на победном пиру. Но на сравнения уже никаких сил нет, если честно... И можно лишь в очередной раз довериться антоновским рукам, которые прекращают поглаживания, и снова крепко обхватывают...
-- Куда тебя? В постель?
4.
Мы поссоримся ровно через два месяца. День в день.
Будет заканчиваться июль, безнадежно-пыльный, абитуриентский месяц. Пятница, вечер, город забит. И трамвай идет медленно-медленно, застревая на каждом светофоре.
Витька эту дорогу уже наизусть выучил, даже в трех вариантах: в самом бестолковом, который от метро, в звеняще-трамвайном, с плавной перекличкой деталей городского пейзажа за окном, и пешим. Антон от метро до дома всегда прогулочным шагом добирался. Объяснял, что вот так, на ходу, очень многие вещи хорошо придумывать. Как раз на первом светофоре появляется сомнительная версия, а к тому моменту, когда загорается кнопка вызова лифта, эта самая версия уже оформилась в предложения и даже абзацы. Садись за клавиатуру и записывай.
В первый раз Витька ни маршрут, ни железно-плетеные ворота во двор, ни гулкий подъезд с колоннами за свои родные не признал. Только удивился слегка высоте и ширине пролетов, и лифту в сетчатом панцире.
А сейчас он этот лестничный закуток наизусть выучил, до последней щербинки на прохладном кафельном полу: сидишь на подоконнике, ждешь, пока собеседник сигарету добычкует, а разговор тем временем сворачивает на новый виток. И остаешься на месте, сосредоточенно киваешь, не сводя глаз с бледного оранжевого огонька. А оппонент тем временем так распаляется, что забывает затянуться. И все время кажется, что правильный ответ на все вопросы скоро придумается. Пока что надо просто еще несколько фраз произнести. Тянешь эти фразы из себя, как фокусник пестрые ленты из шляпы. Сперва атласные ленты, а потом кролик. А тут вместо кролика -- главная истина. Только до нее никак не доберешься, отвлекают всегда.
-- Я же тебе ключи оставил? -- У Антона глаза виноватые, но довольные. На висках пот, на белом пиджаке широченная зеленая полоса через рукав, как повязка, -- это он о лестничные перила приложился, не иначе.
Витька пожимает плечами. Не хотелось ему в чужом замке ключами ковыряться. Здесь, на подоконнике, ждать куда удобнее. И нервничать тоже:
-- Ну что?
-- Получилось.
Безмятежная жара и глухой стук - на соседнем доме новым железом крышу обшивают. Странный звук. В самый раз не для городского центра, а для дачного поселка.
-- А...
Поздравить надо. Обязательно.
-- Тош, а ты когда улетаешь? -- губы как неживые. Нижняя треснула. Она вообще у Витьки часто трескается. Антон из-за этого целуется всегда очень осторожно.
Губами в плечо, языком под горло, ну что ты вертишься, я сам хочу расстегнуть, ну мало ли, может, у меня носки дырявые, да у тебя их вообще уже нет... Ага, ничего нет, ни стыда не совести, только... Ой, а еще так можешь? Что, понравилось? Очень. Сладко оно. Нежно. Удивительно. С каждым движением -- очередное открытие. Кожа гудит, как раскаленное железо на летней крыше. И сильнее-сильнее, ага, еще-ееее... И.
Широкий подоконник, перекрестье распахнутой рамы, свет ослепительный летний, рябящий в глазах. Воздух извивается от жары, пропускает через себя порошины тополиного пуха. И лучше бы этот пух в глаза и нос забивался -- можно было бы чихнуть, сморщиться, хоть позу сменить. Потому как руки и ноги мгновенно затекли, а шевельнуться, ближе придвинуться нельзя никак... Невозможно. Кажется, что у тебя никаких прав на это нет. И ты молчишь. И молчит собеседник твой, изученный до беспамятства, твой собственный, до безумия твой... Все. Расходимся.
Можно только спросить "а когда у тебя самолет", пообещать, что писать будешь, еще там чего-то. Но это уже не по настоящему бодро будет. Как при прощании. Ну, как будто Антон прямо сегодня улетает. И навсегда.
5.
В том же сентябре Витька начнет курить. Невсерьез, за компанию или под настроение. Или... Когда от опустошающей истомы, чем-то похожей на невесомость, начинают слипаться глаза и очень хочется ткнуться носом куда-то Антону за ухо и так лежать. Не шевелиться, только постанывать, когда потертую, пылающую кожу снова гладят. Вроде как успокаивают, хотя на самом-то деле возбуждают. И противиться этому невозможно. Можно только слегка подставляться. Зарываться пальцами в белесый антонов ежик и фыркать.
-- Ты у меня что, блох решил поискать?
-- Нет...
-- А что тогда ерзаешь?
-- А... -- и ведь не объяснишь ни разу, поэтому и тон приходится сбавлять, менять на чуть капризный:
-- Ты сегодня брился вообще или нет? А то у меня все бедра в царапинах.
-- Гнусная клевета. Пустые домыслы и...
И Антон на самом деле собирается идти бриться. Оставляет Витьку одного, в постели. Да еще и предупреждает, чтобы не смел курить в комнате. А искать одежду лень до ужаса. Хорошо, что они раздевать друг друга начали как-то по дурацки, с ботинок. И бессменное черное пальто валяется на полу, как силуэт увеличенной в несколько раз вороны. Можно оглянуться на дверь и поднять пальто с пола. Не застегиваться, а так, замотаться. Оно будет совсем не по размеру -- Антон ведь пониже и... поосновательней. Но здорово-то как. Как в броне и при этом нежно. Потому что подкладка шелковая, и этот шелк трется и обволакивает все еще влажную кожу. Укрывает. А ботинки тоже можно не зашнуровывать. Прямо так, через всю комнату к балкону. Табачная горечь мешается с осенней, влажный воздух заставляет пальцы подрагивать, а мурашки на коже крупные, почти как дождевые капли. И затяжка отзывается раздраженным эхом у правого виска, курить почти не хочется, просто следишь за белесой дорожкой дыма. Ждешь, когда за тобой вернется Антон.
-- Ты что, простудиться хочешь?
Нет, ни разу. Тебя хочу, это понятно. А еще -- территорию пометить, себя пометить тобой. Твоими вещами тоже. Но в первую очередь -- твоим беспокойством.
6.
Теперь мы живем на два часовых пояса: по местному времени, и по тому, что высвечивается у тебя на мониторе -- на много часов вперед. Или на тысячи километров, что тоже почти безнадежно. Конечно, Интернет никто не отменял, Слава тебе Господи, только... электронка -- она и есть электронка. Сперва забываешь интонации собеседника, потом тембр голоса и одновременно запахи. А там уже по нарастающей, потому как через монитор не воспроизведешь гладкость кожи, беззвучное подмигивание, разговор одними жестами, улыбку вместо утвердительного ответа.
И остается только вспоминать об этом -- с утра до вечера задумчиво, а с вечера до утра -- неспокойно. И в каждом электронном сообщении, каждой приблудной смске прятать, как в нарисованном ребусе, слабенький намек на последний предотъездный день. Даже не намек, а что-то совсем эфемерное, как память запаха. Нескольких запахов -- жесткой отдушки белья, типографского аромата на сохранившемся самолетном билете, горькой стерильности влажных салфеток и антиожоговой мази. Такой вот первый осенний букет, неуклюжий и хрупкий...
7.
Витькина напряженная морда -- это первое, что Антон видит в аэропорту. Хотя нет, второе. Первое -- это сигареты соседа по креслу. Пачка бликует под неоновыми лампами, а сам мужик диким галопом, подкидывая задницу и забыв про чемодан, несется на выход, распихивая толпу за стеклянным барьером. Задевая Витьку. Ага, он уже тут. Стоит, глазами хлопает и тянет повыше самодельный плакатец "herr Mylnikoff, добро пожаловать!" Не хватает добавки - "на историческую родину". В фамилии -- две ошибки, если придираться.
Я не придираюсь, зачем оно мне сдалось. Синие маркерные буквы на обложке тетрадки формата А-4. Тетрадь твоя, а вот маркер явно левый. Ты потом объяснишь, что выцепил его у секретарского вида девочки, из тех, что пританцовывают со служебными табличками "Транс-тур-чего-то-там", "Сев-Нефте-Газ-хренас" и все такое прочее. Про секретутку, маркер и гениальную идею с приветствием я узнаю сегодня же. Про то, что ты в аэропорту четыре с лишним часа торчал, ты скажешь гораздо позже. А пока я приветствую тебя:
-- Бонжур. Ай шпрехен зи дойч тре маль.
-- Какие проблемы, шеф. Андестенд, поехали.
Ржач. И ты тянешь меня отсюда, куда-то под одну лестницу, потом под вторую, в сторону курилки что ли... Да нет, зачем курилка, обычный закуток между сортиром и банкоматом.
Вокруг толпа. Даже не толпа, а наплыв и нашествие. Декабрь, горящие путевки, горячий кондиционер, раскаленные стекла и плавленый воздух, густой-густой, как сироп от варящегося варенья.
Ты тянешь и при этом трещишь что-то невообразимое, на смеси киношного американского, школьного английского и порнушного французского. Тут духота нереальная и пахнет праздником и грязью, как в цирке. И ты, не то как фокусник, не то как карманник, облапываешь меня, стараясь замаскировать прикосновения под пародию на объятья:
-- Шнеллер-шнеллер, руссиш швайн. Ма белль, Антуан, авек плезир, гоу ту найт. Ин зе фэмили биг нихт клювен клац-клац, мамма мия!
Дурака валяешь. Я бы подыграл, да у меня сейчас со словами проблемы. Даже с русскими.
-- Я соскучился.
8.
А декабрь -- он и есть декабрь. С учетом всех, самых романтических, самых сказочных штампов. Метель за плотно пригнанной шторой, сияние прикроватной лампы, разметавшиеся волосы, сладкий вздох в сердцевину подушки, вмятинка на истерзанной нижней губе, ласковое "шшшш, засыпай" -- шелест по виску, надежное тепло пледа, объятия, которые лень прекращать, хоть рука и затекла... Не было только добропорядочных апельсинов, с крошечными колючими брызгами, праздничным запахом и оранжевыми чешуйками упавшей на пол кожуры -- витькина аллергия на цитрусовые в этот идеализм никак не вписывалась. Впрочем, яблоками в постели можно чавкать с не меньшим успехом...
-- Что ты там опять грызешь? Гранит науки?
Подколку Витька пропустил мимо ушей -- от голода в желудке что-то отвратительным образом пищало и даже квакало. Ну не мог Витька нормально завтракать прямо с утра, хоть стреляйте. Организм сонный, а от еды еще больше дремать хочется. Этой аргументацией даже мама в конце-концов прониклась. Прекратила ежеутренюю пытку раскаленной яичницей. Подкидывала ему в карман куртки то яблоко, то плитку шоколада. Витька не протестовал, хотя мог про эти беличьи запасы напрочь забыть. Сейчас вот вспомнил, к счастью, и метнулся за брошенной в коридоре курткой. Точнее -- за яблоком.
Не очень большое, с полкулака размером, белый налив. То самое яблочко, которое "куды ты котишься" от дверей да по паркету, запретный плод сладок и недалеко от яблоньки.
Яблоко скрипит. Сам Витька тоже скрипит -- от яблочного сока и от пота немножко, а еще, кажется, слегка урчит при этом. Спасибо, что не чавкает. Чавканье Антон не прощает. Никому-никому, даже вот этому вот теплому, вредному, совершенно своему... С темной челкой до темных бровей, с яблочным семечком над верхней губой -- как дамская мушка, отвалится скоро, жалко фотоаппарата нет под рукой, можно было бы сфотографировать... А можно было осторожно потянуться языком к прилипшему семечку, попробовать его слизнуть.
А еще можно ругаться шутливо, потому как Витька, чудовище, уничтожив яблоко, запускает липкие пальцы в его белобрысый, оберегаемый от посягательств ежик...
-- Ну вот что ты делаешь?
-- Мммм... Я ничего не делаю. Я сплю. Хррр... Похоже?
Угу, ребенка не кантовать, у ребенка сессия. Ребенок последние лекции в семестре прогулял, потому как к нему добрый дядя приехал. То есть не дядя, конечно, ни разу. И приехал Антон вроде как на рождественские каникулы, только об этом никто-никто не знает. Поэтому он телефонную трубку не берет и на письма не отвечает -- не хочет себя от Витьки отрывать. Времени мало. Второго вечером самолет обратно. То есть -- послезавтра уже.
А потом опять, по накатанному -- январь, февраль, март, апрель. И т.д. etc. Письма и телеграммы. То есть -- эсэмэс, но это неважно. Три месяца там, неделю здесь -- но это, только если повезет, за свой счет туда обратно не налетаешься, а выбора нет. Работа такая. Жизнь такая. Но, наверное, лучше так, чем совсем никак?
Тридцать первое, вечер. Год кончился. Послезавтра встреча кончится. Каждая поездка -- три, четыре, пять месяцев в минусе. Интересно, от какой даты их отрывают? Сколько у них в запасе? Впрочем, можно ведь и по другому подсчитывать. С пониманием -- сколько у них всего уже было. Если, как на подводной лодке, год за три, то... Год и получится, как ни крути. Прожитый совсем-совсем вместе, без учета работы, поездок, института, родителей, от которых Витька скрывает эту историю, знакомых и незнакомых, от которых Антон отгораживается автоответчиком и определителем номера. Примагнитились друг к другу -- не оторвать. Кажется, что так у них и будет. Если не навсегда, то, по меньшей мере, еще на год. Чтобы было, что перебирать в следующем декабре... Или, какая разница, в каком месяце. Цивилизация, состоящая из двух людей, вправе ввести свое собственное летоисчисление. И, как всякая цивилизация, она надеется, что ей удастся избежать распада. Даже вопреки законам логики.
Menthol_blond, январь-февраль 2008 г.



7 комментариев