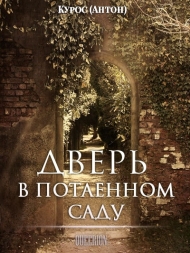Денис Опалёв-Романов
I don't care
Аннотация
Как часто мы бежим от того, что уже случилось, и отчаянно желаем того, что никогда не произойдет...
Как часто мы бежим от того, что уже случилось, и отчаянно желаем того, что никогда не произойдет...
Его взгляд всегда выводил меня из равновесия. Он был удивительно противоречив: смелый и дерзкий, но покорный, вызывающий, но в его глазах я всегда видел любовь и нежность. Он отталкивал меня, раздражал, злил, но я не мог представить себе жизни без него, словно какие-то невидимые ниточки, пройдя сквозь нас, сквозь наши тела и души, навсегда связали нас, соединили, и порвать эти нити не представлялось возможным для меня, да, честно говоря, я и не хотел их рвать. В центре моего мира, где до того, как я встретил его, была моя собственная персона, встал он — белокурый лесной бог с маленьким носиком, синими глазами и четко очерченными алыми губами.
Его звали Никита. Он был иногородним студентом. Я познакомился с ним прямо на улице, возле витрины магазина, где он разглядывал повешенные на безликие манекены безвкусные наряды. Он мельком взглянул на меня, блеснув синевой глаз, когда я встал рядом с ним, и снова отвернулся к стеклу. Казалось, его безумно волновали те тряпки. Наверное, мне не стоило тогда заводить разговор с ним. Мне нужно было просто уйти, продолжить свой путь домой в сумерках по наводненному людьми тротуару. Но он притягивал меня, причем я сам не мог понять, чем — он не обладал ни смазливым личиком, ни стройной фигурой, ни изящными движениями. Одет он был еще более безвкусно, нежели уродливые манекены в витрине — потертые, потрепанные джинсы висели на не нем бесформенным мешком, футболка больше походила на тряпку для мытья пола, а пиджачок с некогда, видимо, красивой вышивкой на воротнике, был явно велик ему. Его кудрявые белокурые волосы были растрепаны, пряди небрежно спадали на лоб, на руке болтался уродливый браслет из разноцветных бусин.
Я стоял и смотрел на него, как на видение из другого мира, застывший, оцепеневший, а в голове билась только одна мысль — я хочу обладать этим пареньком, хочу настолько сильно, как никогда и ничего не хотел в своей жизни. По телу, как сумасшедшие, носились мурашки, огромные электрические мурашки, посылавшие, казалось, разряды тока внутрь моего организма, сотрясая все мои органы. Я сгорал от желания сгрести его в объятия прямо здесь, на улице, и жадно целовать эти его коралловые губки в неоновом свете рекламы, запустить пальцы в его густые волосы и, запрокинув его голову назад, впиться зубами в белую шею так, чтобы он закричал от боли.
Он повернулся и дерзко посмотрел на меня. Я сжал зубы, стараясь сдержать вдруг начавший закипать во мне гнев, глубоко вдохнул прохладный вечерний воздух и улыбнулся ему. Он улыбнулся в ответ и снова обратил свой взгляд на витрину. По-видимому, я совсем не интересовал его, и это вызвало во мне новую волну раздражения. Весь его вид, отсутствующий и надменный одновременно, бесил и злил меня. Так было с самого начала, так было на протяжении всех наших, последовавших за этой встречей отношений, и даже одно воспоминание о нем заставляет гнев закипать во мне. Порой мне хотелось убить его, придушить, пристрелить, утопить, он до трясучки раздражал меня, раздражал до нервных колик и приступов истеричного смеха, но он был нужен мне. И нужен сейчас. Без него даже дышится трудно. Он тянет меня, как магнит. Он — напасть, наркотик, с которого мне никак не удается соскочить. Я ненавижу его, но без него жизнь не имеет смысла. Если когда-либо он вывел бы меня из себя до того, что я прибил бы его, то в ту же секунду я пустил бы пулю себе в висок.
Никита. Это имя имеет свой, особенный привкус, похожий на горечь. Нет, все-таки это больше сахар. Или и то, и другое. Да, этот парнишка всегда вызывал во мне двойственные чувства, от которых я хотел и не хотел избавиться. Это подобно изощренной, сладкой пытке, это просто невыносимо — знать, что он где-то рядом, в соседней комнате, может быть, слушает свою дурацкую музыку в несуразно-больших наушниках, или читает одну из своих книг, смысл и содержание которых я никогда не мог понять, или гладит безвкусные тряпки, которые он называет «одеждой». Я так и не смог научить его одеваться нормально, все мои попытки пропали даром. Он никогда меня не слушал. Ему никогда не было интересно мое мнение. Хотя, одетый по-другому, он перестал бы быть моим противным, упрямым, дерзким Китом. Он стал бы чужим. А мне был нужен именно мой… мой, ужасно одетый, громко хохочущий, непричесанный Никитка с облупившимся черным лаком на ногтях. Мой Никитос, дефилирующий по квартире в одних только боксах и выражающий свое недовольство мной своим высоким, с легкой хрипотцой голосом, обожающий белый шоколад, яблоки и виски со льдом.
В тот вечер нашего с ним знакомства я и подумать не мог, что наше общение затянется на долгих два года, тогда как я хотел провести с ним всего лишь одну ночь. Я просто не смог отпустить его утром. Я курил сигарету, лежа на кровати, и наблюдал за тем, как он собирается уходить, терзаемый все теми же противоречивыми чувствами. Он вытащил из своего бесформенного громадного рюкзака обтрепанный, видавший виды свитер, натянул его через голову, и, задрав вверх руки, попытался пригладить торчащие в разные стороны волосы, даже не заботясь причесаться. Его пальцы путались в длинных рукавах свитера. Я встал на колени на кровати и закатал их, потом нежно погладил его по спутанным волосам. В утреннем свете весеннего солнца Никита казался маленьким, хрупким и беззащитным, его кожа будто светилась изнутри, губы были плотно сжаты. Я не знал, что он чувствует или думает. Я никогда не знал этого; ни разу не смог догадаться об этом по выражению его лица или чуть раскосых синих глаз.
Я обнял его и прижал к себе, вдыхая мятный аромат его волос. Мне показалось, что он дрожит.
— Куда ты идешь? — прошептал я ему на ухо. — Где ты живешь?
— В общежитии, — просто ответил он.
— Давно?
Никита отстранился, слегка нахмурив брови и опустив глаза.
— Максим, — тихо сказал он. — Какая тебе разница? Я сейчас уйду и ты больше никогда не увидишь меня.
— Нет, — после недолгого молчания возразил я. — Я не хочу, чтобы ты уходил. Оставайся.
Он в недоумении посмотрел на меня, затем обвел комнату глазами.
— Здесь? Ты шутишь, Макс?
Я покачал головой.
— Нет. Это вполне серьезно.
Его глаза. Каким невероятным синим огнем они полыхнули! Я мог бы поклясться тогда, что это была радость, искренняя, чистая радость, как у ребенка, а теперь, по прошествии такого количества времени я не могу говорить об этом с уверенностью. Он всегда был странным, мой маленький, мерзкий Никита, всегда был тайной для меня, которую я так и не смог раскрыть.
Он остался. Он остался на долгих два года, за которые не изменился совсем. Время было словно не властно над ним. Я помню каждую минуту, каждую секунду, проведенную с ним. Мы ругались чуть ли не весь день, ибо каждый из нас обладал мнением, противоположным другому, и отстаивал его, не желая сдаваться. Мы оба были бунтарями по своей природе, возмутителями спокойствия, нарушающими общественный порядок. Никто их нас не уступал другому в жарких спорах и словесных схватках, вспыхивавших между нами по любому, порой незначительному, поводу. Я кипел от негодования, я рвал и метал, я ненавидел его и его «глупое упрямство». Заканчивалось это обычно ничем – следующие полчаса я угрюмо молчал, а он поносил меня всеми известными ему бранными словами, корча рожи и размахивая руками, пока его словарный запас не иссякал. Он бесил меня настолько, что порой я был готов выгнать его взашей, либо же придушить и больше никогда не видеть, не испытывать этой сладкой муки от одного его присутствия.
Когда он замолкал, я вставал и, прижав к себе его хрупкое тело, впивался в губы неистовым поцелуем, а он колотил меня по плечам и извивался в моих руках, пытаясь высвободиться из моих объятий. Обычно это только сильней раззадоривало и разжигало внутри меня таившийся пыл; я подхватывал его на руки, легко, как пушинку, и нес в спальню с намерением замучить его до такой степени, чтобы он больше и слова сказать не смог.
Он ушел из дома, когда ему было шестнадцать. Когда ему исполнилось девятнадцать, он приехал в столицу, чтобы поступить в ВУЗ, потому что он «ненавидел свой городок, не город, а днище какое-то». А в двадцать он познакомился со мной. И, если до этого он имел хоть какое-то желание вернуться в родные места, то теперь оно отпало совсем. Он прикипел ко мне душой, как он сказал. И добавил, что может поехать в любой город, кроме своего. Там его никто и ничего не ждет; его отец умер, когда он был совсем еще маленьким ребенком, а мать была конченной алкоголичкой, которую вообще не интересовала жизнь единственного сына.
Его откровения тронули меня до глубины души, но я не хотел показывать ему это. Я отпускал колкие шуточки в адрес рассказанной им истории и с удовольствием наблюдал за тем, как в нем закипает гнев. Мне нравилось это — выводить его из себя, ибо, как я уже упоминал выше, он тоже раздражал и бесил меня, и мне всегда хотелось вызвать в нем подобные же чувства. Но получалось это у меня редко, обычно он оставался спокоен и вел себя столь непринужденно, что мне приходилось заставлять себя дышать ровно и считать до десяти, чтобы не вцепиться в его прелестную шейку. Мне казалось, что я бы с кровавым удовольствием понаблюдал за тем, как он задыхается, закатывая глаза, но в следующую же секунду меня посещала мысль о всей садистской жестокости такого поступка. Ведь я никогда не был жестоким! Откуда все эти чувства? Я не мог понять. Я только лишь знал, что Никита нужен мне, нужен, как воздух, но в то же время я ненавидел его всеми силами души. Такие чувства нелегко понять и, наверное, только очень малый процент людей когда-либо испытывал нечто подобное — обжигающий гнев, бешеную ярость и ненависть, перерастающие в огромное, неподдельное желание страсти, пронизывающее все существо, словно рентгеновские лучи.
Он был маленького роста, хрупкий, нежный и, хоть его лицо и не отличалось особой привлекательностью, черты его были мягкими, по-детски очаровательными, да и во всем его облике угадывалась некая ребяческая непосредственность. Были ли этому виной его узкие мальчишеские бедра или угловатость и неуклюжесть его движений — я не знаю, но и это, и все в нем вызывало во мне всегда одинаковое смешение чувства раздражения и восторга, а иногда даже и умиления. Никита… Чем ты таким обладаешь, Никита, чем не обладает миллион других парней, которых я встречал до тебя? Необъяснимым очарованием, странной притягательностью, веющими от каждого твоего движения, взгляда и улыбки? Или же я просто хотел доказать тебе, что ты неправильный, не такой, каким должен быть нормальный парень, по крайней мере, в моих представлениях?
Что было бы, если бы в один прекрасный день я сломал бы его упрямство и сделал его другим? Наверное, я бросил бы его в ту же минуту. Я не хотел жить без него с того памятного утра после нашей первой ночи, хоть и признался в этом себе только сейчас, когда Никита уже не со мной. Это трудно. Это тяжело. Это больно — не слышать его голос, его смех, не видеть его дерзких глаз. А в квартире неестественно тихо. Его нет. Никиты нет. Каждое утро, просыпаясь, я словно бы узнаю об этом заново, впервые, и каждый раз это все больнее и больнее. Каждое утро я лежу, не открывая глаз, в ожидании услышать его визг, которым он обычно будил меня, но уже через несколько секунд мой мозг пронзает воспоминание — его нет здесь. А на кухне стоит на том же месте полупустой стакан молока, из которого он пил перед тем, как уйти навсегда из этой квартиры. Я не трогаю его. Это почему-то кажется мне чем-то вроде святотатства. Все его вещи лежат там же, где он положил их. Я просто не могу, не хочу притрагиваться к ним; я хочу уже наконец разделаться с воспоминаниями о нем. Я не буду жить в этой квартире, где все напоминает мне о нем, где, кажется, даже сам воздух пропитан запахом его дурацкого парфюма; часто я ловлю себя на то, что принюхиваюсь к нему. Я перееду, не важно, куда — в другую квартиру, на другой улице, в другом городе, в другой стране, на другой планете. Я боюсь только, что все это окажется тщетным, что я не смогу сбежать от пустоты, я заберу ее с собой, ибо она внутри меня.
Я никогда не говорил Киту о том, что люблю его, потому что, с одной стороны, я не хотел лгать ему, потому что то чувство, что испытывал (и испытываю по сей день) по отношению к нему, трудно назвать любовью. А с другой стороны, эти три слова «Я люблю тебя» (или «I love you» — он часто говорил на английском, он обожал этот язык) подразумевали под собой нечто более серьезное, чем были наши с ним отношения. А я сильно сомневался, хочу ли этих самых отношений. Я всегда был очень свободолюбивым человеком, свободой своей дорожил, и, хоть Никита и был важен для меня (даже очень важен!..), я все же не был уверен в том, что он для меня важнее свободы. Признаюсь, мыслил я тогда эгоистично и примитивно. Я не понимал, что уже потерял свободу и что нисколько не хочу возвращать ее назад. Да, Кит стал дороже мне. Я добровольно находился в его плену, сам того не понимая. И все же у меня хватало в характере эгоцентричности и бьющего через край себялюбия, чтобы грубо огрызаться на все его попытки захапать меня полностью.
Он был жутко ревнивым. Мой мобильный телефон каждый день проверялся на наличие звонков или сообщений с интимным содержанием, а все контакты в телефонной книге были тщательно проверены. Меня это злило и в какой-то степени обижало, ведь я не имел от него совершенно никаких секретов и ждал доверия с его стороны, такого же, какое я сам оказывал ему. Но он не верил. Он обладал слишком заниженной самооценкой для того, чтобы просто верить. Он был уверен, что я могу с легкостью бросить его и не раз говорил, что многое отдал бы только за то, чтобы заглянуть в мою душу и узнать, о чем я думаю.
— A penny for your thoughts!* — с горечью восклицал он, прижимаясь к моему плечу своей белокурой головой. Я ничего не скрывал от него и поэтому его слова больно ранили меня каждый раз.
Стоило мне лишь слегка задержаться где-нибудь и не явиться домой к обычному времени, как на меня обрушивалась лавина звонков — где я, с кем я, что я делаю, почему меня нет. Первое время это забавляло меня, потом же стало порядком тяготить. Он требовал детального отчета за каждую проведенную не с ним минуту, а меня раздражал этот тотальный контроль. Я отключал телефон и не отвечал на его СМС, а когда приходил домой, он встречал меня с опухшими заплаканными глазами, с красным носом, с прилипшими к лицу прядями золотистых волос. Мне становилось до безумия жаль его в такие моменты, хотелось прижать его к себе и убаюкивать, словно маленького мальчика, но я сдерживал это желание и проходил мимо с деланно-равнодушным видом. Если бы я показал ему эти чувства, то оказался бы в его безраздельной власти. А я знал, что именно к этому он и стремился; это раздражало меня больше всего остального, и желание уязвить его и сделать и сделать ему так же больно, было сильнее желания просто быть с ним. Во мне было слишком много гордости, и я не хотел сдаваться просто так, без боя. Именно это стало препоной на пути к обыкновенному человеческому счастью… но я не понимал этого. Я был слеп и глух в соей эгоцентричности. Возможно, это и есть самая большая ошибка в моей жизни. Я могу открыто и без околичностей признаться себе в этом сейчас, когда уже слишком поздно что-то понимать и в чем-то раскаиваться.
Он всегда просыпался раньше меня, но когда первым был я, я мог подолгу любоваться на него спящего, лишь слегка прикрытого тонкой тканью летнего одеяла, лежавшего, раскинув руки, на залитой солнечным светом постели. Он был похож на неземное создание — молочно-прозрачная кожа, трепещущие во сне веки, слегка приоткрытые влажные губы, разметавшиеся по подушке, искрящиеся в лучах света волосы. Его нежные пальчики подрагивали. Утро. Единственное время суток, когда он не злил и не раздражал меня. Он был таким беззащитным, таким милым в объятиях Морфея, он был только моим Никиткой и я владел им безраздельно. А потом он просыпался и снова становился отвратительно-упрямым, противным, но все же моим Никитой. Его взгляд всегда как бы насмехался надо мной, порой он наблюдал за мной напряженно, как кошка за мышью. А иногда я улавливал в его глазах безграничную, выплескивавшуюся за края любовь. Он любил меня, и я об этом знал. Это льстило моему самолюбию, но я не мог понять, почему он ни разу не говорил мне об этом. Эта любовь порой сквозила в каждом его движении и слове, и, если он и пытался скрыть ее, то у него это очень плохо получалось. Но он ничего не говорил. Я молчал тоже, хотя последние месяцы наших отношений меня так и тянуло заявить ему о своей любви, эти три слова так и жгли мой язык, но сказал я их ему лишь тогда, когда было уже слишком поздно.
В тот день, когда он ушел от меня, он вдруг стал другим — холодно-спокойным, как ледяная глыба, ужасающе-равнодушным и страшно-не-моим Никитой. Разрушающее предчувствие трагедии, которая посетила меня тогда и осталась со мной по сей день, убивающее чувство наступающей потери преследовало меня с самого утра и каждый момент, когда я видел его казавшееся неподступным безразличие ко всему и вся. Он смотрел на меня, но не видел. Он забывал отвечать на мои вопросы, а когда мне надоело догадываться о причинах его состояния и я прямо спросил его об этом, он поднял на меня свои синие глаза и я вдруг испугался, так, как никогда не пугался в своей жизни. В его глазах не было ничего, только пустота, пустая пустота, если можно так выразиться. Впервые за все время наших отношений я отчетливо осознал, что могу потерять его и липкое чувство страха перед этим запустило свои щупальца в мое сердце.
— Я устал, Макс, — едва слышно прошептал он.
— Устал? — переспросил я. — От чего?
— От тебя. От бессмысленности наших отношений. Устал ждать, когда же ты, наконец, полюбишь меня.
Он отвернулся и стал смотреть в окно на лениво плывущие в небе облака. Я положил руки ему на плечи. Он вздрогнул и оглянулся.
— Почему бессмысленности? Почему ты так думаешь?
Он встал. На некоторое время в комнате повисла напряженная тишина. Он молча смотрел на меня, заламывая пальцы, и я мог бы поклясться, что в его глазах блеснули слезы. Он поднял руку, погладил меня по щеке и грустно улыбнулся.
— Я любил тебя, Максим. Любил всем сердцем, всей душой. Но мы не должны быть вместе.
Его слова ошарашили меня.
— Почему?
— Потому что все это тщетно. Я больше не люблю тебя. Ты не нужен мне.
Воздух… Куда пропал воздух? Кто-нибудь, помогите мне! Я не могу дышать! Я задыхаюсь! Сердце пропустило удар и сильно-сильно забилось где-то в горле, отдаваясь громом в ушах.
— Ты… это серьезно? — наконец выдавил я. Он кивнул и провел рукой по своим спутанным волосам. Мне показалось, что его движения переполнены отчаянием и болью. О чем он думал? Что творилось в его голове в тот момент, какие мысли копошились за его ставшими пугающе-отстраненными синими глазами? Я отдал бы полжизини за то, чтобы узнать это. Я отдал бы всю жизнь за возможность провести еще один день с ним.
Но он решил все окончательно и остановить его мог разве что конец света. Он уходил, бросал меня, и виной всему была моя гордыня, мое непоколебимое упрямство, которое всегда так раздражало меня в нем, тогда как я обладал таким же. Виной всему был я сам, и печать этой вины никогда, в течение всей моей жизни не сойдет с моего сердца, она всегда будет гореть где-то внутри меня, там, где отныне хранятся воспоминания о Никите и его улыбке.
Я понял, насколько он нужен мне, только после того, как он исчез навсегда из моей жизни. Он даже не стал собирать свои вещи, коих у него было не много, и, хлопнув дверью, растаял в сырой темноте подъезда, отправившись снова странствовать по улицам столицы в своих стареньких джинсах, поношенном пиджаке, том самом, в котором я встретил его два года назад у ярко освещенной витрины, и с потрепанным рюкзаком за спиной, унося с собой весь свет и смысл моей жизни. Я не знаю, куда он ушел, иначе я побежал бы вслед за ним, чтобы на коленях умолять его вернуться.
Я приходил в себя две недели. Никитка, мой Никитка, если бы знал, какую ужасную рану ты мне нанес! Неизлечимую, страшную, рваную рану, которая, если даже и заживет, оставит ужасающего вида шрам на моем сердце. Я ни разу не смотрел на себя в зеркало в течение этих двух ужасных, тягостных недель, а когда посмотрел, то некоторое время не мог поверить, что это действительно я — с серебристой поверхности на меня смотрел заросший щетиной, устрашающего вида незнакомец с опухшими от бесчисленного количества стаканов виски веками и с красными прожилками лопнувших каппиляров в глазах. Я вздохнул — надо же было довести себя до такого состояния, и вдруг понял, что ни разу не мылся с тех пор, как он ушел. С тех пор, как он ушел… какое невыносимое сочетание слов – с тех пор, как он ушел… Как он ушел… Он ушел… Ушел…
Ушел. Когда он уже стоял на пороге, сжимая в руках свой уродливый рюкзачок, я сказал ему:
— Постой… Я люблю тебя.
Он оглянулся и внимательно посмотрел на меня. В его глазах мелькнуло безразличие.
— I don’t care.
* Многое бы отдал, чтобы узнать твои мысли! (англ.)