selenaterapia
Найди меня
Аннотация
Русский парень Митя оказывается в тайской тюрьме по обвинению в наркотрафике. Несколько месяцев тяжёлых испытаний, поломанная психика, изуродованное лицо - это багаж, с которым он возвращается в Россию.Через какое-то время он встречает пластического хирурга, предлагающего исправить дефект на лице.
Передо мной белый лист бумаги, который в ближайшие полчаса-час необходимо заполнить строчками, строчки — словами, а слова составить из букв. Но проблема не в этом. Нет никакой сложности написать пустой набор слов, чьи-то стихи или описание из энциклопедии. У меня задача другая. Все мои буковки, слова и строчки должны сложиться в единую картину, чтобы тот, кто прочтёт, смог представить и понять, что такое «Я» и как со мной бороться, а иначе я спускаю деньги зря на охрененно дорогого психотерапевта. Хотя для других он может быть и не такой запредельно дорогой, но для человека, который тратит на консультации половину собственного заработка, — золотой специалист. Но или так, или птицей в окно. Птицей мне бы не хотелось, хоть и красиво, но не гарантия успеха. Не всем дано стать Эвелин Макхэйл*, некоторым ещё везёт превратиться в лепёшку, а всем остальным — в долбанное растение, которое ест, когда дадут, и писает в памперс.
Я выбрал психотерапевта.
8 января.
...— Митя, собирайся.
— Я не могу понять, ну почему мы не можем побыть ещё несколько дней? Билеты на десятое. Неужели всё настолько серьёзно? Не убьют же они нас.
— Я уже всё объяснил тебе. Собирайся быстрее и выходи. Такси уже приехало.
Костя вышел из моего номера. Тогда ничего в его поведении мне не казалось странным: ни то, что преуспевающий бизнесмен за месяц влюбился в почти нищего мальчишку, с которым столкнулся в Макдоналдсе, ни, собственно, то, что в такой забегаловке мог делать кто-то типа Кости, ни то, что уже через месяц Костик предложил переехать к нему в пентхаус на крыше элитной «свечки», расположенной практически в центре. Всё было так правильно, честно, надёжно, что хотелось верить, и я верил.
Поэтому меня нисколько не встревожил тот факт, что для нашего первого совместного отдыха Костя выбрал Таиланд, но не один из морских курортов, а саму столицу. Хотя в тот момент о таких мелочах я даже не задумывался. Костя рассказывал, что уже неоднократно летал в Таиланд и для отдыха, и по деловым вопросам — у него там был какой-то бизнес. Я доверял ему стопроцентно и безоговорочно.
Несколько неожиданным для меня стало то, что поселились мы в разных номерах, через один по коридору, но Костя объяснил, что для его бизнеса нежелательно, чтобы партнёры узнали о его слабом месте — таком хорошеньком мальчике, как я. Как было не поверить? Тем более что внешность и молодость, пожалуй, были на тот момент моими неоспоримыми достоинствами, хоть и единственными. По правде говоря, я думал, что Костя изначально повёлся именно на мою внешность. Достаточно высокий, худощавый молодой человек с правильными чертами лица и белокурыми, слегка вьющимися на концах волосами, я всегда привлекал к себе внимание, даже несмотря на дешёвую и очень простую одежду.
Я простил Костю за номер почти сразу, тем более что большую часть времени мы проводили вне гостиницы и возвращались только поздно вечером, строго соблюдая «конспирацию от партнёров», в разных такси и каждый в свой номер. В этом даже была определённая изюминка: тайные ночные встречи у Кости в номере после насыщенного событиями дня неизменно заканчивались феерическим сексом.
Так продолжалось с неделю, а потом Костик с утра пораньше после неожиданного телефонного звонка выпроводил меня из номера, а сам смылся на полтора дня по вопросам своего бизнеса. Конечно, я был расстроен — провести Рождество в одиночестве не радужная перспектива, но ещё больше я переживал за самого Костю. Он ни разу не позвонил за день, да и ночевать в отель не пришёл. Это была одна из самых беспокойных ночей в моей жизни. Практически всё время я просидел под дверью своего номера, прислушиваясь к шагам в коридоре, хлопкам чужих дверей, голосам, пытаясь не пропустить возвращение Костика. Каждый час бегал к его номеру: а вдруг не услышал? Но за закрытыми дверями его комнаты было темно и тихо.
Костик появился только после обеда на следующий день. Он был измотан и раздражён. На мои вопросы отвечал неохотно и немного заторможено, как будто нехотя. Единственное, что приказал делать сразу – это собирать вещи, так как мы должны быть в аэропорту уже через четыре часа. По его словам он немного поспорил с партнёрами, и будет лучше, пока все остынут, находиться друг от друга на расстоянии, а то мало ли что может прийти в голову «этим маугли»?
Конечно, я не смел ослушаться и принялся собирать одежду в шикарный чемодан с известным логотипом. Костя настоял на том, чтобы перед поездкой купить два совершенно одинаковых чемодана, и только в отеле приклеил на свой яркую наклейку с надписью «Таиланд». Для меня эти чемоданы являлись ещё одним подтверждением наших чувств — очень символично: одинаковые чемоданы! А для Кости… Тогда я ещё не знал, какая роль отведена именно им в его жизни, да и моей тоже.
Около отеля меня ожидало ещё одно удивление — Костя вызвал два такси, и пока водитель моего паковал чемодан в багажник, машина с Костей уже уехала. Всё это выглядело странно, но я опять не придал значения происходящему.
В самом аэропорту Костя вёл себя непринуждённо. Встретил меня на входе и даже пожал руку. Я посчитал такую резкую смену настроения положительным знаком и поддержал его игру. Это было даже весело — притворяться случайными попутчиками, представляя при этом совершенно другие картинки.
Впрочем, весело было ровно до тех пор, пока мой багаж не взяли на проверку. Его просветили один раз, потом второй. Работники таможни почти сразу перешли на тайский, и понять, о чём они говорят, не было возможности. Костя за это время прошёл всю процедуру, помахал мне рукой с другой стороны ограждения и ушел в сектор ожидающих начало посадки на самолёт.
Всё, происходящее дальше, напоминало кадры из какого-то голливудского фильма. Вокруг меня и моего чемодана кольцом встали пятеро полицейских, один из которых несколько раз по-английски уточнил, что я везу, действительно ли это мой чемодан и хорошо ли понимаю то, о чём меня спрашивают. После получения положительных ответов на все эти вопросы попросил пройти с ними для более детального осмотра. Меня убедили, что ничего страшного не происходит, самолёт без меня не улетит, поэтому волноваться не стоит.
Когда мы прошли в отдельную комнату, мой чемодан незамедлительно вскрыли, снимая процесс на видео и фото, вышвырнули все вещи, а потом как-то очень хитро сняли дно.
Естественно, я не смог ответить, что за порошок в трёх пакетах грамм по двести каждый, откуда он там взялся, кто мне его продал? Я вообще не мог понять, что хотят от меня все эти люди, и тупо повторял, чтобы они позвали Костю. Впрочем, они его позвали, и если раньше происходящее вызывало недоумение, то сейчас единственным словом, которым я мог бы описать своё состояние тогда, был шок.
Я как в тумане слушал объяснения Кости, что он узнаёт меня и что жил со мной в одном отеле, что прилетел сюда одним со мной рейсом, а сейчас думал, что и улетать будет одним, что даже наши чемоданы похожи, и мы их почти перепутали в день приезда, и именно поэтому он отметил свой наклейкой, что находит все эти совпадения случайными и очень весёлыми. А вот когда ему сообщили, что у меня в чемодане обнаружили несколько пакетов с наркотиками, Костя сразу изменился в лице и изобразил такую степень брезгливости, что на мгновение я и сам ему поверил.
Невозможно было поверить только в то, что всё это говорит и делает тот самый Костя — МОЙ Костя, который ещё день назад говорил на ухо признания, от которых хотелось петь и летать, от которых хотелось жить. От которых две недели назад захотелось рассказать родителям о том, что в моей жизни наконец появился человек, с которым я был готов пройти за руку всю оставшуюся жизнь, и этот человек — мужчина. Конечно, ничем хорошим такой идиотский каминг-аут не закончился. Отец выкинул меня из дома прямо в том, в чём я тогда был одет. Ещё пару часов я стоял под дверями квартиры и слушал, как громко плакала мама и кричал отец. Сначала родители просто обсуждали, потом начали сильно ругаться, потом вроде всё затихло, но дверь мне никто так и не открыл.
Костя без вопросов забрал меня к себе, тем более что он и сам предлагал мне переехать пару дней назад. Анализируя его поведение сейчас, я понимаю, что моё неожиданное признание родителям было не только моим желанием признаться всем и вся в своей неземной любви, но и планомерной работой Костика, который готовил меня с самой первой нашей встречи. Готовил к тому, что происходило сейчас.
Мне были неясны условия его игры и правила, но стал ясен результат. Я был всего лишь глупым мальчиком, с которым было весело развлекаться, и которого было совсем не жаль выбросить в тот момент, когда развлечения стали более серьёзными.
***
10 января.
Не помню, когда я спал дольше трех часов за последние два дня.
Допрос в аэропорту продолжался около двух часов. Постоянно приезжали всё новые люди и начинали задавать прежние вопросы, причём половина из них так коверкала английские слова, что я с трудом понимал, что от меня хотят, учитывая ещё и то, что моё знание английского языка было на совершенно примитивном уровне. Ни о каком переводчике речи даже не заходило.
По истечении двух часов мне приказали раздеться догола и провели личный осмотр, причём не один. Никто во время этих осмотров не заморачивался ни этическими, ни психологическими тонкостями. Меня ставили раком, осматривая прямую кишку, причём заглядывая туда и вдвоём, так же бесцеремонно обследовали ротовую полость, ощупывая каждый зуб и забираясь пальцами, казалось, прямо в глотку.
Естественно, ничего они найти не могли, но упорно пытались. Единственным желанием в тот момент было побыстрее принять душ и одеться, но, естественно, сделать это мне никто не дал. Дальше последовал ещё один допрос, и только после него мне выдали мои шорты и майку из чемодана, а потом усадили в полностью закрытую машину по типу нашего «козла» и куда-то повезли. От усталости и шока я уснул прямо на полу машины, поэтому не помню, сколько по времени заняла наша поездка.
Когда мне приказали выйти, сразу стало понятно, что привезли в какое-то исправительное учреждение. Осмотреться во дворе мне не дали, а сразу отвели в камеру, причём идти я должен был, согнувшись по пояс, глядя только в пол и угадывая направление по толчкам охранников в правый или левый бок.
Место моего обитания представляло собой маленькое помещение метр в ширину и два в длину. Три стены были глухих, а четвертая зарешечена. Камера была одной из нескольких подобных вдоль длинного коридора. Еще в нескольких, как я понял, кто-то находился, но рассмотреть кто не было возможности. Попытка близко подойти к решётке пресекалась ударом дубинки охранника по любопытной части тела.
Камера была пустой. Только в одном углу было брошено какое-то тонкое одеяло, а в другом стояло небольшое ведро, которое, как я понял, было предназначено для оправления естественных нужд. Утром и вечером приходил какой-то человек, который приказывал показать ведро и только потом его разрешили вынести в сливную яму на улице. Сначала я не понял, зачем всё это делали, но потом додумался, что они ожидают, что возможно ещё что-то может выйти из моего организма.
В камере было очень душно и плохо пахло, но как потом оказалось, что эти условия были не то, на что стоило жаловаться. За эти два дня меня допрашивали ещё несколько раз, но ничего нового я добавить не мог. Естественно, я требовал адвоката или представителя консульства, но на мои требования только закатывали вверх глаза или улыбались, объясняя, что всё будет за «хорошее сотрудничество». К тому же, чем дальше, тем больше я осознавал наличие языкового барьера. Я не мог полностью выразить свои мысли на английском, а также понять, что ещё хотят от меня.
Примечание к части*1 мая 1947 года 23–х летняя Эвелин Макхэйл написала записку — "He is much better off without me… I wouldn’t make a good wife for anybody” ("Ему будет лучше без меня… Я не смогу быть хорошей женой ни для кого”) и выбросилась с 86 этажа Эмпайр–Стейт–Билдинг.
Часть 2
11 января.
После завтрака, который, как обычно, представлял собой две горсти риса, приправленного острыми специями, мне приказали собрать вещи и готовиться куда-то ехать. Куда именно я не понял, так же, как и не совсем понял про вещи — это шутка такая? Единственные мои вещи — это шорты, майка и трусы, в которых я проходил все эти три дня. Через полчаса в камеру вернулся тот же полицейский и бросил через решётку кучу тряпья, в котором я узнал ещё две пары своих шорт, несколько футболок, бейсболку, а также расчёску и полотенце. Все эти вещи были в чемодане. Конечно, не густо, но и не пусто. Переодеваться не было смысла — непонятно, куда меня собирались увозить и зачем. Я быстро собрал всю одежду в полотенце и завязал его наподобие узелка.
Ещё через полчаса пришли двое других полицейских, один из которых показал, что мне надо протянуть руки для наручников. На мой вопрос о том, куда меня ведут, они не ответили, только переглянулись, и один, улыбаясь, что-то сказал по-тайски. Не сказать, что его улыбка успокоила, тайцы вообще склонны улыбаться даже в неподходящих ситуациях, но и не дала повода насторожиться. В этот раз охранники меня не пинали, не заставляли наклоняться, когда вели по коридорам, просто шли рядом.
На улице уже ждал небольшой грузовик, в который мне приказали залезать. Внутри на лавках сидели такие же арестанты в наручниках. Грузовик был с закрытым кузовом, и только на крыше виднелось небольшое окошко для вентиляции, поэтому определить, куда нас везли, возможности не было. Вся дорога заняло около часа, а потом стало понятно, что приехали. Машина несколько раз через очень короткие промежутки времени останавливалась, слышались переговоры охранников между собой, и, наконец, двигатель заглох.
По живому коридору из автоматчиков всех «пассажиров» грузовика провели к входу в ближайшее здание и сразу определили в большую комнату, а потом начали вызывать по одному к стеклу с окошком, за которым сидел человек в форме и оформлял бумаги. Когда подошла моя очередь, я тоже подошёл, но среди протянутых мне бумаг не нашёл ни одной не то что на русском, а даже на английском, поэтому подписывать отказался. На мой жест неповиновения таец за стеклом только неопределённо махнул головой, забрал бумаги и выкрикнул имя следующего.
После всех мероприятий и тщательного обыска на плацу перед зданием охрана по нескольку человек стала отводить в камеры, но перед этим каждого заковали в кандалы. У меня был шок. Раньше казалось, что такого в современном обществе уже давно нет, и не может быть, но их надевали на всех без исключения. Мне не было понятно: зачем? Конечно, из любой тюрьмы возможен побег, но если уж человек на него решится, то кандалы ему вряд ли помешают.
Через полчаса на моих ногах красовались два металлических кольца, соединённых между собой тяжёлой цепью. Сказать, что всё происходящее напоминало кошмар, не сказать ничего. Кроме меня вокруг не было видно больше ни одного белокожего заключённого, про охрану и говорить не приходилось. Я ощущал себя какой-то чудной зверушкой из Кунсткамеры, которую каждому было необходимо осмотреть со всех сторон, причём интересно было не только заключённым, но и самим полицейским. А поход по коридору до камеры вообще походил на цирковое представление. Я сомневаюсь, что кто-то понимал, красавец или урод этот белый, для окружающих я представлялся этакой обезьянкой, на выступление которой можно и даже необходимо показывать пальцем, делать непонятные жесты руками, орать, рычать, пищать. Поднявшийся шум оглушал и действовал угнетающе.
Наблюдая за происходящим, я на какое-то время даже забыл о своей обиде на Костю и обо всех остальных проблемах, внутри липкой смолой растекался только страх. Жуткий, глубокий, от которого деревенели ноги и к горлу подступала тошнота, который достиг своего апогея в тот момент, когда меня втолкнули в камеру, и за спиной захлопнулась решётка.
Не знаю, сколько минут я так простоял, тупо пялясь в противоположную стену. Передо мной промелькнуло несколько лиц, кажется, кто-то что-то говорил, но от шока я не мог понять, ко мне ли обращаются? Видимо, остальным в конце концов надоело наблюдать за статуей и захотелось какой-то реакции, потому что я ощутил достаточно сильный толчок в плечо, от которого въехал в решётку за спиной, потом грубый окрик, который и вывел меня из своеобразного транса.
Напротив стоял таец лет сорока-сорока пяти, хотя я и не был в этом уверен. Для своей национальности он был достаточно крупный и высокий — почти моего роста. Ещё его отличало ото всех остальных то, что тело мужчины было полностью покрыто татуировками, самой запоминающейся из которых был тигр с оскаленной мордой, отбитый на левой стороне груди. Даже моих небольших знаний в татуировках было достаточно для того, чтобы понять, что этот человек опасен и шутить с ним не стоит, но опускать взгляд в пол я не стал.
За те несколько минут, что он пристально меня рассматривал, показалось, что татуированный сумел просканировать всё, начиная с того, дёргал ли я за косички девочек в детском саду, и заканчивая «меню» моего сегодняшнего завтрака. Непонятно было тогда, устроил его осмотр или нет, но он буркнул что-то второму такому же с тату, и тот кивнул мне на свободное место у стены. Пожалуй, тогда был явно не тот момент, когда надо было спорить, тем более что место показалось мне не самым худшим, хотя в тюремной камере назвать что-то лучшим или худшим можно было только условно.
Следующие несколько часов у меня была возможность привести свои мысли в порядок и осмотреться, а также попробовать тюремный обед. Надо сказать, что кроме меня его ели не так много людей. Большинство кушало что-то своё, и я им завидовал, потому что жидкую баланду с сильным запахом несвежей рыбы есть было практически невозможно. Я проглотил несколько ложек, но после позыва на рвоту остановился и решил, что лучше подождать ужина.
Камера представляла собой помещение метров тридцать-тридцать пять в длину и ширину. Никакой мебели не было даже близко, только у дальней стены пол делал уступ в полметра высотой, но котором и расположились татуированные. В дальнем углу было заметно ещё одно небольшое возвышение, которое закрывалось от обзора камеры небольшой стенкой, но её функция была весьма условна. Человек, сидя за ней, скрывался в лучшем случае по грудь, и то, что он, собственно, делал в этом закутке, не оставляло простора для фантазии.
Если раньше, в одиночке, я думал, что воняло, то здесь стало понятно, что те условия были как минимум четыре звёзды против минус двух тюремной камеры. Несколько вентиляторов под потолком гоняли туда-сюда тяжёлый, спертый дух от тел пары десятков постоянно потеющих в сорокоградусной жаре мужиков и параши. Тем, кто сидел на возвышении, видимо, было немного легче, потому что на дальней стене было два небольших зарешеченных окошка, а все остальные заключённые находились примерно в одинаковых условиях.
Всего мужиков в камере было двадцать четыре, хотя сразу мне показалось, что двое — это женщины, но, приглядевшись, понял, что это не так. Здесь таких называли «третий пол», а проще говоря, трансвеститы. Они не были редкостью, и на них в камере обращали внимания не больше, чем на всех остальных, но по поведению было понятно, что услугами этих «леди-бой» некоторые пользуются охотно. На улицах Бангкока я неоднократно встречал подобных парней разной степени похожести на женщин. У некоторых даже была развита грудь, да и остальная внешность почти неотличима от внешности обычной женщины. Костя мне неоднократно показывал «леди-бой» на улицах, и я не мог понять, как он их вычисляет? Многие трансвеститы зарабатывали проституцией и открыто предлагали свои услуги.
За последующие несколько часов, проведённых в камере, ко мне подходили несколько заключённых и пытались общаться по-тайски и жестами. Английского они не знали, а я абсолютно не понимал, что они спрашивают, поэтому через какое-то время от меня отстали, хотя продолжали внимательно изучать издалека.
Ужина в этот день так и не было, и мой живот к вечеру стал издавать совершенно неприличные звуки, которые из-за шума в камере никто кроме меня не слышал. Когда немного стемнело, нас вывели на построение, перекличку, а потом помыться. Впрочем, помыться я так и не успел. Пока осознавал происходящее и уклонялся от множества толчков пытающихся протиснуться поближе к воде, «банные процедуры» были окончены и единственное, что я успел — это умыть лицо и немного сполоснуть шею.
В камере на своём месте свернулся калачиком лицом к стене, положив под голову узелок с вещами, и почти сразу уснул на пять-шесть часов. Это были, наверное, единственные часы за ближайшие два месяца, когда мне удалось поспать так крепко.
***
14 января.
Одно из самых ярких воспоминаний за прошедшие дни — это постоянное чувство голода, к которому привыкнуть было невозможно. На второй день пребывания стало понятно, что кормят здесь три раза, остальную еду заключённые либо покупают в тюремном магазине, либо им приносят родственники. Но у меня не было ни денег, ни родни, поэтому вечером я, затыкая нос, съел рыбную баланду, а уже через час выблевал всю её в камере.
На четвертый или пятый поход к параше меня прилично шатало, и рвать было уже нечем, но желудок упорно бунтовал и не сдавался, поэтому я, покачиваясь, «пополз» туда, а через минут десять, сделав дело, назад. В тот момент мне было уже глубоко фиолетово на общественное внимание, хотелось или сдохнуть прямо сейчас, а если не получится, то хотя бы уснуть. Но мне было не дано ни то, ни другое.
После помывки, на которую я пошел, только получив тычок дубинкой от охраны, стало немного легче. Хотя то, что я на неё пошёл — это сильно сказано, подняться и дочапать мне помог пожилой сосед-китаец, а после помывки он же пытался всунуть мне в руку кусочек то ли сухаря, то ли лепёшки, но его остановил окрик главного татуированного. Я видел, что китайцу жутко неудобно, но ослушаться было невозможно, поэтому он спрятал сухую лепёшку назад в свой пакет, а сам виновато посмотрел мне в глаза.
Единственное, что я был способен сделать из-за слабости, — прошептать русское «спасибо» и слегка кивнуть головой, а потом завалиться на своё место, закрыть глаза и пытаться дыханием унять тошноту. Я не заметил, как слёзы сами полились из глаз, только прикрыл рукой лицо и старался не шмыгать носом. Неизвестно, как остальные могли отреагировать на проявление моей слабости.
Ещё через полчаса мне удалось взять себя в руки, а потом я почувствовал, как в мою ладонь сосед пытается что-то протиснуть. Стараясь не делать резких движений, я ощупал пальцами предмет и понял, что это тот же кусок лепёшки. Так же, по крошке, я стал его откусывать, максимально продлевая удовольствие. Лепёшка оказалась сухой и пресной, но на тот момент ощущалась как очень дорогое лакомство, а моё чувство благодарности к пожилому китайцу было тяжело передать словами. Я моргнул несколько раз и кивнул головой. Он сделал то же в ответ, а потом отвернулся на другой бок.
На следующий день, к счастью для меня, на завтрак выдали два отварных яйца. Наверное, если бы не они, то пришлось бы ограничиться скудным запасом воды, которую выдавали ежедневно, но её было очень мало, и чувство голода притупить таким объёмом не удавалось.
Во время завтрака рядом со мною сел сосед-китаец из камеры, а также ещё один помоложе, с которым мой сосед переговаривался. Оба мужчины иногда улыбались и всячески показывали своё расположение ко мне. Я пока не понимал, зачем им это надо, но надеялся, что всё это вызвано человечностью, а не чем-то другим. В принципе, за прошедшее время никто из заключённых не вёл себя агрессивно именно в отношении меня. Я видел несколько ссор в камере, которые заканчивались максимум тычками в плечи и грозным окриком одного из татуированных, после чего оба зачинщика рылись в пожитках и несли местной мафии сигареты. Из этого я сделал вывод, что хоть какой-то порядок здесь соблюдается. Что придётся делать мне, если кто-то заденет или задерётся, волновало очень: у меня не было ни денег, ни сигарет, ни каких-либо других ценностей.
Так же вдвоём китайцы подошли ко мне и во время прогулки, хотя прогулкой назвать это было сложно — бесцельное стояние, сидение, хождение в обнесённом высоченным забором из колючей проволоки и зацементированном дворе. Там даже не было места, чтобы укрыться от солнца, поэтому многие жались к стене корпуса, где была полоса тени от здания. Люди сходились в основном группами: китайцы с китайцами, чернокожие с чернокожими, «леди-бой» сами себе. Кто-то сидел в одиночестве, а кто-то курсировал от группы к группе, перебрасываясь на ходу фразами.
Я нашёл место у стены и уселся на теплый цемент, а минут через пятнадцать подошли китайцы. Оказалось, что мой сосед говорит с большим акцентом, но в принципе понимает меня неплохо, а китаец помоложе разговаривал просто отлично. Из их объяснений я понял, что оба попались по глупости, покуривая косячок в одной из своих китайских забегаловок. Так делают многие, и полиция в основном закрывает глаза на подобное, но их кто-то подставил, потому что полицейские, влетевшие в бар, обратили пристальное внимание только на них и арестовали только их. Ничего серьёзного, но до суда придётся пробыть здесь. Можно внести залог, но он гораздо больше, чем штраф, и это не имеет смысла, проще подождать месяц. Я не знал, сколько правды в их словах, но это не имело значения. Мне стоило попытаться наладить контакт хоть с кем-то.
Мы проговорили весь день. Многое соседу приходилось повторять по несколько раз, многое показывать жестами или пытаться начертить предметы для понимания в воздухе или стене, но это было общение, которому я был безмерно рад. Несколько раз к китайцу подходили сокамерники и другие заключённые, что-то спрашивали, и по взглядам было понятно, что про меня. Он отвечал, они ещё таращились и уходили.
Также мне стало известно, что место, где мы находимся, и есть самая настоящая тюрьма под названием Бамбат, а точнее, вся тюрьма называется Клонг Прем, а эта часть — именно так. В ней содержатся задержанные торговцы наркотиками и все, кто ожидал суда по вопросам, связанным с наркотрафиком. Когда китаец услышал, откуда я и всю остальную мою историю, то, так же спокойно улыбаясь, покачал головой, но комментировать не стал. Да и что говорить, я бы и сам не поверил, что человек может не знать даже названия наркотика, за который его задержали.
Четырнадцатого января мы с обоими китайцами, как заведено, сидели у стены, и я пытался им объяснить, что такое наш Старый новый год. В конце концов, сам запутался, так и не сумев толком рассказать, почему наши люди его празднуют, чем вызвал безумное веселье окружающих, так как все мои слова молодой китаец переводил собравшимся вокруг желающим получить свою порцию шоу от единственного белого.
В принципе, это не напрягало, все были дружелюбно настроены, что было мне только на руку. Окружающие открыто веселились и хохотали над комментариями китайца, а через какое-то время послышался свист, и один из тайцев побежал к группе татуированных. Они всегда сидели в стороне ото всех и в общих разговорах участия не принимали.
Несколько раз за прошедшее время я ловил на себе пристальный и буквально пронизывающий насквозь взгляд главного татуированного. И этот взгляд меня пугал. Я понимал выражение его глаз. Несколько раз ночью, когда не спалось, я замечал, как на помост к татуированным забирался один из двух «леди-бой» и подползал к главному. Один раз, когда бой работал ртом у паха татуированного, тот поднял взгляд и посмотрел мне прямо в глаза. Конечно, он заметил, что я наблюдаю. В принципе, это делал не только я, да и мой интерес носил скорее ознакомительный характер — никакого удовольствия от увиденного не было, но не объяснять же это татуированному, поэтому тогда я просто отвернулся, в самый последний момент заметив усмешку.
После этого я замечал, что Джэб (так звали татуированного) следит за мной, и особенно часто он делал это утром, когда я расчёсывал волосы. Нормально помыть голову не было никакой возможности, и я хотел обрезать шевелюру покороче, но оказалось, чтобы это сделать, надо было найти ножницы или заплатить охране. Ножниц у заключённых не могло быть по определению, а платить мне было нечем.
Таец рассказывал татуированным, видимо, то, над чем мы смеялись, потому что они все периодически бросали взгляды на нашу группу. Кто-то улыбался, кто-то смотрел просто так, а Джэб, как обычно, задумчиво, пристально и только мне в глаза. Я не хотел провоцировать и всегда первый отводил взгляд. Тайская тюрьма — это не то место, где единственному белому стоит «качать» права, но наши переглядки не остались незамеченными для старого китайца. В этот раз, когда все разошлись, он неоднозначно поцокал языком, кивнув сначала на меня, а потом на татуированного.
Я не стал оправдываться или выяснять, что он имел в виду? Мне было достаточно и моих наблюдений, и сделанных самостоятельно выводов. Чисто физически Джэб не был мне неприятен, скорее внушал страх, а учитывая то, что однажды я наблюдал, как он одним молниеносным ударом уложил во дворе разошедшегося чернокожего, было понятно, что я просто никто ни против его физической силы, ни против авторитета. Оставалось надеяться на лучшее.
Часть 3
15 января.
Пятнадцатое января — красный день календаря. Сегодня, после недели в тюрьме, я увидел своего адвоката. Его посещение стало полнейшей неожиданностью, но не могу сказать, что приятной. Приятным был тот факт, что он немного знал русский, да и по-английски разговаривал чуть выше моего уровня, поэтому мы хотя бы понимали друг друга.
Он долго выяснял, есть ли у меня родственники, кто ещё может перечислить деньги, я отвечал, что, в принципе, в чемодане была мелкая наличка, и с собой также кое-какие ценности: часы, набор ручек, несколько сувениров с полудрагоценными камнями, но это мне никто не вернул. Адвокат пообещал, что разберётся и по возможности что-нибудь продаст, но, даже учитывая это, сумма выходила очень печальная, и страж моих интересов грустнел на глазах.
Потом мы договорились, что он попытается договориться о встрече в нашем консульстве и попросит там помощи, но адвокат сразу предупредил, что это долгий процесс и в основном не приносящий большого успеха. Самый верный способ облегчить себе жизнь и выйти на свободу — это тугой кошелёк или широкие плечи.
Он долго выяснял, что я вообще знаю о том, что вёз, задавал разные вопросы, в том числе и о Косте. Но потом, видимо, понял, что я только пешка в этой игре и надеяться на помощь мафии нечего, хотя это было понятно и сразу. Если бы за мной стоял хоть кто-то серьёзный, возможно, я бы тут и сидел, но адвокат был бы другой точно.
Также я спросил, можно ли как-то улучшить питание или получить работу? Я видел, что некоторые тайцы клеили коробки или что-то типа того, но он ответил, что иностранцы на работу не допускаются. Видимо, тайцы считают, что глупо платить бабки белым, ведь проще «снять» их с этих самых белых, приперев к стенке невыносимыми и непривычными условиями. От безысходности ситуации я дал адвокату московский номер Кости, без особой надежды на то, что тот ответит. В принципе, моё убеждение потом подтвердилось, но в тот момент гордость была как раз тем самым чувством, которое стоило засунуть в задницу.
Я не сломался в тот момент, но, безусловно, психологическая ломка и давление были огромными. Пусть дома я и жил бедно, но в чистой комнате, носил простую, но добротную одежду, имел всё самое необходимое, в конце концов, дышал чистым воздухом и кушал свежую пищу. Ни в какое сравнение моя прежняя жизнь не шла с нынешней. Мне приходилось спать на холодном полу, подстелив под тело майку и улёгшись головой на узелок с остальной одеждой, питаться помоями, которые позволяли выживать, но не быть сытым, изнывать от жары и жажды сутками, вдыхать удушающие испарения. До сих пор воспоминания об адаптации в первые несколько недель к тюремной жизни вызывают озноб и холодную испарину на спине.
Ещё очень угнетающе подействовал тот факт, что адвокат и сам не знал, когда моё дело будет подано в суд. Возникли какие-то сложности в проведении экспертизы, и что из всего этого выйдет, было не понятно. Порошок в пакетах не был известным наркотиком, а если я правильно понял адвоката, каким-то синтетическим веществом, которое или само могло воздействовать на психику, или из него можно было получить наркотик. Моего английского было недостаточно для понимания всех терминов. Впрочем, адвокат сказал, что срок мне будет в любом случае, вопрос какой.
***
20 января.
После встречи с адвокатом я не мог прийти в себя несколько дней. Одно дело не знать, что предстоит, иметь хоть смутную надежду, что тебя могут оправдать, найти виновных, а другое осознавать, что наказание — твоё абсолютно реальное будущее и изменить ничего нельзя.
У меня не было настроения ни общаться с китайцами, ни с кем-то другим, даже на прогулку выходить не хотелось. Я тупо просиживал на своём месте у стены, глядя в одну точку. Всё потеряло смысл, да и сил не всегда хватало — моё питание было очень плохим. Китаец не мог помогать мне постоянно. Иногда он давал кусок чёрствой лепешки, но это случалось редко: ему не хватало самому.
Мой желудок немного привык к тюремной еде, но проблемы с кишечником были постоянно чуть больше или меньше. Были дни, когда кормили одним рисом, и это было не самое плохое. Иногда давали два раза подряд рыбную похлёбку, тогда мой организм бунтовал, и всё заканчивалось длительным контактом с парашей. В последний раз я буквально уполз от неё на карачках, а на следующий день поднялась температура. Как другие могли это кушать без ущерба своему здоровью?
С температурой охранник отвёл меня в лазарет, но там осмотрели, выдали таблетку и отправили назад в камеру. С таблеткой стало немного легче, но только совсем немного. Моему организму не хватало воды, но когда сосед попытался мне дать немного попить, его окликнул Джэб, и сосед остановился. От бессилия и жалости к самому себе хотелось плакать, но в организме, видимо, совсем не осталось лишней жидкости, слёзы не шли, и я только закрыл глаза.
Через несколько минут я почувствовал, как кто-то легонько пинает меня в бок. Надо мною сидел татуированный и держал перед лицом небольшую бутылку с водой. Потом без слов отвернул крышку, поднёс её сначала к своим, а потом к моим губам и наклонил. В тот момент мне было абсолютно всё равно, что будет потом, главное, сейчас мой организм получал такую желанную и вкусную влагу. Я выпил всю бутылку до дна и только тогда поднял глаза на Джэба, но на его лице не было заметно ни одной эмоции.
Через пару дней я поправился, температура спала, но продолжались проблемы с пищеварением. В лазарете я говорил про это, но доктор только отмахнулся, а может, не понял моих объяснений. Я ещё больше похудел и ослабел.
Эти два дня Джэб пару раз в день приносил мне дополнительную воду и по-прежнему молчал. Можно абстрактно обсуждать, что мужик должен терпеть, сжимать зубы, только становиться должником, но именно абстрактно. Когда высоченная температура, на улице плюс сорок, мочился ты последний раз когда-то вчера, и это совсем неправильно, не до тупого геройства. Я принимал подачки, понимая, что всё не просто так.
На четвёртый день болезни от предложенной Джэбом воды я отказался, а он не настаивал. Сосед что-то пробурчал о том, что всё равно нет смысла, но я внимания не обратил. Превращаться в подстилку не хотелось ни в каком виде и никаким боком. Конечно, за прошедшее время я неоднократно наблюдал, как мужчины, не очень таясь, жили между собой и не особо заморачивались моралью, но это было если и неестественно, то добровольно. Каждый выживал, как мог. А про «леди-бой» и говорить не приходилось.
***
23 января.
Снова приходил адвокат и рассказал, что ему отдали мои сувениры, но обо всём остальном посоветовали забыть. Никому из тайцев тайские сувениры были не нужны, поэтому они остались у адвоката. Денег не было и не предвиделось. С посольством также пока не было никаких подвижек. Всё, в основном, упиралось в деньги.
Ещё адвокат предупредил, что в ближайшую неделю начнутся допросы. Теперь моё дело ведёт другой следователь, и это не очень хорошо, так как тот может устраивать «свои» допросы. На мой вопрос, что такое эти самые «свои», адвокат ответил, что это допросы без его присутствия и надо вести себя очень аккуратно во время них. Он постарается приезжать всегда, но с этим следователем всё очень непросто, я должен быть готов.
Я уже немного привык к малому количеству пищи, стараясь не концентрироваться на чувстве голода, но тогда приходилось думать о чём-то другом, и чаще всего этим чем-то были Костик и его поступок. Костя не был первым мужчиной в моей жизни, но был первым любимым человеком. Первым, ради которого я смирился с самим собой, признался родителям, да я готов был каждому на улице признаваться, что люблю мужчину, и всё обернулось таким кошмаром и просто игрой для него. Сколько ещё дурачков Костя обвёл вокруг пальца? Его поведение сейчас виделось выверенным до мелочей, поэтому поверить, что я первый, было невозможно. А если не первый, то где остальные?
25 января.
Сразу после завтрака на меня надели наручники и отвели на допрос. В принципе, я был к этому готов, но не был готов к тому, что допрос окончится так быстро и с такими результатами.
Поначалу таец показался мне вполне приятным мужчиной лет сорока, а может, даже чуть меньше. Он спокойно и с улыбкой задал несколько вопросов по-английски, но, видимо, ничего нового не услышал. Немного посидел молча и принялся расхаживать по кабинету вокруг стола и стула, на котором я сидел. Я тоже молча ожидал, что будет дальше, поэтому совершенной неожиданностью стало то, что стул из-под меня он выбил, и я плюхнулся на бок, естественно, не сгруппировавшись и больно ударившись задницей и боком. Пока я пытался перекатиться на живот, чтобы встать на четвереньки, следователь подскочил сзади и приложил меня головой об пол. После этого позвал охрану и приказал увести в камеру.
К вечеру вся левая половина лица вспухла и посинела. Особенно болела щека изнутри, которую я умудрился прикусить, когда следователь ударил меня об пол.
Моя надежда на нормальное следствие растаяла. Сосед-китаец, наверное, уже привык к моему подавленному настроению, поэтому с расспросами не лез, только изредка пытался разговорить. После вечерней переклички к нам подошёл Джэб и начал по-тайски разговаривать с соседом. Уже вечером после отбоя китаец лёг ко мне лицом, показал пальцем в сторону Джэба, потом на меня и сделал жест пальцами, как будто изобразил еду или разговор. Я понял, что Джэб спрашивал про моё лицо и допрос. В общем, ничего радостного: с одной стороны маячил садист-следователь, а с другой — излишне любопытный якудза.
30 января.
Я не знал, сколько ещё смогу это выдерживать. Из трёх допросов за последние пять дней мой адвокат присутствовал только на одном, а остальные два следователь провёл самостоятельно, да это и не допросы, в общем-то, были. Второй раз я уже был готов к его методам, и поэтому, когда он начал кружить, постарался быть готовым к падению со стула, но не был готов к прямому удару лицом о стол. При допросе с адвокатом следователь ограничился только тычком в спину, а на третьем допросе я получил по рёбрам.
Вчера адвокат пришёл немного позднее допроса и лицезрел свеженаливающийся синяк на рёбрах. Он, конечно, предложил подать жалобу, но сказал, что пока её будут разбирать и следователя отстранят, мне может стать ещё хуже, что надо срочно искать где-нибудь деньги и защиту. Сам он попытается поговорить со следователем, но это безрезультатно. Никого не волнует судьба безымянного белого, у которого нет денег даже на сигареты охране.
5 февраля.
Там было очень холодно и мерзко. Вода с нечистотами постепенно разъедала израненную под кольцами кандалов кожу щиколоток. Сами кандалы сняли, но лучше от этого не стало. Я буквально физически ощущал, как по ступням скользили какие-то слизкие твари, но там не было даже маленького уступа, чтобы поднять ноги выше уровня воды.
Через два часа я не выдержал и помочился прямо в воду, в которой стоял, и грязнее она от этого не стала.
Ещё через час колени подогнулись сами, и я присел на корточки. Вода теперь доходила до груди, а я пытался немного растереть ноги по колено и так их согреть или хотя бы восстановить кровообращение.
Хотелось пить и есть.
Не знаю, сколько часов провёл здесь. Время стиралось. Очнулся, когда чуть не захлебнулся, сидя на заднице и погружаясь всё глубже в воду. Пока отплёвывался, дверь карцера открылась, пришла охрана, и меня отвели в камеру. Может, пожалели или ещё что, но кандалы на ноги не надели.
В камере хватило сил только переодеться в сухое и завалиться на своё место.
Часть 4
7 февраля.
Даже спустя два дня ноги оставались немного распухшими, а на левой голени появилась небольшая язва. По требованию адвоката меня отвели в госпиталь, где рану обработали. Доктор о чем-то переговаривался с охраной, и в результате кандалы на меня надевать не стали.
Опять с утра водили на допрос. В этот раз следователь ограничился осмотром результатов своей деятельности и моим убитым внешним видом, а также намёком, что даёт мне время подумать в течение недели.
12 февраля.
Я честно пытался думать, но подписать все бумаги, означало автоматически признать вину и согласиться на приговор. Адвокат объяснял, что наш единственный шанс — это консульство, но до него неделя, а первый суд через два дня. Просто так дать срок мне не могут, что-то там не так с проведённой экспертизой. Вроде как все понимают, для чего нужен тот порошок, но это не совсем наркотик, поэтому лучше бы я согласился добровольно подписать признание.
Адвокат предупредил, что следователь накануне суда может устроить очередной допрос, и произошло именно так. К моей удаче, адвокат успел в самый последний момент, признание так мною подписано и не было.
14 февраля.
Слушание моего дела заняло ровно двадцать минут, а ожидание очереди к судье — несколько часов. В суд меня повезли не одного, а сразу ещё с шестью заключёнными.
Судья листал бумаги моего дела, потом подозвал адвоката и следователя с обвинителем. От стола судьи следователь вернулся разъярённым, бросая на меня такие взгляды, что кровь холодела в жилах, несмотря на жару вокруг. Было понятно, что ничего хорошего мне не светит. Приговор в тот день мне так и не зачитали.
Вечером я рассказал всё соседу-китайцу, но что он мне мог посоветовать, кроме как найти где-нибудь деньги? Но их негде было брать. Негде!
17 февраля.
Наверное, так сходят с ума. Я не стал ждать того момента, когда ноги онемеют и замёрзнут окончательно, и почти сразу опустился в мутную воду. На улице было жарко, но в карцере так не казалось.
Я не успел пообедать, а на завтрак была только небольшая горстка острого риса, от которого теперь мучительно хотелось пить. Губы и горло пересохли, даже глотать стало трудно. Пытаясь немного размять ноги, я несколько раз прошёл вдоль стены, ощущая ступнями, как под моим весом раздавливаются под водой то ли червяки, то ли ещё кто. Мерзко и противно. Ты не можешь видеть, что под водой, но ощущаешь, что там кто-то живёт, и эти «кто-то» забираются между пальцами, обвиваются вокруг щиколоток, пытаются присосаться к поджившей ранке на голени.
В какой-то момент мне показалось, что слизкое существо проникло под кожу. Я сильно тёр голени руками, по очереди поднимал ноги вверх и рассматривал целую кожу. Воображение и усталость играли злую шутку, мне казалось, что под кожей кто-то двигался, и я принимался раздирать её ногтями. Потом приходил в себя, понимая, что это не так. Стоял в воде, переводя дыхание и концентрируясь на нём, ровно до того момента, пока очередная тварь не прикасалась своим склизким телом к ногам.
Я выл, скулил, орал, плакал в голос, вцеплялся в волосы, намеренно причиняя себе боль, чтобы оставаться в сознании и не сходить с ума.
В какой-то момент опять ощутил, как что-то присасывается к ране на ноге. Приподнялся. Там действительно сидела тварь похожая на нашего слизня.
Рвать было нечем, но с очередным позывом из глубины моего желудка и кишечника исторгалось что-то горько-жгучее. Я сплёвывал прямо перед собой. Это было жутко, невыносимо, отвратительно. Нет таких слов, которыми можно было бы описать моё состояние тогда.
После рвоты жутко захотелось пить. В карцере с каждым часом становилось всё жарче, даже вода нагрелась. Одновременно активизировались твари под водой.
Сколько это ещё могло продолжаться? Сколько я выдержу?
Вы знаете, как это пить собственную мочу? Это на грани между сумасшествием и здоровьем, на грани между явью и обманом сознания, на грани между жизнью и смертью…
Я опять захлёбывался мерзкой жижей, потом откашливался и опять захлёбывался. Я потерялся в пространстве и времени. Было неважно, день сейчас или ночь, где я, зачем? Хотелось уйти под воду так, чтобы не захлёбываться, а так, сразу — раз, и лёгкие заполнены водой. Так бы я смог, но каждый удушающий приступ кашля немного приводил в чувство. Я цеплялся за остатки сознания и, наверное, за никому не нужную в тот момент жизнь.
В карцере я провёл два дня.
Как привели в камеру, я не помнил.
23 февраля.
Вчера выпустили китайцев. Оба не вернулись вечером в камеру после суда. Ещё накануне они обсуждали, какой штраф им могут дать. Видимо, у родни нашлись средства, чтобы вытащить их из тюрьмы. Я завидовал? Завидовал. Завидовал. ЗАВИДОВАЛ! Всеми видами зависти: чёрной, белой, розовой, фиолетовой. Всеми оттенками и полутонами. Я становился зверем, потому что не радовался их свободе…
Кто считает, что умереть очень просто? Нет. Сначала ты мучительно выискиваешь способ это сделать максимально безболезненно и легко, чтобы быстро и наверняка, потому что если по-другому, то спасут и посадят на цепь длиною ровно от тебя и до параши. За всю мою одежду можно найти тупое лезвие, но перерезать вену почти нереально. Точнее, реально, но это сразу заметят соседи. В камере всё время кто-то не спит, кто-то наблюдает, кто-то трахается, кто-то дрочит втихаря, кто-то переговаривается. В коридоре ночью дежурит охранник, который совершает обход. Если порезать крупную вену, то соседи сразу поднимут шум, тебя вытащат, и привет собачья жизнь на поводке.
Захлебнуться в карцере не получалось.
Следователь не собирался забивать до смерти.
Еды хватало, чтобы двигаться по стенке, лежать на полу, кое-как следить за собой, но не хватало, чтобы получить полное истощение и умереть от голода.
А ещё мешала надежда. Пока в моей душе жила эта сука, я цеплялся за жизнь, за выживание, за почти животное существование, за крохи разума и мучительно выискивал, как не подохнуть в этой дыре.
После обеда пришёл адвокат и с ним ещё один мужчина европейской внешности. Пока меня обыскивали, одевали наручники и кандалы, я всё время наблюдал за этим человеком, пытаясь понять, что его появление может для меня значить?
— Здравствуйте, Дмитрий, — он первый начал разговор, сразу, как только я уселся. Адвокат молчал, да и я от неожиданности не мог произнести ни слова. — Дмитрий?
— Здравствуйте.
— Я сразу всё расскажу вам, чтобы не было вопросов. Меня зовут Павел Сергеевич. Вашему адвокату удалось связаться с консульством, они дали запрос на наше ведомство по поводу вас. Сергей Фролов — вы знаете, кто это? — Я отрицательно помотал головой. — А Константин Селец?
— Да, конечно.
— В каких вы были отношениях?
— В близких. — Я отчетливо видел, что этот серьёзный мужчина напротив прекрасно знает, в каких отношениях с Костей я был.
— Это же он был с вами в аэропорту и не как случайный попутчик?
— Да. Он не случайный попутчик.
— Это кто-то может подтвердить?
Я мучительно вспоминал, кто из близких или знакомых мог видеть нас вместе. Жизнь мы вели достаточно замкнутую, родители мои Костика или, как оказалось, Сергея не видели, в кафе ходили вместе только несколько раз.
— Я сомневаюсь. Если только где-то официант вспомнит или запись с камер будет. Фотографии все остались у него, друзей общих у нас не было.
— А в Москве вы вместе куда-нибудь ходили?
— Несколько раз в кофейню.
— Ясно. Проясню ситуацию. Это долгая история, но вы должны знать, что Костю или Сергея мы взяли. Сейчас он даёт показания, но всё очень сложно и запутано. Ваша история вылезла совершенно случайно, но своевременно, поэтому я здесь. Дмитрий, надо максимально вспомнить все детали ваших отношений и рассказать мне через день. Потом я улетаю, и мы продолжим работу в Москве. Если со временем Костя подтвердит вашу невиновность, мы сможем помочь выйти, уехать из страны через консульство, но необходимо время. Пара месяцев точно, но будет проще, если за это время суд не успеет вынести решение по вашему делу. Сами понимаете: одно дело находиться под следствием и получить доказательство невиновности, а другое быть осужденным в чужой стране, и только потом получить оправдательный приговор. — Павел Сергеевич внимательно рассматривал меня, а потом добавил: — Вы плохо выглядите. Я наслышан, какие здесь условия.
Я повёл плечами:
— Следователь давит.
— Я знаю, — к моему удивлению добавил Павел Сергеевич. — Будет давить. Мы не можем отследить канал — здесь не наша территория, а сведения так просто никто предоставлять не хочет. Вы не первый иностранец, попавшийся на наркотиках, дело которого поручают именно вашему следователю, но мы пока бессильны. Вам надо держаться, Дмитрий. Если совсем никак будет, подпишите документ, но опять-таки, если вас успеют осудить, то переведут в другую тюрьму. Здесь хоть какой-то порядок есть, а в другом месте — может быть лучше, а может… — Павел Сергеевич многозначительно замолчал. — Ситуации нехорошие бывают: драки, поножовщина, несчастный случай.
Я всё понял. И про купленного следователя, и про Костю-Серёжу, и про то, что раньше были цветочки, а в ближайшее время пойдут ягодки.
Мы ещё некоторое время поговорили, а потом они ушли, а меня вернули в камеру.
Снова напало мучительное оцепенение. Мне было жутко страшно, так, что от нервов зуб на зуб не попадал. Страх — это эмоция? Нет. Эмоция — это то, что только в голове, а страх ощутим физически. Это холодный пот по спине в плюс сорок, волоски дыбом по всему телу до ощущения лёгкого жжения, это челюсти, сведённые судорогой до скрежета зубов, непроизвольная дрожь мышц, пульс за сто и когда не протолкнуть воздух в легкие. Вот это страх.
Пытаясь отвлечься от мыслей, я рассматривал сокамерников, концентрировался на мелочах, но память упорно рисовала карцер, побои, слизких тварей по ногам, моё временное безумие. Каждый занимался своими делами, и только один человек смотрел на меня в упор. Я уже почти привык к его взгляду, хотя можно ли привыкнуть к тому, что тебя мысленно имеют?
До сих пор я не понимал Джэба. У него была реальная власть и относительная свобода здесь. Он мог изнасиловать любого, в том числе и меня, почти безнаказанно, но не делал. Этот страшный человек играл в какую-то свою игру — может, от скуки, а может, ещё от чего, но я правил этой игры не знал, но понимал цель. Приз в этой игре был я сам, моя добровольная сдача, моё смирение и послушание.
Может, Джэбу надоели уступчивые «леди-бой» и захотелось экзотики, а может, просто было скучно, но суть от этого не менялась. И сейчас мне надо сделать выбор, перед кем прогнуться?
Было жутко страшно ещё раз попасть в карцер, а ещё страшнее выйти оттуда уже не человеком. Такое случалось в этих стенах, один раз даже во время моего нахождения в тюрьме. Кому потом нужны эти люди? Они обречены тихо сгнивать в тюремной психушке.
27 февраля.
После допроса меня привели в камеру. Я знал, что как только сменится охрана, за мной придут и отведут в карцер.
Я видел, как многие перешёптывались, глядя на меня, свернувшегося в клубок на своём месте и дрожащего от страха и стыда, но мне было всё равно. Да и осуждения, думаю, никакого не было. Все прекрасно знали, что это за место, и знали, что, пройдя через него, ломались и не такие как я.
Звон ключей в связке, щелчок замка.
Я не хотел вставать и получил ногой под рёбра. Может, я кричал вслух, а может, и про себя? Это было начало конца. Я не мог больше выдержать. Это край, бездна.
В самый последний момент, когда охрана уже подняла меня на ноги и поволокла к выходу из камеры, туда же подошёл и Джэб.
Он перебросился парой слов с охранниками, как с близкими людьми, а потом на чистом английском спросил, глядя мне прямо в глаза:
— Твой ответ мне?
«Да», — ответило моё тело, наплевав на гордость. Потом будь что будет, но сейчас меня не поведут в то жуткое место, а оставят здесь.
— Твой ответ?
— Да, — прошептали губы. Я ещё не совсем понял, на что согласился, но решение было принято.
Джэб переговорил с охраной, а потом они всё-таки потащили меня из камеры. Я перестал осознавать что бы то ни было. Наверное, в тот момент мой мозг отключился и снова заработал, когда тело столкнулось с полом, а за спиной с лязгом захлопнулась дверь.
Не было воды, не было жутких тварей в ней. Это была просто маленькая камера, полностью закрытая от всего остального мира и глядящая наружу только одним маленьким окошком, находящимся чуть выше уровня моих глаз, к которому я подошёл и поднялся на носочки, вдыхая воздух с улицы. Пусть жаркий, влажный, но свежий и свободный.
Немного позже я сидел в камере на полу, глядя в окошко на крошечный обрывок неба с несколькими звёздами. Мне было страшно, что будет дальше, пугал и сам Джэб, и мои теперь уже вполне оформившиеся обязательства по отношению к нему, но сознание уцепилось за окошко неба с силой утопающего, хватающегося за спасительное бревно.
Я немного менял положение тела, и тогда в области моего зрения появлялась ещё одна звёздочка, а прежние исчезали. В тот момент казалось, что можно рассматривать их вечно. Раньше я даже не осознавал, на сколько человеку иногда необходимо одиночество, а сейчас оно обволакивало меня и отстраняло от всего происходящего. Сюда почти не проникали звуки снаружи, и ничего не отвлекало меня от разглядывания клочка свободы.
Когда стемнело, за мной пришли охранники и отвели назад в общую камеру.
Мое место у стены было занято. Казалось, что большинство сокамерников спят, но это было не так. Я понимал, что они наблюдают. Каждый со своим интересом: кто со скуки, кто с нездоровым возбуждением, но ни тот, ни тот вариант внимания мне не нравился.
Джэб сидел, скрестив ноги на своём месте, немного сдвинувшись влево от центра, а справа двое татуированных о чём-то переговаривались, лёжа лицом друг к другу. По его лицу, как обычно, ничего сказать было нельзя, но во взгляде явственно было видно удовлетворение происходящим. Я смотрел прямо ему в глаза, когда подходил ближе, потому что казалось, что если сейчас отвернусь, то просто убегу к решётке, а это было бы полной глупостью. Сделка состоялась, меня никто не заставлял.
Джэб похлопал рукой слева от себя и, когда я подошёл вплотную, сказал:
— Живёшь здесь.
«Живу».
Здесь?
Не здесь. Меня здесь нет. Я там, где в крошечном проёме окошка виден чёрный лоскуток неба с одной маленькой звездой.
Я не чувствую крепкие пальцы на бёдрах, тяжёлое дыхание на шее, что-то влажное на анусе, тянущей боли, мне всё равно, что прикосновения скорее нежные и осторожные, а движения медленные.
Меня здесь нет. Я там…
Часть 5
5 марта.
Полностью игнорировать произошедшее не получилось.
Заснуть в ту, первую ночь так и не вышло, хоть по ощущениям Джэб закончил со мной очень быстро, я ещё долго находился в каком-то странном состоянии между реальностью и воображением. А следующим утром сначала старался не смотреть в глаза сокамерникам, потом обратил внимание, что всё, произошедшее ночью, безусловно, было замечено, но внешне отношение ко мне не поменялось. Даже сами татуированные не задерживали на мне взгляд дольше обычного, да и в поведении Джэба не было большой разницы. Он не игнорировал меня, но и не трогал.
На завтраке я решил рискнуть и уселся на старое место. Никто не сказал мне даже полслова, не отодвинулся, не ударил. В принципе, наверное, любой человек в нашей стране слышал или видел в кино, как относятся в тюрьмах к людям, которые выполняли (слово-то какое красивое) такие функции, но здесь всё было по-другому. Может, вообще к однополому сексу все относились проще, а может, у заключённых хватало других проблем, но больше внимания к себе я ощущал до того, как всё произошло, чем после.
Оставалось только побороть самого себя. Да, это был мой собственный выбор, и даже сейчас я считаю его обоснованным, но убедить себя в его правильности не удавалось. Всё было мерзко и слишком грязно. Происходящее мало чем отличалось от проституции, за исключением того, что хастлерам платили деньги, а я брал натурой. Натура за натуру. Даже смешно — натуральный обмен. Никогда не думал, что моя задница может быть оценена в дополнительную порцию риса, немного фруктов, пару бутылок воды и отсутствие карцера. Это слишком дёшево? Для кого? Для вас? Да, наверное, дёшево для любого, кроме того человека, который от немыслимой жажды был вынужден пить собственную мочу и ополаскивать тело вонючей водой с собственной блевотиной, чтобы не сдохнуть от жары.
За эти несколько дней Джэб ежедневно требовал от меня выполнение нашего соглашения, но как такового секса с проникновением больше не было. Мне трудно сказать почему, скорее всего вопрос упирался в наличие кондомов, но каждую ночь он непременно показывал, что именно ему хочется. Или опускал мою руку к своему паху, или несильно, но настойчиво наклонял голову.
Минет в камере на третий день также стал испытанием. Если в первый день мне удалось полностью отстраниться от происходящего, то в данной ситуации сделать это было тяжелее. Кое какой опыт у меня был, но из-за спешки всё получалось очень неумело, поэтому Джэб сначала предупреждающе сдавил шею сзади, а потом оттянул мою голову за волосы от своего паха и пристально посмотрел в глаза. Не надо было слов, чтобы понять его намёк. Я подчинился и дальше старался концентрироваться только на процессе. Джэб долго не кончал, но когда это произошло, то уже через несколько секунд подтянул мою голову вверх и снова уставился глаза в глаза. Я понимал, чего он ждал, но не мог заставить себя проглотить. Терпкий и специфический вкус раздражал язык и глотку, вызывая рвотный рефлекс в виде непроизвольных сокращений мышц шеи. Видимо, Джэб увидел это и с силой оттолкнул меня, позволив уйти.
Я не понимал этого человека. То, что в нём много дурной силы и властности, было видно, но во всём, что касалось секса, он не был жёстким. И я не могу сказать, что это было таким огромным плюсом. Пожалуй, веди он себя по другому, мне в чём-то было бы даже проще. Насилие и жестокость, как искупление моего падения или что-то подобное, но Джэб не давил, и меня это с одной стороны удивляло, а с другой настораживало, ведь я видел его поведение в обычной жизни.
7 марта.
Светлое пятно в бесконечной череде дней.
В этот день состоялся очередной допрос у следователя. Конечно, торговать собственной задницей за возможность увидеть его реакцию было слишком, но, тем не менее, двумя днями без пищи за представшую картину можно было пожертвовать. Впрочем, теперь голодать мне не приходилось.
Эта сволочь кружила по комнате для допросов, что-то кричала по-английски, а потом на пике переходя на тайский. Я уже знал, что подобное повышение голоса для любого тайца — это огромное оскорбление, и понимал, что следователь орёт не случайно, но в тот момент вся его истерика меня совершенно не трогала. Поначалу допрос вызывал вполне объяснимые опасения, но когда стало понятно, что следователь боится физически на меня давить, стало смешно. И чем дальше, тем больше.
В конце концов один тупой смешок прорвался сквозь мои сомкнутые губы, потом второй, а когда следователь в недоумении остановился передо мной с тупым выражением непонимания на лице, смех, рвущийся изнутри, было уже не унять. Можно сказать, это была настоящая истерика, через минуту следователь всё же не вынес, схватив меня за грудки, и несколько раз тряхнул. Это немного привело меня в чувство, а то, пожалуй, через пару минут я бы начал подвывать от смеха.
Следователь ещё немного посмотрел мне в глаза, потом с силой оттолкнул от себя, так, что я чуть не навернулся со стула, сплюнул на пол и позвал охранников, чтобы они увели меня в камеру.
Я понимал, что за всю защиту должен быть благодарен Джэбу, который, судя по всему, с любопытством ожидал окончания допроса. Увидев, что я вернулся в целости и сохранности, он проследил мой путь до возвышения, а когда я обронил «спасибо», ответил по-английски:
— Ты работаешь.
Вот так.
В принципе, я и не надеялся, что кто-то типа Джэба скажет: «Пожалуйста, парень. Возвращайся на своё место в камере. Спасибо достаточно».
Больше я его не благодарил, а он, по-моему, не особо нуждался в этом.
15 марта.
Опять приходил адвокат. Из посольства новостей не было и это мне совсем не нравилось.
Конечно, условия моего содержания улучшились физически, но морально оставалось по-прежнему тяжело. После каждой следующей ночи мне всё труднее было возвращаться в реальность. Иногда квадратик окна утягивал так далеко, что я забывал и про окружающий шум, и про жару, и про тяжёлую руку, лежащую на бедре. Движения внутри тела не вызывали боли, только дискомфорт, поэтому абстрагироваться удавалось чаще и легче.
Джэб не страдал хернёй, придумывая изыски для наших совместных занятий. Самое большое, что он делал, — это менял положение моей ноги и немного тела. Чаще всего в процессе я даже не осознавал этого, максимально расслабляясь и отстраняясь, и только когда всё заканчивалось, ощущал, что лежу уже или на боку, или на животе. Также он не требовал каких-то ответных действий. Точнее, действий требовал, не нужна была моя реакция. Он не пытался возбудить меня ответно или доставить удовольствие. Делал всё так, как ему хотелось, а после отворачивался и засыпал, но прежде накрывая мою задницу моей же майкой. То, что именно он делает это, а не я сам, подтвердилось почти сразу.
Как бы я ни старался, иногда погрузиться в собственные мысли не удавалось, и приходилось просто терпеть. В тот раз тоже так было. Сначала пытался представить на месте Джэба какого-нибудь любовника, но кроме Кости я ни к кому ничего не испытывал, а вспоминать Костю в такой момент было не лучшей идеей. Когда стало понятно, что расслабиться таким образом не удастся, я стал считать фрикции. Глупо? Да, как шлюха, но отвлекает.
Когда всё окончилось, Джэб отстранился. Я по-прежнему лежал, ожидая пока пройдёт дискомфорт внизу, а потом почувствовал, как он набросил на мои бедра майку. Это было в некотором роде откровение. Я понимал, что если бы был обыкновенной дыркой для удовлетворения собственных потребностей, то Джэб вряд ли стал бы заморачиваться моральными вопросами. Не сказать, что от этой мысли мне сильно полегчало, но, по крайней мере, почти исчез страх, что Джэб решит поделиться мною с кем-то ещё. Пусть я его не понимал до конца, но это было очевидно.
22 марта.
Жизнь стала похожа на трясину. Если раньше я отсчитывал время от допроса до допроса, от завтрака к обеду, от подъёма до отбоя, то теперь всё слилось в единый поток мутных, однотипных дней. Даже адвокат приезжать перестал, что говорило о том, что известий по-прежнему никаких.
Иногда в течение дня я мог перекинуться с кем-нибудь только парой слов. Джэб особенно не разговаривал. Он мог долго наблюдать за тем, как я просто сижу или лежу, мог перебирать, когда никто не видел, пальцами мои волосы, которые он же запретил укорачивать, мог иногда после секса вжаться в меня, а потом также неожиданно отстраниться, но не разговаривал. Хотя он вообще мало говорил, в сравнении с другими тайцами. Даже два других татуированных, хоть и сохраняли непроницаемые маски на лицах, были куда более разговорчивыми. Один даже пытался разговаривать со мной на «грязном» английском, после чего был осмеян вторым татуированным и забил на это дело, хотя я всё равно слабо понимал, что он хотел, из-за сильного акцента.
Через пару дней после первой ночи со мной пытался поговорить один из «леди-бой» во время прогулки во дворе. Я привычно сидел в тени с бутылкой воды и пытался не сдохнуть от жары, когда подошёл он. Но не успел «леди-бой» сказать и пару слов, как один из татуированных свистнул. Не знаю, что это было, но определённо какая-то демонстрация моего статуса, хотя о том, что мне не удалось пообщаться с этим человеком, я не сожалел совершенно.
Ещё одна демонстрация, правда, для меня лично, произошла позднее и закончилась не сказать, что трагично, но крайне неприятно.
Во время прогулки из двери во двор вышел белый мужчина. Я не сразу его заметил, наверное, как и он меня, а когда заметил, то, честно говоря, очень обрадовался. Иностранец постоял у входа во двор, а потом нерешительно пошёл вдоль стены в мою сторону. Я видел, как быстро перемещается его взгляд в поисках свободного места. Видно было, что мужчина, а это был именно мужчина лет сорока, очень взволнован и не уверен в себе. В конце концов его взгляд наткнулся на меня и сразу посветлел.
Этим мужчиной оказался поляк Вацлав. Попал он в тюрьму за какую-то ерунду с таблетками. Впрочем, особо расстраиваться не спешил именно попаданию в саму тюрьму, так как был уверен, что ему надо продержаться здесь максимум две недели, пока друзья, оставшиеся в городе, не соберут залог. Вацлава больше беспокоило то, как вести себя здесь, чтобы пребывание стало максимально комфортным.
Сказать, что я обрадовался появлению этого человека, не сказать ничего. Мы почти целый день оживлённо болтали. Конечно, был некоторый языковой барьер, но Вацлав немного знал русский, неплохо английский, поэтому понимание нам давалось достаточно легко.
В тот момент я даже думать забыл про Джэба, а очень зря. В течение дня я несколько раз ловил его взгляд, но понять не мог или не пытался это сделать, зато вечером Джэб преподал мне урок, явственно показав моё место. Это место не было рядом с ним, скорее под ним, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова.
Это был единственный раз, когда он был груб, но мне хватило и этого. Я никогда не сталкивался с насильниками или садистами, поэтому унижения и боли хватило сполна, чтобы «урок» был усвоен на «отлично». В самом конце, сжимая зубами майку, пытался не начать стонать в голос и плакать, но всхлипы всё равно прорывались. Да и Джэб не особо сдерживал себя, не оставляя всем другим даже малейшего сомнения в том, что всё происходящее — это наказание. Унизительное, жестокое наказание за моё поведение в течение дня, за поляка и за беззаботный смех.
Здесь нельзя смеяться без его ведома, без него самого, да и с ним нельзя. Поэтому либо я принимаю и понимаю правила, либо вою от боли в майку, а потом сижу на параше с полчаса. Но проблема была в том, что эти самые правила мне никто не объяснял.
23 марта.
На следующий день поляк ко мне даже не пытался подойти, но, в принципе, если бы и подошёл, я вряд ли стал бы с ним разговаривать. Каждое движение давалось с трудом, и хотя я изо всех сил пытался ходить прямо, удавалось это с трудом, особенно после того, как нам пришлось провести около часа сидя на корточках во время утренней переклички. Обычно она занимала не так много времени, но в тот раз всё было против меня.
В конце концов строить из себя героя надоело, да и глупо, после того, как вся камера видела или слышала, как тебя долбили в очко больше часа. Ходил, как мог, а в любой свободный момент вообще ложился. К еде в этот и даже на следующий день не притронулся. Сама мысль о том, что хоть кто-то сможет наблюдать мои мучения на параше, была противна.
Насмешек я не слышал, но с того момента никто не пытался завести со мной разговор даже тогда, когда Джэба рядом не наблюдалось.
30 марта. 11.35
Я долго не мог поверить в то, что сказал мне адвокат. Новость была не только неожиданной, но очень радостной. В консульстве пообещали в течение двух недель предоставить полный пакет документов для предоставления в суд, где будет чётко указано, что я не имел ни малейшего представления о том, что находится в чемодане. Костик дал недвусмысленные показания, и теперь дело оставалось за малым.
Также адвокат посоветовал пока никому не говорить о произошедшем, на что я ответил, что ни с кем здесь не общаюсь. Он понимающе хмыкнул, и оставалось только удивляться тому, откуда он всё знает. Впрочем, одно я понял давно: любой закрытый коллектив — это не то место, которое способствует сохранению тайн. Здесь все знали всё и про всех. Были стукачи по обе стороны решётки, которые сливали информацию, только кто-то это делал за пачку сигарет, а кто-то собирался учить детей в престижном университете.
Джэб не трогал меня все прошедшие дни, да и в тот день остановился на дрочке, но мне уже было пофиг. Наверное, мой энтузиазм навёл его на какие-то мысли, потому что после Джэб ещё некоторое время лежал, глядя в потолок, и только потом привычно завалился спать.
1 апреля.
Я чувствовал, что что-то произошло, буквально каждым сантиметром кожи, каждым волоском, каждым нервом, начиная с того самого момента, когда Джэб вошёл в камеру. Я не особо вникал, куда его водят и зачем. Знал, что ему светит какой-то нереальный срок, что это уже не первая его отсидка, и что по количеству судов Джэб один из здешних лидеров, но никакой более конкретной информации. Он не говорил, я не спрашивал.
Ночью я окончательно убедился, что с Джэбом что-то не то. Он трахал меня не сказать что грубо, но чувствительно. Не так как прошлый раз — почти на сухую, наказывая, а как-то по-другому. Что конкретно по-другому определить было невозможно, но всё было не так.
То же самое повторилось и на следующий день, точнее, ночь, а потом и ещё на следующую. На третий день я сам попытался подрочить Джэбу, но он перевернул меня на бок и отымел, как и во все прошлые дни.
После этого я долго не мог уснуть, пытаясь справиться с неприятными ощущениями в анусе, а также привести в порядок свои мысли. Отключиться удалось только через несколько часов, когда в окошках на стене стало уже не так темно. Я и сам не заметил, как задремал, но уже на границе сна и яви почувствовал, как меня кто-то перевернул на спину, потом на грудь навалилась тяжесть.
В тот момент, когда я начал открывать глаза, почувствовал резкую боль сначала на лбу, где заканчивались волосы, потом ниже. Джэб нависал надо мной, одной рукой фиксируя за подбородок, а второй пытаясь перекроить моё лицо. Не знаю, кто или что руководило мною в тот момент, и почему я дёрнулся в нужную сторону. Именно поэтому нож Джэба, описав дугу по щеке, ушёл не к губам, разделяя лицо пополам, а вниз к подбородку вдоль уха.
Уже потом я вспоминал, что он постоянно повторял одно слово — «май». Оно крутилось у меня в голове, но смысл дошёл только через некоторое время. Он говорил «мой», но от шока мне было не до перевода.
Я стал бороться, обеими руками пытаясь удержать его руку с ножом и одновременно орать. Не помню, сколько продолжалось это безумство, да и остальные воспоминания довольно мутные: меня отдирают от Джэба, буквально волокут по длинным коридорам в госпиталь, сонный доктор чем-то обрабатывает рану, потом, немного обезболив, зашивает. В тот момент мне было не до лишних мыслей о том, во что превратилось моё лицо. Достаточно было и того, что чудом остался жив.
Всю последующую неделю я провалялся в госпитале. Здесь условия были на порядок лучше и даже неплохо кормили. Несколько раз вызывали на допрос. Смысл скрывать, что это сделал Джэб, не было. Его сняли с меня вместе с ножом в самом настоящем смысле этого слова, и почему он это сделал, я мог только догадываться, но рассказывать этим людям о своих заключениях не хотел.
Именно от этого самого пытался уберечь меня адвокат, убеждая хранить молчание. Но Джэбу, видимо, и так всё стало известно.
10 апреля.
Я сидел на лавке в суде и не мог произнести ни слова. Адвокат потрясённо и изумлённо тряс мою руку, какой-то мужчина из посольства о чём-то бойко общался с журналистами, а я сидел и разглядывал, как толстая муха бьётся о стекло, пытаясь выбраться наружу. В голове было пусто, и в происходящее верилось с трудом.
После первого оглушения пришла эйфория. Уже в посольстве был организован фуршет с журналистами, где я был персоной номер один. Не знаю, наверное, в тот момент меня это даже радовало. Всё было очень стремительно, хоть и предсказуемо, но всё равно неожиданно.
Также за счёт средств какой-то благотворительной организации мне была выделена маленькая комната в том здании, где жили большинство работников посольства, и карточка, по которой я мог бесплатно питаться.
Уже вечером, сойдя с ума от впечатлений, шампанского, непривычной свободы, я пошёл в душ. Усталость и истощение давали о себе знать, поэтому мыться пришлось сидя и очень быстро. Когда вытирался, то автоматически стёр с зеркала напротив пар, как делал когда-то тысячу лет назад дома в квартире родителей.
Полотенце непроизвольно выпало из рук. Напротив был не я. Это не мог быть я. Мужчина с коричневым от загара очень худым лицом, такой же худой грудной клеткой и выпирающими ключицами, выгоревшими, неухоженными волосами, даже после душа свисающими паклей по обе стороны от лица, и толстым шрамом шириной почти в мой мизинец. Неровный, уродливый, спускавшийся от края волос на лбу по виску вниз, делавший зигзаг на щеке, отчего левый уголок рта был неестественно загнут вверх, приоткрывая зубы, и заканчивающийся где-то под подбородком.
Урод.
Если от излишней худобы и загара со временем можно было избавиться, то от этого вряд ли. Мозг сразу подсказал, что есть пластическая хирургия и так далее, но она есть где-то в другой жизни, там, где деньги, но не у меня и не для меня.
Я уселся на прохладный кафель ванной комнаты голой задницей и зарыдал.
13 апреля.
Самым дешёвым пойлом сорока градусов в дьюти-фри была какая-то «Black Vodka». Я такой никогда не пил, впрочем, на вкус она была как обычная.
В туалете за час до вылета я оприходовал практически всю бутылку, купленную почти на все деньги, которыми меня снабдили в консульстве. Их было должно хватить на такси от аэропорта до моего дома, а точнее, до квартиры родителей, адрес которых я назвал в консульстве. Но дома у меня уже не было, поэтому такси было ненужной роскошью, а вот водка непосредственной необходимостью.
Полёт до Москвы я не помню.

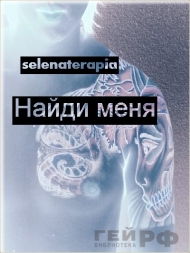
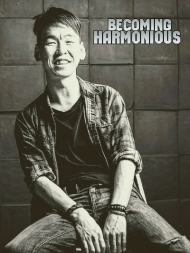


1 комментарий