Silverstone
С тобой
Аннотация
Прячась и уходя дворами, сбегая вниз по каменистой тропинке, неподвижно стоя под дождем.., мы проживаем нашу неповторимую жизнь всего один раз. Мы ничего не боимся, потому что мы вместе.
Прячась и уходя дворами, сбегая вниз по каменистой тропинке, неподвижно стоя под дождем.., мы проживаем нашу неповторимую жизнь всего один раз. Мы ничего не боимся, потому что мы вместе.
1
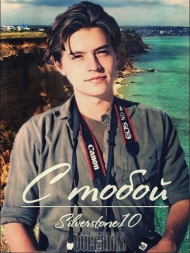 Мобильник орёт благим матом — голосом Лепса. Единственный звук, что может поднять меня с постели и заставить принять вертикальное положение. Я долго ищу телефон под кроватью, а тот надрывается: «Я уеду жить в Лондон!» Ненавижу!
Мобильник орёт благим матом — голосом Лепса. Единственный звук, что может поднять меня с постели и заставить принять вертикальное положение. Я долго ищу телефон под кроватью, а тот надрывается: «Я уеду жить в Лондон!» Ненавижу!На экране совсем не лондонское имя — Петька.
— Выходи, хабиби*, мы внизу.
Набросив дождевик, я выскакиваю из подъезда. Снаружи у дверей Петька и ещё двое с ним — все трое мокрые.
На улице после дождя томно и душно, и воздух плотный, такой, что хочется раздвинуть его перед лицом ладонями, чтобы стало полегче дышать.
— Мы за два квартала высадились, потом дворами, так что не переживай. Но квартиру всё равно лучше сменить. — Петька докуривает под козырьком, бычок тушит о мокрый асфальт и суёт в карман. Конспиратор и партизан от бога.
Иду за машиной в соседний двор. Я почти никогда не паркуюсь под подъездом. Они ждут на углу возле клумбы. Петька прыгает на переднее сиденье, накручивает музыку — и из динамиков ревёт его любимый «Раммштайн». Нам отсюда недалеко до аэропорта.
**
Наверх к аэродрому мне ходить не разрешалось. Обрыв над морем крошился, осыпа́лся красной и жёлтой глиной, отслаивался толстыми пластами, похожими на куски гигантского пирога, и в расщелину легко было ухнуть. Сиди потом, ори до хрипоты, пока тебя не найдут. Петька однажды так и сделал. Забрался на самый край со своим «Кэноном», и плевать ему было на любые запреты. Как, впрочем, и мне тоже. В наши тринадцать это казалось чуть ли не подвигом.
Там я его и нашёл случайно. Петька тогда сломал руку и вывихнул ногу. Я еле сумел вытащить его из узкого разлома, в котором он застрял, но затянуть его на обрыв сил у меня не хватило. Мои крики и Петькины завывания услышали проходившие мимо дежурные солдаты с РЛС**, принесли откуда-то буксировочные тросы и фалы и подняли нас наверх. Так было быстрее, чем тащить Петьку в посёлок кругом через пляж. Дорога с аэродрома проходила прямо над обрывом, и Петьку на попутке быстро отвезли в гарнизонный госпиталь, а оттуда в детскую больницу, куда я ездил его навещать на правах нового друга и, как оказалось, одноклассника. Только Петькин гипс и спас самого Петьку от отцовского наказания. Отец у него был суровый — полковник, начальник автопарка, недавно назначенный к нам в гарнизон откуда-то с Западной Украины. Мне тоже влетело за шастанье где попало и под угрозой домашнего ареста запрещено было лазить по обрывам, хоть с Петькой, хоть без…
2
— Проверь, это просто такси или хвост? — Петька беспокойно оглядывается, но я тоже знаю — лучше перебдеть, чем недобдеть. Сворачиваю с проспекта во дворы, кручусь по слабоосвещённым улицам. Нет, хвоста нет, но лучше поторопиться. Времени до рейса остаётся мало. Двое на заднем сиденье тихо переговариваются. Их лица в полутьме едва различимы, но мне иногда видно — они держатся за руки.
Вот так же они и выходили из отделения — хохоча и держась за руки под ненавидящими взглядами полиции и собравшейся толпы. Никто не мог ничего сделать. Петька успел подтянуть друзей с операторского и знакомых журналистов с русских служб независимых агентств. Те демонстративно снимали, вели репортажи с нескольких точек, и толпа могла только бессильно шипеть, пока парни садились в машину.
А потом начались те звонки, хотя и так было ясно: это — не шутки…
**
— Вот здесь меня чуть змея не укусила. — Петька гордо показал на нагретое солнцем место у скалы. — Гадюка, но мирная. Я не заметил, чуть не наступил. Еле успел отпрыгнуть. Потом фотографировал несколько раз. Она сюда греться приползает.
Я видел эти фотографии для школьного конкурса. Они потом ушли на область, и Петька занял там какое-то почётное место.
Мы шли дальше по тропинке, и Петька показывал мне свои владения. На неширокой полоске второй ступени обрыва густые заросли из шиповника, ежевики и колючего тёрна захватили каждый клочок глинистой почвы. Дебри почти непроходимые. Взрослые называли это место Красная балка, для нас это были «джунгли». Взрослые изредка забирались сюда на шашлыки, а мы — летом за крупной, размером с хорошую черешню, ежевикой и за приключениями в любое время года. Здесь замечательно здо́рово было бежать — летишь себе по глинистой тропинке, и ноги сами знают каждый камень на ней, каждый поворот и изгиб среди зарослей, а когда вылетаешь на взгорок, перехватывает дух. Внизу, в распадке среди деревьев и густого кустарника, будто в узорчатой раме — море.
3
Возле аэропорта как всегда людно, и я паркуюсь далековато. Парни выбираются из машины. Вещей с ними немного, ручная кладь и всё. Одежда летняя. Типичные туристы. Я знаю, что билеты у них до Стамбула, а куда они оттуда — этого даже Петька не знает. До входа в здание терминала мы почти бежим.
«Я уеду жить в Лондон…» — настойчиво воет телефон. Я смотрю на экран — там фотография Петькиной сестры.
— Смени ты эту дебильную мелодию, какой, на хер, Лондон? — Петька забирает у меня мобилку. — Да, Алиса, у меня всё хорошо. Это я звук на телефоне отключил. Ночевать буду у Лёшки — успокой маму. Скажи, что со мной всё в порядке.
Он возвращает мне трубку.
— Совсем они там перепуганные.
Я их понимаю.
У меня до сих пор перед глазами картина, как мы с Петькой тушим пожар в нашем подъезде.
— Вот же падлы, пиздюки малолетние, — ругается он, когда мы вытаскиваем кучу обгорелого тряпья на улицу к бакам. Это не в первый и не в последний раз. И ещё надписи на стенах закрасить придётся. И всё-таки переехать. Опять. В который раз.
**
— Что ты там такое написал в сочинении? — спросил я Петьку. Тот стоял по колено в воде под нависшими ветками бузины и фотографировал какую-то серую птаху в кустах шиповника. Мы сами укрепили и расчистили впадающий в крошечное озерцо родник, провели трубки сквозь глину, и теперь из него можно было даже пить. Петька хмурился и не отвечал, но ведь за что-то наша классуха сказала ему, что «такие мысли лучше держать при себе». У него часто были «не такие» мысли, и он их редко держал при себе, обычно не задумываясь о последствиях. Все давно махнули на него рукой — он всегда был странный. Я, наверное, тоже, раз мне было так интересно шляться с ним по «джунглям» в редкие свободные от учебы и тренировок дни.
4
Это был даже не митинг. Так, собрались несколько десятков человек с шарфиками и плакатами. А против них — весёлые ребята, бритые, с битами, цепями и свастиками. Гордость нации и страны, доблестно откосившая от армии. Я знал, что не нужно туда идти, но Петьку хлебом не корми — дай сунуться в самую горячую точку. Я помнил его фоторепортажи из Сирии и как я запоздало испугался за него едва не до сердечного приступа при одном лишь взгляде на то, что он там наснимал. А потом он вернулся подлечиться, и тогда я впервые заметил какую-то непонятную горечь у него в глазах. Или она и раньше там была, а я не замечал?
Зато он замечал многое…
**
Слава богу, что на той фотографии для нашего школьного фотоальбома был не только я — злой и сосредоточенный, в безразмерном балахоне с Cannibal Corpse и соответствующей картинкой, с отросшими почти до лопаток чёрными волосами, за которые отчим обзывал меня педрилой и грозился обрить наголо, — а ещё Наташка Спицина по прозвищу Спика. Тощая, острая и истеричная соседка по парте. У Петьки она почему-то выглядела такой непривычно взрослой и загадочной мадонной, что на меня никто не обратил внимания.
— Зачем ты меня фотографировал?
— У тебя особенное лицо. Когда ты пишешь контрольную, кажется, что если ты хоть что-то там не решишь, умрёшь или убьёшь кого-нибудь. Видишь, какие у тебя тут глаза? Как у камикадзе.
Это была правда. Для меня любая четвёрка казалась оскорблением, да и выпускной был не за горами, а Петька спокойно получал свои тройки по алгебре и смеялся.
— Возьми, спиши. — Я подсовывал ему листок с готовой контрольной. До конца урока оставалось ещё пятнадцать минут — времени навалом.
— Зачем? — Он пожимал плечами и кивал на нашу Ираиду Максимовну. — Она и так знает, что мне этого не решить. Я ж гуманитарий.
Он любил фотографировать людей. Что-то такое видел в фигурах и лицах. То, чего они и сами о себе не знали…
5
Петька провожает друзей до стойки регистрации.
— Ребят, из самолёта напишите, и когда сядете, тоже.
Я стою неподалёку, под табло, и делаю вид, что жду кого-то. На самом деле слежу. Всё-таки мог быть хвост. Из меня плохой шпион, но хороший адвокат. Я могу быть очень осторожным. Ко всему привыкаешь, если живёшь в постоянном страхе разоблачения перед родными, близкими, друзьями, знакомыми. С другой стороны — у меня есть Петька. И за него я как раз боюсь больше всего. Мы с ним ненормальные — каждый по-своему и одинаковые в одном и том же. И сейчас я жалею, что это улетаем не мы.
**
— Стой и слушай. — Петька остановил меня под деревом. Ноги скользили и разъезжались на жёлтой раскисшей глине, но я замер, вслушиваясь в чуть слышный лепет тихой воды. Даже близкое море, казалось, затаилось, чтобы не мешать этому едва заметному звуку. Мелкий дождь сеялся с хмурого мартовского неба на раннюю траву, и чёрные ветки в небе были густо усеяны мерцающим серебром. Зрелище было потрясающее. Петька сделал снимок снизу вверх, ловя в объектив обрывок растопыренной паутинки.
— А теперь пей.
Он собирал ртом капли по одной, и я вместе с ним. И чувствовал его дыхание совсем близко. На своей шее и щеке. И горьковатый вкус этих капель на его губах…
6
Самолёт взлетает. Мы с Петькой стоим на обочине шоссе и курим, провожая взглядом удаляющиеся навигационные огни. Дождя нет, но в воздухе по-прежнему душно, значит, скоро опять зарядит. И ночное небо — блёкло-серое. Не летнее какое-то, недоброе.
— Мы тоже скоро. — Он косится на меня. Мокрый дождевик клеёнчато блестит в свете фар. — Или ты передумал?
Как я могу передумать, если с той самой первой встречи на обрыве я вот уже много лет иду за ним след в след, локоть к локтю, плечом к плечу везде и во всём, признавая за ним первенство и право решать за нас обоих? Он знает об этом, и всё равно будто проверяет всегда — ты здесь? Ты со мной?
Я с тобой…
**
На пляже жара, но здесь, возле скалы под деревьями, густо заплетёнными колючим едким хмелем, о который я ободрал себе все руки и ноги, было прохладно и свежо. Пахло сыростью и прелыми листьями. Я еле выдрался через колючки по крутому склону наверх, каждый раз рискуя сорваться и не понимая, как мы могли сюда залезть в детстве. Вообще, наверное, мозгов тогда не было ни у Петьки, ни у меня. Мох згири*** — как сказал бы Петька, вставлявший арабский армейский сленг куда надо и куда не надо. Вниз мне было страшно даже смотреть, но нашу пещерку я нашёл. Сколько лет прошло, а кривой ствол старой маслины — вот он. От него по узкому осыпающемуся карнизу вдоль стены несколько шагов до упора. Пять ладоней вниз. Пять детских ладоней. Даже палка, которой мы рыли тогда углубление под стеной, чтобы спрятать бутылку с письмами самим себе, валяется почти на том же месте — трухлявая совсем, крошащаяся в руках.
Я копал минут десять. Потом телефон пиликнул вызовом.
— Ну что, нашёл?
— Нет. Наверное, глину размыло, и она глубже в грунт ушла. Тут лопату надо.
— Ну и кяльб**** с ней, значит. Спускайся, а то я уже купаться хочу.
Петька ждал меня внизу на пляже. Он уже не мог залезть туда со мной и покачаться на лианах из одичавшего винограда, до самого верха заплетающего почти отвесную стену обрыва. В его последнюю командировку в сирийский Дейр-эз-Зор осколок от противотанкового снаряда раздробил ему щиколотку, и он теперь берёг ногу. Я видел его в развилке между верхушками кустарника, стоящего у самой кромки тихой волны, худого и вихрастого, такого же, как и пятнадцать лет назад, и совсем другого. И при взгляде на него в груди у меня плавилось и ширилось что-то невыразимое и радостное.
— Ты о чём мечтал тогда? — Он лениво покачивался на мелкой тёплой волне, почти не двигая руками и ногами.
— О велике, новом компе, мобилке, как у Громова, и чтобы выиграть на Москве. А ты?
— А я — чтобы мы наконец полетели на Марс.
Я видел, что он врёт. О чём мечтал, он мне так и не сказал. И я вообще думаю, что он положил в бутылку пустой лист.
7
Петька прислоняется ко мне бедром, затягивается в последний раз. Капли ночного тумана дрожат в тёмных вихрах надо лбом, и мне очень хочется оказаться сейчас с ним дома. Нырнуть под хрустящие простыни на прохладные подушки, и чтобы после нашего буйства он вытянулся на мне сверху всем своим длинным худым телом. Так, чтобы я ощущал его всего и везде, влажного от пота, горячего, тяжёлого, как в самый первый раз — его во мне или себя в нём, целиком и неразделимо, до общего вдоха-выдоха шершавыми пересохшими губами, до сердечного стука друг в друга, до темноты в глазах, одной для нас обоих.
— Я подал документы. — Выкидываю сигарету. Надо бросать курить. Снова. Сто раз бросал уже.
— Когда?
— Давно.
— И… И?.. — Он толкает меня в плечо. На узком смуглом лице у него беспокойство, тем более сильное, что его визу мы уже обмывали месяц назад.
— Ответ пришёл. Вчера… — Я не выдерживаю и улыбаюсь.
— Что ж ты молчал, придурок! — Он бьёт меня крепким кулаком в плечо и смотрит счастливыми глазами.
— Хотел тебе сюрприз сделать.
Он издаёт торжествующий вопль, который тонет в шуме проезжающих мимо машин.
— Это надо отметить. Ну всё, держись теперь. У меня завтра выходной.
— И у меня, значит, тоже. — Я смеюсь и обнимаю его. — И, наверное, ещё один… Едем уже.
**
И мы поехали…
_____________________________________________________________
* Хабиби — братское обращение друг к другу (сирийский военный сленг)
** РЛС — радиолокационная станция
*** Мох згири — безмозглый, дословно «мало мозгов» (сирийский военный сленг)
**** Кяльб — пёс; как в прямом смысле, так и ругательство (сирийский военный сленг)




1 комментарий