Cyberbond
На «Дрочливом»
Аннотация
Люблю пересказать классику ближе к тексту жизни. На этот раз Станюкович.
Люблю пересказать классику ближе к тексту жизни. На этот раз Станюкович.
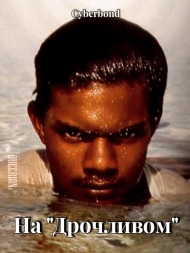 Русский военный фальш-бот «Дрочливый» вышел из Кронштадта 26 июня 1850 года, а 12 августа уже встал на рейде Рио-де-Жанейро. Не понаслышке зная опасные искушения бразильской тогдашней столицы, капитан Игашев не спешил отпускать моряков на берег, находя все новые работы им на борту. Через два дня «Дрочливый» сиял свежей краской и девственной чистотой на загляденье всем, как невеста. Игашев понимал, что дольше томить команду не след. Но тут случай смешал все карты.
Русский военный фальш-бот «Дрочливый» вышел из Кронштадта 26 июня 1850 года, а 12 августа уже встал на рейде Рио-де-Жанейро. Не понаслышке зная опасные искушения бразильской тогдашней столицы, капитан Игашев не спешил отпускать моряков на берег, находя все новые работы им на борту. Через два дня «Дрочливый» сиял свежей краской и девственной чистотой на загляденье всем, как невеста. Игашев понимал, что дольше томить команду не след. Но тут случай смешал все карты.Кроме «Дрочливого» на мутно-зеленых волнах неподалеку качалось странное судно, обтрепанное и грязное, с рваными парусами и флагом непонятной страны. Словно вынырнуло оно из страшных бурь и штормов и никак не могло оправиться. Днем на борту его было пустынно. Ночью, однако ж, мимо «Дрочливого» к этому судну сновали лодчонки, черные, как ночная рябь. Игашев понял: контрабандисты. Он пристально стал следить за неприятным соседом и выставил дополнительно ночной караул. Матрозы нехотя прониклись его тревогой.
На третью, кажется, ночь случилось стоять на баке матрозу Гробову Прохору. Был он совсем еще молод тогда, посему тосковал среди тропиков по своей рязанской деревне. Глядя на яркие незнакомые звезды над головой, Прохор тихо тянул «Лучинушку», смолкая и вздыхая по временам. Вдруг послышался резкий плеск за бортом. Плеск повторялся и повторялся.
Гробов перевесился через борт. В трепетном отсвете фонаря он заметил черную круглую голову, а вовсе неподалеку — мелькнул темный треугольник акульего плавника. Прохор тотчас метнул через борт веревочный трап. Черная голова то пропадала в волнах, то вновь являлась, но и плавник лениво приближался, и вот буруны по бокам хищницы вскипели рядом совсем.
— Ай, сожрет!.. — Гробов теперь весь свесился за борт и тотчас получил такого пинка, что чуть в волны не вылетел.
— Ты что же, мать твою, делаешь?! — боцман Нефедыч, человек решительный, грубый и пожилой, Гробова держал под особой своей опекой, тем паче что случились меж ними отношения деликатные, неизбежные меж матрозами в дальних странствиях. Ну, да об этом мы после поговорим…
— Я, дяинька… Там человек, стал-быть, и рыба какуля, за бортом плавыит! — доложил Гробов, потирая задницу, и без того Нефедычем накануне безжалостно разработанную. Впрочем, и языком боцман ласкать не гнушался там — как он выражался: «чисто по справедливости».
— А тебе что за хрен? Мало их тут, макак, прощелыг голожопых, шляется? На то она и заграница-Африка, мать ее так!
— Дык рыба ж какуля, дяинька!
— Плохо я тебя, Прохор, намедни драл!
Впрочем, Нефедыч выхватил фонарь из руки Гробова и свесился за борт сам.
— Ай, сожрет!.. — горестно восхитился боцман. — Эй, шибче греби, мать твою разэтак-так!
Нефедыч схватил длинную слегу и ударил со всей силы в то, что было там, за бортом. Плеск раздался нешуточный.
— Ой, дяинька!.. — Прохор присел.
— Что «дяинька», валенок?! Хватай вон другую слегу, потяжельше! Лупи ее, курьву! Со всей силы лупи, душа с тя вон!
Прохор схватил тяжеленный дрын, подле случившийся, и саданул, зажмурившись, что-то там, за бортом.
— Валенок! Ты че ЕГО лупишь?! Ты ЕЕ лупи! — Нефедыч пихнул матроза локтем так, что Гробов чуть не упал. Но грубый жест боцмана заставил Прохора действовать. Он успешно сунул акуле в нос, та погрузилась от боли под воду, зажмурившись. Тем временем пловец уцепился за трап и вскарабкался. Перевалившись через борт, он потерял сознание.
— Эх, дьяволы! Вошь потрошеная — надо скородию доложить! — Нефедыч поторкал слегой безмолвное тело.
— Малец вроде как. Живой!.. — Прохор тоже тело дрыном поворошил.
— Малец-то — да, вишь, удалец: шерсть вокруг мармыги, что у русского мужика в бороде… Рано они созревают тут, в этой в голой-то Африке, — задумчиво заключил Нефедыч (может быть, и мечтательно) и пошел доложить Игашеву.
Гробов присел на корточки, пощупал мокрую кожу спасенного:
— Склизкенькай!.. Живи ужо…
Он поставил фонарь у головы лежавшего.
— Чисто черная макака! Эх, кабы русскай был человек…
Явились Игашев и с ним доктор Франц Карлович. Доктор проверил пульс и велел отнести «дизен керл» («этого паренька») в лазарет.
— А ежели это невольник беглый? Нам будет афронт от бразильянцев, Франц Карлович! — задумался вслух Игашев.
— Ничего не знай! Мое дело — лечить, — отрезал Франц Карлович. В делах лечения он был сущий тиран, «кровопивец».
Гробов взял тело на руки. Парнишка очнулся, открыл глаза и обдал Прохора с головы до ног залпом соленой воды.
— Нахлебался, макакушка! — сердечно заметил Нефедыч. — Да ты его не тискай так, Гробов! Обрадовался…
— Завтра их надо отпустить всех к женщинам! — заявил Франц Карлович Игашеву по-немецки. — Это невозможно уже терпеть…
Игашев только вздохнул. Сам он предпочитал молодого художника Ларина, что делал путевые зарисовки для Академии, но Ларин от него, от Игашева, порою сбегал, а однажды пытался в пьяном виде прыгнуть за борт, да Нефедыч его вовремя подхватил и отнес к капитану «мириться чтоб».
Впрочем, команда «Дрочливого» была дружная, проверенная — грех и жаловаться.
— Благодарность тебе, Нефедыч! И тебе, Гробов! Не учинили поносу флагу российскому! — сказал Игашев. — Завтра с утра в город командирую тебя, Нефедыч, с матрозиками. И Гробова захвати, раз уж доктором велено…
— Рады стараться, ваш-скородь! — гаркнули дружно оба.
Но рано утром явились к двери лазарета: впереди деликатно ступал Нефедыч, сзади, сняв сапоги и громко шорхая ими в руках, крался Гробов.
Франц Карлович встретил посетителей сдержанно:
— Он только уснуль! Он весь нощь говориль што-то… Он говориль про бог Мгава.
— Нехристь, что ль? — обеспокоился Нефедыч.
— Мгава есть их бог, он любит небольших парней и отвечайт за дождь и радости любовни. Он много ругается — как ти, Нефьедыч! И курит трубка, как тоже ти. Уйди отсюда!
— Дык я чего ж? Я как лучше хотел, — развел руками Нефедыч. — Вот ведь стерьво! Знал бы, какуле б скормил… Айда, Прохор, к бабам, раз так…
Моряки ушли.
Франц Карлович вернулся к больному. Тот лежал спиной кверху, рваные рубцы от плети были сейчас закрыты пластырями, отчего спина казалась странно заснеженной.
— «Сколько ему лет, бедному? — думал доктор. — Восемнадцать, наверное… Этих черных не разберешь… И кто его плетью так разукрасил? Конечно, он раб, но почему вдруг в море? Он явный беглец!»
Явился Игашев.
— Он спит! — Франц Карлович теперь напустился на капитана.
— Однако ж мне надобен ваш совет, Франц Карлович! Что полагаете вы про сию оказию? Он беглый?
— Вероятно. Всю ночь был точно в бреду, без конца поминал Мгаву, это божок местных черных.
— Я знаю. Но нам-то что делать с ним? Сдать полиции — она вернет его хозяину. Взять с собой… Однако ж постороннее лицо на военном судне, к тому же чужая собственность… И вот еще что …
— Мое делё есть сторона! — в сердцах перешел на русский Франц Карлович. — Я дольжен поднять его на нога. Остальное есть ваш забот!
Франц Карлович полагал Россию и Бразилию одинаково варварскими державами.
— Н-да-с, оказия! — Игашев внимательно рассмотрел негра. Черты лица его были неправильны, но приятны и добродушны. Особенно эти губы необычайно толстые и наивные…
— Оставим его покуда! — решил капитан. — Но знаете ли, Франц Карлович, есть одно неприятное обстоятельство. Сейчас прибило к нам лодку полузатопленную. В ней столик, а на дне валяется бутылка шампанского, фрукты какие-то, бусы, цветы, ленточки. Вы понимаете? Это жертвенная ладья Мгавы. Кто-то ночью кадил ему, местному повелителю вод и страстей любовных. Есть подозрение, что и наш беглец был предназначен туда.
— О, майн гот! Это есть варварство.
— Это не есть только варварство, Франц Карлович, это есть нам прямая опасность. Ежели адепты Мгавы узнают, что парень спасся и находится у нас… Они не остановятся пред нападением на военный корабль!
— Донесите в полицию!
— Но полиция вернет его хозяину для заклания… Замкнутый круг, Франц Карлович, получается! О, лишь бы про него никто не проведал на берегу!
— Они узнать могут только от наших матрозов. Напрасно вы отпустили их!
Игашев тяжко вздохнул.
Вечером морячки вернулись на «Дрочливый» из кабаков, все веселые. Гробова Нефедыч тащил на себе.
Пьяных свалили на палубу, обдали водой из шланга. Пинками боцман приводил их в сознание — не всегда, однако ж, успешно.
— Он уже материт их по-португальски! — ужаснулся Игашев. — Нефедыч! Ты никому не сказал из местных про нашего черномазого?
— Да кому ж я скажу, с какого рожна и как, ваш-скородь?! Только всякие вот ихни слова и узнал теперь! Чернавка одна меня весь день учила, когда могла. Меня да вот Гробова… Я тоже учил — Прохора с бабою обращаться! Ох, и ва-аленок!..
Боцман тряхнул тяжелой медной серьгой:
— Не до слов было нынче нам, ваш-скородь!
— Ну, и слава богу! — Игашев перекрестился.
Впрочем, радость его преждевременной оказалась. Ночью Гробов вместе с другими «именинничками» лежал на палубе, на брезенте, отходя от ласк и напитков непривычных, тропических. Звезды реяли в небе над ним, словно там застыла в полете, помахивая крылами, гигантская черная птица. Босая ступня уперлась Гробову в самое ухо. Прохор поворотил голову и обомлел. Над бортом он увидел голову. Она становилась все больше. Вот появились белки глаз, широченный блестевший от пота нос, усы…
Гробов затаился. Черная нога скользнула на палубу. Человек был в белых матрозских штанах, закатанных до колен. В руке его что-то сверкнуло. Гробов напыжился.
Человек ступал бесшумно меж тел. Вокруг плескались волны и храпели хмельные «братишечки» — наутро их ждали распекация от Игашева и примерное наказание. Двадцать пять «линьков» каждому, не иначе! Впрочем, ведь заслужили, чего ж… Но сейчас о линьках Прохор не думал. Как завороженный, следил он за негром в матрозских штанах. И когда тот, блестя ножом, склонился над первым спавшим, Гробов кошкой метнулся на черную спину.
Драться Прохор умел — Нефедыч выучил. Негр был не сильнее его, а внезапность сделала свое дело: Прохор выкрутил руки непрошеному гостю за спину. Нож брякнул о доски палубы.
— Братцы! Братцы! Пособи, братцы! Ай!.. — что было мочи завопил Гробов, молотя коленками извивавшегося в его руках врага. Еще мгновенье, и тот бы вырвался из объятий. Но уже отовсюду слышался крепкий топот босых ступней. Гробова оттолкнули, и запястья негра крепко схватили ремнем за спиной.
Только теперь Прохор почувствовал резь в плече и что оно все мокрое. Черный успел пырнуть его ножиком! Напряженье борьбы и потеря крови сказались: все перед глазами Гробова вдруг закружилось, и он осел на руки Нефедыча:
— Ой ты, мать твоя ядреная каракатица!.. — услыхал Прохор родное привычное, боцманское, и потерял сознание.
Матрозы, подумав, что Гробов кончился, кинулись на виновника. Еще мгновенье — и он вылетел бы за борт. Игашев бросился наводить порядок, но Франц Карлович удержал его:
— Пускай, пускай! Иначе проблем!..
И не успел Игашев вздохнуть, как черное тело, болтая ногами по-лягушачьи и как бы уже без рук, взлетело над леером[1].
Почти тотчас раздался плеск.
— Генуг! (довольно) — воскликнул доктор и склонился над Гробовым.
Ночь Прохор провел в полубреду. Сквозь морок холодного, бессильного пота, он чувствовал, как вздрогнула под ним койка — «Дрочливый» снялся с якоря. Корабль покинул порт раньше срока. Франц Карлович убедил Игашева, что самое лучшее — избегнуть любых объяснений на берегу.
Случившееся ночью и внезапное отплытие так взволновали команду и самого капитана, что все «именинники» оказались почти без взыскания.
Утром Прохор проснулся. Он лежал в чистенькой белой каютке, легкий, будто совсем прозрачный. Над ним плясали рефлексы света от волн, подобные стае серебристых рыбок. Черное губастое лицо тотчас отпрянуло от него, так что Гробов на миг подумал: это тот самый — УБИВЕЦ!
Черный взлетел на свою койку и уткнулся лицом в переборку. Прохор вспомнил: это ж «наш черномазый»…
— Че ты, парень, убить меня захотел? — спросил все же Гробов растерянно. Он напряг память и сказал по-португальски, как давеча, вчера-то, Исабелка его учила:
— Бом диа (доброе утро)! Шаму-мы Прохор (меня звать Прохор)! А тебя-то как? Мы — Прохор, а ты?
Вошли Франц Карлович и Игашев.
— Герой, Прохор, герой! — Игашев потрепал Гробова по башке. — Не ожидал! Думал: дурень дурнем, именно: валенок, а ты, видишь, команду спас. Теперь отдыхай, поправляйся. Чарку водки можно ему, Франц Карлович?
— О найн! Бульон лучче.
— Чарку можно б… — скромно заметил Гробов.
Просьбу героя оставили без ответа.
— Как этот?.. — Игашев склонился над негром и тотчас отпрянул. — Взгляните, Франц Карлович: сходство разительное!
— Я-я[2], — удивленно кивнул и доктор.
В самом деле, хоть Гробов был лет на пять старше парня и ворсом соломенно-пег, и лицом бледен сейчас, и глаза у Прохора цвели незабудками — однако же нос картошкой и нечто добродушно-меланхоличное в чертах удивительно напоминало спасенного черного паренька.
— Это есть казус натур! — глубокомысленно заключил Франц Карлович, поднимая палец.
Игашев по-португальски сделал несколько вопросов черномазому. Тот сперва отмалчивался, но узнав, что вышли в открытое море, сказал: зовут его Машим[3], он и впрямь предназначался в дар Сыньору Мгаве, ибо хозяин его влюбился безответно и по совету друзей решил принести жертвы богу черных. Но Машим испугался и выпрыгнул из лодки в самый тот миг, когда дух Сыньора Мгавы явился в облике Большой Белой Акулы и ткнул рылом в лодку, где Машим тихо, обреченно сидел.
Узнав историю Машима, команда переиначила его тотчас в Максимку и решила, что он тоже, конечно, герой, недаром с Прохором на одно лицо, только колер вот жареный.
Что на одно лицо, взволновало больше всего, конечно. Нефедыча. Он явился «собственноручно удостовериться». Максимка сидел на койке у Гробова — и оба в обнимку, что задело боцмана пуще геройского даже на рожу их совпадения.
— Это что ж ты, ядрена мокрядь, нашел себе? Опосля Исабелки на черненьких потянуло?!
— Я, дяинька… Вот вам хрест, перед вами чистый я! — Гробов перекрестился размашисто и заморгал незабудками.
Нефедыч хозяйски провел черной от смолы лапой по лицам обоих и, посопев, изрек:
— Ладно, Прохор! Берем чернушку в семью. Только, чур, по старшинству. Я с ним сперва займусь, промеряю. А то, гля, еще утопнешь…
— Как скажете, дяинька… Нешто я поперек вас могу?
После подвига Прохор оставался все так же кроток, скромен и бессмысленно порой деловит.
— Ой, как он на вас-то глядит!.. — заметил Гробов почти испуганно.
В самом деле, Максимка во все глаза уставился на Нефедыча, поморгал ими, а потом сполз на пол и ударился лбом боцману в сапоги.
— Сыньор Мгава! Сыньор Мгава! — вскрикивал он несколько раз испуганно и восторженно.
Нефедыч закурил трубочку:
— Прошка, ты растолкуй нехристю: меня Федот Нефедыч зовут. А то второй, понимаешь, в семействе валенок бешеный заведется…
И добавил еще несколько крепких от Исабелки заученных выражений.
Услышав их, Максимка снова стал долбиться лбом Нефедычу в сапоги и радостно повизгивать, скалиться.
— Не разберешь этих нехристей! Чисто дикие! А я по тебе, Проша, очень даже соскучивши.
— Дык я, дяинька, завсегда…
— Ай дохтур войдут?.. Погодим пока…
«Годить» долго, впрочем, не пришлось: рана Гробова быстро затягивалась. Оправился и Максимка. Как-то Нефедыч торжественно внес в лазарет белую кипу одежды: матрозские робу, а поверх нее — синими веселыми полосами улыбалась рубаха нательная.
— Вот, Максимка! Тельняшку, мотри, с честью носи! Будешь русский матроз, как мы с Прохором, только черненький. Да еще покрестим тя — россиянин и вовсе сделаешься, хоть и печеный весь!
Максимка с восторгом вертел в руках тельник и робу, чуть не на зуб, будто сахар, пробовал. А Нефедыч с Гробовым глядели ему меж ног, изумляясь размерами, да и всей нижней его «бородой», до пупка почти доходившей.
— Эх, и шесток! — покачал головой Нефедыч. Прохор кивнул, скромно лишь выдохнув.
Команда встретила нового матрозика смехом и прибаутками. Каждый норовил Максимку по заднице широкой матрозской ладонью приветить, но без намеков, а просто так. Все понимали: Нефедыч здесь главный и по флотскому старшинству, и по человеческой справедливости.
— Ноченька будет у вас — ой, ма-амонька! — чуть не каждый скалился в лицо боцману и подмигивал. — Один сахарный, другой кашаладный, а Нефедыч в середке, гляди, прямо нате, карамель марципанная!
— Ты себя не проешь, вафельный! Гля, какуле скормлю! — Нефедыч степенно хмурился, отвечая людям порой и привычной угрюмою зуботычиной. Но сердце к горлу подкатывало, хотелось обоих, ох!..
Волновался Нефедыч не праздно: вон и Игашев пригнал художника Ларина портрет парный с Максима и Прохора сочинить — а тот и давай обоих выспрашивать да шутить, да зубы им заговаривать. К добру ль такие с матрозами от постороннего сухопутного нежности? Нешто они бабы голые с титьками, чтоб с ними лясы точить?..
Нефедыч сердито трубочкой пыхал да ночи ждал, как голодный, но осторожный и опытный — зверь не зверь, а чином, вишь, повыше обоих выходит он…
Явилась ночь. Нефедыч запер дверку своей каморочки на крючок. Повернулся к ребятам — те были уже без штанов, только Максимка попросил не снимать тельняшки: очень ему, душе африканской, эти яркие полоски понравились.
— Разувай старшого, матрозики! — Нефедыч велел.
Бух он в люльку свою, только сел поперек, и ножищи вверх выставил. Стянули с него: Прохор левый сапог, Максимка — правый, за штаны принялись. А Нефедыч топорщится — в смысле: «дурак» у него — снять с себя дозволяет уже с очень большим затруднением. Вы, если не знаете, то ширинка располагается по всем морским законам на матрозских штанах не спереди, а по бокам, чтобы сбросить можно было в случае, когда тонешь. Но тут-то Нефедыч совсем не тонул, а в потолок, можно сказать, всем естеством своим устремился!
Трудно пришлось ребятам: только спустили штаны, да сдуру оба разом-то и набросились, лбами стукнулись — искры из глаз. Нефедыч был, впрочем, очень доволен, что матрозики так стараются. Уважают — и есть за что! Впрочем, Прохор проявил смекалку и знание начальства более доскональное: в задний проход боцману пальцы, как в сочный пирог, запустил, а его яйцами рот задраил себе плотно так, накрепко. А уж Максимке, как имениннику — верхушечку сочную и всю палочку-выручалочку предоставил, как человек широкой русской души и по команде теперь товарищу.
Максим вовсе тут не жеманничал, в нёбо подарок упер и на Нефедыча смотрит, черный, — ну чисто черт! И чует боцман: между делом что-то такое во рту у Максимки шевелится, слово какое-то туда-сюда, с перекатом через язык и член. Будто ходит волной — аж брызги летят в пуп Нефедычу. Как бы и шторм в отдельно взятой промежности…
— «Экий ты разговорчивый! — Нефедыч смекнул. — Про Мгаву, небось, говоришь, аж молишься… Ну-тко я из тебя!»
И вытащил. А тут и Прохор с четкой розовой сахарницей[4] своей. Куда от такого денешься? На сук боцману Прошка взлез — и ну в четыре яйца оба, боцман с матрозом, нашлепывать.
Здесь и случись самое неожиданное в этой обыденной вроде на нашем «Дрочливом» истории. Вместо того, чтобы спереди к Гробову пристроиться — Прохор ведь тоже торчал и весь будто парус мосластым-то корпусом выгнулся, да и варежку распахнул от старания! — тут-то, я повторю, и случись за весь вечер самое неожиданное. А именно: пал Максимка в ноги обоим нашим морякам, и ну языком по полу возить. Повозит-повозит — и бух лбом с размаху об пол опять. А на полу не ковер — жесткая лишь клееночка. Звук от Максимкиного этого богомольства и гулкий, и чпокающий, — влажный несется звук. Конечно, матрозы в соседнем кубрике у переборки сгрудились, слушают.
— Грехи замаливает старик! Богомолец Нефедыч наш, чисто угодник сделался! А мы, братцы, при нем, будто животные, — решили матрозики, и руки от штанов поотняли все в эту ночь. Русский моряк и на «Дрочливом» не вахлак, а всей душой добро ЧУВСТВУЕТ!
Между тем, у Нефедыча в каморке все шло своим неожиданным чередом.
— Здоров бога-то теребить! — хрипит из-под Прошки Максиму боцман. — За дело давай берись! Пососи-ка ему, Максим!
Про «пососать» Максимка уже все понимал тогда, да и про другие обозначения — российский матроз Гробов его заранее просветил-надоумил.
Смышленым наш макакушка оказался! Тотчас Гробова заглотнул. Прохор аж застонал от восторга внезапного, и очко у него все вокруг боцмана сузилось — будто сгрудилось. А Максимка извернулся — и шасть Прошке топкой[5] на член. Да так плотно прижопился, так ловко присел, что Гробов матерно вслух длинно, с переборами и в подробностях снова обрадовался.
Удивились в кубрике моряки: что за молитва такая неправославная? Вроде бы не учил их поп этому. Да и поклоны земные закончились. Одни шлепки и жирное знакомое чавканье.
— Горбатого могила исправит! — смекнув, засмеялись тут морячки.
Засмеялись — и успокоились, но за штаны чужие уж принялись: друг с дружкой в темнотище разобрались по-матрозскому. И звуки понеслись с каждой койки самые на «Дрочливом» привычные, не хуже, чем из боцманской конуры или из каюты Игашева.
А под утро явилось виденье Нефедычу. Будто стоит он с капитаном на мостике, внизу братва палубу драит, все блестят голые, жильные — и так светло-хорошо вокруг, как только в тропиках, наверное, и случается! И вспоминает он обе задницы — розовую да черную, что были выставлены покорным рядком перед ним, ненасытным желаньем всю ночь топорщились, — и так ему, Нефедычу, удало на душе тут сделалось! Чисто рай, а он чисто пират в том необычном раю! Хоть помирай с благодарностью… Только не видно что-то вон там, внизу, черномазого. Как ни вглядывается боцман, а не видать. А на море он посмотрел — и черное судно с рваными парусами впритык уж к их борту стоит. И с палубы его аж десять Максимок яростно лыбятся.
Хотел боцман Игашеву про опасность-то доложить, рот раскрыл, дернулся. И такая вдруг навалилась на боцмана тоска злая, чугунная… Распахнул веки — так и есть! Лежит Нефедыч, к койке накрепко притороченный. Повел глазами вокруг: на койках сидят в пижамках всякие, один с лицом даже Игашева, другой — вроде Прохора, и смотрят на Нефедыча равнодушно, как он под путами дрыгается.
Распахнулась тут белая дверь высокая, входят люди в белых халатах, и среди них черный один — однако в белом и он. И который впереди-то, в очках, Франц-то Карлович, на чистом на русском и говорит:
— Больше Нефедову книг читать не давайте! Даже и Станюковича!
А черный смотрит на Нефедова серьезно, лоб морщит, будто и знать не хочет его. Не улыбается…
20.01.2017
[1] Парапет палубы.
[2] Да-да (нем.).
[3] Максим (португ.).
[4] Задницею.
[5] Опять же ею же, задницею.


