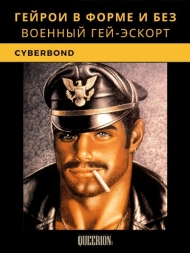Cyberbond
Курсанты, куранты и прочие фигуранты
Аннотация
Курсанты — тоже люди. И ничто человеческое им не чуждо. Даже и стрррасти силы нечеловеческой.
Курсанты — тоже люди. И ничто человеческое им не чуждо. Даже и стрррасти силы нечеловеческой.
 Есть вещи, которые невозможно простить даже родителям. Отец наградил Тоху фамилией Утконос. А если учесть, что Утконос-старший имел явно вражьи западенские корешки, то и Тоха на первом курсе рапортовал перед строем, что вот вам «курсант Вутконос». Начальник училища покусывал седые бывалые усики, строй тихо по-лошадиному всхрапывал. При этом Тоху любили — некрасивый, но обаятельный. Да, вот это самое слово: утконос, носик уточкой. Рожица до того живая, смышленая, что даже известный мастер-«матовик» старшина Егорычев в самых худших случаях называл Тоху «зверьем австралийским», но как-то бережно обходил молчанием мать Утконоса и возможные самого Утконоса наклонности.
Есть вещи, которые невозможно простить даже родителям. Отец наградил Тоху фамилией Утконос. А если учесть, что Утконос-старший имел явно вражьи западенские корешки, то и Тоха на первом курсе рапортовал перед строем, что вот вам «курсант Вутконос». Начальник училища покусывал седые бывалые усики, строй тихо по-лошадиному всхрапывал. При этом Тоху любили — некрасивый, но обаятельный. Да, вот это самое слово: утконос, носик уточкой. Рожица до того живая, смышленая, что даже известный мастер-«матовик» старшина Егорычев в самых худших случаях называл Тоху «зверьем австралийским», но как-то бережно обходил молчанием мать Утконоса и возможные самого Утконоса наклонности.Между тем, наклонности имели место быть, ну и свершения к ним, ведь именно старшина Егорычев курировал круговорот тел в природе, то есть распределение курсантов по клиентам. В других отделениях этого, разумеется, не было и быть не могло (да и как же иначе?..), но в отделении Утконоса бизнес Егорычева процветал, а вид и запах имел отменный — хороших сигарет, даже сигар, парфюма, гаджетов, шмоток и того, что пойлом уж точно не назовешь…
В отношении «папиков» курсанты держались известной дистанции. О ней сразу предупреждал сам благородный Егорычев. Пройдет пацак по кругу, и на следующем курсе он уже не очень-то интересен любителям (то бишь, естественно, «знатокам и ценителям»), или, точней, круг их будет иной. Труба, так сказать, пониже и дым пожиже. Вот почему сердечные отношения курсанты завязывали на всякий случай «по серьезке» лишь между собой.
Был «лавер» и у Тохи в отделении, причем сильно на расстоянии, платонический. Ибо Димон Феоктистов (собственно, Тохин «обоже») считался первым красавцем на курсе, а отец его имел генеральский чин. Почему генерал-лейтенант Феоктистов заставил наследника плац топтать, а не в банке сидеть, тайной ни для кого в отделении не было: насчет неформатной любви Димон прокололся еще в суворовском. И лишь кадровый военный отец мог решить, что армия исправит этот промах природы…
Хвала античным богам, генерал-лейтенант служил в другом городе и представления о бизнесе Егорычева не имел, воображая столичное военное училище по своим советским юношеским воспоминаниям.
Димон пользовался огромным спросом. Лицом он был точь-в-точь известная телезвезда ранних 90-х: отважные русские скулы, голубые неправдоподобно честные, с укоризненной косинкой глаза, нос прямой и сухой, губы чуть полные и чуть влажные, фарфоровые виски, за которыми подразумевался бесстрашный пытливый ум, гордая осанка; хороший рост, отличный вес и легкая рассеянность человека, за которого решать и платить должны окружающие. В общем, на рынке, скажем, черных риелторов Димону не было бы соперников. Рядом с ним Вутконосик и впрямь выглядел австралийской какой-то Золушкой. Тохе Димон при встречах насмешливо улыбался. Егорычев, человек опытный и по-своему, в общем, душевный, говорил не раз: «Забудь! Выдра волку не товарищ».
Тоха в ответ пожимал плечами: ни о чем, якобы, разговор…
Тут нужно сказать несколько слов и о Егорычеве, чтобы вы поняли: люди не все хищники (точнее, хищники, но не до конца или не всегда только). Чувство долга перед Егорычевым заставляет меня отмазать его от слишком жесткого обвинения, от всяких ваших плевков — тем паче, что теперь вы до него уже не доплюнете.
Морда у Егорычева была грубая и хронически насмешливая, а под мощным, крутым лобешником уже тогда вызревали бизнес-проекты восхитительной дерзости. Этим лобешником, казалось, можно было бы прошибить и кремлевскую стену. Но гораздо ценней было в Егорычеве утонченное чутье на людей, противоречиво порой взрывавшееся приступами великодушия (не путать все-таки с состраданием!). Толстогубый он был жизнелюб, этот Егорычев, — может, поэтому…
Может поэтому, под Новый год он взял Тоху за пряху, подтянул к себе и сказал:
— Тох, дело есть. Судьба может твоя решиться. Не проэбай шанс, боец!
Тоха жалко улыбнулся улыбкой как бы бывалого.
В условленный судьбой час он вышел на улицу. Сверкали на углах сине-зелеными огоньками новогодние елки, золотисто-белым — иллюминация. Спешили люди, обдавая Тоху шипящим страстным блокотанием высоких восточных, главным образом, голосов. Москвичи сидели уже у столов, и окна в домах все сияли, блистали, горели. Тоха сам себе показался сперва животным, которого вымыли вонючим хозяйственным мылом, а после в нем проснулся ребенок, глазенки зажглись. Эх, дернуть бы сейчас на Красную площадь, в центр, надышаться, нахвататься ушами и глазами этого блеска-треска!.. Нет, надо шиздюхать на метро… На метро! Других вон тачки подхватывают за квартал от училища. И какие тачилы!..
Что уж там на метро — какая его может ждать прям нате вам на метро «судьба»? Только его сероватая, Тохина…
Курсант Утконос несколько пригорюнился. Будь Антон помистичнее, черный вой метротоннелей представлялся бы ему после беснованьем нездешних — адских, наверно — сил.
Необычное началось для него уже в лифте. Вслед за ним с хохотом в кабинку вперлась пьяная типа Снегурка в кокошнике и стриженой седой шубке. Мужик, что был с ней, оттаскивал ее от Тохи, но Снегурка-drink успела исцеловать курсанту лицо яркими, как ожоги, губами. Хуже всего, что за десять секунд общения девушка просекла: она у Тохи, конечно, первая! Девка торжествующе завопила об этом на весь подъезд, пока мужик не вышвырнул ее на этаж.
— Прости, пацан! — сурово оглянулся он на Тоху. И вдруг подмигнул.
Тоха вышел на следующем.
Дверь под номером «27» была открыта. Утконос деликатно позвонил. Потом толкнул дверь.
Из глубины квартиры он услышал тихий настойчивый стрекот. На серое покрытие пола (сам коридор был белым и каким-то больничным) выехало кресло-коляска. В ней сидел странноватый, на Тохин взгляд, пожилой человек. Даже и не то, чтобы старик, но… Огромный лоб его переходил в лысое темя, зато на шею и щеки свешивались длинные волнистые патлы, полуседые, полукаштановые. Лицо недо-старика было широким, однако ужасно бледным и костистым, скулы торчали, как острые шишки. Тонкогубый рот улыбался. «Щучья пасть», — подумалось Тохе.
Вот гад Егорычев! Подсуропил Деда-Мороза…
Тоха растерянно застыл у вешалки.
— Здравствуйте-здравствуйте! Меня Николай Кузьмич зовут. А вас ведь — Антон?
— Так точно.
— Не разувайтесь. Что за вояка в тапочках?
Тоха тщательно вытер ноги, прежде чем шагнуть в этот омут. А Тохе и впрямь казалось сейчас: перед ним чернеет полынья, в которой плавают стекляшки расколотого льда.
С какой радостью курсант Утконос метнулся бы вон отсюда!..
— Проходите! — хозяин указал на широкие двустворчатые двери.
Тоха оказался в просторной, но низковатой вроде бы комнате с роялем, искусственной елкой на нем. Круглый стол блестел и переливался.
— «Подготовился… Че же мне с ним делать-то?..» — Тоха сгорал от смущения. Человека в коляске ему жалко не было. Слишком уж взгляд у хозяина был стальным и пронзительным.
— Хотите телевизор включить? — спросил Николай Кузьмич после секундной паузы. В течение ее он взглядом, казалось, взвесил бедного Утконоса, как кролика, безменом за уши. Тоха даже уши потер — такое отчетливое было у него чувство.
— А где «ленивка»? — пошарил Тоха глазами.
— Что, простите?
— Пульт от телека…
— Пульт, пульт… Господи, пульт… — растерянно захлопал по столу, по бокам хозяин. И вдруг ткнул пальцем на елку. — За ней!..
На экране возникла блескучая новогодняя лабуда.
— Вы с мороза. Выпейте что-нибудь… — сказал хозяин, продолжая пристально вглядываться в Тоху.
Тоха цапнул знакомое безошибочно — водку.
— Нет, вот это, — показал пальцем на темную фигурно-узкую бутылку Николай Кузьмич. — Вон в тот бокал. И мне немножко, на САМОЕ донышко…
Это слово «самое» хозяин выделил голосом.
— С Новым Годом! — поднял бокал Николай Кузьмич.
— За знакомство… — промямлил Тоха. Ему вдруг совестно сделалось, что он не может скрыть этого своего… ну, что ли, разочарования.
— «Черт, как я с ним буду?..» — снова подумал Тоха. Вино было густое, пахло то ли медом, то ли травами. Тепло поднялось у Тохи от ног к голове и спустилось обратно.
— «Черт, напиться? Напиться, блин, в дым? Или зажмуриться?..» — подумал он.
— «Напиться»! «Зажмуриться»!.. — вдруг сказал Николай Кузьмич и рассмеялся дробным стеклянным смешком. — И черта вы поминаете про себя слишком часто, молодой человек!
Тоха непроизвольно налил себе опять.
— Вам итак хорошо, Антон, оставьте пока. Вещь эта непростая, забористая. Расскажите лучше-ка о себе…
Николай Кузьмич откинулся в коляске, прикрыл глаза.
То ли от этого, то ли еще и от вина Тохе сделалось вдруг поспокойнее, поуютней. Егорычев-гад наставлял: иным «папахенам» и не надобно ничего, только языком потрепать.
Утконос начал плести про службу, немного про дом, про Егорычева — что, в общем, хороший мужик, но сволочь. Вино развязало язык и сковало ноги. Порой казалось, что собеседник спит. Под это дело Тоха плесканул себе еще немного, но проверенной «беленькой»
— Не смешивайте, не мучьте организм, — сонно сказал Николай Кузьмич. — И почему, собственно, в тот же бокал?
— Сори, — сказал Тоха. — Простите!
Он замотал головой, словно отгоняя нависшую тучу, глубоко вздохнул и вдруг в голос заплакал. «Эх, в сиську я!..» — подумалось Тохе. Вино почти обездвижило его и делало с ним все, что хотело. Оно было, как теплые руки, а Тоха — как кусок пластилина; вино вытягивало его, крутило, раскатывало по своей прихоти. Но Тоха доверился этим теплым рукам. Он только не понимал, чьи они. Костистые лапки Николая Кузьмича покоились на резиновых подлокотниках.
Рыдал Тоха сладострастно и радостно, до взрыкиваний, до соплей, словно корни в душе открывал в себе розово напряженные. Никогда не рыдал он так прежде; да и вообще Тоха не умел, казалось ему, рыдать… Слаще всего при этом было сознавать, что Николая Кузьмича он видит первый и последний раз в жизни.
Рыдания иссякли так же внезапно, как начались. Тоха сам изумился.
— Н-да, — задумчиво промямлил Николай Кузьмич. — Пойди-ка прямо по коридору, умойся.
Тоха вылез из-за стола. Нет, ноги все-таки слушались. Утконос прочапал по коридору, умылся, фыркая, отсморкался.
— Вот, совсем другое дело! Розовый и веселый, — Николай Кузьмич опять рассмеялся стеклянно и дробно. Но тотчас и палец вверх. — О, кажется, он!..
В прихожей звякнул звонок.
— Входи, входи! — закричал хозяин, даже не повернувшись к двери.
В прихожей у вешалки шумно завозились, и вот в дверях гостиной возник… Димон Феоктистов, розовый, как заря, и радостный, как щенок. В руках у него болтался огромный торт.
Улыбка застыла на губах Димона, но брови собрались домиком:
— Тоха?..
Антон беспомощно (он чувствовал сам, как же беспомощно — и тупо ведь как!) ухмыльнулся.
— Вот что у вас всех за вкус? — Николай Кузьмич отобрал у гостя коробку с тортом. — Крем на креме и кремом погоняет. Сплошной холестерин…
— Красивый же… — Димон осторожно повел плечом. Обогнув коляску, протянул руку Тохе. Он словно опасался Тоху сейчас, этот блестящий Димон…
— А говорили, ты к родакам, — не удержался, кольнул Тоха.
— Успею… Ты-то как здесь?
Тоха запунцовел.
— Штрафную, Димочка! Ты опоздал, — Николай Кузьмич налил полный бокал все из той же бутылки.
Они «вздрогнули» снова за Новый год, за исполненье желаний и за все, конечно, хорошее. Во дворе истошно вопили, и с жутким хлопаньем за окнами взорвались красные, белые, зеленые шары, искры, полосы фейерверка.
Посидели с полчаса еще, говоря ни о чем. Тохе от вина сделалось снова легко и свободно, даже и озорно. Одно только ело его: Феоктистов был явно тут СВОЙ. Но что связывало эту звезду с вполне скромным «папиком», да еще вот и инвалидом?..
— «Родственники, наверно…» — успокоил Тоха себя. И покраснел, вспомнив тотчас, зачем здесь он сам.
Догадка его вроде бы подтвердилась: Николай Кузьмич покинул их, попросив Димона проводить его.
— «Интересно, кто был по жизни этот Николай Кузьмич?..» — размышлял Тоха, оставшись наедине с гостиной. Кроме рояля ничто здесь не указывало на возможную профессию хозяина.
Минут через десять Димон вернулся. Показался он Тохе немного растрепанным и слишком уж оживленным, а глаза свои, хронически честные, прятал…
— Че, Димон, — Тоха потянул все ту же неисчерпаемую бутылку, разлил. — Он ваще кто?
— Тох, ты хорошенький уже, — Димон поднял бокал. — А он… Ну, скажу тебе: экстрасенс. И че?
— Не, по-чесноку говори, Димон. Ты через Егорыча на него выехал?
— Тох, забудь про Егорыча! Нехер мозги им трахать хоть в Новый год! — Димон залпом осушил бокал. Глаза его загорелись как-то особенно, будто в них кроме родного блеска появилось и мельтешение заоконного фейерверка. — Фишка, поца, в том, что мы с тобой по жизни, блин, связаны. Ты прикинь!
— Как это?!..
— Тох, вола не верти, — Димон через стол протянул руку и крепко взял Тоху за кисть. — Че, весь курс в курсе, а я, типа, нет? Тох, ты хороший пацан. Ну, клевый даже, можно сказать! Смешной… Мы ж не пидары, правду сказать. Мы ж мужики!.. — заключил он с надрывом, с — кому-то — и вызовом.
Димон то сжимал Тохину кисть, то разжимал, то — казалось Тохе — вот-вот ее резко вывернет.
— Ка-арочи, поца, прикинь… Такие дела… Пшли!
Он мотнул головой на дверь.
Тоха поднялся. Димон явно загрузился больше, чем он. Утконос волок товарища на себе, Димон только дверь указал.
Они упали на кровать, занимавшую всю комнату. Повозились на ней, будто борясь — а может, и борясь, но и боясь задеть друг друга всерьез. Враждебная нежность играла в обоих, и висела над ними тень почему-то сомнения.
От обоих пахло вином и казенным имуществом.
Бормотнув что-то типа «Давай!», Димон стал расстегивать на Тохе китель. Тоха занялся Димоновой амуницией. Быстро и слаженно получалось у них, пальцы на автопилоте работали.
Димон навис лицом над Тохой, больно ерошил, драл ежик его волос, улыбался, осклабившись:
— Че ты, в натуре? Ну че? А?.. Ну че?..
Тоха капельку испугался. Прорезался в ленивом, вальяжном Димоне какой-то другой человек. Тоха провел ладонями по бокам Димона сильно, но нежно.
— Огла-аживаешь… — Димон снова оскалился.
Тоха погрузил в ладони Димкины задние полушария. Они показались ему удивительно соразмерными его ладоням, теплыми и упруго податливыми.
— У-у-у!.. — провыл-проныл-пропел Димон. Он закинул голову. И снова, уже беспомощно. — У-уу…
Тоха нащупал Димонову «розочку». Дразнил ее, пока не открылось внезапно широкое, доверчиво влажное. Палец осторожно вошел.
— Ууу, — Димон содрогнулся, уронил лицо на Тоху. Лицо было сырое от пота, соленое… Тоха лизнул раз, другой. Языки их как-то пугливо нашли друг друга, хотели бороться. Но Димка вдруг прошелестел — больше дыханьем, чем голосом:
— Давай!.. Давай!..
Тоха вылез из-под Димона. Он словно восстал над Димкой, как пахарь над жадно дымящейся бороздой. Он был весь по делу сейчас, весь умный и — ну да, вот именно: рачительный, расчетливый, деловой. И он не боялся этого.
— На слюнке войдешь… — проныл Димон. — Давай, поца…
Он тихо вскрикнул и тотчас схватил Тоху за задницу, боясь, что парень крика этого испугается. Но Тоха крепко взял быка за бока. Ритм движений их вскоре выровнялся. Они были теперь одно, поймали движение маятника в себе, мерное, спокойное и надежное. Обоим казалось: тысячелетья проходят рядом, не смея задеть их, нарушить… Весь мир свелся к точке. К этой точке Тоха и рвался сейчас.
— Да, да! Вот так, вот так… — и было не ясно, лепечет Димон Тохе или себе…
Тоха понял вдруг: его всего распирает уже, рвется из него нечто наружу, вон. Он запрокинул голову. На потолке мутные блики и тени, там была своя какая-то жизнь… Широкая бледно-белая полоса двигалась в этом мире, меняя, ломая, заполоняя его.
— А-а-а!..
Тоха взорвался. Он не сразу понял: это его голос. Смешной голос, беспомощный…
От стыда и от мучительной, уходившей, растекшейся сладости Тоха повалился на влажную Димонову спину. Она все еще двигалась.
— «Я еще ТАМ!» — подумал Тоха с удивленьем и гордостью за себя.
Он лежал на Димке, сопя: сопли вдруг накипели. Черт!.. Было страшно расстаться. Этого мига Тоха стеснялся всегда: ну запаха…
Чем вытереть-то?..
Димон словно мысли его прочитал, ткнул рукой в тумбочку. Неясно в тени белели салфетки.
— «И всё?..» — горько подумал Тоха. — «И всё?!..»
Волшебный мир кончился. Димон лежал ничком, как убитый. Обычно довольные мужички начинали шутить, веселиться после; сразу делалось тепло, душевно, разбитно и развратно. А тут…
«Как статую вытрахал…»
Тоха огляделся. По комнате бродили тени. Тохе казалось: он в ледяной пустыне, в нее тянутся отсветы радужных огней. То ли северное сияние, то ли город неподалеку, но слишком уж праздничный — не дойти до него.
Тоха прилег возле Димона, боясь коснуться его теперь. Он вдруг представил, как генерал Феоктистов лупцует грешника сына. Димон никогда не рассказывал об этом. Но Тоха как-то понял это сейчас, сразу, и всю Димонову жизнь, путаную, дальнейшую. У Тохи все проще ведь было. Простая семья, простая жизнь, и не сомневался он, что после училища женится. В общем, больше не будет этого у него, другое начнется: женщины, службишка. Егорычев его наставлял: за папика зацепись, останься в Москве, а там уж кривая вывезет. Димону вон и стараться не надо, проклял отец — папиков башлястых полк набежит. Набежит — да сбежит. Как тут самому-то не сгинуть или чертовой болячки не подцепить?..
Димон повернулся вдруг на спину, потянул Тоху за уд.
— Не спится? — Тоха сам удивился, что спросил почти свысока. Как-то само собой получилось.
Димон ответил не сразу: трогал, теребил; ногтем полез в головку.
Будто животное понукал — небрежно, молча, со стороны.
Тогда и Тоха забрал Димоново удилище в ладонь. Оно было весомое, крупное, но стояло похуже. Как зачехленный рояль.
— А знаешь, кто Николай Кузьмич?.. — Димон спросил почти одними губами, без голоса. Тоха понял вопрос.
— Экстрасенс, — продолжал Димон. — С элитой работает… Меня папаня привел к нему, чтобы от нашего ЭТОГО излечить. Идея отдать меня в училище была тоже его, Николай-Кузьмича. Но мне он сразу сказал: в моем случае это не лечится. Еще говорил: Дмитрий, тебе друг нужен по жизни. Ну, чтоб без резинки хотя бы. Вот ты мне — друг?
Тоха чувствовал на себе взгляд Димона, повернул к нему голову:
— А ты-то сам как? Надо оно тебе?..
— Хм… Смешной… Вутконосик. Но епкий, смотри… И добрый ты?..
— Тебе трах нужен, а не друг, Димон!
Вместо ответа Димон полез Тохе подмышку. Оттуда прошептал невнятно:
— Это он мне — ТЕБЯ… Он ведь может… ЗАСТАВИТЬ… Приворожить… Смешной… Так неожиданно…
— И че, мы теперь друзья? Навек, что ли?.. — Тоха спросил почему-то с насмешкой, которой и не желал. Ответа он не услышал, да и не ждал: опять томление наливалось, отодвигая все прочее. Потянулся губами к Димону, к гладкому его животу и вниз — расчехлить рояль. Налез губами на член, языком открыл сочное. Смаковал касаниями, затяжками, будто разглядывал, разглаживал языком цветок.
— Хе, да ты кончил тогда подо мной!.. Я-то и не заметил…
— Как муха на залупе!.. — усмехнулся Димон. Извернувшись, он ловко всосал Тохин внушительный уже монумент. Всосал глубоко, сразу до корня.
Тоха повторил этот его маневр, но закашлялся. Потом они словно пародировали, передразнивали друг друга; иногда смеялись вполголоса.
— Давай! — Тоха сдавил Димона за бока.
Димон задрал ногу.
Тоха подхватил другую, развел…
— «Як куренка!..» — подумалось вдруг борзо и весело.
Озорно…
Тени на стенах, на потолке стали бледней, комната проступила из ночи в подробностях…
…После бессонной ночи пустой промерзший город с деревьями в розовой дымке инея казался Тохе видением. Неужели во всей Москве один человек остался, именно — он?.. Скрип, стук его шагов по снегу и по асфальту в раннеутреннем городе звучал почти дерзостью.
Димон остался у Николая Кузьмича, Тохе предстояло днем «на тумбочке» отстоять. «Как новорожденному!» — почему-то подумалось. Тоха казался себе сейчас таким же пустым, как город. И сердце екало при мысли: «А дальше-то? Дальше-то?..»
Что Димон его корешком может заделаться, Тоха не очень верил — боялся поверить, да. Наваждение могло раствориться, как этот день, как визгучий этот вот снег, испариться нестойким инеем…
— «Но… было же, БЫЛО ведь!»
Страдать ему не хотелось. Тоха, однако, знал, что страдать придется — и в скором времени.
В училище на него тотчас накатил пьяный в дымину Егорычев. В грубых, непарламентских выражениях старшина объяснил Тохе, чем Тоха занимался всю новогоднюю ночь, в то время как он, Егорычев, крепил оборону страны на дежурстве, мать это дежурство разэтак, да и всю страну в ту же пробоину!
Перегаром от Егорычева разило так, что спички могли самовспыхнуть в трех метрах от старшины. Праздничным его настроение было назвать непросто.
— Ну че, скотина ты австралийская, натрахалась — аж из ушей, мля, льется, мля?!.. Мне ни хера подарков, одни тока спасибочки?!..
Он сграбастал Тоху и так крепко встряхнул, что шапка слетела с бедного «Вутконосика». Тоха с ужасом понял: старшина прав — забыл он на радостях, что «делиться нужно»… Да и не платил ему Николай Кузьмич…
Тоха замер, провидя дальнейшее.
— Вощем, кенгурятина, делом ща отработаешь!
Егорычев отшвырнул Тоху, скакнул к раковине — поссать.
Ссал шумно, изобильно, как большое парнокопытное.
Тоха с тоской смотрел на громадный член, нарисованный на классной доске. На хере цветными мелками славянской вязью было выведено: «С Новым вас 2010 годом, волчары позорные!» Егорычев рисовать умел: хер получился патриотично праздничный, выразительный, на колесиках. Не хер, а боеголовка конкретная…
Раза два у Тохи с Егорычем было — не по пьяни, а просто так. «Профилактика агрегата», — называл это Егорычев. Оба раза получилось даже (вроде б) и весело: на широкой роже старшины словно прыгало солнечное пятно — лоснилось Егорычево лицо, как блин. Считалось меж ними: Егорыч наставляет в искусстве. Одно только смущало Тоху: папики ложились под него, а тут сам подставляйся тылом, терпи…
Почти не больно, умеючи, даже и ласково делал Егорычев, но какая-то смута поднималась у Тохи со дна души во время и после; страх непонятный за себя, перед будущим…
Старшина, не застегиваясь, плюхнулся на стол, подтянул Тоху к себе за ремень, сдавил с боков коленями:
— Ну че, боец-фуец? Че ты?.. А?..
Заскорузлой ладонью провел по Тохиной голове, по лицу раз, другой третий:
— Не нравится мне седня, воин, рожа твоя. Опущенная какая-то! Пидарас, наверное?
И пропел:
— Пидарас-пидарас,
Поцелуйся в карий глаз[1]!
Вот в карий глаз и будешь меня целовать седня! Всосал, боец? В самую задницу! А то передницу ааатличненько, мля, шлифуешь уже, но повышать ведь надо боевую квалификацию! Че молчишь?..
— «Вот тебе и вся любовь-морковь…» — подумалось горько Тохе. — «Ох-хереть!..»
Старшина продолжал все тесней жать его коленями, все жестче железными ладонями тормошил. Все сильней торчал поршень старшины и все ярче пахло тем, что сам Егорычев насмешливо называл «ссаной залупою»:
— У-у, сссумчатое…
Вдруг втерся. впечатался лицом в Тохину щеку, прошептал мокро и жарко, и как-то беспомощно:
— Зашибись было тебе?.. Ага?.. Зашибись?..
Тоха остолбенел: не принято было между курсантов впечатлениями об ЭТОМ делиться. Но здесь дышало другое. Не подробностей выспрашивал пьяный Егорычев. Нет, не подробностей…
— Ты фули, мля, на него запал? Ты че, сссумчатый, не чуешь уж ни фуя? Он же пропащий гад! Он же, сука, без будущего! Одна рожа — и та скоро прикончится…
Тоха весь обомлел: столько было в этих словах нежности и заботы, столько боли затаенной, гневной, мужской, ДАВНЕЙ и убивающей.
— Тох, ты ж не млядь, Тох! А? Ты ж не млядь… Ты ж надежный, как зверь…
Тоха вдруг представил себе, что он, Тоха — дом и что дом рушится, то есть вверх перед тем, как обвалиться, с изумленьем на миг привстает, только на цыпочки.
Распахнувшийся рот его утонул в толстых, мокрых губах старшины. Языки уже жадно, но еще испуганно встретились…
6.10.2016
[1] Карий глаз — очко (сленг).