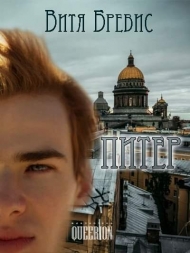Cyberbond
Охота на Ивана Ильича (Религиозно-философский этюд)
Аннотация
Обратно рассказ из русской жизни начала 20 века с привлечением опыта русской религиозной и революцьённой прозы (прости, господи!). И Шолохова, раз тут есть морковка для нас, скрытая в казачьих шароварах.
Обратно рассказ из русской жизни начала 20 века с привлечением опыта русской религиозной и революцьённой прозы (прости, господи!). И Шолохова, раз тут есть морковка для нас, скрытая в казачьих шароварах.
 ЧуднО читать про себя в газете! В «Биржевке» сегодня вот напечатано:
ЧуднО читать про себя в газете! В «Биржевке» сегодня вот напечатано:«ОХОТНИК ИДЕТ ПО СЛЕДУ…
По нашим сведениям, в начале месяца в СПб прибыл знаменитый сотник Григорий Лепехин. Целью его пребывания в столице империи, по слухам, станет охота на известного большевика-террориста Ивана Ильича Медвежопуло, который занимает второе место в большевистской иерархии. До сих пор Медвежопуло был неуловим. Удастся ли бравому казаку хотя бы на этот раз обезопасить общество от этого зловредного элемента?..».
Я, само собой, не бравый сотник Лепехин. Меня Васей звать, я в банях, где наша артель, служу, на 4-й Линии. Вот третьего дни явился к нам казак-офицер с желтым таким сердитым лицом и заказал меня. Ну, заказал и заказал — обычным порядком помял я его, помыл, веничком похлестал. После он на меня, ясное дело, взобрался, мосластыми ножищами стиснул всего и долго яйцами в жопу мне колотил, так что и локти все затекли радость его терпеть.
Жаркий, а вот хмурый, неласковый… Но, видать, глянулся я ему: молодой да умелый, да на харю еще не траченный. И сговорился он с нашими взять на месяц меня к себе в услужение. А мне-то что: денежки те же, что и со своры гостей — только среди гостей мало, которые баские, а он больше раза в день все одно меня не дерет. Короче, не жись, а сплошна санатория с пряниками!
Вот этот сотник который — Лепехин и есть: Григорь Пантелеич. С ним на квартире наемной еще денщик его Семка ошивается. Красава парень, только боится меня. Не боится даже, а честно сказать — опасается. Все вприглядку ко мне, все чубом пшенным трясет, а чтоб на дармовщинку полапать — такого не было. Он с одной станицы с Лепехиным и влюблен в него — просто страсть! Но задницу держит казак на амбарном замке, в себе покудова «сумлевается».
Эх, не с того я начал: с газеты! А надо б вам по всей форме представиться. Нас ведь, голубчиков, «голубцов», цельная орава в Питере, да и по всей Расее теперь. А толк наш, значит, таков, нашей голубецкой-то веры-то. Мы, мужики, как бы все голуби по душе, а бабы нас зверьми, ведьмины дщери, делают. То ей принеси, это ей подай, робенков рожай да корми, крутись день-деньской, ровно бешеный.
По-человецки ли жить нам так, по душе ли, по-божески? А нужно отринуть вот баб и все земное, греховное, и друг с дружкой лишь быть без последствиев, но артельно, и деньги, значит, в обчий котел. Называется сицилизьм, что ли, это все такое у наших попов — я в этом не разбираюсь. Только вот верую, что ежели мужик, значит, на мужике, то они оба священнодействуют и служат светлому будущему, царствию «голубцов», которое грядет, потому много, очень много мы для этого дела священнодействуем! Не щадим ни себя, ни которые вроде Семки — лишь зарятся.
Наш в артели набольший дядя Петро учит: есть такой остров Сицилия, отсюда и сицилизьм. Мы со временем, «голубцы», власть в Расее возьмем, сами на Сицилии жить останемся, а отсюда с народишка будем деньгу и жилы тянуть, вроде бельгицкого короля, который то же дерет с черножопых, что в Африке у него на деревах обретаются. Вот, значит, для того и священнодействуем. «Поддавать поддавай, а про Сицилию, паря, не забывай! Сицилизьму всякий раз учись, чавкало, и его приближай!» — учит дядька Петро.
Эх, про Сицилию я тоже мечтаю, и часто мне снится она, особенно после сильного порева, когда, скажем, юнкерье всею ротою моется или кадетики. Тут с лавки по часу не слазишь, чисто одной жопой на свете живешь и работаешь. А после — да, снится она, Сицилия, будто сицилизьм победил уже, а я барином сам кадетов у моря деру и в волны, драных-рваных, как скорлупки, закидываю.
Одно слово — лепота! Но на нее надо еще как следует насвященнодействовать, войска царские на нашу сторону все собрать. А также почту и телеграф. Ну да это со временем.
Я тут осторожно Семке-то завожу про сицилизьм, а он мне:
— Брешешь, кум! Сицилизьм — это чтобы рабочие барами зажили, а вовсе оно не про жопошников.
— Экие слова ты, Семочка, говоришь! Даже обидно и слушать мне. Что ж, и Григорь Пантелеич для тебя вроде жопошник?
У него харя-красава аж передернулась:
— Я те за Григорь Пантелеича яйца на уши натяну, давалка сортирная! Что ты — задница, вовсе из того не выходит, будто он тоже жопошник. Он — р а с с л а б л я е т с я. День-деньской на ногах, бегает, как Савраска без узды, за этим за Медвежопулом. Кубыть право имеет и отдохнуть. Или, мобуть, тебе это оно не ндравится?
— Ндравится — не ндравится, я его красавица, — отвечаю уклончиво. — А ведомо ли тебе, Семочка-Пшенный-Чуб, что я с Медвежопулом тоже знаком, с Иваном-то с Ильичом — и тесней, чем пока с тобою, станишным валенком?
— Как так?!
— А вот слушай, «кубыть-мобуть»! Деревня наша Плохиши наполовину уже теперь голубецкая. И с пятнадцати лет я был в ней пастухом обчественным: пас, значит, коров для обчества. Сам же я сильно молод был тогда, никто меня в себя не впускал, зато священнодействовали на мне злостно все, порой и проезжие. Как быть? Ясное дело — в коровку слить застоялое. Грех оно: корова — бабьего роду-племени, но телята совсем дураки борзые, а к быку поди еще подступись. Значит, приходится грешить и на зверскую бабу, на корову, семя расходовать. Что я как-то стою и делаю.
— Да с козою оно ж навроде сподручнее… — Семочка прошептал, весь пунцовый до темноты.
— КозЫ, Семочка, на лугу в тот мумент не было. Ну, значит, я в корове тружусь, честно работаю. Вдруг хлоп меня по плечу, которое от мокрых дел так и ходило вовсю. Рукой этак тюк, ладонью-то. Вижу: стоит рядом рыжий усастенький землемер с трубочкой — конопатый, да, вдумчивый. (Он накануне в село к нам приехавши). «Это вы, товарищ, зачем же животное так тревожите? Оно ведь и возразить вам не может. Разве что только обкакает…» — «А вам, барин, что за хрен? Жаних вы ей, что ли, будете?..». Он этак прищурился: «Значит, душу живу вы в ней не признаете? А ведомо ли вам, молодой человек, что всё живое — и люди, и травы, и звери — суть одно целое, с одною на всех душой, и вы сейчас не ее жопу, а душу свою дерете и мучите!»
— Вона как!.. — Семка чуб стал дергать да на палец накручивать.
— Обомлел я от этих слов. А он и дальше давай: «Вы, «голубцы», одних мужиков в жизни ведь замечаете и жалеете. А жизнь есть целокупное вещество, без пола, если уж вдуматься, и границ. К примеру, вот я: Иван Ильич по паспорту, землемер Медвежопуло. А теперь глядите-ка!» Хлоп — перекувыркнулся он через голову — и по лугу зверь крупный на задних лапах, задом вихляясь, пошел! Медведица! Стадо все прочь понеслось, земля дрожит, в пылищи солнца не видать. А я стою дурак дураком, с хером наперевес — Зорька тоже с моего гвоздка сорвалась и в лес сбегла. А медведица перекувыркнулась — и сделался архидьяконом с кадилом — и ну махать да божественное гундеть.
— Гляди-кося!.. Оборотня он, а с богом спознался, а?..
— Это что! Он снова перекувырк — и дуб дубом, и ко мне, корнями скрипя, попер. Я тут, Сема, стыдно сказать, обосрамшись сделался, но было уже не до нежностев. Ноги чугуном налились, не движутся. А он снова перекувырк — и премьер-министр господин Столыпин передо мной! Ну, тут уж я на коленки бух перед вельможею. А он снова перекувырк — и опять рыжий да конопатый весь такой землемер Медвежопуло с трубочкой. Подошел, посмеиваясь, носом покрутил, с коленок меня поднял: «Вот, молодой человек, и все мы таковы волшебники — большевики! А потому, что наша партия — и только она! — владеет единственно верной научной теорией, как мир этот преобразить! А вы, «голубцы» — просто деревенские фуфелы с хером наперевес, говоря попросту — мудачки, и ничего-то у вас не получится. И спрячьте вы дрын свой, наконец, у нас разговор пока чисто теоретический!..»
— Эко дал!
— Слушай далее, Симеон! Ну, я по глазам его вижу: хер мой молодой ему оченно даже ндравится поперек всякой теории. Почему и не прячу его, в руках мну-держу и говорю с выраженьем, отчетливо: «Может, вы в теории и правые, господа-товарищи большаки, а только практика — она завсегда важней. Вы ведь вчерась на завалинке именно это стариканам нашим рассказывали?»
— Уел, чертяка!
— Уел, как есть, уел — да еще и продолжил: «А уж коли практика — главное, Иван дорогой Ильич, значит, и мы, «голубцы», верным путем в светлое будущее идем и дочикиляем до него как-нибудь своим голубецким приятным методом без вашей даже и самокритики!»
— Вот, стерво, выдал! Чисто-прямо подъесаул!..
— Сема, дальше послушай-ка! Я ж по глазам его видю: ндравится ему хер мой и хочет он тоже над собой голубецкого-то священнодействия. Но все же свое для порядка гнет: «А приходите-ка, товарищ, к нам в партию, я вас партийной наступательной магии обучу». Я ему: «Да вы меня, молодого, простого коровьего удовольствия лишили сейчас! На хрен тогда мне и большевицка ваша особая магия?!» Намекаю, значит, что хер у меня стоймя, аж мухи залупу жгут. А он: «Давайте так: вы во мне э т и м сейчас распишетесь о вступлении, а потом я вам и литературы дам. Вы ведь грамотный?»
— Ишь, и в такой мумент, гадюка, пропагандирывает!
— А мне, Сем, ведь же лестно, что первый мужик, которого я сделаю щас, — такой образованный! Прикинь, каково оно пацанюге сопливому!
— Грех-то, грех!..
— Грех и был. Только он извинился, что нету у него с собой клистира, чтоб почиститься, и портки-то с себя раздел, как: трю-лю-лю — трель соловьиная — и с кустов на нас фараоны посыпались! Выследили его!
— Ох ты, млядь!
— Он тут сразу перекувырк — в серого зайку оборотился и ну стрекача к лесу-то. Так и не принял ведь в партию… А меня они на том лугу впятером, фараоны, помяли да и со злости снасильничали.
— Дык священнодействовали ж!
— Одна, Сема, надежда, что мне и это туда зачлось… А теперь, вишь, сам Григорь Пантелеич за ним охотится. Но куда ему!..
Семка сопнул — за командира сразу обиделся:
— Это мы ишшо поглядим! А ты больно орешь, когда он в тебе, значит, ночью охотится. Дотошливый там у тебя в тулове!
С этого разговора сделались мы с Семкой совсем друзья. Но в жопу меня гад не брал, опасался следы оставить для господина сотника — только на клык кидал, но жирно, творожисто. И тревожен всегда после делался: на станице ведь не умеют так — а через месяц расстанемся… Семке бедному сделался я не просто подстилка-услада бесплатная, а поперек убеждениев полюбовничек…
Но и у меня сердце не каменное: привязался к нему, к его пшенному чубу и рыжей «бороде» между ног. И даже, что такой недоверчивый, трогало и заводило меня, будучи сам — не чурбак. Жалел, что к большакам не вступил, не освоил ихнюю полезную научную магию. А то бы девкой ядреной оборотился и за Семку замуж бы, чтоб станица не ерепенилась.
Плохо то, что не ладилось у Григорь Пантелеича с охотой на Медвежопуло. Всякий раз уходил, стервец! Бывало: вот уж совсем в кулаке — а между пальцев мышонком проскочит да еще и струей полоснет ехидно. Очень нервничали Григорь Пантелеич за этим делом. Являлись домой поздно вечером, до фуражки грязью ухрястанные, потные, умученные. Мы с Семкой с него сапоги тянем, а он на стуле уже и заснул, на нас валится. Но середь ночи всегда проснется, тук меня в бок, и давай хером валандать, всяко промеривать — сила, значит, вернулась к нему. После поест — и спать до утра. И ни послова от него, где он за Иваном-то Ильичом охотится. Только одно твердит: «Дуплетом в угол! В угол его!»
Но все же Семка ему рассказал, видать, про мое с Ильичом знакомство. (Я Ильич буду товарища Мелвежопуло для краткости называть в дальнеющем). Как-то сотник мне говорит:
— Готовься, будем его на тебя завтра брать.
— Как так?! Я ж не червяк.
— Ты хуже! — и хером в глаз.
Такое его ко мне было, значит, в целом нелюбовное отношение.
Не Семочка…
Наутро явились мы на Сенную. Я в самом затрапезном своем, Лепехин в одежде рабочего и с гармоникой. Пьяного ломает с себя: сопля на щеке, песни орет про тревожную молодость, про какой-то, что ли, матерный кансамол. (Я такого ядреного словца и от извозчиков-то не слыхивал).
Ну, я тихо себе в шалмане сижу, будто из деревни недавно приехавши, будто робею еще ихнего столичного громко откровенного обхождения, но клювентов уже ловлю — подшибаю, которые из простых. Паренек, значит, такой весь с себя я еще начинающий и, надо думать, не штопаный.
Короче, пиво с утрянки смиренно трескаю. Думаю: где ж тут Ильич? Ясно, не в своем облике явится. Хорошо бы матросиком — матросики любят таких, как я. Они в дальних походах на жопках друг дружкиных намастырятся, сущая ведь братва, а после на суше тоскуют по тем же конфет-дурациям, хотя говорят, будто по морю скорбь… Знаем это мы ихнее море-горе! Шхера для хера, попроще сказать. Небось, покруче этого непонятного кансамола у них ночью в кубрике прыгают… Эх бы — проникнуть, мля…
Только я размечтался, чтобы лишь поглядеть, как хлоп — дверь отворяется! И в шалман влезает чисто нечисть бордовая плюшевая, лопоухая и жирненькая. Ясное дело, рекламщик ряженый: поперек грудей и спины надписи: «КОБА И СЫНОВЬЯ! Клетки, силки, удавки, корма и яды для домашних животных и птиц. Доставим и выполним срочно и дешево!!!» И номер телефона, как нынче заведено.
И вот это чудище с плюшевым рылом свиньи — прямиком к моему, стало быть, столу:
— Здоровеньки булы, молодой человек! Можно к вам?
— Можно, — отвечаю. И что-то меня как торкнуло. — Дорогой Иван Ильич…
— Обознался, паренек! Я Ильич, но Владимир. Сами мы люди нездешние, на вокзале ночуем с подругой моей Надюшей, а днем вот чудовищами для бизнеса подрабатываем.
— Надо же, — говорю, — я-то думал, эта шкура у вас — природная…
— Вижу, умен ты, паря, не по годам! Давно из деревни-то?
— С месяц уж, дяденька. А где ваша Наденька?
— Нашу Наденьку надевает сейчас один очень хороший такой человек, известный. Лепехин — может, слыхал?
— Как — Лепехин?!.. Вон же ж он, только с гармоникой!
— Ах, морда ты полицейская! — и кружкой меня по лбу хряп!
Я с тубаретки — перекувырк. Очнулся: стекло в окне возле стола высажено, гармошка Лепехина тут же с подоконника свесилась, вся лихо раззявивши, а вокруг меня люди топчутся. И слышу — совсем не то, что надо бы, говорят:
— Эк вымя-то нажрала! Козырная, падла!
— Зато харя — не подойди. Ванпирская!
— А ты зажмурься! Че тебе ее харя, те ей лишь в пасть попасть, да там не пропасть… А ниже брать будешь, в самое естество — на меня гляди, вот на мой хоть сапог, на тобой же вчерась заблеванный…
— Го-го-го! Га-га-га!..
Всяко прибаутничают — известное дело, раз пролетарии…
Я:
— Братцы, помилосердуйте! Чего хоть стряслось? Где гармонист и ето живодерное плюшево чучело?!
— Гы-гы-гы! Гармониста ей! Чучелу! Мож, быка?!..
— А мы, значит, не подойдем те, корова сисястая?
— Сиськи с писькой и есть!
Ну, и всяко по матушке. (Спасибо, хоть про кансамол не напомнили…)
Тут на меня харя какая-то картузная, с капустой в усах, уж лезет. Жуя, за грудя тяпает — и грудя-то ведь не мои, не малые!..
Опускаю подробности. Трое меня спереди, двое сзади и трое еще в ротельник приветили, а я стала именно — да, она: настоящая, природная женчина!..
Городовой, наконец, подошел.
— Ах ты!.. — говорит.
И тоже без кансамола, но крупно, с лепкой, по матушке.
Составили протокол, что я без желтого билета, налог не платя, работаю. Потянули в участок, там обрили, семеро снасильничали и дали желтый этот самый билет. Что я про Лепехина молил-рассказывал и про Медвежопуло — не слушали. Думали: бредит шалава пьяная.
По билету стала я Надеждою Дуровой. Почему Дуровой-то? И тут ведь обидели!..
Побрел я с желтым билетом за пазухой на квартиру к Лепехину. Дескать, принимайте, какой (какая) уж есть… Сам про наших про «голубцов» смекаю: вот кто меня отринет и выгонит из своих рядов! Эх, неужели мне теперь без сицилизьма ненаглядного простой шлендрой на панели хлеб зарабатывать?.. Прощай, и сказошная Сицилия! Эх, эх…
Ну, прихожу вся такая печальная Надька Дурова, в дверь звоню. Слышу: Семка в чувяках шаркает, замком клацает; небось и соскучился. Думаю: все, как есть, объясню. Мол, перекувыркнул меня большевик Ильич в женчины, но тебе ж, Семочка, пасть моя надобна; зажмурься — и вспоминай, а сноровка при мне-то ведь прежняя…
Покорился, значит, судьбине, как водится, как на Руси отродясь все и делают.
Семка дверь распахнул — хлоп-похлоп синими своими глазищами:
— Ступай, тетка, не подаем. Нет, погоди…
Выудил из штанов сухарик:
— Возьми Христа ради, душевная!
Я ему:
— Семочка! Это ж я! Я! Я!..
И тяну ему в нос свой желтый пропащий билет — мой документ на сегодня единственный.
Тут Семка заругался с лепными всякими выраженьями:
— Да те, тетка, впору на кладбище со шкелетами, ежели не спугаются…
— Кансамол ты, сука, кансамол! — говорю. — Я ли тя, гада, не холил, во рту не грел да по полчаса!..
Он сильно на «кансамол», конечно, обиделся: в матерных словах о себе еще такого злого-ядреного не встречал. Хряп меня кулачищем в лоб — я с лестницы-то и покатился кверху тормашками.
Перекувыркнулся не раз! Оно меня и спасло: лежу себе на площадке. А Семка выскочил из двери, смотрит вниз:
— Гляди-тко! И впрямь ведь ты!..
Сбежал ко мне, наклонился, заворошил бережно и заботливо. А я весь от паденья раздолбанный, жилочки живой нет на мне. Охаю, кансамол поминаю через каждый *беный хер. Семка весь в сочувствиях, но и прыскает: эк, я его надул! Дурак — никак не поверит, что не нарочно я…
Тут вдруг стук шагов снизу — и подымается к нам сам Григорь Пантелеич! Льется с него, весь чумазый, как черт, но улыбка во все лицо, глаз искрится от радости:
— Что, архаровцы?! Почапались? Без меня не поладили?
— Так что, вашбродь… — Семка вытянулся.
— Да ладно уж, не до вас! — Лепехин на него рукою махнул. — Поздравьте, архаровцы: с н я л я таки Медвежопуло! Дуплетом в угол сделал гада ползучего!!
— Ой, Григорь Пантелеич, ой, молодца-а!.. И как вы его?..
— Дайте помыться, пожрать! После и расскажу.
Излагаю кратко, чтобы вас не томить.
Только Ильич меня кружкой в лобешник приветил до омморока, Григорь наш, герой, метнулся за ним в погоню. И гнал его через всю Сенную, а после и по Желябова, по Вере Фигнер, по Степана Разина, по Родиона Раскольникова — и так до Свидригайлова тупика включительно. (В Охранке все улицы в честь бунтовщиков и преступников переназваны для конспирации и дабы нижние чины запоминали лучше историю учреждения и культурность освоили). Гнал без передыху, без самомалейшей даже и остановочки, чтоб тот перекувыркиваться не успевал.
Медвежопуло бордовой плюшевой нечистью «КОБА И СЫНОВЬЯ» так и пролетел половину Питера! А в Свидиргайловом тупике — аккурат приют, и ничейные детишки всегда в песочнице роются. Увидали плюшеву нечисть — накинулись, повалили. За руки, за ноги держат, визжат от радости, плюшеву шкуру рвут, и с огурцом один уже к дяде примерился…
Тут и Григорий наш подоспел, щелкнул затвором, отогнал мальцов скороспелых на безопасное от дядь расстояние — и сразу пять пуль засадил Ильичу в черепан, а контрольный — в самое сердце.
Тот только подергался — перекувырк спасительный так и не выписал.
Лепехин за это получил Владимира с мечами и чин подъесаула.
А мы с Семкой за него просто на дармовщинку порадовались.
Расстался я с Семочкой со слезьми. Но брошюрку про сицилизьм и про «голубцов» ему в карман сунул — успел.
Нехай его просвещается…
17.12.2019