Смирение мастера
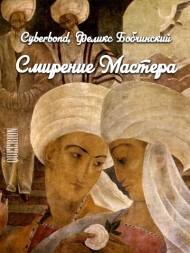 Преодолев пустыни и дувалы далекого Туркестана, русские войска погрузились в середине 70-х гг. 19 столетия в жизнь азиатскую. Наших солдат сопровождал добросовестный художник В. В. Верещагин. Среди прочей местной экзотики он зафиксировал и вот эту, — написал картину из жизни бачей – мальчиков-танцоров, без участия которых не проходило ни одного мало-мальски значимого праздника, но которые нередко выполняли и роль наложников для богатых людей.
Преодолев пустыни и дувалы далекого Туркестана, русские войска погрузились в середине 70-х гг. 19 столетия в жизнь азиатскую. Наших солдат сопровождал добросовестный художник В. В. Верещагин. Среди прочей местной экзотики он зафиксировал и вот эту, — написал картину из жизни бачей – мальчиков-танцоров, без участия которых не проходило ни одного мало-мальски значимого праздника, но которые нередко выполняли и роль наложников для богатых людей.Картина не сохранилась (есть только черно-белое фото), поэтому кратко опишем ее, а потом уже перейдем к сути очерка.
Итак, тесное темноватое помещение. В центре на полу, напряженно застыло странное существо – то ли подросток, то ли юная женщина с тонким, нервным и каким-то потерянным лицом. А вокруг клубятся мощные тела в халатах, чалмах, тюбетейках, жадные взоры, — жадные, кажется, трясущиеся от вожделения руки. Ватно-шелковый водоворот похоти. Веришь В. Стасову, который назвал героя картины «жертвой животной страсти», и даже почти понимаешь генерал-губернатора Кауфмана, который, было, запретил демонстрировать картину «за ее безнравственность»…
*
Итак, геи в исламском мире. Тема удивительная! Пожалуй, не найдешь лучше примера того, как религиозные и правовые запреты расшибаются о реал жизненного явления и социальной необходимости. И в этой сшибке дОлжного и реально нужного рождается (кроме всего прочего) – искусство.
На сегодня довольно подробно тему «Геи и ислам» рассмотрел у нас И. Кон в книге «Лики и маски однополой любви. Лунный свет на заре». Ортодоксальный ислам категорически осуждает однополую любовь мужчин.
Отношение «простых» мусульман к геям было сложней. У Авиценны целый том посвящен «любовным» болезням, мужеложство названо болезнью, которую можно лечить плетьми, как и прочие сумасшествия, но нигде не говорится о грехе, более того, моральному осуждению подлежит сношение взрослых мужчин, но не любовь к мальчикам.
По иронии судьбы, именно исламский Магриб стал во второй половине 19 века Меккой для белых геев:
«Арабские мальчики и их родители находили такие отношения почетными и выгодными. Эта свобода нравов создала у многих европейских интеллектуалов ложные представления о «сексуальной терпимости» ислама. На самом деле мальчишеская проституция расцветала в бедных слоях общества, богатые и знатные люди не проституировали своих сыновей. Кроме того, в мусульманском мире строго различались возрастные и гендерные роли. Мужчина может спать с мальчиками, но не должен выполнять рецептивную роль» (И. Кон, с. 130 — 131).
А между тем, речь шла отнюдь не только о простодушной курортной проституции! Традиция однополой любви в мусульманском мире была сложнее и глубже. Еще в средневековом Иране расцветает настоящий культ однополой любви, аристократический и рафинированный, оставивший ясный след в персидской поэзии и миниатюре.
Отзвуки всего этого, вероятно, и вдохновили в начале 20-го века представителей петербургской богемы, которые создали на «Башне» Вяч. Иванова общество друзей Гафиза.
Впрочем, все эти факты достаточно известны. Поговорим здесь о тех, что известны менее.
*
Итак, знакомьтесь: Александр Николаев (1897 — 1957), основоположник современной узбекской живописи. В прошлом году исполнилось 110 лет со дня его рождения и 50 лет со дня смерти. Его удивительная и трагическая жизнь – тема этих заметок.
В 1919 году одаренный юноша Саша Николаев переезжает из родного Воронежа в Москву, где становится учеником Казимира Малевича. Однако его штудии продолжаются недолго.
В 1920 году Николаева мобилизуют в Красную Армию, да еще политруком, явно за грамотность и умение писать плакатным шрифтом.
После Гражданской Николаева направляют в далекий Туркестан, для «укрепления и развития культуры и искусства в Средней Азии».
И вот с тощим вещевым мешком, главная ценность которого — краски и кисти, Александр Николаев стоит на базарной площади в Самарканде.
Глаз художника ослеплен буйством красок и вакханалией звуков под ослепительно-беспощадным солнцем.
Николаев делает первые шаги по земле, не подозревая еще, что она станет для него родной.
Здесь, в Самарканде, позавчерашний супрематист и вчерашний политрук встречает свою судьбу, — творческую и личную. Он становится членом кружка русских художников, который возглавлял Даниил Степанов, аристократ, спасавшийся в этой глубинке от преследований ЧК.
Степанов — поклонник мастеров раннего Ренессанса, художественное образование он получил в Италии. Николаев подпадает под его влияние, навсегда порывает с абстракционизмом и возвращается к элегантной стилизующей манере художников «Мира искусства» и «Голубой розы». В своих произведениях он парадоксально сочетает утонченную декоративность иранской миниатюры эпохи Сефевидов и Каджаров с юной одухотворенностью образов Мантеньи и Боттичелли.
Основной темой его произведений становится жизнь и быт тех самых бачей, с которыми русского зрителя первым познакомил В. Верещагин.
И, прежде чем продолжить повествование о художнике, сделаем необходимое отступление в духе couleur locale.
Без бачей не обходилось ни одно из праздничных мероприятий, их можно было увидеть в уважающих себя духанах, где танцоры развлекали посетителей своими зажигательными танцами.
Непривычные для европейского уха ритмы, юные красавцы, потрясающе музыкальные, гибкие, в черных глазах которых можно было утонуть…
Увы, реальность была не столь пряно празднична. На самом деле бачи – выходцы из бедных крестьянских семей, которых отцы отправляли в город на «вольные хлеба», то есть выживешь – «слава Аллаху», не выживешь – «на все воля Аллаха».
Их танцы – тяжелый хлеб, который могли заработать не все, отсев в этом экзамене жизни был жестким. Понравившимся бача в карманы халатов совали деньги, непонравившихся прогоняли, — недовольные зрители могли и палками побить.
Были ли танцоры проститутками? Необязательно, хотя кому как везло. Получить богатого покровителя – мечта многих. Местные богатеи могли позволить себе роскошь иметь мальчиковые гаремы. Потому и русские, казавшиеся богачами, интерес представляли…
*
Николаев глубоко погружается в этот мир, для него тайники самаркандской жизни — не только источник эстетических или эротических впечатлений, как для Степанова или знаменитого Кузьмы Петрова-Водкина, который провел здесь несколько месяцев в 1921 году.
Со временем почти весь кружок Степанова эмигрирует в Италию, — а Николаев не только останется, но и перейдет в ислам, примет имя усто Мумин («смиренный мастер»). Он станет уважаемым основоположником новой узбекской живописи и в то же время подвергнется нападкам со стороны ортодоксов ислама, осуждавших бачизм, — то явную, то зашифрованную тему всех работ усто Мумина. Разносам за «несоветскую» тему подвергнет Николаева и официальная художественная критика.
Правда, в относительно свободные 20-е гг. Николаев творит еще вполне открыто. По иронии судьбы, его картина «Дружба, любовь, вечность» (1928 г.) стала для нескольких поколений советских художников Средней Азии чем-то вроде «Моны Лизы». Перепевами главного шедевра Николаева полнятся их полотна на тему колхозной привольно-обильной жизни. А ведь тема картины Николаева — заключение брака («никох») двух бачей!
Вообще по наблюдению исследователя (Б. Чуховича), произведения усто Мумина — «не собрание картин на заданную тему, но связный рассказ о любви и смерти некой четы бачей» («Ностальгия» .2007, № 4, с. 41).
В суровые 30-е гг. усто Мумин пытается встроиться в систему сталинского «ампира». Ему, в числе лучших узбекских художников, поручается оформить павильон УзССР на ВДНХ. Однако «феодальный эротизм» 20-х ему не забыли. В 1938 году Николаев отправлен в места не столь отдаленные. Но сложный авантюрный сюжет его жизни продолжился неожиданным образом. В начале 40-х он возвращается в Узбекистан и занимает один из руководящих постов в Союзе художников УзССР.
Поговаривали, что новым взлетом усто обязан сотрудничеству с НКВД, — во всяком случае, собеседникам он прямо намекал, чтобы при нем лишнего не болтали.
Увы, жизнь была сломана. Плодотворного сотрудничества с «органами» не получилось, — есть сведения, что усто Мумин был арестован вторично. За этот арест он расплатился долгой душевной болезнью и умер в 1957 году.
Судьба художника, нередкая в 20 веке…
Исследователи находят в его творчестве все новые смысловые и эстетические коды, видят в нем одного из предтеч постмодернизма. А жизненная подоплека его главных картин столь же очевидна, сколь и навсегда (вероятно) скрыта в своей житейской конкретике от потомков.


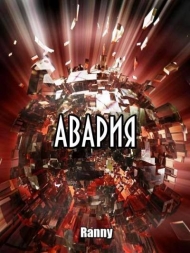
2 комментария