Владимир Худенко
Ветер стремится вослед поездам
Аннотация
Действие романа происходит в наши дни в маленьком провинциальном городке на севере Украины. Главные герои произведения – молодые люди Владислава, Богдан и Илья, объединенные любовью друг к другу. Они преодолевают трудный путь становления личности и поисков смысла жизни, прежде чем обретают гармонию во взаимоотношениях между собой и равновесие с окружающим миром. Начавшееся полномасштабное вторжение России в Украину привносит в их жизнь новые тревоги и опасности, но не может разрушить возникшую между ними алхимию любви.
Действие романа происходит в наши дни в маленьком провинциальном городке на севере Украины. Главные герои произведения – молодые люди Владислава, Богдан и Илья, объединенные любовью друг к другу. Они преодолевают трудный путь становления личности и поисков смысла жизни, прежде чем обретают гармонию во взаимоотношениях между собой и равновесие с окружающим миром. Начавшееся полномасштабное вторжение России в Украину привносит в их жизнь новые тревоги и опасности, но не может разрушить возникшую между ними алхимию любви.
 I
IВлада хочет, чтобы я об этом рассказал, и я попробую. Я долго не соглашался, потому что я никакой не писатель. Ну, то есть ладно – я пописываю фанфики по популярным компьютерным играм. Это такое хобби, ни на что не претендующее, я тупо играю в какую-то игру и че-то там придумываю – как бы я это улучшил и дополнил и т. д. Влада говорит, что это основа всякого творчества и это очень классно и т. д., но я думаю, что она просто снисходительно выделывается передо мной. И мне это нравится, чтоб вы знали. Потому что Влада – гениальный писатель. И это не рофл, и если вы щас улыбаетесь, то прекращайте, я серьезно. Если я в чем-то в этой жизни абсолютно уверен, так это в том, что Влада гений. Я за это ее люблю. Ну, то есть – не только за это, но это сложно объяснить. Держу пари – вы даже не представляете, какой это кайф – быть вместе с абсолютно гениальной девочкой. Ну, просто говорить с ней, целоваться, спать с ней, я не знаю, как вам объяснить. Быть с нею рядом, понимаете? Я просто схожу с ума, когда вижу ее, когда слышу ее, прикасаюсь к ней. Мы как-то с Ильей обсуждали, что нам в ней больше всего нравится, при ней, естественно. Короче, это было так: она как раз вернулась с книжной ярмарки во Львове, мы не ездили с ней, потому что, во-первых, она там была с целой делегацией от издательства (у нее был референт, чтобы вы понимали), а во-вторых – я был в больничке, а Илья меня навещал. Ну, короче, – мы не видели ее недели три, только смотрели пару ее выступлений, и когда она приехала, то мы, короче, мы отымели ее. И если вы думаете, что я преувеличиваю, чтобы похвастать, то вы просто нас троих не знаете, и поверьте на слово – я не преувеличиваю. Между прочим, это Владе нравится выражение «отымели» по отношению к ней, если хотите, я могу сказать несколько романтичней – мы ее отлюбили. Годится? Ну, короче, мизансцена такова – мы лежим на постели вспотевшие – Влада по центру навзничь, я слева, Илья справа, опирается на локоть. Я играюсь с распущенными волосами Влады, они у нее длинные и темно-русые, а после секса спутанные (да, я хватал ее за волосы), короче, – обожаю ее волосы, и я играю с ее волосами, то поглаживая, то шевеля их, Влада смотрит в потолок, глаза полуприкрыты, ну, у нее они всегда полуприкрыты, она выглядит всегда немного сонной, это особенность, связанная с ее ярко выраженной шизоидностью, короче говоря. Ну, вы врубаетесь, насколько я хреновый писатель, да? Что я несу? Ну, пусть эта дура, которая заставила меня это писать, сама теперь посмотрит. Ну, короче, эта дура лежит между нами, ее дыхание становится ровным, и я, видя, что Илья ее рассматривает, начинаю разговор. Я говорю:
- Что тебе в ней больше всего нравится?
Илья смотрит на меня. Влада тоже смотрит на меня, не понимая.
- Что тебе в ней больше всего нравится?
- Алле…
Влада машет своей нежной дланью просто перед моим лицом. Но я ловлю ее за руку и говорю:
- Я не с тобой общаюсь. Замолчи.
На этом я целую ее руку.
- Так что тебе в ней больше всего нравится? – спрашиваю снова у Ильи.
Илья темноволосый, кареглазый. У него очень красивое спортивное тело, особенно классные плечи, хотя он не качок, скорее похож на пловца, он пожимает классными плечами и смотрит на Владу.
- Не знаю. Все.
- А поконкретней?
- Так, хватит говорить обо мне как о вещи! – категорически произносит уже отдышавшаяся Влада.
И не знаю, поняли вы уже или нет, но очевидно, что она ОБОЖАЕТ, когда мы говорим о ней как о вещи в ее присутствии. Что важно – принадлежащей нам вещи.
Я говорю на этом:
- Рот закрой. Вот так.
И пытаюсь соединить ее губы вместе, она смеется негромко, как будто ей щекотно, а Илья произносит:
- Лицо.
- Скажи, красивая! – радуюсь я.
- Да. Очень.
- Мальчики… – жалостливо-сладко протягивает Влада.
И я немедленно осаживаю эту подлую и дико обольстительную ведьму.
- Заткнись. Еще что?
- Богдан, все, хватит, перестаньте.
Мне уже тяжело сдерживаться, чтобы не поцеловать ее (и она это знает), но мне, как обычно, приходит на выручку Илья.
- Влада, серьезно, не базарь – лежи молчи. Так… можно не спеша, да?
- Конечно.
- У нее волосы красивые, приятные на ощупь.
- Вот!
- И запах.
- Запах?
- Да, очень вкусно пахнет почему-то.
Мы оба обожаем ее запах.
- Так, ну, все!
- Она меня достала.
- Погоди… Молчи! Скажи теперь ты…
- Мозг.
- Как?
- Мозг. Я очень люблю ее мозг. Понимаешь? Вот то, что у этого прекрасного существа в башке огромный сложный мозг, рождающий абстракции, которые мы слышим и читаем. Этим она абсолютно меня подчиняет. И я хочу с ней спариться, ты понимаешь, ну, чтоб иметь потомство с ее генами. Согласен?
- Хорошо. Давай.
Илья сделал приглашающий жест рукой, указывая на Владу.
***
Потом она заснула. Иногда она очень долго и крепко спит после секса – мы по очереди ее поцеловали, и получше укрыли, и, одевшись, пошли погулять в заброшенный пионерлагерь, и там разговаривали в основном о ней. Мы обсуждали то, как ее любим, и какая она крашная, я много там чего сказал об ее выдающемся интеллекте, и Илья со мной соглашался. Короче, я хотел тут продолжить о нашем с ней знакомстве, но Влада перечитала кусок выше и, набросившись, начала меня колотить своими нежными ручонками, я хватал эти чудесные ручонки, мы качались по кровати и, понятно, целовались. Нацеловавшись, мы лежали обнявшись, я стал гладить ее волосы, и она посоветовала отложить рассказ о встрече с ней, а начать по порядку – как мы встретились с Ильей. Это будет, по сути, завязка – сказала она. Я в очередной раз предложил ей писать эту историю самой, потому что она гений, но она опять сказала, что у нее творческий кризис и, как она это называет, «минута молчания», и, короче, ей тупо лень. Поэтому она приказывает мне. И если вы думаете, что в моменты, когда она мне ПРИКАЗЫВАЕТ что-то, я не стремлюсь ей подчиняться каждой своей клеточкой и не испытываю что-то близкое к оргазму, то вы ошибаетесь. Короче, моя Влада приказала мне и еще страстно переспросила, как она обычно делает:
- Ты понял меня?
- Да любимая, как скажешь, – говорю я.
И продолжаю свое тупенькое повествование.
Короче говоря, я познакомился с Ильей в 2019 году. Понимаю, насколько банальной в контексте сколько-нибудь художественного произведения будет фраза «произошло случайно», но это все и правда произошло случайно. И я до сих пор не понимаю, как это произошло. Я жил один в нашей с отцом квартире в городе Конотопе, райцентре Сумской области. Я здесь родился и вырос. Буквально в этой квартире. Мой отец уже около десяти лет почти безвылазно пребывал на заработках в Российской Федерации. Он присылал мне кое-какие деньги, но приезжал очень редко, буквально пару раз в год, иногда, правда, раз. Я знаю, что он жил там с новой семьей, хотя он мне и не рассказывал. А я не спрашивал. По сути, меня все устраивало. У меня была небольшая инвалидская пенсия и его деньги, я мог не работать и чилить в компе круглосуточно. Играть в свои любимые игрушки. Этим, в общем, я и занимался. Иногда писал посредственные фанфики по играм. Общение с читателями и другими авторами фанфиков было всем моим общением с внешним миром, ну, ок, иногда еще борды, хотя я там мало общался, все больше тупо скролил. Это смешно звучит в контексте борд, но ощущал ли я в себе какие-то гомосексуальные наклонности до этого? Пожалуй, нет. Пожалуй, меня это мало волновало, просто потому что женщины занимали очень большое место в моем внутреннем мироустройстве. Двум девушкам в своей жизни я сказал «люблю тебя», и первая из них сломала мою жизнь, а вторая чуть-чуть не убила. Как это тупо звучит – уверен, Влада, это прочитав, велит мне переделать эту выспренную формулировочку /@givenbygod: позднейшая вставка: третья девушка, которой я сказал люблю, то бишь Влада, прочитав это, обняла меня и сказала, что безумно меня любит, о Господи, Владочка, я тебя тоже!!/ Но я продолжу, я хочу сказать, что девушки занимали слишком большое место в моей жизни, хотя мне, мягко говоря, не очень-то везло с ними. Короче, за год перед тем мой бывший одноклассник познакомил меня с девушкой – подругой своей жены. Безусловно, они попытались представить это как случайность, но это не было случайностью, его жена предложила сходить в кафе, а там типа случайно встретила эту девушку. Ну, короче, они пытались меня сосватать – этот одноклассник был одним из немногих, кого я в городе мог назвать приятелем, да и вообще. Короче, это была вторая девушка, вы все уже поняли, думаю. Да, я настолько идиот, что влюбился в нее довольно быстро и присел к ней на скамейку запасных. Там вообще была забавная история, но я не хочу углубляться – оказалось, что она вообще через меня хотела подбить клинья именно к моему однокласснику, ну, он был красавчик и бабский любимчик вообще. Она была безраздельно вытрескана в него, а я в нее, короче. И надо ли говорить, что, видя это, я все равно, урод, признался ей в любви. Ненавижу себя. //@givenbygod: Влада сказала, чтобы я это вычеркнул, но я пока не буду. Я люблю тебя, Владочка/ Я абсолютно четко понимал, что она со мной играет, я даже перестал общаться с ней на некоторое время (естественно, она стала звонить, играя в ближе-дальше). Но, тем не менее, я втюрился в нее до такой степени, что решил расставить все точки над і (какой дурак) /сотру/ и накатал ей признание, оно было реально трогательным, насколько меня хватило. Нельзя сказать, что она посмеялась или еще что-то, короче, тактично ответила «нет». Я провалился в угарную депру месяца на два как минимум, хватило ума хотя бы вкинуть в ЧС все ее контакты, закрылся в себе. Поначалу подбухивал, но уже как в юности не получалось. Я думал, что сдохну. Но со временем как-то… Ну, вот мы общались с ней месяца два – через месяца два и стало отпускать. Я решил себя побаловать и осуществил давнюю мечту – попросил у отца денег и, добавив к отложенным, прикупил нормальный игровой комп. С этого компа все и началось. Где-то через полгода я неудачно его почистил. Это было ожидаемо, потому что, несмотря на многолетнее пользование, техника меня всегда боялась, и это было взаимно. Я вроде сделал все как надо, по видеоинструкции с ютуба и т. д., и до сих пор не понимаю, где я налажал. Короче, я отсоединил и почистил блок питания, но как-то не так все подсоединил, короче говоря – комп перестал включаться. Мне пришлось опять позвонить тому однокласснику, и он посоветовал мне мастера. Его жена, точнее, посоветовала. Короче – это и был Илья. Забегая наперед – Илья жил в Конотопе несколько лет в квартире покойной бабушки. Он был из Горловки, его родители погибли там в пятнадцатом году. Он нигде не учился, но имел золотые руки и устроился в сервис по ремонту телефонов и компьютеров, подрабатывал и на дому. Отзывы были очень хорошие. Впрочем, он до сих пор путался в городе, и мне пришлось выйти в центр, чтобы встретить его. Понравился ли он мне с самого начала? Пожалуй, да, но я не придал этому значения. Мне мог чисто эстетически понравиться парень, зачастую это чувство было как-то совмещено с нотой зависти и не более того. Я мог полюбоваться парнем, что такого? В конце концов, я и девушками-то любовался, в основном, даже не думая, чтоб как-то подойти и познакомиться или что-то в этом роде. Это было не для меня. Ну, я подумал что-то в духе – наверное, этому парню не сложно подойти и познакомиться с понравившейся девушкой, вот мне бы так. По сравнению с Ильей я более хлипкий, передвигаюсь с тростью, но даже не в тросточке проклятой дело. Я, может быть, был не урод в средней школе, но сейчас у меня паралич лицевого нерва вкупе со сломанной скулой, которую отлично видно, скажем так. Да, у меня подвижна одна половина лица, и это далеко не так мило в реале, как мало что описывающая фраза «улыбается одним уголком рта». Передо мной же стоял парень с развитым спортивным телом, смугловатый, с густыми черными волосами, короткой щетиной, аристократическими чертами лица. Но вот какая деталь: не знаю, может, я уже постфактум вспоминаю, но, в отличие от других привлекательных парней, он почему-то не вызывал у меня едва уловимого отторжения, только легкую зависть. От него, казалось, не исходило вот этих флюидов самца бабуина, нонстопом ищущего взглядом то фертильных самок, то возможных конкурентов. Ну, если вы понимаете, о чем я. Так вот, я почему-то чувствовал себя с ним легко и пожалуй что даже уютно. В этом и причина дальнейших событий. Короче, идя к ко мне, мы разговорились. Оказалось, он тоже был фанатом диаблоидов, и меня понесло. Влада говорит, что я становлюсь чертовски привлекательным, когда увлеченно рассказываю о чем-то интересном мне (она вот эту фразу подчеркнула, хах). Не знаю, так ли это на самом деле, но я действительно разговорился, мы пришли ко мне, и Илья так увлеченно слушал, что забыл про комп, мне ничего не оставалось, как предложить ему чаю, потом мы курили на балконе, потом он занялся компом, на самом деле там не было ничего сложного, он подчистил контакты, а потом объяснил мне, как чистить от пыли, похвалил систему, предложил докинуть планку памяти как-то потом, потом мы вновь курили на балконе. Короче, мы с Ильей поцеловались. Сам не знаю, как это произошло, но это произошло просто и естественно, как бы одновременно, нам одновременно захотелось поцеловать друг друга. Не знаю, почему у меня так никогда не получалось с девушками (с Владой получалось, вру, но это было позже). Понравилось ли мне все то, что случилось потом? Да, понравилось. Но, впрочем, это не то слово. Все было как во сне, вы понимаете? Я понимаю, как это тупо звучит, но это было именно так. Я вряд ли понимал, что происходит, но это был приятный сон, знаете, когда ты просыпаешься отдохнувший и бодрый. Я как бы чувствовал себя… желанным? Желанным, защищенным и свободным. Не знаю почему, но именно свободным. Я не должен был ничего никому доказывать, не должен был ничему соответствовать, я был, и все. Понимаете – и этого оказалось достаточно. Стоя под душем в этом до сих пор околотрансовом состоянии (я мало говорил, и Илью, кажется, это немного встревожило), я вдруг как бы проснулся и только тогда осознал, насколько это было потрясающе. Это было какое-то отложенное удовольствие, казалось, этот транс был вызван тем, что все мои рецепторы зашкаливали от наслаждения, и лишь когда оно немного спало, я смог в полной мере ощутить его. Я разрыдался. Не знаю, сколько я рыдал тогда под душем, но Илья зашел ко мне, выключил воду, обнимал и успокаивал меня. Он помогал мне вытереться и одеться. На меня опять накатили остатки этого транса, и единственная мысль крутилась – я не знал, как дальше должны развиваться события. Типа – он должен пожелать мне доброй ночи и уйти? Оставить номер? (Стоп, у меня ведь есть его номер) Может, я должен оставить ему свой? (Но я же звонил ему). Что? Может, опять предложить ему чай? Может быть, предложить ему есть? И в этот момент Илья пригласил меня на свидание. Меня впервые в жизни пригласили на свидание. Ну, то есть, серьезно – мы пошли в кафе. Ну, и не то чтобы мы прямо там обжимались, но он ухаживал за мной, насколько это было возможно в формате двух гетеронормативных парней в провинциальном кафе, хах. И я пытался отвечать ему взаимностью. А еще мы говорили. Говорили и говорили. Об играх, о жизни, обо всем на свете. Мы заночевали у него.
***
Словом, у нас начался роман. И это время было, пожалуй, самым счастливый в моей жизни. С детства являясь сугубым интровертом, я даже не мог предположить, что отношения с другим человеком настолько захватят меня, не говоря о том, что я даже не думал, что когда-либо смогу влюбиться в парня, но это случилось. И удивительней всего, как это просто получилось и как в дальнейшем все ПРОСТО происходило. Мы жили то у меня, то у него, целое лето, играли в эти долбаные игры, у него была прошка плейстейшн, и он с трудом, но приучил меня к геймпаду, которые я раньше презирал, хаха, а я приучил его к нормальной хавке, я вообще часто готовил в это время, потому что ну сколько ему надо было еще съесть этих ужасных полуфабрикатов, чтобы наконец заработать гастрит? Его забитый полуфабрикатами холодильник, его коробки с неиспользуемыми корпусами от системных блоков, эти гадские паяльники и щетки, это чувство обожания, которое я даже не пытался скрыть и которое возвращалось ко мне сторицей. Почему ему было настолько интересно, какие чувства я испытал, впервые спустившись по веревке в кратер на заброшенной базе Вест-Тек в первом фолыче, или что мне напомнили отсеки Ишимуры, почему я ненавижу Кена Левина и что не так с геймплеем Изоляции? Что такого в этой бесполезной информации и почему он с таким интересом выслушивал всю эту чушь? Зачем он говорил мне, что паралич лицевого нерва — это скорее прикольно, чем страшно? Почему он возбуждался, глядя на меня, и почему я терял голову от этого? Это все было неважно, понимаете? Я, кажется, впервые ощутил себя живым. И даже не особо обращал внимание на робкие попытки Ильи меня хоть немного социализировать. Сначала мы ходили в кино, пару раз даже ездили в Сумы. В Сумах мне неожиданно понравилось, особенно когда мы ехали домой автобусом и обсуждали этот фильм, это был, по-моему, тот дурацкий хоррор Джордана Пила о спятивших двойниках всего населения Соединенных Штатов, и я много говорил о том, насколько это тупо, но в то же время трогательно, а еще о том, почему Пил конъюнктурщик, почему я кринжую от его дебютного хоррора, а еще почему (я не помню, как на это вышло) единственный смотрибельный фильм Триера – это прошлогодний «Дом». За окном было темно, и мертвые поля сменялись огоньками захолустных ПГТ – это было так грустно, но я почему-то был счастлив. Потом на вокзале несколько подвыпивших типов пристали к нам на предмет закурить или мелочи, я уж не помню, и Илья умело их спровадил парой по сути ничего не значащих фраз и тяжелым взглядом, он умел это делать, – я не знаю, это от природы у него или нахватанность, я не особо расспрашивал о его детстве в Горловке и т. д., но удивляло меня больше остального совершенное отсутствие любой тревоги у себя по отношению к нему. Он не казался мне не то что опасным, я даже слегка не смущался ни разу при нем, удивительно. Ну, короче говоря, – Илья потихоньку вытаскивал меня на всякие мероприятия. Сначала на кино, потом на пару музыкальных фестивалей в Конотопе, и вот перед самым карантином случились событие, я даже щас вспомню… а, ну да – я прочитал новость. Кто-то из знакомых сумчан перепостил, что в Сумы приезжает Влада Абрамова, там было, кстати, дико пафосное объявление, как будто о какой-то знаменитости, о новых жанрах… Я, кроме фанфиков, не особо что читал, и меня удивило, что типа серьезная литературка еще так хорохорится, тем более у нас в глухомани. Ну, я саркастически так это процитировал Илье, а он вдруг оторвался от своих железок и переспросил, типа:
- Что, Абрамова? В Сумах? Та не гони…
- А кто это? – я рили был удивлен.
А он достал из бабушкиного шкафа книжку в яркой мягкой обложке, очень аляповатой, под стать какому-то дурацкому боевичку, мне почему-то это напомнило зомби-режим из «колды». Книжка называлась «Гнилые туманы», прикиньте? //@givenbygod: Влада дралась опять, это читая, я обожаю ее, обожаю, всегда обожал/ Ну, там реально был изображен полусгнивший нацистский солдат, разевающий пасть.
- Это что? – спросил я, открыв титульную страницу, книжка была весьма затяганная, кстати.
Я пробежал по аннотации.
- Серьезно? В Украину, наконец, дошла мода на мэшап-литературу почти десятилетней давности? Ну, Сэт Грэм-Смит, вот это все говно с двухтысячных, серьезно? Зомби-нацисты Второй мировой?
Я открыл первую страницу, и со мной происходило самое паскудное, что может происходить с самоуверенным ублюдком – у меня подспудно возник интерес. Я увидел стилизованный документ, которым предварялась первая глава, затем следовал абзац-вступление с красочным описанием туманистого болота осенью сорок первого года, и это описание было настолько круто стилизовано под вот эту унылую советскую прозу о войне, при этом она не была унылой – вот в чем фокус. Я понял, что хочу это прочесть.
//@givenbygod: наш диалог с Владой, пока я это писал:
- Напомни, плиз, под что ты подделывала вот этот дивный слог в «Туманах».
- Дивный? Шо за лексика?
- Не умничай! Ну?
- Есть такая книжка «Семья Рубанюк» лауреата сталинской премии Евгения Поповкина – вот эту книжку я пыталась пародировать сначала, но оно потом совсем в другую сторону пошло. А по языку – это Солж и поздний Шолохов немного, так.
- Откуда ты всю эту херню берешь?
- Ну, в смысле?
- Поповкина этого.
- Как – ну, читала.
- Ты просто отпадная!
- Не отвлекайся./
- Это старая книга, – сказал Илья, – еще пятнадцатого года. Мне очень нравится, читал ее, когда переехал сюда, и сейчас иногда перечитываю. А нашел случайно, в Харькове мне один беженец оставил тупо почитать, ну, на вокзале.
- Серьезно? Зомби-мертвецы?
- Там суть не в том, – задумчиво произнес Илья. – Я потом интересовался – она не была на войне, у нее родители богатые, она вообще за границей училась, но вот она так пишет, будто была на войне, понимаешь? Там есть место…. Та куча таких мест, что я вот именно…. Ну, помню такие ощущения, понимаешь?
Надо ли говорить, что я был ошарашен – это вообще чуть ли не первый наш с ним продолжительный разговор о его донецком прошлом.
- Вообще там понятно, что она не о зомби пишет и не о сорок первом, а про нынешнюю войну, оно специально там подсвечено. Но в том там и прикол, что остается главное – вот эти ощущения, а не политика там. Или новости какие. Ну, хайп.
Илья вроде смутился. Но меня уже это заинтересовало. Неожиданно сам для себя я предложил:
- Так, может, съездим?
- Ну… – Илья пожал красивыми плечами. – Почитай книжку. Мне интересно – что ты об этом думаешь?
Я прочел ее за ночь. Утром, когда Илья проснулся, мы курили на балконе, и я сказал:
- Она талантливая. Я не ожидал.
Илья обрадовался, а потом опять смутился.
- Посмотри, есть пара выступлений на ютубе. Она такая, знаешь, необычная.
Меня это все больше интересовало. Забегая наперед – ревновал ли я? Нет, как ни странно, ни разу. Это было частью как бы нашего романа, понимаете? Илья как бы вновь открывал мне что-то интересное. И эта девушка определенно была интересна. Я посмотрел ее на видео и понял, что мы поедем в Сумы посмотреть на нее вживую. Но перед тем я спросил Илью без обиняков:
- Она тебе нравится?
Вот тут он дико засмущался и стал оправдываться – это было мило.
- Ну, просто интересно, она необычная. Ну, типа, пишет интересно, и вообще. Я не в том смысле.
Мне почему-то не хотелось его мучить.
- Мне тоже нравится, забей. Давай попробуем с ней познакомиться?
Сложно сказать, откуда у меня взялась эта самоуверенность. Думаю, что виноват Илья – это он во мне ее постепенно взрастил. Он смутился, потом удивился, потом как бы заинтересовался, но опять смутился.
- Гонишь. Она знаменитая, знаешь, кто у нее родители…
- Ну и что? Что тут такого? Не получится – пускай.
В общем – мы поехали. И, чтобы долго не томить, скажу – там я влюбился во Владу и под этим впечатлением немедленно составил план. Это было в музее, и людей было не то чтоб сильно много, еще до всего я набил справки и, посталкерив за ней в сети, узнал, что она любит желтые розы, мы купили суперский букет, и я сказал Илье:
- Вручишь ей букет и скажешь пару слов, не много, но надо, чтобы она посмотрела на тебя, не просто книжку подписала.
- Зачем?
- У меня план созрел, я потом объясню.
- Да, а что говорить?
- Расскажи то, что мне, про войну. Только коротко. И вот еще что.
Я расстегнул ему одну пуговицу на рубашке, откинул со лба локон.
- Так нормально. Запомни – букет, автограф, пару слов, пока будет писать.
План сработал – она его запомнила. Ну, я не сомневался, я знал, что Илья притягателен не только для меня. Далеко не только для меня. Я видел, как на него смотрят девушки (особенно прикольно было, когда девушки стреляли в него глазками, а он влюбленно смотрел на меня, хаха). Мне надо было, чтобы она его запомнила и заинтересовалась, и, выждав какое-то время, я ей написал в инстаграме с его акка. Его я в подробности не посвящал, просил мне довериться. Когда мы разговорились, я читал ему кое-какие куски, но сам даже сменил пароль, чтобы он пока не видел нашей переписки с Владой. Да он и так весь извелся, еще поминутно интересуясь, не ревную ли я все-таки.
- Я ж с ней общаюсь, остолоп! Расслабься.
Я показал ему переписку, лишь когда мы договорились с Владой созвониться. Чтобы долго не расписывать, скажу, что мне пригодился в этом случае богатый опыт общения на фанфик-сайтах. Ну, короче, он ей позвонил. И, дурень, тут же растрепал ей обо мне, вы представляете? Ну, не при мне, понятно, я тактично вышел погулять. Но больше всего меня удивило, что Влада нормально к этому отнеслась. А с этой истории про аккаунт даже искренне поржала, по его словам.
- Нахуя ты сказал? А если она гомофобка?
Я не то чтобы рофлил, хотя сам заржал. Если попытаться объяснить, то у меня вообще сложилось впечатление, что большинство гомофобов – женщины. Ну, так, по крайней мере, мне казалось по сети. Не удивляйтесь, я не отрицаю изрядного количества гомофобных мужчин, но мне почему-то кажется, что именно воинственных, везде свой хейт-спич демонстрирующих, может, там процентов десять, ну, там «сжигать сердца гомосексуалистов», тыры-пыры. Таких на самом деле не так много. И можете сколько угодно считать это затасканным, но мне в ихних хейт-спичах всегда видна какая-то латентность. Основная же масса, конечно, заявляет о своем неприятии подобного контекста, но это у них получается как-то дежурно, как в песне Мамонова, знаете: «Я делаю пустые глаза и на каждый вопрос отвечаю ЗА». Ну, то есть, они дежурно заявляют о всецелой поддержке линии партии, но в целом, кажется, им все равно. А вот женщины не – они прям брызжут ядом, и в этом всем видно то ли плохо скрываемое, то ли вовсе нескрываемое мужененавистничество. Вот эти все тейки про «такое носят только гомики», «не по-мужски», «фу, пидарство», «мужчин-бисексуалов не бывает», «я сама бисексуалка, но своего МЧ не представляю – я бы сразу развелась», и т. д., и т. п. – ну, что это такое, как не мизандрия? Конечно, есть другие женщины, есть даже те, кому безумно доставляет всякий гомоэротизм мужской, но, по моим ощущениям, таких от общей популяции процентов двадцать максимум, скорее меньше. И все они сидят в загонах типа «яой», «шиппинг», ну, может быть, «интерсек фем», но это спорно. Мне такие девочки всегда казались самыми нормальными, а гомофобных бычек я терпеть не мог задолго до встречи с Ильей. Ну, и я вполне мог ожидать, что Влада такая, знаете, такое есть и у многих типа прогрессивных – в теории как бы за все хорошее, но на деле – «мне неприятны гомики, но это мое личное мнение – что тут такого». Ну, блин, короче, «стрелочка» и вся херня.
И тут Илья сказал:
- Я читал книжку. Новую.
Да, новая книжка в зелененькой непримечательной обложке. На презе Влада не особо о ней говорила, в основном отвечала на вопросы, а они были о предыдущей. В общем, как оказалось, выход новой книжки был для всех таким сюрпризом, Илья все эти дни не отрывался от нее, а я был занят перепиской и деликатно обходил пару вопросов Влады в духе: «Ну, как впечатления?»
- И че там? – не понял я.
- Там о двух парнях, любовниках.
- Серьезно?
Я аж прифигел. Не может быть. Ну, надо ли говорить, что я отнял книжку у Ильи и, пока они там себе общались по видео и телефону, зачитывался. Эта книжка называлась «Лето Господне», что, как мне позже объяснила Влада, было злой аллюзией на русского философа Шмелева. Сама книжка была поменьше, и вообще такая очень кинематографичная, там было много действия. Она была о восемнадцатом веке и, как я потом узнал из интернета, – основана на реальной истории о жестокой банде, орудовавшей в глухих местах Гетманщины. Это были реально маньяки, грабившие и убивавшие ни в чем не повинных людей, казалось, не столько из корысти, сколько из одного неимоверного садизма. Но Владин роман соответствовал реальной истории лишь частично, там уже трудно было узнать мэшап, стилистика была совсем другой. Очень гоголевский язык с кучей украинизмов, а сама история в духе жестокого вестерна Кормака Маккарти. Там эта банда была поначалу обычным сборищем пьянчуг, они вначале просто грабили ночами всякие плохо запертые погреба и т. д., избили ночью на дороге какого-то тоже пьяного возницу. Отобрали воз, самого бросили – его загрызли волки, но это типа получилось почти что случайно. Очень точно воссозданный быт, антураж тех времен подкупал и затягивал, оно все поначалу развивалось медленно, в таком, ну, пасторальном духе, «Вечера на хуторе близ Диканьки», короче, былая казацкая слава и песни, галушки, горилка, попы, есаулы, погожие дни в Малороссии. Был легкий налет мистики, почти неуловимый, то крик совы в глухой ночи, то кошка черная, такое. Но это затягивало, ты вяз в этом, как будто в меду, и вот в какой-то миг был резкий довольно переход. Когда вот того пьяного загрызли волки – ты понимал, читая, что это уже какое-то ту матч, и нифига не весело, и члены этой шайки тоже это понимали, они даже разошлись поначалу, и на какое-то время все успокоилось. И вот в это время появляется новый персонаж. К одному из этой шайки приезжает бывший запорожец, как бы в гости к его жене, которая типа его сестра, но потом оказывается, что вряд ли они вообще родственники, и… короче, этот запорожец очень богато одет и сыплет деньгами, а сам даже контрастирует с этим образом – он такой тихий, спокойный, стеснительный. А у этого хозяина есть наймит, совсем юный парень, потерявший родителей. И вот этот запорожец постепенно с ним сближается, учит его уму-разуму. И постепенно становится понятно, что с этим запорожцем что-то не так, причем во всех возможных смыслах. Повествование становится все более зловещим. Этот бывший запорожец со временем вливается в их банду и постепенно совращает их. Читателю становится понятно, что он не только искусный манипулятор, но и очевидный шизоидный психопат – там очень точно воссоздано психологически и психиатрически. Более того – он владеет каким-то знанием, позволяющим банде постоянно оставаться безнаказанными, все считают его характерником. И становится виден некий подспудный гомосексуальный элемент в отношениях этого парня и этого запорожца – там нет никаких соитий, даже не особо там прикосновений, оно такое все полунамеками, метафорически. При этом банда постепенно звереет, а колдовские ритуалы запорожца приобретают откровенно сатанинские черты. И в какой-то момент этот парень как будто очнулся, когда наступила совсем уже дичь с изнасилованием и убийством беременной и нерожденного ребенка, этот парень как бы приходит в себя, конфликтует с этим характерником, они дерутся на саблях, и парень с огромным трудом убивает его и уходит из банды, а в это время на Правобережной Украине начинает разгораться гайдамацкое восстание – этим заканчивается книжка. И сказать, что я был поражен, – ничего не сказать. Я вышел и бродил вечерним городом в одиночку, опираясь на свою трость, и много курил. Я думал только о Владе, я постоянно вспоминал ее сонный взгляд, ее русые длинны волосы и шепелявость. И я вдруг понял, что ничего так в жизни не хотел, как переспать с ней. Взять ее и в то же время ей отдаться. Стояла унылая поздняя осень. Я бродил по городу, подолгу останавливаясь и глядя в телефон. Я ничего там не смотрел – только заставку. Я перед тем поставил на заставку фотографию Влады, самую обычную, где она стоит возле цветущей акации в пальто и джинсах скинни, с распущенными волосами. Ну, самая бычья фотка девушки под деревом, крч, но я специально ее выбрал именно из-за ее обычности, и вот стоял, смотрел и думал, что если эта история чем-то закончится, я близко познакомлюсь с этой девушкой, то обязательно когда-то скажу ей, что ненавижу ее за то, что она сделала со мной. Так вот. Как ни странно, этот день настал, и я говорю тебе, Влада, – я ненавижу тебя за то, что ты стала главным смыслом моей жизни. И еще. Ты безумно красивая.
***
Я немного отвлекся от писанины на целый день, потому что Влада прочитала предыдущий кусок, и мы с ней провели почти весь день, не вылезая из постели. Потом уже вечером мы пошли в город поужинать, и я показал ей то место в парке, где я особенно долго стоял и смотрел на нее под акацией – там мы просто стояли какое-то время, обнявшись. Она фоткала нас и сказала, что мы обязательно должны поехать в Киев весной и сфоткаться точно на том месте под этой цветущей акацией, она сказала, что попытается одеться точно так же, сделать точно такую же прическу и макияж и даже стать примерно в ту же позу, только рядом с ней теперь буду стоять я, и она обнимет меня, а Илья сфоткает нас с точно такого же ракурса.
Но я попытаюсь продолжить. Короче. Я пришел назад к Илье, и он в коридоре помог мне раздеться, я был немного заторможенный, как и тогда, после нашего с ним первого раза, и он меня спросил:
- Ну, как ты?
- Я в шоке, она потрясающая, – сказал я как есть.
- Она зовет нас на свидание, – ответил он просто.
Как будто это было что-то само собой разумеющееся.
- Что? – не понял я, застыв на месте. – Это как?
- Ну, вот так. Предлагает нам приехать в Киев.
- Подожди… ты что ей говорил?
- Ну, что она нам нравится. Обоим.
- Ты… зачем?
- А почему бы нет? – пожал плечами он.
Ну какие прекрасные плечи.
- Она сказала – это очень романтично. Сказала – может, сходим вместе на свидание.
- Так и сказала? Блядь, пиздец.
Он засмеялся и пошевелил мне волосы, потом погладил по плечу.
Дальше я попытаюсь кратко, потому что наше знакомство, и мое с Ильей, и наше потом с Владой как бы не является темой моего рассказа, оно как бы преамбула оного, хотя без этого и не обойтись.
Короче говоря – поначалу завелся Илья. Это касалось машины. Дело в том, что ни у него, ни у меня автомобиля не было. Я, честно говоря, и позволить себе его не мог со своей инвалидской пенсией и отцовскими перечислениями. А вот Илья, если б хотел, то мог бы и приобрести хотя б подержанную тачку – зарабатывал он неплохо, хотя бы по меркам райцентра. Но дело в том, что мы оба принципиально эти жоповозки ненавидели. Дальше Сум мы не ездили, да и туда-то пару раз всего – лишь по причине отсутствия в Конотопе нормального кинотеатра. Но нам вполне нравилось кататься на автобусах, ну, вру – безусловно, до встречи с Ильей мне было немного дискомфортно в общественном транспорте, впрочем, как и в любом людном месте. Но с Ильей я всегда ощущал себя в безопасности, и эти поездки казались даже романтичными.
О тачке же не заходило даже речи, по городу мы предпочитали вообще гулять пешком, спешить нам было в основном некуда. Да и вообще нам неприятен был весь этот культ тачил со всей сопутствующей ему атрибутикой, начиная от серии ГТА и заканчивая Форсажами вкупе с Вином Дизелем и прочим шлаком. Короче говоря, мы не любили тачки, и тема отсутствия у нас машины поднялась единожды – после того как Влада пригласила нас в столицу. Как я и говорил – завелся Илья. Он вдруг мне заявил, что мы никак не можем ехать в Киев электричкой, потому что это… Так нельзя – сказал он мне буквально.
- Почему нельзя?
- Ну, потому что.
- Ты можешь объяснить по-человечески?
- Ну, как… она ведь девушка.
- И что?
- Ну, как… мы что – приедем к ней на электричке?
- Слышишь, ты ко мне вообще пешком пришел – мне уже начинать ревновать?
- Перестань. Блин, ну, я не об этом, Богдан.
Я улыбнулся.
- Что?
- Ну, я не знаю.
Илья выглядел очень озадаченным, стоя там же, в коридоре, он несколько раз обернулся вокруг своей оси – он всегда непроизвольно делал так, обдумывая что-то. Я же повернулся к зеркалу и пригладил взвившуюся копну волос, вгляделся в свое отражение.
- Я могу взять тачку у кого-то на работе… – вдруг выдал Илья.
- Когда ты последний раз садился за руль? – спросил я механически, так и вглядываясь в свое отражение.
- Ну… – он замялся.
- Когда?
- Ну, где-то полгода назад.
- Ты сдавал вождение до нашего знакомства – больше ты не ездил за рулем.
- Ну почему, мы ездили на пикник всем магазином, я еще не пил специально, чтобы отвезти домой семь человек.
- Вот что, – меня это достало. – Никуда я с тобой за рулем не поеду. И вообще, у меня появилась идея. Ты поедешь один.
- Что-что?
Он не сразу допер, видно, думал о тачке.
- Ты поедешь один.
- То есть, в смысле – один?
- Ну, один.
Я повернулся к нему.
- Почему?
- Ну, что тебе не ясно – ты поедешь… я, конечно, все же против тачки, по-моему, это херовая идея, но если ты поедешь поездом, то, так и быть, я помогу тебе собраться, даже, если хочешь, подберу тебе одежду и парфюм, – я неловко улыбнулся. – Тебе надо постричься.
Я любовно провел тыльной стороной ладони по его щеке.
- И вот это тоже не годится – пусть там и побреют, а то я тебя знаю – будешь там кровавыми порезами сверкать.
Я вновь неловко улыбнулся. Одним уголком рта.
- Я даже знаю, где купить красивые цветы, которые за полдня не завянут. А то ты сам там стопудово выберешь какой-то веник, да?
Илья смотрел на меня как бы немного рассеянно.
- Ну, че ты на меня смотришь так? – я улыбнулся. – Я проведу тебя на поезд, так и быть. И даже не буду звонить и писать целый день. С тебя за эту щедрость – подробный рассказ о свидании.
Илья молчал и смотрел.
- Можешь даже переспать с ней, если обломится – ну, тут уж обязательно подробнейший рассказ, а лучше фотки или даже видео.
Вот это была совсем тупая шутка, но надо было как-то вырулить, и я еще раз улыбнулся еще шире. Насколько это было возможно при многолетнем параличе лицевого нерва.
Илья спросил:
- Что ты несешь?
Илья спросил это убийственно серьезно – вырулить не получилось. Но не успел я открыть рот, дабы родить очередной искрометный прикол, как Илья затараторил растерянно:
- У тебя планы какие-то – почему ты не говорил? Давай через неделю-две – какая разница… Подожди – ты не ехать боишься опять, а? Слушай – поедем на такси тогда вообще, хорошая идея.
- Илья, давай ты поедешь один, – сказал я серьезно.
- Почему?
Я посмотрел в его растерянные светло-карие глаза. Такие, знаете, как мед. Почему я раньше не отмечал, что у него медовые глаза?
- А почему бы нет?
- Как? Потому, что ты мой парень.
Я вдруг понял, что Илья, возможно, в первый раз так четко обозначил наши отношения. Я пару раз до этого называл его любовником, но скорее игриво, типа «скажу отцу, шо щас живу с любовником, хаха» – ну и все в таком духе. В этом смысле я был более многословен, я, бывало, называл его ненаглядным или милым, но в этом тоже содержалась толика иронии, нет, не издевки, нет, скорее вот игривости.
Но, с другой стороны, инициатива в каких-то решениях или в тех же ласках чаще исходила от него, хотя и не совсем всегда. В конце концов, это он меня впервые повел на свидание. Но он не очень многословный, это правда. И тем не менее, и в этот раз он инициативен – он четко обозначил наши отношения. И вот на этом месте растерялся уже я.
- Богдан, я не пойму. Ты можешь объяснить? Если ты не хочешь – мы не едем, но я… не понимаю.
Он вот редко бывает до такой степени смущен, растерян и взволнован. Если бы вы его лично знали – вы бы поняли, о чем я.
- Я думал, она тебе правда понравилась… Это ж твоя идея, блин?
- Да, она мне понравилась. Правда.
- Так в чем проблема?
- В том, что я урод. Этот ебучий нерв уже не восстановится, а даже если бы восстановился, то ничего бы, ничего вообще не изменилось, кроме боли, потому что лицевые мышцы атрофировались, а еще вот эта трость, – я схватил трость, – без которой я уже с трудом по квартире передвигаюсь, потому что ебаный некроз сустава медленно, но верно прогрессирует. Еще?
Я сделал довольно резкий взмах тростью именно в тот момент, когда Илья сделал полушаг в мою сторону, – это получилось вообще не специально, но Илья остановился, это рили очень тупо выглядело, но я, выходя из себя, не особо вообще отбиваю, что происходит вокруг.
- Я смотрел там на презе на вас – вы такая красивая пара… Я не хочу, не надо…
- Я люблю тебя, – сказал Илья.
Он заключил меня в объятия и страстно целовал, прижал меня к шкафу, и трость выпала из моей руки, я целовал его в ответ и гладил, а потом я отклонился от него, чтобы сказать, что я люблю его, но почему-то, задыхаясь, я сказал совсем другое:
- Ты знаешь, у тебя медовые глаза.
II
Я обожал лежать с ним рядом обнаженным и чувствовать тепло его обнаженного тела. Зачастую я еще и укрывал нас тяжелым одеялом почти с головой и лез к нему в объятья или сам обнимал его. Бывало, мы просто молчали и смотрели в потолок, и я любил в такие минуты едва различимо елозить, ворочаться, дразня Илью – он эту тему выкупил еще с начала и разве что с трудом сдерживал улыбку, тогда я потихоньку начинал его ласкать под одеялом, тоже как бы случайно, ворочаясь, задевал одними кончиками пальцев, то бедро, то торс, и если он опять не реагировал, то я наглел все больше, откровенно лапал или лез в совсем уж недвусмысленные направления. В этой фазе зачастую он наказывал меня – хватал за руки или обнимал за плечи, но даже если нет, то в любом случае возбуждение ему никак не удавалось скрыть, и тогда я, торжествуя, принимался за него. Иногда бывало все наоборот, зачастую, когда я разговаривался и нес какую-то сугубую фигню, совсем забывшись, я мог не замечать его прикосновений в плену своего дурацкого монолога, но жар возбуждения его естества, обжигающий мою голую кожу, всегда и окончательно сводил меня с ума, и я проваливался в свой любовный транс, который отличался от того, первого, тем, что я научился его ОТПУСКАТЬ, не мыслить и не анализировать, всецело доверившись телу и каким-то дремучим и древним конструктам в мозгу. Я реально очень сильно не похож на себя обычного в подобных состояниях. Иногда я шепчу Илье в ушко что-то совсем невообразимое для меня обычного, и это что-то я потом почти не помню, только в общем разве. Пару раз я кричал, это было рили пару раз. Но было. Всегда совсем непроизвольно и совсем уже в беспамятстве – человек так кричит, когда очень болит, невозможно терпеть, но в этом случае я не мог больше терпеть наслаждение, и я кричал, как от боли, за миг до оргазма, а сам оргазм был очень сильный, необычно долгий, и я содрогался в конвульсиях, тихо стонал или что-то шептал. Илья обычно гладил или целовал меня, когда я так валялся. Он признавался, что его это немного пугает, но и, конечно, заводит. Вообще Илья говорит, что я бесподобен в постели. Глупо думать, что я этому верил поначалу, как и в милоту моего парализованного лица. Но он действительно так говорил, я не выдумываю. У него было три девушки до меня. Одна еще в Горловке, в школе, типичный школьный роман, скоротечный и с банальными приколами в духе неумения пользоваться контрацептивами, уж извините. С двумя девушками он встречался уже здесь, в Конотопе. Первая была тоже беженкой, на этой почве они и познакомились при оформлении каких-то документов. Эта девушка по ходу действительно любила Илью, это можно было заключить из того, что он рассказывал, но, как я понял (он это не подробно объяснил), одной из проблем как раз и было, как сейчас говорят, несоответствие половой конституции. Я до сих пор не могу этого понять. Любовь всегда включает половое желание. Нет, желание может быть и без любви, тут я не спорю, но вот любви без желания не бывает – уж извините. Но из того, что я понял из рассказов Ильи, – эта первая девушка решительно по всем критериям понятию «влюблена в Илью» полностью соответствовала, но вот в постели… Вообще во всем, что касалось секса хоть в какой-то мере, она, казалось, все воспринимала как некоторую обязанность, не то чтоб прямо тягостную, но возможно, что и тягостную, ну, в какой-то мере. Я этому искренне удивлялся и даже сверх меры расспрашивал Илью. Был момент, когда я решил, что все-таки там была не любовь, а какая-то… Ну, я не знаю – она была одна в чужом городе, а тут земляк, надежный, привлекательный. Ну, я не знаю, я этого, конечно, не сказал Илье, но подумал. Типа она не любила его по-настоящему, а просто… играла? Даже неосознанно? Но в этой версии было очень много нестыковок. Первое – по всем показателям, кроме секса, она явно проявляла к Илье больше интереса, чем он к ней. Еще раз – это не он так говорил, это я делал выводы из его каких-то пространных воспоминаний, а подтасовывать воспоминания, наверно, мог бы я, а не Илья – я в этом, пожалуй, уверен. Илья инициировал их расставание. Да просто ушел в какой-то момент. Она долго пыталась вернуть его. А через где-то полтора года вышла замуж за какого-то местного военного, но даже после этого пыталась встретиться с Ильей, звонила и писала ему пьяной, даже почти прямо предлагала секс. Я не знаю, как все это объяснить. Просто теряюсь. Я люблю Илью. И я хочу его, он меня очень возбуждает. Как будто бы это взаимно. А как можно любить, но не хотеть, или хотеть не слишком сильно, или пытаться имитировать хотение? Не знаю. С третьей девушкой у Ильи был почти что разовый секс, это была сотрудница их магазина, и вот она как бы была довольно раскрепощена, Илья говорил, что ему понравилось, но (я не знаю зачем) он всегда говорил, что со мной это все не сравнить. Так в чем же тогда дело – в его бисексуальности? Понимаете – вряд ли. Потому что… одно слово – Влада. Вот если б нас с Ильей спросили, кто нас больше всего возбуждает, я думаю мы бы оба ответили – Влада. Но тут все дело, мне кажется, в том, что Влада как бы ключевое звено в нашей цепи, до невозможности усиливающее нашу страсть. Влада безумно возбуждает нас с Ильей. Мы не стали меньше нравиться друг другу, но Влада – это что-то вовсе космическое, она потрясающая, я, например, хочу ее практически постоянно вот уже на протяжении почти трех лет, это что-то ужасное, правда. Я иногда ей говорю: «Ты ужасная», – имея именно это в виду, имея в виду ту колоссальную власть, которую она надо мной имеет, и то, как я, черт побери, ХОЧУ бездумно ПОДЧИНЯТЬСЯ этой власти. С Ильей мне всегда было комфортно, а с Владой нет, хотя, поверьте – она для обеспечения этого комфорта делает буквально больше, чем может, даже, пожалуй, больше, чем сам Илья! Она всегда говорит, что это траблы в моей голове, и героически пытается с ними бороться, но я-то вижу, что Илья на нее реагирует так же – она так же МУЧАЕТ его своей привлекательностью, сама того не желая. И в конце концов – пускай это мои или даже наши субъективные ощущения, но историю-то я рассказываю, и что здесь еще мерило всего, кроме субъективных ощущений? Так вот, об этой цепи, понимаете – мы как бы сконцентрированы на Владе (и друг на друге тоже, повторюсь, но все же обязательно на Владе ярче всего, что ли), а Влада сконцентрирована на том, как мы сконцентрированы друг на друге. Непонятно? Проще, еще проще, чтоб было понятно – нас возбуждает Влада, а Владу возбуждает то, как мы… Блин – я запутался. Я покажу Владе этот кусок, когда она приедет из Конотопа, я тут закрылся в одиночестве и пишу уже второй день. Я запутался, потому что я не знаю. Мне нравится спать с Ильей. Мне нравится спать с Владой. Мне нравится спать с ними вместе и смотреть, как они спят друг с другом. Мне было хорошо вдвоем с Ильей, а с Владой и Ильей стало еще лучше, и вообще, это не ваше дело, потому что это наша личная жизнь — вот почему, понятно? Ну, и хорошо. Я начал этот длинный кусок тупо затем, чтобы описать тот вечер, когда Илья прямо признался мне в любви, а где-то через час мы лежали в постели без одежды, укрывшись чуть ли не с головой тяжелым одеялом, и я вспотевшим телом прижимался к такому же телу Ильи, и он ласкал рукой, одними пальцами мне спину и бедро.
- А ты колдун, – сказал мне вдруг Илья задумчиво.
- Чего?
- У тебя глаза колдовские, зеленые.
- А вдруг я и правда колдун? – проворковал я игриво.
- Я в этом уверен, – кивнул он.
- И ты не боишься меня?
- Боюсь.
- Я ужасный хромой колдун с парализованным лицом! – устрашающе пробасил я. – Почти как в «Страшной мести», знаешь? Он ведь тоже извращенец был.
- Она видела твое лицо.
- Что?
- Она видела твое лицо.
- Где?
- Я присылал ей видео.
- Какие?
- Ну, я снимал тебя, когда ты говорил иногда. На телефон.
- Исподтишка?
- Ну да. Так, для себя.
- Охренеть. И я только сейчас об этом узнаю?
- Короче, она знает про твое лицо, про тот наш фокус с перепиской и цветами, и все-все-все. И знаешь, что? По-моему, ты ей гораздо больше понравился, чем я. В том месте про мою привлекательность она отреагировала только смеющимся смайликом.
- Но ты и правда привлекателен, не спорь. По-твоему, у меня вкуса нет совсем? Ты красивый.
- А ты ей понравился.
- Нет.
- Перестань. Ты поедешь со мной.
- Хорошо.
//@givenbygod: Владе очень понравилась эта подглава – она ей напомнила чем-то вступление к «Невыносимой легкости бытия» Кундеры (которого я ненавижу), и еще она сказала, что у меня получается все увлекательней, и чтобы я не сбавлял темп, и еще что она впредь будет все меньше влезать с комментариями до самого конца, разве что я специально попрошу. Пока же она захотела сделать несколько замечаний.
Пользователь @ruah сделал заметку:
- Богдаш, я влюблена в твое тело! Твое тело белое, как лилия луга, который еще никогда не косили.
//@givenbygod: Ты дщерь Вавилонова! Блажен иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам!
@ruah: Дай мне коснуться твоего тела!
//@givenbygod: Прочь, дочь Вавилона! Через женщину зло пришло в мир. Не говори со мной. Я не хочу слушать тебя. Я слушаю только слова Господа Бога.
@ruah: Иоан, я хочу твое тело!
//@givenbygod: Не трогай меня!
@ruah: Я хочу тебя.
//@givenbygod: Нет! Не приближайся ко мне, ты, дочь Содома, но закрой покрывалом лицо свое и посыпь пеплом главу свою и беги в пустыню искать Сына Человеческого.
@ruah: А твой Сын Человеческий так же красив, как и ты?
//@givenbygod: Ну, Владааа!.. Не лезь в документ (сидит внизу с айпада, издевается).
@ruah: Иоа-а-ан…
//@givenbygod: Я щас вернусь.
Позднейшая вставка. Мы с Владой лежим на диване внизу, укрытые тяжелым одеялом, и я чувствую тепло ее тела. На улице дождь. Я печатаю на ее айпаде, а она меня гладит и раздражает (да, я вижу, что ты смотришь через плечо).
Она хочет сказать пару слов еще.
@ruah:
1) Богдан реально бесподобен в постели.
2) Я хочу их больше, чем они меня.
3) Богдан – колдун.
***
Мне всегда было легко подбирать одежду для Ильи. Вот с самим собой дела обстояли похуже. В тот раз я подобрал ему такие темные брюки спецовочного покроя с накладными карманами и свитер-кенгурушку, курточку решил взять его любимую, коричневые замшевые ботинки. Это бессмысленно описывать в прозе – насколько одежда подходит, понятно только прямо на модели, мельчайшие детали решают. Ну, просто поверьте, что ему все удивительно шло. Ему вообще шло почти все, но, на мой взгляд, больше всего вещи непритязательной стилистики, которую щас иногда называют нормкор, хах, ну просто удобная одежда без претензии, она охрененно отеняла привлекательность его лица и фигуры, но мне нравилось добавлять в нее легонькую нотку ню-метала или альтернативы двухтысячных в виде той же кенгурушки или этих брюк с карманами – это добавляло его образу какой-то потертости и загадки, ну и вообще он выглядел старше и серьезней своих лет. С одеждой все более-мене обошлось, он немного поворчал на стрижку, а точнее, на подбритые виски, но я его заставил замолчать элементарным «помолчи, родной», сказанным просто при телке-парикмахерше, и он заткнулся и смутился. Обожаю так его третировать. Так вот – с этим всем обошлось, но вот с духами он поерепенился. Он вообще пользовался исключительно дезодорантами, такими, для спортсменов, знаете, и не любил духи. Но я на улице под магазином сыграл целую сценку с обильным цитированием Зюскинда, и он сдался. Мы очень волновались оба и хреново выспались. Съели по бутеру и выпили кофе, собирались суетливо, а я так долго причесывал челку, пытаясь хоть немного прикрыть неподвижную часть лица, что Илья, устав ждать, стал выталкивать меня из ванной. Я ничего лучше не придумал, как заметно собезьянничать Илью в одежде. Не кенгурушка, а обычный свитер, но чем-то похожий, джинсы, но тоже темные, только курточка не спортивного фасона, но спецовочно рифмующаяся с теми ж его брюками – о Господи. Ну, знаете, метафорически выражаясь, я спрятался за его крепкое красивое плечо, как обычно и поступал. Что бы кто ни говорил, но человека со столь явными комплексами относительно внешности (не то чтобы ни на чем не основанными) нельзя за день переубедить простым, хотя и очень трогательным «я тебя люблю». И даже страстный секс тут вряд ли ощутимо что-то может изменить. Еще обуваясь, я все поглядывал на трость, все же обдумывая, не оставить ли ее дома. Во двор и в близлежащий ларек я худо-бедно пока ходил без нее… Но Илья заметил это и не придумал ничего более глупого, чем сравнить меня с Хью Хефнером, ненавижу его за это, он совсем испортил мне настроение до того, что я опять заявил, что никуда не поеду – но это больше для проформы. В конце концов я взял эту трость, а Илья небольшой рюкзак с нашими самыми необходимыми пожитками, и мы вывалились в противное серое утро. Ветер рвал остатки желтых листьев, брызгал обжигающе холодной влагой. Я пожалел, что не надел шапку, но я имел дурацкое предубеждение, что на свидание с девчонкой надо обязательно идти простоволосым. Вон у Ильи хотя бы капюшон был – на курточке и свитере. Но первая сигарета меня согрела. Мы пошли за цветами. Оба букета желтых роз, немного отличающиеся, на заказ. Конечно, практичнее было купить их в Киеве, но я не знал этого гребаного Киева и почему-то захотел перестраховаться, хотя в поезде с букетами не то чтобы удобно, так ведь? Ой, блин, дело не в этом. Ненавижу эти веники. Почему Илья так классно выглядел, везя подобный веник в Сумы и там вручая его Владе? Я просто любовался ими, когда он дарил ей эти розы. Это было почему-то так прекрасно. Сейчас же, неся эту муру по городу, мне казалось, что я выгляжу страшно нелепо и решительно все смотрят на меня, не на Илью, а именно на меня… Дурдом какой-то. Забегая наперед, скажу, что страшно полюбил потом дарить букеты Владе. Всякий раз, как я дарил ей букет, у нее делался такой взгляд, ТАКОЙ ВЗГЛЯД, что мне хотелось дарить ей эти букеты всю свою жизнь – потратить на эти букеты все деньги мира и вообще жить только ради того, чтобы дарить ей букеты. Так вот, это было благословенное время как раз перед первым карантином, по сути, далекая прошлая жизнь, мы, сев в Конотопе на скоростную электричку, примчались в Киев меньше чем за два часа, вагон был полупустой, и я все время слушал музыку в наушниках – старинные русские романсы в исполнении Олега Погудина. Запись еще 1993-го года, люблю этот альбом, особенно «Не уходи, побудь со мною» в его исполнении (я потом часто пел эту песню Владе – хотя голос у меня и не ахти).
Вообще – я ненавижу Киев и в особенности центральный вокзал. Я постоянно ловлю в его связи вьетнамские флешбэки, и самый сильный вот какой. В пятнадцать лет, еще передвигаясь исключительно на костылях, я как-то возвращался с родителями в Конотоп после нескольких операций. До вокзала-то мы доехали нормально на такси. Мне было немного тяжеловато в него забираться, но пусть. Мы очень долго объезжали центр города в связи с фактическими боевыми действиями там, и таксист непрерывно нес какую то хуйню об этом – такое впечатление, что все таксисты лезут из кожи вон, чтобы максимально соответствовать стереотипам о них. Ну, короче, – мы приехали благополучно. Я почему-то запомнил, что все стоянки под вокзалом типа были забиты и таксист подрулил куда-то сбоку, и я вылез из тачки буквально в лужицу крови. Ну, не лужицу, а такое типа пятно крови на снегу, уже практически впитавшееся в этот снег. Хрен его знает, что это было за пятно, возможно, кто-то кому-то разбил нос или же выкашлял кровавый сгусток – совсем невозможно, чтобы это пятно имело хоть какое-то отношение к стрельбе в центре, но я, помню, довольно долго на него смотрел. Не суть. Мы худо-бедно доковыляли до здания вокзала – отец меня придерживал, потому что было довольно скользко. Первые неприятности у меня начались уже в здании вокзала, а именно – родители меня потащили в зону для инвалидов, там было такое огороженное место, где разливали бесплатный чай или даже раздавали сэндвичи, не помню. Короче, я просил родителей присесть в обычном зале ожидания, но они даже слушать не стали, типа – там толкотня, и вообще, в зоне для инвалидов типа можно даже при желании прилечь. Прилечь. Ну, ладно. Но главные неприятности начались потом. В какой-то момент отец подошел к дежурному этой зоны для инвалидов, он сидел за столиком при входе, и попросил его вызвать каталку для меня. Тут я впервые резко запротестовал. Они сбежались ко мне оба – мать и отец. Я сказал им, что ни в коем случае не поеду на каталке, это абсурд, типа хватит пороть ерунду, до поезда еще немало времени, и я спокойно бы дошел на костылях, какого хуя? Я, может быть, даже так прямо и сказал – какого хуя? Но они опять меня не слушали, а в какой-то момент моих возмущений отец даже прикрикнул на меня – типа, «не хватало, чтобы ты еще там долбонулся по пути, и если ты задержишься, то шо мне, на руках тебя нести?» Мудак. Короче говоря – мне пришлось ложиться на эту каталку, потому что – что я должен быть делать? Я просто хотел, чтобы это скорее закончилось. Мы ехали, наверно, через весь вокзал, и все, кто там находился, казалось, на меня смотрели, в какой-то момент я скрестил руки на груди, втупил взгляд в потолок и оттопырил на руках средние пальцы – пусть смотрят. Отец шел рядом и, кажись, смотрел на это, но при санитарах ничего не сказал. На улице между тем повалил снегопад, и, пока мы пересекали пути, меня с головы до ног засыпало.
- Надень капюшон, – сказала мать, но я не реагировал.
Последнее шоу случилось, когда меня грузили в поезд, но эту срань я, честно говоря, не сильно уже помню. Помню последнее болезненное воспоминание – я уже сижу в купе и смотрю в окно, мне немного легче, и вот почти перед моим окном останавливается девушка и тупит в телефон. Она была старше меня и почему-то казалась мне невозможно красивой, как ангел. Она была простоволосой. Ее распущенные волосы присыпал снег, одета она была стильно и, наверно, дорого. Я вдруг представил, что эта девушка встречает или провожает меня. От этой фантазии у меня даже закружилась голова, хотя, возможно, я просто перенервничал. Но фантазия не отпускала, я украдкой взглядывал на девушку, уже рисуя в голове какую-то красивую историю о моем то ли ранении, то ли еще какой-то пафосной херне и о том, как она ждала меня, и вот встречает, или провожает, или… Девушка подняла взгляд, но смотрела она не на меня. Из вагона выскочил какой-то довольно колхозный неприметный тип, и девушка бросилась ему на шею, чуть не уронив телефон, он обнимал ее скорей дежурно, а она, буквально прилипнув к нему, целовала его. А потом он что-то быстро ей сказал, дебильно улыбнулся и, махнув рукой, поспешил обратно в вагон. Бля, как она смотрела на него. Глаза блестели. Она смотрела и смотрела ему вслед. Тут-то я тупо допер, что она по ходу вообще пришла ради этого мига – ее не было на платформе во время посадки, хрен его знает, садился ли тот чел вообще в Киеве, поезд был проходящий – возможно, она вообще прибежала, чтобы его поцеловать. Поезд начал трогаться, она смотрела ему вслед, а я мертвым взглядом смотрел на нее, ненавидя ее, эту жизнь и, конечно, – себя. Себя в особенности.
Вот в этих размышлениях я смотрел на перрон и уже, казалось, ничего не хотел от этого дня, этой встречи и вообще, как вдруг увидел Владу. Она стояла на перроне немного в стороне от толпы встречающих, тупя в телефон почти в точности, как та девушка из моего воспоминания (я не сразу отбил, что она переписывается с Ильей – он тоже тупил в телефон рядом со мной). Я, почему-то резко выскочив из воспоминания, поразился этому сходству – вот она стоит и тупит в телефон на перроне, ждет… меня? Реально? Ну, пусть, конечно, в основном Илью, но все же. Да, конечно, это был другой перрон, и я ее увидел мельком – поезд еще медленно двигался, но все же почему это так совпало с флешбэком? Хотя не полностью, конечно, главная разница была в том, что Влада в миллион раз красивее той телки из воспоминания. В миллиард. В триллион. В квадриллион. В квинтиллион. Секстиллион. Септиллион. Октиллион. Нониллион. Вы думаете, я остановлюсь? Дециллион. Ну, ладно – Влада была в тысячу дециллионов сотен раз красивей всех на свете.
***
Влада была красивей всех на свете. Мне только сейчас пришло в голову, что я до сих пор не описал ее подробно, да – я, безусловно, пытался оттянуть удовольствие, но дело тут не только в этом. Дело в том, что она понравилась мне еще на первом видео, а на презентации в Сумах я окончательно в нее влюбился. В этом и суть – от любви к девушкам у меня на душе образовался такой заскорузлый ожог, что я тупо боялся любить их. Всячески блокировал это чувство в себе, даже неосознанно. Понимаю, что это банально, но так и было. Как мне еще это описать? Еще приходит аналогия со взглядом на солнце – вот так я видел любимую девушку всякий раз. Это было мучительно больно, и ты старался просто долго не смотреть. И хотя Влада, как впоследствии оказалось, НЕ ЖГЛАСЬ, наоборот – давала жизнь, как и положено светилу, но рефлекторно я ее до сих пор немного боюсь, с Ильей этого нет, а вот с Владочкой есть, я пытаюсь это даже кое-как изжить, но оно остается подспудно. Так вот, ретроспективно я понимаю, что на презентации старался просто не смотреть на Владу. Включил в мозгу режим «не переживай – она обычная девчонка» (хотя реальность была ровно противоположной) и сконцентрировался на нашей с Ильей «операции». Серьезно я решился взглянуть на нее только тогда на вокзале.
Влада невысокая. Не прямо худощавая, но тоненькая, хрупкая, во всяком случае, мне с ней всегда хотелось быть особенно деликатным и осторожным. Иногда я прикалывался, что у нее большая голова – такое впечатление могло сложиться от густых длинных волос и хрупких плечиков. В ее лице заметны некоторые семитские черты, не то чтобы бросающиеся в глаза. Глаза у нее большие, круглые, светло-серые, при этом практически всегда полуприкрытые. Она широко открывает глаза разве что при сильном стрессе или, например, занимаясь любовью, когда возбуждена. Вообще в ней почти всегда заметна легкая сонливость и отрешенность, а в людных суетливых местах она иногда смотрит по сторонам, как будто не понимая, где она находится и что происходит вокруг. У Влады ярко выраженная шизоидная психопатия, раньше это называлось вялотекущей шизой, но сейчас это как бы и не совсем болезнь. Но она, тем не менее, довольно сильно зависима от препаратов – не постоянно, но пропивает курс время от времени. Без препаратов она в принципе может начать чудить вплоть до довольно мрачной дури. Но если контролить ее состояние (что мы с Ильей вроде успешно делаем), то… Ну, скажем, я не врач, но назовем позитивной симптоматикой все то, что делает ее такой невыразимо привлекательной. А негативной будут некоторые незначительные недостатки или особенности, которые можно свести почти к нулю, если держать все под контролем. Мы с Ильей пытаемся, и мне кажется, что у нас пока получается даже лучше, чем у всех людей, что были с Владой рядом на протяжении жизни. И вообще – хватит об этом, я люблю ее, и все. Тут важно, что эта информация необходима для описания ее облика. Вот эта сонливость очень характерна, не знаю почему, но мне всегда охота ее обнять, как бы на ручки взять и убаюкать, что ли, обогреть, укрыть. Она немного отстраненна, но это кажущееся, она просто редко открывается, есть стереотип, что люди с ее психотипом закрытые и безэмоциональные, но это именно что миф, скажем так – Влада просто мало кому показывает, какие страсти бушуют у нее внутри. Нас с Ильей она, слава богу, посвящает в свой в внутренний мир, и скажу только, что более страстного, любящего и эмоционального человека, чем она, я никогда не встречал. Вот Илья говорит, что я хорош в сфере страсти и желания, но по сравнению с Владой… Да слушайте. Разговорить Владу труднее, чем меня, но это всегда очень интересные разговоры, она никогда не разговаривает о мелочах (по ее мнению, большая часть человеческих разговоров – они о мелочах). Голос у нее мило низковатый, еще она немного шепелявит (это очень мило тоже). Тогда на перроне она стояла, тупя в телефон – на ней была длинная синтетическая куртка на молнии, с таким большим капюшоном-горлом, знаете. На шее шарф, на руках вязаные перчатки без пальцев, на голове тоже вязаная теплая шапка с отворотом. Мне почему-то очень понравилась эта шапка – в ней было что-то гиковское и в то же время гоповатое, это выглядело почему-то так мило. Также мне понравилось, что она тепло одета (черт, надо было и себе надеть шапку). А еще я отметил, что она стоит на перроне одна – я этого не ожидал, признаться. Я не то чтобы много общался с ней в инсте, но она производила впечатления человека, хорошо умеющего держать дистанцию. Илья общался с ней больше – по телефону и по видео, и я не лез в это общение, поэтому подробностей не знал. Но все же мне казалось, что на встречу с двумя, по сути, незнакомыми парнями следовало бы взять хотя б какую-то подругу, чисто для… Ну, мало ли? Позже я понял, что, несмотря на замкнутость, Влада неплохо разбиралась в людях. Она охотно пользовалась популярностью, и это была далеко не первая ее встреча с фанатами. И даже не первое свидание с таковыми. Ей было в определенной мере интересно узнавать людей поближе, впрочем, я понял со временем, что в этом интересе было что-то антропологическое – как изучение какого-то биологического вида, хех. Очень на Владу похоже. Она потом, когда мы начинали иногда немного ревновать к ее прошлым похождениям, шутя говорила, что просто долго искала нас с Ильей. И хотя мы картинно на это дулись, это было довольно приятно. В тот раз она призналась, что ее в первую очередь заинтересовало некое несоответствие Ильи с тем, что он писал. Не то чтобы она выкупила, что ей писал не Илья, но он произвел при встрече на нее другое впечатление, чем при переписке (хотя и понравился). Ну, что тут удивительного, в конце концов, она иногда потом шутила, что влюбилась в Илью за красоту, а в меня за интеллект. /@ruah: Я ИМЕННО что шутила! //@givenbygod: ВЛАДА, НЕ ЛЕЗЬ В ДОКУМЕНТ!/ Короче говоря, – она была одна и просто себе стояла на перроне. В этом тоже было что-то необычное – по крайней мере, для меня. Мы потянулись к выходу. Илья спустился первым и подал мне руку, я отмахнулся и довольно неуклюже слез, слезая, я увидел, что Влада подходит к нам, засунув руки в карманы пальто и дружелюбно улыбаясь (опять эта неловкость с этой тростью, с этой гребаной ногой!). Илья, мило улыбнувшись, сделал шаг к Владе и протянул ей букет. Она, улыбнувшись, приняла его и вдруг другой рукой сделала жест, приглашающий к типа дружеским объятьям – это у нее получилось удивительно непринужденно и как-то обнулило всю неловкость, Илья ее легко обнял, она приобняла его свободной рукой. Меня это довольно сильно расслабило, признаюсь. Я сделал шаг к ним, опершись на эту дурацкую трость, как вдруг Влада быстро направилась ко мне, так же дружелюбно улыбаясь.
- Ты у меня долго назывался Илья-Один, – сказала она, остановившись предо мной, и протянула руку. – Привет, Богдан.
Я на миг замешкался. Потом протянул в эту руку букет. Она впервые в жизни взглянула на меня «волшебным взглядом благодарности за букет», и я поплыл. Она взяла букет в протянутую руку и вдруг отдала оба букеты Илье, тот с готовностью принял. Влада вновь протянула мне руку, и я пожал, впервые ощутив эту любимую рученьку в своей.
- Привет, Влада, – сказал я, стараясь не особо улыбаться во избежание.
- Идемте не спеша, – сказала Влада, улыбаясь. – Моя машина на стоянке здесь.
Я ощутил, как мне нравится ее шепелявость. А она вдруг совершенно непринужденно взяла меня под руку – противоположную той, которая опиралась на трость. И так мы и пошли к вокзалу – а что мне оставалось делать?
- Как поживает Конотоп? – спросила Влада, улыбаясь.
А я шел, ощущая ее тепло возле себя и на предплечье, за которое она держалась. А еще впервые ощущал, осознавал ее манящий запах – еще не отдавая себе отчета, что это ее запах, просто какой-то хмель ударил мне в голову.
- Ну… как захолустный райцентр, – саркастически улыбнулся Илья.
- Ты что! – удивилась Влада. – Это ж совершенно легендарное место.
Я вначале подумал, что она троллит. Но она увлеченно продолжила:
- Я сколько читала о Конотопской битве.
- Сосновской, – неожиданно поправил я.
Влада вопросительно посмотрела на меня.
- Она так называется, но происходила она не в Конотопе, и даже не сильно близко по тем временам. Там есть село, Сосновка называется. Там велись раскопки, и щас стоит мемориальный комплекс.
- Где… щит с торчащими саблями? – Влада ткнула в меня пальчиком.
- Ну да, – кивнул я, немного улыбнувшись все-таки.
- Так он не в Конотопе?
- Нет. Там километров десять, может быть, мы проезжали рядом, когда ехали к тебе – там есть такая речка, Куколка, она тогда разделяла войска.
- И вы проезжали ее буквально час назад?
- Ну да, – я улыбнулся свободнее. – Знаешь, почему она Куколка?
- Нет.
- Это такой божок, ну, типа языческий, славянский, понимаешь, там стояло капище его.
Почему у нее так горели глаза? Эти серые глубокие глаза смотрели на меня и буквально горели. Это было очень-очень сладко.
- Ну, я не подробно знаю, – я немного смутился.
- А ты был там? – с тем же огнем в глазах спросила Влада. – Ну, на месте битвы, там, где комплекс?
- Ты будешь смеяться, но мемориал тоже находится не там, где была битва.
- Как? – искренне удивилась Влада.
Я сейчас понимаю, почему так разговорился – просто опьянел от ее запаха.
- Просто… Короче, там проводился этнографический фестиваль, давно уже – с девяностых. Но он не то чтобы имел прямое отношение к битве, я не помню. По-моему, как раз таки не имел, чтобы в советские времена его не связывали с битвой. И вот на базе этого фестиваля сделали мемориал и церемонию открытия. В две тысячи восьмом году, летом, туда еще президент приезжал, Ющенко.
- Точно. А ты там тогда не был?
- Был. С родаками – мне было десять лет. Я даже Ющенко видел, – я улыбнулся уже совсем свободно.
- Расскажи!
Удивительно, что ее интерес был неподдельным. Ну, пусть уже рассказы об играх нравились Илье, но кому эти кулстори про Ющенко могут быть интересны? Но мне почему-то очень хотелось ее радовать всякий раз.
- Ну, я не очень помню. Было жарко. Мы долго ждали, даже пошли поесть в кафе. Он прилетел на вертолете на местный аэродром – там есть аэродром для вертолетов. Он сильно опоздал, потом приехал на машине в город – там открывали церковь. Я удивился, что он сам за рулем был. И еще – все почему-то сразу бросились к нему, как-то даже взбесившись. Ты не видела фильм Хотиненка «Мусульманин»? Там сцена такая есть…
- Где деньги с неба падают, – перебила Влада, почти смеясь.
- Да, и все бегут ловить. Мне напомнило. А потом мы поехали на автобусе в Шаповаловку – это где мемориал. А он уже ехал оттуда, я помню, сигнал был по громкоговорителю «Прижаться к обочине!», и он прям быстро пролетел – впереди только одна ментовская машина ехала. Почему-то запомнилось, что рукав рубашки у него закатанный был до локтя. Не знаю, почему-то запомнилось. А потом помню, что на фестивале слепой кобзарь, реально слепой дядька что-то про москалей играл. Типа современную думу. А еще помню, говорили, что заставили всех сельчан рушники на заборы вывесить – а самих рушников не дали, типа, где хочешь ищи. А еще – что не разрешалось выгонять коров на улицу. Над этим отец смеялся, помню.
Я оперся о перила перехода, радуясь возможности отдохнуть.
- Странное ощущение от этого было. Вроде тянуло к этому пафосу, вроде и пугало чем-то. А там, где битва, просто поле щас, пшеницу сеют.
Влада посмотрела мне в глаза.
- Хочу там побывать.
- Заметано, – сказал Илья. – Как только я отремонтирую машину…
- Нет у тебя никакой машины, – опять же неожиданно для самого себя отрезал я. – Мы не любим машины, но Илья очень комплексовал из-за того, что едет на свидание с девушкой на электричке. А на наше первое свидание мы вообще пешком ходили, вот. И я возмущен этим неравноправием.
Илья смотрел на меня с мгновение, и я уже решил, что все запорол. Ну, неудивительно. Прыгнуть под поезд, что ли – тут недалеко…
- Теперь ты понимаешь, за что я его люблю? – спросил Илья у Влады и красиво улыбнулся.
- Да, – кивнула Влада, и в ее прекрасных глазах читалось что-то вроде…
Восхищения?
- Отлично понимаю. Ну а если девушка приедет на свидание на машине – ты не будешь против? – спросила она у меня.
- Не, – все еще смущенный, ответил я.
- А если девушка подкинет кавалеров на своей машине?
- Да нет…
Я смущался и видел, что Влада отлично понимала, что меня смущает. И ей это нравилось. И почему-то это нравилось и мне.
- А если девушка даже сама выберет заведение?
Я пожал плечами и стопудово покраснел – я это чувствовал.
- Тут есть одно классное место, ничего особенного, но там играют живой джаз. На самом деле это не джаз, а темный джаз – эти парни раньше играли дезметал, а щас приоделись в рубашечки и играют что-то в духе Борен енд дер клаб оф гор, у них не точно получается, но в этом и прикол. Короче, вы не против джаза?
- За джаз Россию не продашь, – буркнул я первое, что пришло в голову.
Влада заливисто рассмеялась, толкнула меня маленьким кулачком в бок и сказала, смеясь:
- Обожаю его!
- Ну, я же говорил, – подмигнул ей Илья.
- Вживую лучше, – сказала она.
А я вдруг почувствовал, как этот толчок кулачком окончательно сломал мой лед. И я сказал.
- А ты и так, и так красивая.
Она вдруг мило засмущалась. Серьезно, вжала головку в плечики и скрестила маленькие ручки, она даже немного покраснела, вроде меня до этого. Позже, почти всякий раз как она так смущалась, мы с Ильей любили одновременно целовать ее в щеки – это у нас дошло уже до автоматизма.
***
Я вначале удивился ее автомобилю. Это был огромный черный внедорожник премиум-класса, выглядящий, в общем, по-городскому и вполне изысканно, но реально огромный. Я удивился, что у Влады такая машина (позже я узнал, что это реально ее машина, и более того – привык к этой громадине). Машина казалась излишне брутальной для маленькой изящной Влады, и я даже заподозрил какую-то компенсацию в этом, хех (позже я понял, что компенсация была, но также я понял, что в таком несоответствии есть что-то изысканное.)
Эти мои размышления прервал Илья, и данный перформанс был действительно угарным – Илья умеет быть просто восхитительным, когда в ударе. Он сказал мне:
- Посмотри. Она ведь знала, что у меня нет машины.
- Ты рассказал ей ту кулстори про ремонт до этого?
- Ну, да.
- Реально дурень. Девушки обычно более проницательны в таких вопросах – об этом даже в книжках пишут.
- А там не пишут, что девушки любят унижать парней без тачек?
- Пишут.
- Ну, хорошо, что вы, умники, много читаете, – картинно понурился Илья.
- О чем ты говоришь? – наивно захлопала прекрасными веками Влада.
Она сказала это так, чтоб было очевидно, что на самом деле она прекрасно понимает, о чем он говорит.
- Я говорю, что ты специально приехала на такой тачке, чтобы меня морально раздавить.
- Я хочу раздавить тебя не только морально, но и физически – причем весом собственного тела, – невозмутимо сказала Влада, глядя на Илью. – Но, может, давайте для начала поедим?
- Давай, – кивнул Илья, смущенно улыбнувшись.
- У меня тоже нету тачки, если шо… – начал я и добавил негромко: – И я не против раздавиться.
- Сядешь впереди, – она мне подмигнула.
Подмигнула!
В машине она сняла свою забавную шапку и распустила волосы. Я вдохнул ее пьянящий запах. Она умело вырулила на дорогу.
- Скажи, пожалуйста, этот колдун, запорожец из «Господнего лета» – это реплика судьи Холдена из «Кровавого меридиана»? – спросил я немного неловко.
Влада внимательно взглянула на меня.
- Как ты узнал? – улыбнулась.
Мне хотелось, чтобы она улыбалась.
- Из-за фокуса с монеткой. Это ж очевидно.
- Отпад! – снова улыбнулась Влада. – Никто из критиков этого не заметил… Я даже расстроилась. Такая прозрачная аллюзия.
- По ходу никто из них ее просто не читал, – я повернулся к Илье. – Помнишь, там он бросает этот злотый, и он постоянно возвращается к нему.
- Ну да. Я решил, что он черт.
- Так и есть. Ну, почти. В романе «Кровавый меридиан» Маккарти есть почти в точности такая сцена. Это аллюзия.
- Я не читал.
- В своем романе Влада постоянно спорит с этой книгой. У Маккарти часто есть антагонисты. Ну, по сути, даже не антагонисты, которые воплощают собой войну, насилие и разрушение – они своеобразные сверхлюди, по Ницше. У Влады же в этой книге тоже много насилия, но оно в целом деперсонализовано и лишено этого возвышенного флера, его такая издевательская персонификация – это вот этот запорожец, не философ и по сути даже не волшебник, он просто шизофреник, психопат, – я взглянул на Владу. – В ее книге насилие лишено всякого смысла – и возвышенного, и низменного. Оно как бы есть, и все. Ты помнишь эту гребаную жару там в книге?
- Ну, да.
- Там много описаний этой жары, и как мир будто разлагается, там прокисает молоко, портится мясо, пиво выдыхается. Ну, знаешь – все такое липкое, подтухшее. Это и есть насилие, как разложение, оно там как бы есть и все, как принцип, это энтропия. Книга очень душная.
- Правда? – вздохнула Влада.
Она была сосредоточенна, задумчива, но мне в пылу монолога показалось, что она расстроилась, и я почти непроизвольно успокоительно прикоснулся к ее плечу.
- Так и должно быть! – заверил ее я. – Я знаю, почему ее никто не понимает. Потому что она притворяется искусной стилизацией под эту хлебосольную малороссийскую пастораль, но таковой не является. Это как эти караваи и галушки на расшитых рушниках – все хорошо, и все пытаются как будто бы не замечать, как это портится и протухает, а потом гниет. Это гниение, распад, шизофрения – это ведь и есть распад, ну, расщепление. Ты гений.
Влада молчала, а потом промолвила очень серьезно.
- Ты это говоришь, заигрывая со мной? Потому, что я кажусь тебе привлекательной, и мы на свидании?
- Нет, ты кажешься мне привлекательной, потому что ты гений. И именно поэтому я заигрываю с тобой и приехал к тебе на свидание. Я никогда раньше не встречал никого хотя бы похожего на тебя.
Влада смотрела перед собой и глубоко вдохнула. Она притормаживала у обочины.
- Что случилось?
Ничего вроде бы не происходило, но мне не очень понравилась перемена в ее лице. Я почувствовал, что что-то поменялось, и почувствовал опасность. Позже каждый раз я это чувствовал все более тонко и умел предотвратить. Это была негативная симптоматика, если хотите. И мы с Ильей всегда пытались убедить ее в том, что это не разная она, а разные проявления ее, Влады, и что мы одинаково любим все эти ее проявления.
- Влад? – окликнул ее Илья сзади.
Она, не реагируя, остановила машину у обочины.
- Ребят, простите, я…
Тут я и заметил влажный блеск в ее глазах.
Она быстро выскочила из машины, но мы с Ильей, не теряя ни секунды, выскочили следом. Не помню в подробностях, как все произошло дальше, все как-то мутно, но точно помню, что я добежал к ней первым (даже не знаю, как это получилось при моей-то хромоте), схватил за руку и притянув к себе, крепко прижал и жадно поцеловал в губы. Кроме Ильи, я никого еще не целовал так жадно. Потом я помню, как ее целовал в губы Илья, а я держал и гладил ее руку.
Мы очнулись, когда нас чуть не сбила другая машина – она засигналила.
- Ты мне очень нравишься. Не плачь, пожалуйста, – сказал я Владе.
Илья ласково коснулся ее предплечья и добавил:
- Богдан всегда точнее формулирует. Короче – я с ним полностью согласен.
Мы обняли ее – Илья за плечи, я за талию.
- Ну, что? – спросил у нее Илья, как у ребенка, и откинул из ее глаз локон.
Она улыбнулась сквозь слезы.
- Мы тебя не обидим, Влад, но, если хочешь побыть одна… – сказал я несмело.
- Не уходите, – встрепенулась Влада.
- Слава богу! – улыбнулся Илья. – Подышим воздухом?
- Давайте, – уже легче улыбнулась Влада.
- Погоди, не закрывай! – бросил я, когда увидел, что она вытащила брелок с сигнализацией.
Я бросился к машине, открыл дверцы и взял трость и ее шапку. Отдав ей шапку, я сказал:
- Надевай. А теперь запирай.
Мы пошли бродить той улочкой. Недалеко, прохаживались то туда, то сюда. Мы с Владой закурили.
- Просто это очень странно, – говорила она, затягиваясь и разминая пальцы в этих вязаных напульсниках. – Я обычно доверяю всяким приметам, когда пишу, в основном. А тут такое – как будто мои прошлые герои ожили и пошли со мной на свидание.
- А кто из нас маньяк? – спросил Илья с улыбкой.
- Чур я! – я поднял руку, будто в школе.
Влада засмеялась. Хочу, чтобы она смеялась.
- Ну, это не обязательно в точности, это на ощущениях. Но Богдан начал говорить… и он как будто точно знал, о чем я думала, когда писала. А это очень личное, это так важно для меня, ну, все, что я пишу. Там я как будто настоящая, не так, как в жизни.
- Помнишь, что я тебе сказал? Что ты и так, и так красивая.
Может, вы удивляетесь, почему я так свободно с ней общался? Потому, что мне казалось, что я знал ее всю свою жизнь. Это странно так и очень сладко. Может, это и называется родственная душа?
Она вдохнула воздух поздней осени. Сказала, улыбнувшись:
- Мне так хорошо сейчас.
- Мне тоже, – улыбнулся я.
- Да, есть такое, – заключил Илья.
- Можно, я тебе стихи почитаю? – спросил я у Влады.
III
Я читал ей все, что помнил. Все, что казалось мне самым нежным и ласковым. Точно помню про эолову арфу Иванова, про закат над Невой его же, про стрелу амура, что меня пронзила, и еще что-то. Из Бродского читал «Мексиканское романсеро», из него же, кажется, «Горение». Из Стуса – помню, что читал про ночной костер на Лысой Горе в середине октября. Прочитав последнее, я, помню, задумался и сказал Владе и Илье, что в юности мне часто снились ведьмовские шабаши и почему-то жутко хотелось туда. Влада удивленно посмотрела мне в глаза.
- Тебе тоже? – спросил у нее я.
- Я этого очень боюсь.
Я впервые увидел, как она перекрестилась – умело, быстрым, едва заметным, но четким движением, практически неосознанно.
- Но тебе это снилось?
- Я даже не знаю…
- Меня всегда туда тянуло, так как будто там мои, – вздохнул я.
- У него колдовские глаза, – указал в мою сторону Илья.
- Я заметила, – кивнула Влада.
- Та ну вас!..
- Почему? Серьезно, – Влада посмотрела мне в глаза. – Ты из Конотопа.
- Ну вас! Ненавижу этот стереотип.
- А если я напишу лучше?
- Что? – встрепенулся я. – Колись! – дернул Владу за рукав.
- Вот еще тоже знак, – сказала она, задумавшись. – Я задумала одну вещь. Как бы перифраз Основьяненко, ну, формат тот же, что в «Господнем лете», это как бы даже продолжение, но только непрямое.
- Идея интересная, – я задумался. – Блин, да я уже хочу почитать это!
- Спокойно, это еще на уровне замысла. Но вообще-то, раз вы из Конотопа…
- Заметано, – кивнул Илья. – Повезем тебя. Когда скажешь.
Влада, помню, вырвала свои руки из наших.
- Блин, вы, наверное, думаете, что я какая-то пошлая потаскуха…
- Потаскуха, но только не пошлая, а дико соблазнительная, – пошутил я.
- Ну-у… – простонала Влада.
Кажется, из этого момента пошла наша привычка успокаивать ее при капризах – я наклонился и быстро поцеловал ее в щечку. Она улыбнулась, немного покраснев.
- Так мило краснеешь, – сказал я.
- А мне бы хотелось посмотреть, как вы целуетесь, – сказала она тихо, покраснев еще сильнее.
- Всему свое время, – улыбнулся Илья.
Я с ним внутренне согласился – почему-то мы сейчас оба были сконцентрированы на Владе, так вообще очень часто бывает в нашей троице, до сих пор. Наверное, побыть только наблюдателем ей удается далеко не так часто, как ей хотелось бы. Вообще ей очень нравится наблюдать за нашими с Ильей ласками, но нам чрезвычайно трудно удержаться, чтобы не привлечь ее. Когда мы втроем, то оставляем Владу только потому, что ей охота нами полюбоваться. Нас это не то чтобы не заводит, но… Но когда она рядом, то просто невозможно абстрагироваться от ее сексапильности. Между тем, я ее понимаю – мне тоже часто нравится смотреть, как они с Ильей занимаются любовью. Но, ради справедливости, она сама часто, скажем, – не дает мне спокойно досмотреть, хах. Поэтому со временем сложилось так, что зачастую, если мы остаемся на какое-то время вдвоем с Ильей, то созваниваемся с Владой и в подробностях все рассказываем, скажем, как провели день и так далее. В подробностях. Когда я остаюсь с Владой, мы рассказываем Илье. Ну, и когда они вдвоем, то рассказывают мне, и да – это реально соблазнительно. Меня даже больше всего волнует, когда я где-то не с ними, думать и фантазировать, чем именно они там занимаются. Но когда мы втроем, то это обычно втроем – хотя и в разной мере.
Забегая наперед – Влада увидела, как мы целуемся, в этот же день. Вообще – мы остались в Киеве на две недели. Жили в пустующей квартире какой-то Владиной знакомой и с ума сходили друг от друга. Это был какой-то непреходящий кайф, и я, пожалуй, не рискну подробно все описывать, скажу лишь, что мы сложились, будто пазлы, и тут же воплощали все, чего нам хотелось и на что хватало нашего воображения. А чтоб вы понимали весь масштаб, замечу, что у нашей Влады совершенно феноменальное воображение, ну, профессиональное. И да, мы подчинялись Владе, нам это было до одури приятно. Отличалось ли это от того, что я испытывал с Ильей? Не отличалось в сути своей, но мы будто только теперь поняли, что нам все время до этого НЕ ХВАТАЛО Влады. Мне вновь-таки довольно сложно это объяснить, но Илья соглашается со мной, что Влада представляет собой какой-то взрывной компонент, даже в самый восхитительный секс она всегда привносит какое-то невозможное безумие, и поэтому мы говорим ей, что очень ее любим, но боимся. Она, к слову, всегда на это сильно протестует. Как-то она даже расплакалась, говоря, что это потому что она девочка, и мы предвзяты к ней, и мы недели две потом просили у нее прощения, ухаживали, признавались ей в любви в тысячный раз. Мы даже находились с ней по очереди, это была моя идея, очень гетеронормативно прям вели себя, чтобы она не думала фигни, – она оттаяла. Влад, я знаю, что ты это прочитаешь, и я очень не хочу, чтобы ты думала, что мое отношение к тебе хоть в чем-то принципиально отличается от отношения к Илье. Ты почему-то думаешь, что эта моя формулировка про исходящее от тебя безумие или, не знаю, как это на русском сказать – «шал» имеет какой-то негативный оттенок, но это не так. У тебя серые глаза, а у Ильи карие. Я что же, не могу любить твои глаза, потому что они серые, а не карие? Мне нравится твое безумие, мне нравится твой хаос, привносимая тобой дикость и страсть, мне нравится, что ты взрывная, и мне очень нравится тебя бояться. Позволь мне любить тебя так, как я чувствую, солнышко. От этого моя любовь к тебе не станет меньше, эти смешные частности, по сути, лишь декоративная окраска.
Ну, в общем говоря, это тоже была пьянящая свобода, как и в тот раз, но теперь, раскрашенная Владой, эта свобода приобрела сумасшедший, неистовый, страшный оттенок и оттого, наверное, казалась еще ярче. В любом случае, чтобы ты, Влада, знала – мы без этого оттенка больше не сможем, мы подсели на тебя, так что терпи.
Еще по поводу тех двух недель – какой Влада была? Какой я ее запомнил с самого начала? Ну, мало того, что мы с Ильей с ней очень раскрепостились, сама она была в постели восхитительной. Она была гораздо опытнее нас обоих. Но мне кажется, дело тут не в этом. Та подруга Ильи из магазина тоже была опытней Ильи и меня, ну, во всяком случае, по его и ее рассказам, да и в целом сомневаться не приходилось, но Илью не впечатлила же почти что совсем. Влада, кстати, тоже ревновала не только к бывшим пассиям Ильи, но даже и к моим неразделенным любовям – что совсем уж смешно, на мой взгляд. Ну и мы ее ревновали, поэтому старались эту тему не особо поднимать. Был один забавный момент – мы как-то особенно заревновали Владу к девушке, с которой она непродолжительное время встречалась еще на учебе за границей. И тут уже Владе приходилось нам угождать, чтобы мы сменили гнев на милость – она сто раз нам повторила, что ничего особенного в этом не было, вообще-то отдавало некой обязаловкой, и она не особо понимала, что такого в этой моде, расстались они по ее инициативе. И вообще, дескать, с нами хоть с обоими, хоть по отдельности – нечего и сравнивать. Пересмеявшись, после мы даже шутили, что вообще-то в этом что-то есть, и иногда подкалывали Владу по поводу ее бисексуальности – она ужасно злилась. А как-то сказала, что понимает нас, потому что если бы кто-то из нас до нее встречался с другим парнем – она тоже бы ревновала сильнее, чем к телкам. Хз, с чем это связано – мы так и не разобрались толком. Но суть в том, что Влада была потрясающая. И, повторю, на мой взгляд, дело не в опыте, а что касается меня, так даже и не в темпераменте, а в основном в том, ну уж простите, в том, КОГО ты трахаешь. Мне всегда больше всего сносил крышу именно тот факт, что я трахаю Владу. Дело тут даже и не в сапиофилии, хотя, может, частично и в ней, но вот в масштабе личности или типа того. Я мог с ней говорить на тему этого дурацкого Эволы (которого она, к слову, презирала), а потом ее трахать, потом обнимать, а потом говорить о советских фантастах времен культа личности, слушать, разинув свой рот, а потом ее трахнуть и вместе, обнявшись, лежать, и заваривать кофе, кормить ее или плести ей косички. Ну, блин. Расскажу, пожалуй, об одной сценке их тех дней на квартире ее подруги в Киеве. Она там написала эту сцену шабаша. Да, именно вот эту сцену из «Ведьмы», вообще, не без гордости скажу, что замысел «Ведьмы» окончательно у нее сложился именно тогда, когда она была там с нами, в этой гребаной квартире. Знаете, как это было? У нее есть любимая футболка-ночнушка с эмблемой НАСА, и вот была ночь перед рассветом, она ходила по квартире в одной этой футболке на голое тело, длинные волосы сплелись и сбились, она была подобна ведьме, да, да, именно так! Она глотала и глотала кофе, который я не успевал ей заваривать, и, как Достоевский, диктовала, сочиняла вслух тот шабаш, а я сидел на постели, укрытый до пояса, держал на коленях макбук на подставке и с бешеной скоростью набирал, да, тупо стенографировал этот шедевральный текст со всеми этими подробными картинами соитий и присущего Владе инфернального безумия. Когда она диктует, у нее поразительный голос, поразительные интонации. Шепелявость не исчезает, но как будто выравнивается, глаза почти совсем закрыты, но под веками шевелятся, как в фазе какого-то сна, а движения пластичны и размеренны, но в то же время быстры, подобны стремительному танцу; эти сплетенные волосы, эта какая-то ведьмовская, порочная и в то же время величественная гримаса, это подергивание брови, это голое тело из-под футболки-ночнушки. Каких сил мне стоило хоть как-то сдерживать себя, печатая и понимая, что она исключительная, даже, пожалуй, что потусторонняя. Она это знала и время от времени, подходя, наклонялась и страстно целовала меня в губы, чтобы я мог прийти в себя хоть на какое-то время, потом она вновь диктовала, вот здесь же на ходу придумывая какую-то совершенно эпохальную хуйню. За окнами брезжил рассвет, и ведьмин поцелуй остывал на губах, Илья разувался в прихожей – он бегал за новой пачкой сигарет для нашей ведьмы.
В «Ведьме» вообще было много ее, неподдельной. Говорю с гордостью, что Влада сказала нам, что именно мы ее как бы высвободили. В «Туманах» героиня, хотя и имела некоторые биографические черты Влады, но все же она была больше функцией. Парни из «Лета» были уже ближе, какими-то то ли проекциями, то ли субличностями самой Влады, но вот эта Оксана из ведьмы была самой Владой, и то потустороннее в ней прорывалось на эти страницы.
О потустороннем. Пожалуй, из первой нашей ночи сильнее всего мне запомнилось вот что. Влада всегда носила крестик. Обычный, на такой простой резиночке. Я помню этот крестик, она его не сняла, даже когда мы занялись любовью. Но я не сконцентрировал на этом внимания, он где-то отложился на подкорке, пока я любовался ее стройным нежным телом и ласкал его. Уже потом, когда мы лежали сонные и я обнимал ее, я спросил:
- Ты христианка?
Она кивнула.
- Да.
Потом виновато посмотрела на меня и добавила:
- Ну, я плохая христианка.
***
Но только она была хорошей. Вообще она была лучшим христианином, которого я когда-либо знал, а иначе я их не знал вовсе, и пошли они. Этот крестик и эта ее фраза важна, чтобы понять контекст начала этой истории. Да, это все была экспозиция или по типу того, а сейчас я приближаюсь к началу. Но покамест еще потерпите. Короче говоря, мы пожили в Киеве недели две. Что там происходило, глупо и пересказывать, но, кроме любовных утех и совместного редактирования/обсуждения Владиного произведения, мы гуляли по городу, ходили в разные заведения (к слову, таки зашли в тот джаз-клуб, и Влада познакомила нас с фронтменом дарк-джаз-ансамбля – мне этот парень не понравился, он стопудово был наркоманом, и много и не в тему говорил какой-то муры). Потом выяснилось, что Владу уже несколько дней ищет издатель – у нее начинался презентационный тур. Он начинался раньше, чем положено, потому что издатель был прошаренным челом и ожидал наступления карантинных мер – хотел провернуть все до этого. Мы убеждали Владу ехать в тур. Причем в забавных выражениях, в духе того, что она дура и пусть не ставит под угрозу свою карьеру из-за двух тривиальных любовников, которые к тому же никуда от нее все равно не денутся. Она настолько захандрила из-за расставания, что мы даже разыграли сцену – взяли с нее клятвенное обещание, что она не станет изменять нам во время тура и что мы будем это контролировать, насколько можно. Короче, мы не просто трогательно распрощались, но даже отвезли Владу в издательство в намеченный день, а оттуда уже уехали на вокзал.
- Ты влюблен в нее? – спросил я Илью уже в электричке.
- Да, – как-то даже облегченно ответил он.
- Я тоже, – сказал я, и он взял меня за руку.
Мы были счастливы. Да, Влада, ты – это счастье, и страх и трепет, который ты провоцируешь, – тоже счастье. Короче, мы поехали домой, но сложа руки тоже не сидели. Вы не поверите, но я написал развернутую критическую на «Лето Господне» на украинском языке, это как-то совсем невзначай получилось – и отправил ее Владе. Владе она очень понравилась. Она разразилась тирадой о том, что нас свела судьба, а я ответил, что она должна мне секс. Она была не против. Замечу, что до сих пор я почему-то люблю с ней на расстоянии переписываться, а Илья – разговаривать по телефону или видео. Ну, короче, эту статью Влада показала издателю, и он вроде тоже пришел в восторг (это Владина формулировка), и было принято решение опубликовать ее на известном литературном портале. Мы придумали мне псевдоним, и эту статью не только опубликовали, но и перепечатали в паре журналов, а один довольно известный отечественный ютуб-канал даже выпустил видео, посвященное «Лету», в котором львиную долю контента занимала копипаста из моей статьи. Знаете – я был очень доволен. Не столько своей неожиданной публичностью (в рот бы ее ебать – извините), сколько тем, что я посильно помогаю Владе. Тут надо объяснить – с самого знакомства с творчеством Влады я был уверен, что она жутко недооценена из-за общей дебильности нашего общества. И если у меня была возможность это хоть как-то изменить, то я был только рад. На статье я не остановился – на своем любимом фанфик-сайте я опубликовал довольно остроумный фанфик на «Лето», в котором только Влада и Илья могли увидеть очевидные отсылки к нашему первому свиданию в Киеве. На удивление, в этой работе я тоже был по ходу в ударе – у нее был самый большой рейтинг из моих текстов и, думаю, какой-то трафик Владе я нагнал. Потом меня трогательно удивил Илья – он попросил меня помочь написать для Влады стихотворение. Серьезно – это было на него не похоже, и этим тем более трогательно. Он, смущаясь, рассказал мне, что с восторгом наблюдал, как я читал Владе стихи и как она влюбленно на меня смотрела, но он, к сожалению, не знал стихов, а ему бы хотелось тоже Владе что-то прочитать, чтобы ей понравилось. Я помог ему, и мы сочинили акростих.
ветер стремится вослед поездам
лето проходит вливаясь в октябрь
а по далеким пустынным местам
дышат костры и межзвездная рябь
а по далеким пустынным местам
лысые горы вечерних столиц
юные девы числом больше ста
бьются в поклонах не видно их лиц
и растекается осень сквозь них
место пустынное звонкий костер
арка из лоз под которой и ты
явишь свой лик среди сотен сестер
Понятно, что мура, но Илья чересчур полагался на меня, а я увлекся идеей этого акростиха – надо было написать тупо обычное стихотворение или даже белое… Ладно, не суть, главное – фраза из заглавных букв. И еще прикол – Владе понравилось, но Илья так и не признался ей, что сам написал (ну, с моей помощью). Он по ходу до сих пор убеждает ее, что просто нашел этот стишок в интернете.
Короче – мы общались в интернете, я в основном письменно. Ладно, у нас было пару раз что-то по типу секса по видеосвязи, это когда я был дома без Ильи. Идея была моя, но Влада не сильно увлеклась, потому что мне тупо нравилось смотреть на ее гримасы удовольствия, когда она себя ласкала, сам же я даже в этом формате стеснялся себя ласкать и снимать, и даже рожу снимал кое-как, и Влада ныла, ну и пусть, мне было достаточно ее нюдесов и даже просто фоток, не знаю, может, это и пошло, но я бешено возбуждался тупо от селфи, которые она выставляла в инсте, и фоточек с мероприятий. Даже общих, я просто смотрел на нее, вполне себе одетую, и возбуждался, как ни от кого (ну, кроме Ильи, и то им одетым я обычно именно что любовался, а не возбуждался). Ну, короче, по поводу вирта – это они больше с Ильей, хотя Илья тоже немного стеснялся виртуально с ней сношаться при мне. Зато Влада донимала нас расспросами про наши с Ильей ласки, нам нравилось, как она от этого просто таки бесится, становится совсем похожей на ведьму, и мы рассказывали ей, порой даже специально приукрашивая что-то – я письменно, Илья в лицах, все для дамы, ну а что?
Вот я щас вам рассказываю про этот виртуальный секс и про голые фотки, про пошлые расспросы Влады, а знаете, какой самый эротичный момент я бы выделил среди всех за время ее тура? А когда мы просто сидели с Ильей перед ноутом и смотрели ее интервью довольно крупной местной блогерше. Знаете, как это классно? Вот мы просто сидим рядом с любимым парнем и любуемся нашей любимой девочкой на записи резонансного интервью, изредка отпуская реплики вроде:
- Какая молодчинка!
- Тебе тоже нравится, как она шепелявит?
- Смотри, покраснела чуть-чуть!..
Вот это и есть СЕКС, скажу я вам.
Она приехала к нам, когда начался карантин. Поселили мы ее у Ильи. Там вообще было так – мы предложили ей, если хочет, жить одной в какой-то из наших хат, типа – будем ходить друг к другу, но, может, ей будет удобней одной.
- Почему? – спросила она удивленно
И Илья не придумал ничего лучше (он вообще мастер уместных замечаний), чем невозмутимо выдать:
- Ну… ты же девочка.
Блин, капец, надо было видеть лицо Влады в этот момент. Илья увидел и добавил почти сразу:
- Живи у меня. Ну, или идем к Богдану.
У Ильи хата была, конечно, получше, чем мой бомжатник, да и вообще он гораздо хозяйственней. Я остался у них на пару ночей, потом, придумав дурацкий предлог, смотался домой, потом опять вернулся… Зачем? Не знаю. Вероятно, это девиация, но мне нравилось ходить по городу за всякими дурацкими покупками, сидеть дома в интернете или курить на балконе и думать, даже фантазировать, как они там без меня ебутся. Как бы играть с ними, убегая. Особым соком было то, что они как раз таки постоянно меня искали – звонили-писали поминутно чуть ли, а в какой-то раз тупо пришли и остались, так мы пожили у меня несколько дней – Влада у меня убралась, я над этим смеялся и смущался. Потому что мне было приятно. А вот готовил на троих в основном я, хотя мы много шлялись по всяким общепитам – пиццериям и кафе, ну, пока это было возможно из-за ограничений, когда стало почти невозможно – заказывали на дом. Мы любили такую пиццу, знаете – с грибами и мясом, там еще соус вкусный, острый такой, уже не помню, кстати, по-моему, сицилийская (ну, колхозный шик и в названии). Там, кстати, прошел один из первых наших диспутов о трансцендентном – у меня на хате, при поедании этой острой пиццы.
Илья, кажется, скролил ленту на телефоне и монотонным голосом сообщал все, что привлекало его внимание – есть у него такая привычка. Он тогда зачитал что-то про высокую смертность в Италии. Вдруг Влада спросила:
- А вы не боитесь умереть от этой херни?
Она пережевала кусок. Я ответил:
- Я боюсь. Ну, то есть как… Короче говоря – я суицидник. Ну, ты в курсе, да щас речь не об этом….
Влада кивнула.
- Илья рассказывал.
Я так и подумал.
- Ну, короче, у меня была такая амбивалентность, что ли. Когда накрывает – хочется умереть. А когда отпускает – ты вроде бы постоянно боишься умереть. Это в психоанализе, кажется, есть – мысли постоянно крутятся вокруг смерти. Ну, вот и щас так. Не можешь толком жить, бо постоянно думаешь о смерти.
- И ничего не отвлекает? Ну… хоть что-то…
- Отвлекает. Вы.
- Та ну тебя.
- Ну да, серьезно. Помнишь, как я отучил тебя бояться темноты? Ну, не вовсе отучил, короче…
- Не, так правда отучил. Ну, этот лайфхак, он работает.
- Шо за стори? – вклинился Илья, оторвавшись от ленты.
- Ну, ночью если проснусь, мне бывает страшно в темноте.
- Это я знаю.
- Ну, вот Богдан мне лайфхак посоветовал.
- Какой?
- Думать о сексе.
Илья удивленно улыбнулся.
- Нет, серьезно. Что угодно. Фантазировать. Обо всем, что возбуждает. Ну, работает.
- Ну, вот и с вами так. Я думаю о вас. И в это время я не думаю о смерти.
Влада задумалась над моими словами.
- И потому ты так раскован? – спросила вдруг.
- Наверное.
- Мне бы хотелось, чтобы ты и в другие минуты не думал об этом.
- Иду в этом направлении, – кивнул я, улыбнувшись. – Твои книжки меня отвлекают вот.
- Правда?
- Да. Ну, или просто разговоры, как сейчас. Это тоже секс – как и твои книжки, кстати.
- Польщена.
- А как насчет тебя?
- Боюсь ли я умереть от ковида?
- Ну да.
- Знаете, чего я раньше боялась? – Влада взяла еще кусок пиццы. – Не того, что именно я умру, а того, что все потеряет смысл. Если нас выкосит этот микроб, то как бы все потеряет смысл. Но теперь я, кажется, нашла что-то, что меня…
- Не продолжай, я угадаю.
- Богдан…
- Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного…
- Богдан!
- Скажи, что я не угадал.
- Бог-дан!
Она толкнула меня, и я поймал ее в объятья.
- Влада, я не понимаю – ты такая живая, красивая, откуда в тебе эта мертвечина?
- Бог. Дан!
- И как оно внутри тебя уживается?
- Это не мертвечина.
Я поцеловал ее спутанные волосы.
- А как ты узнал, что она скажет? – спросил Илья с интересом.
- Да разве я по книжками не вижу, куда она клонит. Влада, послушай вот что. Ты была суперпозицией. Автором-суперпозицией. Ты понимаешь? Подай пиццу. Сенкс. В тебе, как в веществе изначальной вселенной, содержалось все, блядь, многообразие квантового мира, понимаешь? Понимаешь? И в этом твоя сила – ты все, что можно представить, и каждый находит свое состояние электрона после измерения. Ну, что?
Она смотрела на меня серыми полуприкрытыми глазами.
- Я блуждаю, как слепец, у меня нет ушей и нет глаз, а только осязание, я хожу и трогаю вещи вокруг, пытаясь их описать… представляешь, как это паршиво?
- Ты обидишься?
- Нет. Говори.
- Твои попытки все формализовать не связаны с шизоидностью?
- Может быть. Какая разница?
- Такая, что формализм и описательные системы уродуют мир. Помнишь, мы читали, что главный принцип черной магии – расщеплять целое. Это уродливый скальпель, кромсающий единую вселенную.
- Ты бредишь! Скальпель, как и расщепление, спасают жизнь.
- И создают ковид.
- Перестань! Ты невыносимый и любимый.
Я обнял ее крепче.
- Жизнь и смерть, секс и самоубийство, ты какой-то танцующий хаос.
Влада посмотрела на Илью.
- Да, есть такое, – кивнул тот и отложил телефон.
- Но вам это нравится, – сказал я, прикасаясь кончиками пальцев к грудям Влады.
- Нам нравишься ты, а не твои мысли о смерти.
- Но если не было бы этой амплитуды?
- К черту амплитуду.
- Но эта амплитуда есть в тебе. Ведь есть?
- Богдаш… Это ход с козырей.
- Ладно, я знаю, что ты хотела сказать. Ты хотела сказать, что даже если бы я тебя не удовлетворял или вообще не хотел – ты бы не стала любить меня меньше.
- Да!
- Это ложь. Если хочешь, заблуждение. Ты отделяешь часть от целого, и целое гибнет. Но хорошо. Тогда я тебе скажу. Я буду любить тебя со всеми твоими бреднями о всеблагих творцах. Но если ты надумаешь уйти в монастырь, то я тебя… не отпущу. Потому что без секса с тобой я уже не смогу. Как и он.
- Тут целиком согласен.
- То есть вы… будете меня держать?
- Конечно. И совращать.
- Вот подонки. Илья!
- Я ему помогу.
- Почему ты все время молчишь?
- Мне нравится слушать ваши разговоры.
- А чего ты боишься?
- Не знаю, – он отпил сока. – Боюсь потерять вас. Боюсь, что не смогу вас защитить, если наступит время.
- Как мы это сделаем? – спросил я Владу.
- Синхронно.
- Найс.
Мне нравилось, ублажая Илью, подстраиваться, как бы повторять за Владой. Хотя она и говорила, что я умелее в этом, наверно, потому что парень. Не стану спорить, но все же мне нравилось как бы повторять за ней – так, удовлетворяя Илью, я как бы одновременно сливался с Владой в нечто целое, и это было потрясающе. Да, потрясающе.
***
Мы прожили в Конотопе вместе почти весь карантин, а потом Влада уехала за границу к своим – у них было заведено проводить время вместе хотя бы раз в год, Влада этого не любила, мы были на связи почти все время. К слову, она даже подначивала нас поехать с ней, но я сказал, что это глупость, а потом сам загорелся идеей отправить с Владой Илью. Она говорила, что представит его отцу как жениха, я горячо поддержал, мы даже заставили Илью вакцинироваться подходящим шмурдяком, но загранпаспорт делать он наотрез отказался – говорил, что пусть я сам еду, тут уж отказался я, и мы так страдали херней некоторое время, потом отвезли Владу в Киев, там побыли у нее день и уехали домой. Как-то Влада написала мне из-за границы, не сможем ли мы снять какой-то домик в Сосновке или Шаповаловке на лето. И хотя за свою пенсию я никакой нормальный домик снять не мог бы, боюсь, что даже Илье это если и было по карману, то с натяжкой, а Владины деньги мне тратить не хотелось, я почему-то этой идеей тоже загорелся и стал прочесывать местные сайты. Там я и обнаружил Ведьмин Дом. Это мы позже его назвали Ведьмин Дом, потому что Влада вообще любила отсылки – я думаю, заметно по ее творчеству, и она это позиционировала как глобальную отсылку к Лавкрафту, реально же была банальность – Ведьмин Дом, потому что Влада там писала «Ведьму». Ну, может, еще потому что мы порой шутили: Влада – ведьма, значит Владин дом, соответственно, Ведьмин. Но, ради правды, это уже была натяжка – мы редко называли Владу ведьмой, меня ведьмаком или колдуном они оба называли чаще, в частности потому, что я любил толкать длинные телеги о всякой алхимии и мистике, зачастую являющиеся вольными пересказами бредней Евгения Головина. Короче. В Шаповаловке или Сосновке я никаких нормальных и, что не менее важно, уединенных домов не обнаружил, это были обычные деревни без всякой туристической инфраструктуры, тем более меня смущало, что я мог встретить там знакомых, у меня были знакомые оттуда со времен моей школьной игры в футбол, это загон, но меня это почему-то смущало, несмотря на то что в Конотопе у меня было намного больше знакомых, тех же одноклассников и т. д. Но это ж все-таки деревни. И тут, как в сказке – мне вывалилось объявление об этом коттеджном поселке, никакой это был не поселок и даже не улочка, там было три коттеджа, которые типа должны были сдаваться в аренду, они были только-только построены, один вроде даже не достроен, но тут ковид, как понимаете. Поселок был в черте села Слобода, но села там уже, по сути, не было – хутор, еще с советских времен. Что там было завлекательное, так это лес, по сути, это была черта Полесья, и еще там был Сейм. Но вся эта история с туризмом стопорнулась по причине карантинов, и коттеджи сдавались дешево, можно было снять даже на полгода. Я скинул ссылку Владе, и она была в восторге. Не успели мы это дело обсудить с Ильей, как Влада сообщила, что уже сняла отдаленно стоящий коттедж на целое лето. По приезде она должна была решить кое-какие дела в Киеве, и дальше мы запланировали поехать в коттедж. Про коттедж. Это был двухэтажный деревянный домик на опушке леса. Второй этаж там был не полноценным этажом – мансарда, но планировка там была милая, особенно нам понравилось довольно широкое окошко, выглядывающее в лес, в этой мансарде, деревянная компактная лесенка. На первом этаже кухня была совмещена с самой большой комнатой. Была еще душевая в такой почти что каморке, довольно тесной. Ну, короче, ничего такого. Довольно тесный и бюджетный коттедж, но с водопроводом, газовым и дровяным отоплением.
Влада приехала в Конотоп в конце мая на своем внедорожнике. И мы поехали смотреть. Нам понравилось. Это были глухие, но по-своему очень живописные места. К коттеджам почти примыкала улочка села, за пустырем. Но сами коттеджи, и особенно наш, стояли уединенно, почти как бы в черте леса, грунтовая дорога тянулась от нашего коттеджа дальше через лес к заброшенному дому отдыха и пионерлагерю. И этот дом, и пионерлагерь когда-то принадлежали конотопскому заводу, но и завод давно обанкротился, и пионеры кончились, а отдыхать сюда не очень-то хотели ехать. В другую сторону, через пустырь, плутала в травах стежка к Сейму. Забегая наперед – мы обожали эту стежку. Летом мы по ней ходили к Сейму, туманным ранним утром или на закате. Купаться или просто погулять. Бывало, Влада всю ночь сочиняла, я стенографировал, Илья варил нам кофе, или искал что-то для Влады в интернете, или спал… Помните в «Ведьме» тот страшный кусок, где Оксана теряет сознание в церкви? Влада загналась насколько, что мы полночи искали в интернете информацию о внутреннем устройстве казачьих церквей тех времен, об этом бабинце треклятом – ей надо было точно, как они стояли там, Илья нам чуть не три-де-модель в редакторе сделал, чтобы четко видеть, как там падал этот тусклый зимний свет… Пожалуй, недурно будет в качестве эксклюзива рассказать вам про создание этого потрясного куска. Если Влада захочет – пусть вытрет потом, но я так отчетливо помню этот случай, что почему бы и нет?
Короче говоря, я не подробно помню день, но вечером помню, что мы смотрели на ноутбуке восстановленную версию «Apocalypse Now», уже не помню, чья была идея, вероятно, ситуативная, как у нас обычно и случалось, ах, ну да – как раз где-то перед тем мелькали статьи про повторный прокат этого фильма, за год или два до этого, и мы решили посмотреть, че там такого навосстанавливали. Владу дико бомбило от этого фильма, и она весь просмотр изъяснялась практически одними цитатами из «Пляжа» Алекса Гарленда типа «Vietnam, me love you long time!» Кислота, льющаяся сверху в дельту Меконга, марихуана через дуло винтовки и все в таком духе. Вещмешки. Затворы. Вьетконг. Гарленда, впрочем, Влада тоже ненавидела, она говорила, что единственное путное из этой всей и сопутствующей ей херни – это молодой Ди Каприо в его экранизации, впрочем, говорила она, его персонаж там написан таким феерическим опущем, что это, возможно, единственная роль Ди Каприо (ну, может, кроме Рика Далтона из «Однажды в Голливуде»), от которой Влада «не текла». Она так и сказала это последнее – она вообще любила нас третировать этим Ди Каприо, зная, что мы к этому в целом равнодушны… Ну, знаете, Влада, конечно, редкостный талант и все такое, но чего-то я сомневаюсь, что она имела хотя бы теоретическую возможность где-то замутить с Ди Каприо хотя б невинную интрижку до того времени, пока у него не разовьется деменция. Ну, рили. Не говоря уже о том, что это была очевидная юношеская платоническая и совершенно куртуазная любовь, ну, как у Данте к Беатриче. К слову говоря – по типажу ни Илья, ни уж тем более я на Ди Каприо совсем не походили. Илья, если уж сравнивать, чем-то походил на немного подкачанного и посмуглевшего Тимоти Шаламе (ну, Илья реально красив – хули вы удивляетесь?), а уж если меня сравнивать со знаменитостями, то я, наверное, немного смахиваю на молодого Тома Харди с перекошенным лицом (но я не красавчик, просто по типажу похож, если что, мне даже его стиль идет обычно). /позднейшая вставка – Влада спросила, на кого из знаменитостей она, по моему мнению, похожа (со сравнением Ильи, кстати, охотно согласившись). Я процитировал еще раз ей тот кусок про секстилионы – она дралась, но я не унимался и назвал одну любимую порноактрису – она меня душила. Тогда я задумался и сказал, что в той своей шапке она иногда напоминает мне Хизер Донахью из «Blair Witch», не столько даже внешне, а по типажу, что ли, ну, там у нее тоже была такая гоповатая шапка, хоть вроде и не вязаная. На удивление, Влада сказала, что не видела этого фильма, а может, не помнит, и тогда мне стукнуло в голову о типажах, а именно вот что: если всерьез классифицировать Владу по Кибби (я не то чтобы слишком серьезно к этому отношусь, но щас не о том), то я б, наверное, отнес ее к софт гамину с довольно мощным софт – она маленькая и хрупкая, с узкими плечами, но при этом женственная, и у нее большие, очень выразительные глаза… подумав об этом, я сказал: «Немного на Аврил Лавин в юности». Не удивляйтесь. Я много слушал всякой музыки конца 1990-х–начала 2000-х, и меня вообще привлекает эта эстетика, как вы, наверное, поняли по выбору прикида для Ильи, и исходя из этого я не то чтобы никогда не дрочил на юную Аврил Лавин… Ну, и короче, шо вы думаете? Она опять дралась. А потом начала подводить глаза точь-в-точь как Аврил Лавин в юности и – блин, меня это заводит).
Ну, так вот, мы смотрели эту многочасовую духоту про Вьетнам (не скрою, что в этом редуксе насыщенный кадр, но только и всего), и Влада, я уже не помню в какой момент даже, разразилась тирадой о том, что ненавидит этот фильм, и ненавидит «Сердце тьмы» Конрада, и вообще, если уж на то пошло – не понимает, в сущности, какого хера она вообще должна сочувствовать каким-то половозрелым мужикам, которые приперлись хер знает куда стрелять, насиловать и грабить, а теперь разводят греческую драму из симптомов своего ПТСР? Ее несло и несло (блин, как я ее обожаю в такие мгновения – если б вы знали! Илья, кстати, тоже), она приплела сюда «Цельнометаллическую оболочку» Кубрика, заметив, что она обожает экранизации «Сияния» и «Лолиты», но вот этот фильм не просто мимо – тут все то же самое, надутые щеки американского империализма и крокодиловы слезы оккупантов, столкнувшихся с тем неожиданным обстоятельством, что не только они могут убивать, но и их тоже. В какой-то момент она полезла в настолько дремучую хуйню, что выдала: дескать, в перестроечном кино об Афгане, по сути, больше какого-то переосмысления, чем в этой оскароносной еболе, которая пытается метафизически рассуждать на темы, в которых нихера не понимает. Почему в фильме Кубрика – спросила она – экранизирована только половина книги? Можно же было и Лолиту так порезать, до смерти матери или до секса с Гумбертом – ну? А вот потому – говорила она – что главный герой и автор книги после войны ПРИЕЗЖАЕТ во Вьетнам жить, женится там на вьетнамке и остается навсегда. В этом факте, говорила она, больше правды, чем во всем этом клише про жестокость войны, которая обязательно таится в человеческой природе, если убивать приходите вы, а если убивать приходят вас, то это – Мордор, покусившийся на Нуменор, и никакой уж изначальности тут нету. Это как… – говорила она, – тот же Кубрик, рассуждающий о женской сексуальности в «Eyes Wide Shut» и при этом абсолютно не отбивающий того тонкого нюанса, что само по себе признание Николь Кидман могло бы быть безобидной девиацией, если бы касалось только мужа, которого она «хотела променять на моряка». Но вот если оно касается спящей за стенкой маленькой дочери этой женщины, то это ее признание совершенно заваливает моральный горизонт, и дело тут не в том, что женщина бы вовсе не сказала так, возможно, и сказала бы, но подразумевала бы она при этом что-то кардинально отличающегося от того, что вложил в эту фразу Кубрик, проговаривая ее устами Кидман. Короче, – говорила она, возвращаясь к Копполе, – кто-то может мне объяснить, в чем смысл этого разглагольствования Курца? Почему он там живет в окружении камбоджийцев – потому, что он их белый господин? Да слушайте, – говорила она, – можете обвинить меня в феминизме, но в этих дурацких мальчишеских драках из «The Hurt Locker» Биглоу больше правды, чем в вот этих многочасовых меряниях членами. Вы уж простите, мальчики, – добавила она в конце, – не то чтобы я не любила члены…
- Прикинь, а мы никогда не мерялись членами? – сказал я, вопросительно взглянув на Илью.
- Да вроде бы нет, – сказал тот, задумавшись.
- Ну, говорите что-нибудь! – взмолилась Влада.
- Илья! – сказал я апатично и положил голову на плечо Ильи, тот приобнял меня.
Я реально приятно устал от этой тирады, это было очень похоже на слабость после сильного оргазма, разве что, может, только интеллектуальную или психологическую – почему-то Илья всегда был более стойкий к Владиным мозговым штормам, а вот я уносился за ее мыслью и кружил, это было приятно, но я иногда уставал.
- Влада права, – сказал Илья, слегка поглаживая мое плечо. – Она все как-то очень тонко чувствует.
- Это ты из… собственного опыта? – взглянул я на него, так и лежа на его плече.
- Ну да… Короче, понимаете, они там в фильме ходят, будто бы танцуют. И говорят, как будто знают, что им щас ответят в точности. Ну, понятно – кино, там расписано. Но это и смешно на самом деле. Там вот был бой, и, понимаете, в чем прикол – они там каждый знает, кто умрет, а кто дальше поедет, а оно не так.
Илья задумался.
- Прости, – сказал я тихо. – Я нечаянно.
- Та господи, чего? – так мило улыбнулся он.
- Нет, правда, что-то меня тоже понесло, – понурилась Влада.
- Так, а ну… обнимите меня, – улыбнулся Илья.
Влада рухнула на диван возле Ильи, с другой стороны, я полез обнимать его, Влада тоже, и мы почти одновременно поцеловали его.
***
Потом оно было стихийно, у нас довольно часто получаются продолжительные, как бы это сказать, ну, предварительные ласки. Влад, я не знаю, стоит мне все это описывать подробно или нет? Ну, мы ж еще отредактируем потом, не знаю. Короче, в тот раз мы, целуя Илью, постепенно приблизились к предметной сути нашего предыдущего разговора, и поскольку вдвоем с Владой мы способны на многое, то Илья очень скоро остался довольный и удовлетворенный. Мы же продолжили целоваться, ощущая в этих поцелуях вкус победы на наших устах и не только (нормально так? ржет), мы заводились все сильнее, и я в конце концов набросился на Владу (мне часто нравилось быть с нею грубоватым, в отличие от Ильи, наверное, но особый кайф был как раз в том, чтобы сразу после грубости заботиться о ней, лелеять). Ну и, короче, тут уж исчерпался я. Я не раз говорил Владе, что ненавижу свой рефракторный период и что мечтал бы иметь ее, пока не умру. Она мне постоянно отвечала, что не хочет, чтобы я умирал, и что любит меня всяким, и даже уставшим. Но все-таки удобно трахать девочку вдвоем – когда я выдохся, Илья был рядом, и короче, я с наслаждениям сжимал ее руку, а она сжимала мою, пока в нее входил Илья, я в какой-то момент целовал ее скользкие губы, потом она кончила. Илья же еще был вполне себе в ударе, и мы посмотрели друг на друга с вожделением. И бросились друг другу в объятья. И тут.
- Я придумала!
На весь коттедж. Я думал, что она заснула.
- Она придумала, – сказал Илья, оторвав свои губы от моих.
- Ну и что? Я хочу тебя, – сказал я обиженно.
Хотя уже знал, чем это все закончится.
- Я тебя тоже, но она придумала.
Он легонько шлепнул меня по плечу.
Я вздохнул и резко отвернулся от него. Влада лежала навзничь голая, вспотевшая и абсолютно просветленная, смотрела в потолок большими и красивыми глазами. Ну как же она невозможно прекрасна!
Я практически лег на нее, опершись локтями о постель.
- Что ты придумала? – спросил устало и потерся носом об ее нос – мы часто так делали, было забавно, по-детски.
- Я знаю, что будет в этой церкви на крещении ребенка сотенного есаула. Оксана потеряет там сознание.
Я наморщил чело.
- Не слишком явно?
- Не, там много людей. Просто обморок.
- Может быть, – я кивнул. – А зачем тебе это?
Я осторожно убрал спутанные волосы с ее глаз.
- Потому что у нее будет видение.
- Краса, ты щас это придумала?
- Ну, да.
Я не понимал, как работают ее озарения, – даже и не пытался. Знаю, что ей часто снилось что-то колдовское и красивое – и мы старались записать наиболее подробно. Какое отношение к этому имела плотская любовь? Какое-то, наверное, имела – иногда мне казалось, что оргазм что-то как бы переключает в ее мозгу. Не то чтобы мы специально это делали, чтобы она сочиняла – в конце концов, мы хотели ее и хотели доставлять ей удовольствие, но не скрою, что в этих озарениях тоже было что-то очень возбуждающее и манящее для нас.
- Будем писать? – я лег возле нее на бок, подперев голову рукой.
- Я хочу очертить на словах – ты запомнишь?
- Давай я быстро наберу? Или включить диктофон?
- Нет!
Влада дернулась и тоже легла на бок – лицом ко мне.
Она ненавидела диктофон – это, в ее понимании, нарушало интимность, и вообще собственный записанный голос сбивал ее с толку.
- Вот…
Невесть откуда взявшийся Илья поставил передо мной макбук с запущенным редактором.
- Я в душ, – сказал.
- Прости, – игриво жалобно скривилась Влада, и он, уходя, пошевелил ей спутанные волосы, от чего они опять упали на глаза.
Она попыталась шлепнуть его пониже спины, но кажется, не достала, Илья ушел. Что-то мне подсказывает, что не только помыться, но тогда я об этом не думал. Влада легла на живот и сказала (щас не точно воспроизвожу – это именно что чернетка, которую мы удалили, все окончательно расписав. Это был такой «скрипт» будущего текста – это Влада так говорит):
- Заметаемая завирухой вечерняя степь. Волчья стая из Дикого Поля бредет по степи, как по снежному морю. Сделай там пометку, чтобы я потом зарифмовала с той волчьей стаей из Лета Господнего, плиз…
- Угу…
Она лежала на животе, подпирая подбородок кулачками, спутанные волосы спадали на лицо, она согнула ноги в коленях и заболтала ими. У нее были такие явственно округлые бедра, которые я обожал, вообще стан такой тонкой восьмерочкой, знаете. Почему-то при невысоком росте и «тендітності» это очень манило.
- Волки подходят к кладбищу в Красном Колядыне, там эти каменные кресты, засыпанные снегом, обмороженные, кое-где в сосульках. Над лесистым холмом деревянная церковь. Там правится… Главное – перед аналоем дрожат свечи… Икона Покровы Богородицы, вот эта….
Влада защелкала пальцами и быстрей заболтала ногами.
- Барочная, где украинка Мария. Вот-вот, она смотрит на эту икону, Оксана.
- Я понял.
Илья зашел в одних спортивках, с рушником на плечах, он нес по кружке с кофе в руках. Поставил кружки на стульчик, принес этот стульчик ближе к нам и укрыл Владу пледом.
- Залезай под плед, – сказал мне.
- Тихо!
- Лезь под плед!
Влада сама меня укрыла, глядя в монитор.
Илья поставил на стульчик пепельницу и взял из шкафа пачку сигарет и зажигалку. Стукнул пачкой по макушке задумавшейся Влады и сказал ей:
- Курить над пепельницей, не курить в постели.
Еще раз стукнул и отдал ей сигареты.
- Нужно че? – спросил и улыбнулся.
Влада как будто только его увидела.
- Да, нагугли мне пока о таинстве крещения, подробно! Мне нужен текст запрещения, оно так и называется, ищи… «Запрещает тебе Господь, диаволе, пришедый в мир и вселивыйся в человецех», – я дальше не помню, ищи.
- Хмм… да разрушит твое мучительство, и человеки измет?
- Вот-вот!
- …иже на древе сопротивныя силы победи, солнцу померкшу, и земли поколебавшейся, и гробом отверзающымся, и телесем святых востающым: иже разруши смертию смерть, и упраздни державу имущаго смерти, сиесть тебе диавола.
- Запрещаю тебе Богом, показавшим древо живота, и уставившим херувимы и пламенное оружие обращающееся стрещи то, запрещен буди.
- Так ты все знаешь!
- Тихо! Я печатаю… пусть говорит.
- Убойся, изыди, и отступи от создания сего, и да не возвратишися, ниже утаишися в нем, ниже да срящеши его, или действуеши, ни в нощи, ни во дни, или в часе, или во полудне: но отъиди во свой тартар, даже до уготованнаго великаго дне суднаго. Убойся Бога седящаго на херувимех, и призирающаго бездны, егоже трепещут ангели, архангели, престоли, господства, начала, власти, силы, многоочитии херувими, и шестокрилатии серафими: егоже трепещут небо и земля, море, и вся, яже в них. Изыди, и отступи от запечатаннаго новоизбраннаго воина Христа Бога нашего: онем бо тебе запрещаю, ходящим на крилу ветреннюю, творящим ангелы своя огнь палящ: изыди, и отступи от создания сего со всею силою, и ангелы твоими.
Ну, это был реально жуткий кусок, как она упала в этом притворе и очнулась летом в заросшей запаутиненной церкви, где лежали высохшие скелеты старшин в потемневшей истлевшей одежде. Это, понятно, тоже была отсылка к «Кровавому меридиану», да, но это потому что я знал – так не факт, что и отобьешь. Опять же – Владе хорошо давалось описание запахов. Там вот этот гнилостный смрад, эта вонь почерневшего дерева, мха, разложившихся трупов и плесени…
Не буду, короче, пересказывать – я набирал, Илья слушал. И нам обоим было страшно. Наступал рассвет, когда Оксану откачали. Я четко это помню – она не просто раскрылась вовсе, а сползла и села на край постели. Она сидела ко мне спиной, со своими прекрасными голыми бедрами, спутанными волосами, она обхватила ладонью чело и курила, согнулась, нога за ногу.
Илья осторожно подошел к ней, спросил негромко:
- Влада, ты будешь спать? Влада, ты ляжешь? – осторожно коснулся ее плеча.
- А? Нет, я не засну.
Илья открыл окно – потянуло туманом.
- Заварить тебе кофе? – спросил Илья.
- Давайте пойдем искупаемся.
Влада вдруг посмотрела на него.
Илья на меня, я кивнул.
- Хорошо, – Илья кивнул. – Я заварю вам кофе. Богдан, ты оденешь ее? Богдан! Или тебя самого одевать?
- Не… Не-не, щас все… Влада!
***
У Влады было несколько забавных поведенческих особенностей, которые меня смешили. Ну, например – она не очень любила обнажаться вне сексуального контекста. Щас вдруг понял, что это не так-то просто объяснить, но я попробую. Я уже говорил, что мне нравятся тактильные ощущения, когда я обнажен, я говорил, что у меня есть привычка ерзать и тереться об Илью в постели (об Владу, кстати, тоже, но там есть особенность – я объясню). Это я знаю за собой с юности или, пожалуй, даже с детства, мне кажется, у меня много эрогенных зон разбросано именно по телу, по коже именно. Щас такое редко бывает, но в юности, в подростковом именно возрасте я часто ощущал такие будто электрические разряды под кожей, причем даже без какого-либо эротического подтекста. Иногда из-за этих разрядов я не мог заснуть или усидеть на стуле, с тех времен вот эта моя привычка ерзать. Или чесать голову. Да, на макушке у меня какой-то пиздец нервных окончаний, забегая наперед – Влада могла привести меня в почти оргастическое блаженство, просто легонько массируя голову, виски, играя с моими волосами. Я много раз пытался это повторить на ней – но нет, она была не столь отзывчива к подобным ласкам и как-то во время секса прямо мне сказала «схвати меня за волосы». Да, это ей нравилось. Ей нравилось заламывание рук, шлепки и сильные объятия, даже небольшое удушение, но мы с Ильей оба последнего избегали, и со временем Влада согласилась, что ей достаточно имитации оного. Илья вообще, как я и говорил, в сексе более ласков к Владе, чем я, наверное, его страсть измерялась разве что в интенсивности движений или там крепости объятий, но Влада приучила его ко всяким доминирующим трюкам, и ему даже понравилось, насколько я мог судить. Я же, несмотря на то, что позволял себе с Владой больше грубости, все же сам по себе был резко отрицательно настроен к любым элементам насилия – по мне, это антисекс. Я был с Владой грубоват по другой причине – я ее дико хотел. И эта дикость ей нравилась. И эти переходы грубости в ласковость в моем исполнении ей тоже нравились, насколько я мог судить (мы это постоянно обсуждаем, да, и если я говорю «насколько я могу судить», то это просто моя застенчивость, ок?). Как-то в ходе этих бесчисленных обсуждений и экспериментов мне захотелось лучше понять Владу, и я попробовал принимать от Ильи ту жесткость, которая так нравилась Владе, и знаете что? Мне понравилось. Не все, очень в лайт-варианте, но мне понравилось, как он мной наслаждался, скажем – хотел меня и брал все, что хотел. Мы обсудили это с Владой – она была в восторге от происходящего, и это меня тоже вдохновляло, ясен пень. Мы согласились, что это круто, я теперь получше понимал, чего хочет Влада, и старался это воплощать. Но был один нюанс. В ходе всего этого движа я вдруг предложил ей побыть со мной столь же активной, как Илья, короче, делать со мной то, что делал Илья (и что ей так нравилось), ну, беря во внимания разницу между ними. И это было одно из существенных наших открытий, а именно – я моментально приходил в сексуальное неистовство от того, что Влада вела себя со мной, как парень, скажем так. Это было просто волшебно, мне сложно описать. Я дико возбуждался от самого ее вида, взгляда в такие мгновения, от самого факта, блин, короче. Это могла быть, казалось, сугубая мелочь, например какой-то невинный, но решительный шлепок, или, например, мы разминаемся с ней где-то в коридоре, и вдруг она хватает меня, прижимает к себе и лапает или жадно целует взасос. Или, например, помню, как меня это приятно поразило – она сверху на мне и кажется такой прекрасной, я поднимаю голову, чтобы ее поцеловать, а она вдруг хватает меня за шею и прижимает к подушке, я тут же достигаю пика. Будничное, но решительное «Я хочу тебя изнасиловать» – и я тут же таю: «Да, солнышко, все будет, как ты скажешь». Как-то мы жили у меня, и Влада решила развить эту идею и пригласила меня на свидание. Да (я потом узнал, что они с Ильей это обсуждали). Причем она хотела именно вести себя со мной, как парень, – открывать двери, помогать раздеться, отодвигать стул, делать мне комплименты, развлекать меня, заказывать, что мне захочется, и оплачивать счет (да, вплоть до этой подробности, блин). Сказать, что я смущался – ничего не сказать. Но ей удалось меня раскрепостить и… Я просто не знаю, мы обсуждали это с Ильей и, ничего не объяснив, просто зафиксировали факт, но… я не знаю, почему, но когда она все это делала со мной… Блин, для меня не было никого и ничего прекрасней и желанней ее, ее, ЕЕ, ВЛАДЫ, о, как же я ее хотел тогда. Уже тогда на свидании я не выдержал и сказал ей все это. Я сказал:
- Влада, я не знаю почему, но когда ты вот так ведешь себя со мной, то почему-то делаешься до безумия прекрасной.
Она сдержано и НАДМЕННО улыбалась в ответ. Прям так знаете с прищуром, как уверенный в себе парень, хах.
- Я хочу тебя прямо сейчас.
- Нет.
- Ну, Влад…
Я чуть не плакал. Она вдруг уверенно взяла мою руку в свою и поцеловала, затем так и держала в своих. Теплых. Маленьких. Изящных.
- Это классно, что мы делаем, мы это все обсудим, но дома, окей? А сейчас у нас свидание, красавчик.
Дома у нас был безумный секс, и я был настолько жадный и напористый, насколько хотелось Владе, и после этого я почувствовал и научился делать, как ей хотелось, а она поняла, чего хотелось мне. Мы назвали это реверс-интересом, мне были по ходу интересны вот именно эти тонкие нюансы смены ролей, и Владе, кстати, тоже это оказалось интересно, и прикол был даже не в грубости и не в доминантности, а вот именно в тонкостях, и самое важное – это позволило мне открыться Владе до конца, то, что она была так со мной, как бы нас уравняло, и я мог проявлять с ней мужественность, и это меня совсем теперь не угнетало как-то, в отличие от раньше, когда я постоянно думал, что типа чему-то должен соответствовать, и, может, я какой-то не такой, это какое-то внутренне неравенство ушло, вы понимаете? Совсем. Именно после этого я стал с ней проявлять напор и грубость, которые ей нравились, и именно после этого мы с ней обсудили мою чувствительность, и Влада научилась обалденно с ней взаимодействовать. Она исследовала чуть ли не каждый миллиметр меня, и мы поняли это про макушку, бедра, ягодицы, но самым удивительным открытием была, как ни странно, спина. Да, оказалось, спина (и немного плечи) были самыми чувствительными – вы не представляете, что Влада делала с моей спиной посредством одних своих разукрашенных ноготочков – без всяких царапин, без всего. Это было тоже своего рода проявление доминирования с ее стороны, но нежное, все как мне нравилось. Илья тоже это оценил, ему нравилось, как я тащусь от этого, и они научились делать мне улетный массаж вдвоем. Вот что касается Ильи – надеюсь, вы не думаете, что я ему не возвратил те грубые ласки, которые в целом понравились мне? Вроде бы ему тоже немного понравились (Владе – вот кому это все больше всего нравилось, беспристрастный наблюдатель тоже мне), но в целом в его реакциях было что-то дежурное. Трюк с доминацией Влады он тоже охотно принимал, но… короче, по ходу он просто хотел, чтоб мы были довольны. Вот, несмотря на его крепкую спортивную фигуру, ежедневные занятия (бег, отжимания, пресс, турник иногда), вы не представляете, какой он был в душе ванильный, что ли – он любил обнимашки, поцелуйчики, лежание рядом, поглаживания, утютю Влады – я пытался это изобразить, но у меня плохонько получалось, хотя он утверждал, что похоже, хах). Он был гораздо менее извращен, чем мы с Владой, надо признать, но вместе с тем – он как бы нас уравновешивал, стабилизировал, что ли. Вот именно он, возможно, делал из нас стабильную, похожую… Ну а что – нет? Похожую на семью троицу людей, именно что похожую на нормальную семью, не позволяя нам с Владой ввергнуть отношения в какой-то треш, запутавшись в собственных девиациях, хах. Но он помогал и мне (хотя и Влада, конечно, – вот как с теми опытами со свиданием). Я любил шутить, что мы были с Ильей любящей друг друга парой, да, и это были две опорные точки, основа, а Влада стала как бы бриллиантиком, оттеняющим нас обоих и концентрирующим нас на себе.
/@ruah: какая чушь. //@givenbygod: пошла ты, ты – бриллиантик!/
Короче говоря, как вы поняли, я любил тактильность, и мне нравилась нагота. Я не то чтобы считал себя пиздец красивым, но, между нами говоря, тело у меня было норм. Может, и не такое спортивное, как у Ильи, более худощавое, но, если не хромать и закрыть мою рожу мешком – вполне себе достойное тело, имхо. Но дело даже не в этом, а именно в тактильности – нежиться утром в постели, ощутить приятный холодок, сбросив одеяло, тепло тел Влады и Ильи рядом с собой – я, например, как будто отличал тепло их тел – обжигающий душ и обволакивающую воду в ванной. Я это обожал, я как бы ощущал все кожей. В жару, да и не только, я легко не одевался вовсе в доме, мне вообще было хорошо обнаженным, но именно при своих или в одиночестве, тут как раз дело не в эксгибиционизме, я, например, так же стеснялся фоткаться нагим, как и одетым, как-то с Владой у нас зашел разговор, она фоткала меня исподтишка, как оказалось, показала мне:
- Смотри, классная фотка.
Было жарко, я лежал на диване после душа, перевернувшись на живот, погрузился в бумажную книгу, – Влада посоветовала, «The Ritual» Адама Невила… И она меня сфоткала вот так в лицо, было видно, что я голый, но никаких подробностей особо, и обложка книги даже в тему закрывала парализованную сторону, а шрамов от швов на бедре было вовсе не видно – они были с другой стороны. Не, реально неплохая фотка, неплохая поза, челка спадает на глаза, и я сосредоточен так забавно. Блин, Влада, это была неплохая фотка. Она осталась у меня, и я на нее смотрю иногда. Она мне нравится. Но тогда я чуть ли не скандал закатил, да буквально скандал, я очень засмущался. И когда перебесился, Влада спросила меня:
- Ты никогда себя не фоткал?
- Нет.
Да я вообще-то себя не фоткал особо. Даже и одетым. Но, тем не менее, Владе удалось меня расшевелить, чтоб я не так стеснялся. Там, на речке, я полюбил купаться голышом, мне это нравилось именно из-за ощущений. Но без подначивания Влады я бы не решился, несмотря на то что это было глухое место и, кроме нас, туда никто не ходил. Я даже с удовольствием там стал загорать голышом на берегу и неплохо загорел за лето. Но прикол в том, что мне это нравилось даже и вне контекста секса, понимаете? Это было просто приятно. А вот Влада охотно обнажалась только если что-то намечалось или хотела нас с Ильей подразнить, ну, в таком духе. Поначалу я заметил, что она легко засыпала голой после секса, но если среди ночи просыпалась, например, то надевала ночнушку. Вот я заметил: проснусь с утра – Влада спит уже в ночнушке. Мы любили, если спали вместе, класть ее между нами. Так и привыкли, но Илью я из-за своих пристрастий к тактильности приучил давно тоже спать голым (поначалу он любил спать вообще в трусах и футболке, жесть) еще до нашей с Владой встречи. Но вот Влада в этом смысле была непоколебимой. Не то чтобы она протестовала, нет. Нам нравилась она обнаженная. И она поначалу так забавно пыталась нас удовлетворить в этом вопросе. Она забавно выходила из душа в полотенечке, сушила волосы, брала какую-то книжку или телефон, снимала это полотенечко и аккуратно складывала, вешала на стульчик и ложилась между нами или с кем-то из нас, читала или листала ленту в телефоне, целовалась (отходя ко сну, мы обычно целовали друг друга и желали спокойной ночи), дальше было самое страшное. Вы уже догадались? Нет? Ну, кто-то выключал свет, ложился, как кому нравится. Влада некоторое время лежала, потом через некоторое время натягивала одеяло на подбородок. Не, это умора. Она натягивала одеяло на подбородок и, дико стесняясь (это стеснение явственно слышалось в голосе), шептала:
- Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое…
Потом она некоторое время мешкала… потому что в ночнушке она привыкла читать и креститься, спустив одеяло до пояса, а сейчас стеснялась – и, не решившись обнажить грудь, крестилась немного неуклюже поверх одеяла и ложилась на бок (она спала в основном на боку, во сне иногда переворачиваясь на живот). Но стоило ей ночью проснуться и сходить в ту же уборную – она ложилась всякий раз уже в ночнушке. Как-то мы с Ильей спрятали всю ее одежду, какую нашли. Она проходила голой с полчаса, ей это явно не нравилось, и в конце концов она надела олимпийку Ильи и с довольным видом принялась готовить завтрак. Блин. Короче, мы сдались, и она с таким удовольствием стала надевать ночнушку на ночь, что вы не представляете. Она не могла толком объяснить, что не так, яростно отвергала наши упреки в том, что она не чувствует себя с нами защищенно.
- Как еще мне вам ДАТЬ, чтобы вы не несли хуеты?!
Это надо было ее еще довести до такого выкрика – она, как и я, не любила этого быдляцкого «дать» и вообще таких формулировок.
Короче – она спала в ночнушке, если мы трахались, она клала ее где-то рядом и надевала, когда все отходили ко сну, или, проснувшись, надевала. Она носила такие длинные ночнушки-футболки, такая любимая с НАСА, как я уже писал (на самом деле их было две похожих), а после этой истории я подарил ей целых пять штук, тоже черных, с принтами обложек разных частей Call of Duty – ой, вы бы видели, как она ржала, и носила почти постоянно только их. И вот она спала в футболке, во время месячных надевая трусы, и утром подолгу могла ходить в этой ночнушке, завтракать в ней или готовить завтрак, заваривать или пить кофе. И не могла мне объяснить, в чем разница – ты все равно без трусов, без лифчика, в чем разница, в футболке или без?
- Не знаю, – говорила она.
А потом как-то сама опять подняла эту тему и сказала, что голой не может толком думать ни о чем, кроме секса, во всяком случае, долго. Мне это было странно, но я, наверное, понял ее, и со временем нас даже как-то стала заводить ее НЕнагота. Ну, знаете, есть вроде даже такой поджанр порно – обнаженные парни и одетые девушки. Вот что-то такое.
Ну, так вот, Влада и плавать в реке голой не любила, в отличие от меня, ну тут, ясно, мы и не заставляли, все-таки речка есть речка (хотя мы как-то уломали ее на обнаженную закатную фотосессию среди камышей, получилось прикольно, но в воду она заходила только по колено, да, русалочка?). Вообще же поплавать она любила, как и я (Илья не очень – он и плавать толком не умел и не особо-то хотел учиться), но голой не плавала. Я, впрочем, тоже не всегда, особенно днем, когда существовала вероятность встретиться с кем-то на реке, – я обычно надевал брифы на шнурках, такие, для бассейна, в них было удобно, а Влада любила слитные купальники, сплошные, без вставок и особых вырезов, были пара на одно плечо, может, с более глубоким декольте или более открытыми бедрами, тоже спортивного толка, что ли, практичные, в целом такие, знаете, не то чтобы строгие, ну, не вульгарные, не пошлые – они ей удивительно шли, и я часто думал, почему так – вот такой купальник на этой девушке выглядит, может, гораздо более возбуждающе, чем любое бикини и, может, даже более, чем нагота. Но вообще у Влады есть вкус, она же гений.
Ну, так вот – Илья тогда пошел заваривать нам кофе (и я знаю, за чем еще – за спиннингом. Вот чего он не мог упустить – хотя б немного порыбачить, оказавшись возле речки), а я полез в шкаф и, одевшись, достал спортивный костюм Влады.
- Там сыро, Влад, туман. Надень костюм.
Она, довольно вяло, сонно уже двигаясь посреди комнаты, влезала в купальник. На кровати лежал халат.
- А, ладно, – отозвалась она, зевнув, натягивая купальник.
- Может, ляжешь спать? – спросил я.
- Не. Хочу поплавать. И обсудим.
- Да. Ты супер, – улыбнулся я.
- Не говори щас. Я еще в процессе, – сонно улыбнулась она в ответ.
- Хорошо.
Она надела костюм поверх купальника, и мы спустились вниз и выпили заваренный Ильей кофе, я предложил Владе бутер – она отказалась.
- Всегда довольно странное состояние, – сказала она, отпивая кофе. – Как будто я еще не здесь. Но приятно.
- Ты супер, – повторил я свое утверждение и тоже отпил.
- Я хочу посвятить тебе эту книжку.
- Что?
Я чуть не поперхнулся.
- Мы обсуждали это с Ильей. Вы оба меня вдохновляете, но Илья говорит, что надо посвятить именно тебе – он настаивает. И я не стала спорить. Мы сошлись на том, что он не будет возражать, если я посвящу ему следующую – ну, если напишу хоть что-то.
Она улыбнулась.
- Слушай… – только и выдавил я.
- Это не обсуждается, – опять улыбнулась она. – Там будет написано «Богдану», сразу после названия. А может «Богдану, с любовью» – я еще не решила, как будет стилистически лучше. Просто писать «со страстью» – не особо принято.
Она засмеялась – у нее редко, но иной раз проскальзывает развязный, именно ведьмин смех.
А я стоял ни жив ни мертв. Конечно, сейчас вы уже все знаете, что там написано, но тогда для меня, там, на кухне укутанного предрассветным туманом коттеджа посреди душного карантинного лета как будто весь мир навсегда изменился. Есть вещи, есть слова, которые меняют вашу жизнь бесповоротно, я думаю, вы согласитесь, что слова «я тебя люблю» от самой прекрасной девушки на свете действительно меняют жизнь, но вы даже не представляете КАК меняют жизнь слова «Я хочу посвятить тебе эту книжку» от самой прекрасной и гениальной девушки во всей мультивселенной.
Я просто стоял на этой кухне, Влада что-то дальше шутила, потом вошел Илья со своим спиннингом и торопил нас, потом мы вышли из дома и пошли заросшей стежкой, утопая по пояс в болотном тумане, и все было серо и бело, а где-то вдали тлел рассвет. Я пошел без трости, было здесь недалеко, но я все же хромал, и Влада, как всегда, у нас так повелось, взяла меня под руку и, идя так, разговаривала с Ильей, который нес спиннинг и снасти, потом от переизбытка чувств после акта творения она запела, с ней это часто бывает, и это безумно красиво – она запела «Гомін, гомін по діброві»:
Туман поле покриває;
Мати сина виганяє:
«Іди, синку, пріч від мене –
Нехай тебе орда візьме».
«Мене, мамо, орда знає –
В чистім полі об'їжджає».
«Іди, синку, пріч від мене –
Нехай тебе ляхи візьмуть!»
«Мене, мамо, ляхи знають –
Пивом-медом напувають».
«Іди, синку, пріч від мене –
Нехай тебе турчин візьме!»
«Мене, мамо, турчин знає –
Сріблом-злотом наділяє».
«Іди, синку, пріч від мене –
Нехай тебе москаль візьме!» –
«Мене, мамо, москаль знає –
Жить до себе підмовляє».
Я слушал, тихо улыбаясь, а перед глазами то и дело возникала эта титульная страница, ну, которую вы щас можете увидеть сами, с этой воткнутой в землю турецкой саблей и деревянной церковью вдали, и эта надпись там на ней «Богдану» – я видел эту надпись и, идя сквозь тот туман, я чувствовал, впервые в своей жалкой жизни чувствовал, что прожил эту жизнь не зря.
IV
Мне кажется, что я как-то затянул повествование, вступление уж слишком длинным получилось – я попробую быстрее перейти к сути, возможно, что-то вспомню еще из того лета, вот действительно лето господне, я даже не знаю, как вам передать, что мы втроем были истинно счастливы там. Что мы делали там в целом? Ну а что мы делали – мы много говорили обо всем на свете, смотрели вечерами какие-то фильмы или стримы, обсуждали это все, готовили – в основном я и Влада, ездили в город за покупками, ходили там в кафе или пиццерию, или просто гуляли, опять же, что-то обсуждая, что угодно, купались в речке или рыбачили с Ильей, смотрели на закат и занимались сексом, много занимались сексом, много целовались, много спали в обнимку и порознь, просыпались поздно, любили друг друга, ЛЮБИЛИ. А главным смыслом и сосредоточием всего была Владина книга. Да, я так ощущал, и Илья со мною соглашался. Она сама и ее творение было центром всего, она писала, она фантазировала, она создавала там эту книгу, и это наполняло все вокруг такой великой важностью, таким космическим значением, что я просто теряюсь. Мы как бы провалились частично в этот Владин мир – этот жуткий и при этом удивительно прекрасный Владин мир, и это путешествие между мирами было самым впечатляющим из всего, что со мной вообще происходило в жизни. Я прикоснулся к чему-то бесконечно важному, значимому, и более того (и это вызывало во мне дрожь) – я был для этого важного не только лишь не посторонним, но, о Боже, я был источником вдохновения для создательницы этого всего. Я как будто заново родился. Вы знаете, в начале я говорил, что «я тебя люблю» от любимого парня и любимой девушки – офигительно бустят самооценку, но что действительно кардинально способно ее поменять, так это вот это слово курсивом на титульной странице «Ведьмы» – Богдану.
Влада дописала книгу в августе. Последние дни она почти беспрерывно писала – уже в какой-то лихорадке. Перед тем мы съездили наконец в Шаповаловку, были на том поле и сфотографировали Владу возле того разбитого щита с торчащими из него саблями – вот эта смешная фотография, где она прыгает возле того щита, получилась почти что случайно, она пребывала уже в таком пограничном состоянии несколько дней – то впадала в уныние, то в буйную веселость, но чаще всего пребывала в очень отстраненной задумчивости, как будто совсем уже находясь не здесь, а полностью в неведомых глубинах своего жуткого и красивого мира, в тех его пределах, куда она уже не смогла бы нас взять, как бы ей ни хотелось. Вот в приступе этой веселости мы и сделали эту фотку, мы фоткали вдвоем с Ильей каждый на свой смартфон, но у Ильи получилось лучше. А вот эту сцену, в самом конце, уже в самом-самом конце, где в свете ущербной луны из болотной воды речки Куколки вылезают русалки… Ну, вы ведь помните, я думаю, все читали эту книгу, а если нет, то пересказывать нет смысла, но просто я обожаю эту сцену – оно так классно сделано, там весь роман зима, с вот этой страшной синей вьюгой бесконечной, а в конце, в самом конце, уже, по сути, в эпилоге – эта степь под Конотопом, лето и ущербная луна, СССР, начало перестройки. Хорошо, я немного перескажу. Вдруг вы не читали – может быть, поймете, о чем я. Там все произведение очень далеко ушло от перифраза Основьяненко, какие-то линии разве что напоминают. Вот эта Оксана, которая ГГ – красивая смуглая девушка с заметным сабельным шрамом от левой брови до щеки, мы не знаем истории этого шрама, кстати, Влада говорит, что и сама не знает, этот таинственный шрам навеян веревочным шрамом на шее Альдо Рея из «Бесславных ублюдков» Тарантино, в том смысле, что в самом сценарии там так и сказано: «Мы не знаем истории этого шрама, и на протяжении фильма никто об этом шраме не говорит». У Влады есть книжки всех сценариев Тарантино на русском, а те, что не выходили на русском, – в оригинале. Она вообще обожает сценарии в книжном издании. Она их даже собирает, довольно большая коллекция у нее дома в Киеве есть. Ну, так вот – сама неясная история этого шрама навеяна этой строчкой из Тарантино, а сам шрам, ну, короче, сам шрам, как бы обезображенная половина лица – моим параличом лицевого нерва. Ну, серьезно, че, Влада сама рассказала. Ну вот, эта Оксана со шрамом – она сирота, и ее еще маленькой захватили в ясырь татары, сожгли все село и угнали эту девочку в Татарию, но оттуда ее освободили запорожцы, это тоже довольно туманная история, никто толком не знает, что там было, на момент начала романа это зима 1652 года, и эта Оксана – служанка у жены сотенного есаула в Красном Колядыне, а сама эта жена из Конотопа, и ее отец в тамошней сотне писарь. И вот вся идея в том, что эта Оксана сближается с женой есаула, дочерью писаря, и соблазняет ее. Потом оказывается, что эта Оксана ведьма и соблазняет она жену есаула не просто так, а чтобы та родила ребенка от беса. Там все по «Молоту Ведьм» на самом деле – она не то чтобы зачинает ребенка именно от беса, это невозможно с богословской точки зрения, она зачинает от этого есаула, понятно, но перед соитием с есаулом с ней спит Оксана, какая эта порочная, такая, знаете, больная и одновременно возбуждающая постельная сцена! И во время этих ласк с Оксаной бес, сидящий в Оксане, как бы тоже ласкается с этой Катериной и оскверняет ее лоно, и в этом оскверненном лоне зреет семя есаула. Короче, оно все происходит в основном зимой после поражения под Берестечком, и это висит над всем текстом, там как бы есть два главных пласта – вот эта казачья старшина с ее думами и тоской по поводу, клониться ли к московскому царю и т. д., это очень такой патриархальный мужской мир, и есть больная страсть этой Оксаны к Катерине в глубине этого мира, и это ведьмачество Оксаны, это инфернальное колдовское в ней. Вся эта вольница казачья и восстание Хмельницкого как выражение ее – все это степь вот эта зимняя, и вьюжная, и нескончаемая, в эту степь в начале текста из Дикого Поля врывается стая волков – метафорически это бесы, которые, выходя из Оксаны, врываются в мир старшин. Но сама Оксана не то чтобы бенефициар этих бесов, нет. Они просто лезут из нее наружу, а кто она такая, мы и сами не знаем, не знает и она, она зависла в этом междумирье, ее как будто бы убили там, в селе, в далеком детстве, при набеге, часть ее как будто бы действительно убили, и эта вот мертвая часть теперь источник, пристанище бесов. Но в чем там главный прикол – мы до конца не знаем, является Оксана только лишь орудием бесов или что-то она чувствует к Катерине, она как будто бы, возможно, любит эту Катерину, но мы так точно этого и не узнаем. Там в конце есть сцена, вдохновленная на самом деле похожей сценой из «Остатка дня» Ишигуры, помните, там тоже есть глобальные события и любовная линия на их фоне? Так вот, там у Ишигуры есть сцена в конце, когда в это английское уединенное поместье приезжает Риббентроп – готовить Мюнхенское соглашение. Прикольная сцена – она какая-то такая зловещая и обреченная в то же время. Так вот – в «Ведьме» есть очень похожая сцена, только там в Красный Колядын приезжает только что назначенный Хмельницким наказным полковником Прилук Яков Сомко, Сомко там довольно забавный, невыспавшийся и при этом такой рубаха-парень, почти что не пьет на вечере, но сцена тоже зловещая, он говорит там не вполне определенно, но в том смысле, что Хмельницкий собирается просить протекции московского царя. И на фоне этого сотенный есаул узнает всю правду, а Катерина практически сходит с ума и вешается, будучи беременной. Там страшная сцена, когда ее обнаружили и сняли, и дворне показалось, что ребенок шевелится в остывшем теле, Влада умеет быть такой пиздец жестокой, несмотря на свою тихость в жизни, я даже не знаю, меня это немного пугает в ней, но и привлекает вместе с тем. Короче, все кончилось плохо, да, вы уже поняли? Перед смертью Катерина через одного из казаков отправила мужу запечатанное письмо, но из-за шпионских интриг (реально там шерстили эту канцелярию агенты всех подряд – царя, султана, короля и хана) это письмо попало к отцу Катерины, писарю. А в том письме было ВСЕ, понимаете? Она объяснялась с мужем. И писарь, обезумев, берет своих казаков и едет убивать Оксану. Там такая волнующая сцена перед самим концом, где вдовец есаул, очень молодой он парень, кстати, как бы уже все понимая, заступается за Оксану, пытается остановить линчевателей, но его жестоко избивают, а Оксану ставят на колени, и этот писарь рубит ее саблей. Он попал саблей почти точно в ее шрам, этот шрам как бы таки убил ее через десятилетия, понимаете? И вот они ушли, и во дворе на подтаявшем снегу остались лежать труп Оксаны и этот избитый тоже чуть ли не до смерти есаул, тоже бездвижный, и там такое длинное и поэтическое описание первой оттепели, чем-то похожее на вступление к «Поднятой целине», помните? А потом последний кусок, как бы эпилог, про историю того поля под Конотопом, там довольно подробно, но очень сухо и протокольно описана битва, Влада умеет создавать такой ветхозаветный тон, и там вот эта вся мясорубка описана отстраненно, как бы из глубины веков, но это и впечатляет. Также впечатляет, что это место сразу запустело, а потом с веками стало просто полем. Рассказ приводит читателя в конец советской эпохи – на этом поле работал после школы парень, помощником комбайнера. Он встречался с девушкой из Сосновки, и они даже целовались на дороге возле этого поля, а потом парня взяли в армию и он погиб в Афганистане. Очень затянутая и подробная сцена прощания и похорон (так и надо!), вот эта вся позднесоветская эстетика гнилая, эти речи каких-то замшелых чиновников, подробное описание поминок, какие блюда, какие они на вкус, вот это вот все. А потом уж последняя сцена, где эта девушка не может заснуть и уходит к реке Куколке, там месяц ущербный и вербы, туман. И она слышит в воде голоса. Ну, короче, вы поняли, что пародирует этот кусок? Да. Гладь болотной воды, рогоза и туман, рогатый месяц. И просто перед этой остолбеневшей девушкой из воды выходит нагая русалка. Русалка жуткая и красивая одновременно, она выходит из воды и медленно идет к шокированной девушке, а на лице у русалки застарелый шрам – от брови по щеке вниз, как будто от удара саблей. Круто, да?
Так вот – этот кусок Влада сочинила вечером в сумерках под вербой в том глухом месте на берегу Сейма, где мы любили плавать. Она ходила туда-сюда по берегу в мокром купальнике и накинутой на плечи олимпийке Ильи (от комаров, которых она будто бы не замечала) и быстро диктовала, потирая время от времени то виски, то кончики пальцев (она постоянно так делает, когда активно сочиняет – я ей когда-то высказал предположение, что, наверное, нервные окончания на кончиках пальцев и на висках как-то стимулируют какие-то специфические зоны у нее в мозгу). Я сидел на коряге, буквально кутаясь в спортивный костюм, и едва успевал стенографировать на макбук, а Илья слушал и время от времени опрыскивал Владу спреем от комаров – этого она тоже не замечала. Потом она сказала: «Точка. Август 2021-го года. Все». Посмотрела мне в глаза. Как-то даже испуганно будто бы. И вдруг как завизжит на все болото:
- Всееееееее!
И, уронив олимпийку, побежала и щупаря нырнула в реку – вынырнула почти что на середине.
Я посмотрел на Илью – он сделал неопределенный жест руками, как бы в смятении, и выдохнул:
- Отпад…
- Скажи?
- Вообще!..
- Эй, идите ко мне! – орала Влада.
В тот вечер мы жарили стейки на мангале (я говорил, что Влада ужасная мясоедка?), а потом немного напились вина. Во второй раз за лето: в первый раз – как заселились сюда, и второй вот тогда – чтоб отпраздновать.
Знаете, как Влада обожает мясо? Илья умеет готовить эти стейки такими мягенькими-мягенькими, сочными и с минимумом специй. А Влада ест так ненасытно, будто бы впивается зубами, и почти что одно мясо. Ничего не ест – глоток вина или сока и мясо, МЯСО, вся измажется… Я так ее люблю.
***
Эти несколько дней, пока мы помогали Владе редактировать текст, были… странными. Мы впервые были свидетелями завершения творческого процесса Влады, и все было для нас в новинку. Ну, например – вот я говорил, что в конце она в основном как бы была не здесь, но иногда как бы возвращаясь, причем где-то паритетно то в грустном унынии, то в такой заведенной веселости, – как будет на русском «пожвавлена»? Ну, так вот – она бывала пожвавлена примерно в половине случаев. Вообще со временем мы привыкли к этому циклу. Творчество Влады имело такое свойство – она как бы накапливала какую-то психическую энергию, где-то за год-два, и потом резко выплескивала ее в виде книжки. Мне, признаюсь, нравится думать, что это чем-то напоминает мужскую эякуляцию, хах. Ну, не суть, короче, когда этой энергии в ней уже много, она чаще впадает в уныние, закрывается в себе и становится ко всему безразличной, мне даже поначалу казалось, что и нас с Ильей она в такие периоды меньше любит, но в обсуждении она уверяла, что это не так, просто она меньше проявляла любовь, что ли. Это выражалось, например, вот в чем. Пару раз ее отрешение доходило до степеней социофобии – она подолгу гуляла в пионерлагере или в лесу одна, одна ходила купаться, сидела подолгу наверху в мансарде за компьютером. Короче, сам страдая социофобией, я очень быстро отбил, что она хочет побыть одна, и предостерег Илью, чтобы тоже не волновал ее даже банальным «Доброе утро», если она первой не скажет – я знал, насколько это бывает болезненно в подобных состояниях. Как-то вроде бы случайно мы с Ильей легли внизу, Влада работала, и мы типа не хотели ее отвлекать – я так и сказал ей утром. И по ее протестной, но очень вялой реакции понял, что мы поспим внизу еще несколько дней. Влада очень быстро перешла на ночной режим после этого – вставала часа в четыре вечера, завтракала, шла купаться – иногда с нами, иногда одна – исходя из моей инициативы мы организовали такую дружелюбную дистанцию от Влады. Ладно, Влад, колюсь – я прочитал в интернете на сайте психологии и психиатрии, что надо вот так себя вести с шизоидами – давать им максимум личного пространства, но при этом всегда быть рядом в случае желания шизоида сблизиться, это как-то у них называлось типа «ты гуляешь одна, ты это ты, ты не растворишься во мне, но я рядом с тобой – если захочешь, я приду». (Она расплакалась, читая этот кусок. Я говорил, что я ее очень люблю? Говорил? Ну, так вот: я люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! люблю ее! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ! ЛЮБЛЮ ЕЕ!
И если вас эти рефрены раздражают – не читайте дальше.)
Ну, так вот, мы с Ильей спали внизу и готовили еду, закупились полуфабрикатами, забили ими холодильник и не удержались прилепить на холодильник «разогрей и съешь» – как в сериале о Каменской. Кофе заваривали в большом термосе с наклейкой «налей и выпей». Влада, увидев это, виновато рассмеялась и с грустным «мальчики, я вас совсем забросила» полезла к нам в объятья. В тот раз мы, помню, долго целовались на диване внизу, Владу посадили между нами и стали целовать ее. Ну, ладно пару раз чмокнулись между собой, почти случайно. Но в остальном сконцентрировались на ней (ну а что вы хотите, если к тому же мы соскучились за несколько дней), Илья вообще очень любил эти обнимашки, поцелуйчики – я ж говорил. В какой-то момент я понял, что уже залез рукой под ночнушку и лапаю ее грудь, осадил себя и стал ее гладить, пока они с Ильей лобызались, как школьники, ну, короче, в какой-то момент я не выдержал и отлизал у нее – это не то чтобы самая большая ее страсть в сексе, но ей нравилось, что это нравилось мне. А мне нравилось, как бы вам объяснить – поклоняться ее женственности. Короче, не знаю, что ее больше тогда возбудило, поцелуи Ильи или мои, но суть в том, что, удовлетворив ее, мы как бы выяснили этот вопрос, что все нормально, мы так же нуждаемся в друг друге, как и раньше, но Влада хочет побыть одна – мы не против. Мы выпили вместе кофе, и Влада рассказала пару вычитанных недавно забавных фактов, например, о том, зачем у польской сабли елмань заточен с обеих сторон.
То есть серьезно, вот мы сидим втроем за столом и пьем кофе, Илья до пояса голый и улыбчивый, Влада в ночнушке и сонная, распатланная, с таким немного вялым, но довольным выражением лица, которое у нее бывает после соития. А я напротив нее в футболке и спортивках, босиком, смотрю на нее и с необыкновенным наслаждением воссоздаю и воссоздаю в воображении ее ВКУС, отхлебывая кофе… и она вдруг говорит задумчиво:
- Вы знаете, зачем у польской сабли елмань заточен с обеих сторон?
- Что? – спрашиваю я (я только что лизал у нее и не хочу думать ни о чем, кроме того, что она ВКУСНАЯ!.. короче)
- Что такое елмань? – спрашивает Илья.
- Утяжеление на сабле, вверху. Для усиления инерции рубящего удара, вот так…
Она реально изобразила удар саблей, такое впечатление, что она даже тренировалась это делать (я б не удивился).
- Польско-литовская или венгерская сабля была длинная и предназначалась в основном для конного боя. За счет дугообразности сабля наносила страшные удары, вот этот весь клинок проходил… Короче говоря – елмань заточен с обеих сторон для того, чтобы если ты промахнулся или не убил противника, можно было не размахиваться опять, а вот таким сильным движением ударить обратной стороной сабли снизу. Вжух! Вжух!..
Она рубила воздух невидимой саблей.
А я вспомнил ее вкус...
Ну, короче, после этого она опять поселилась в мансарде, мы здесь. Илья иногда ездил на Владиной машине в город за покупками и на заказы, я как-то поехал с ним за покупками, потом еще раз поехал, раз переночевал у себя в городе, надо было там сходить в собес и в поликлинику. Когда я звонил Илье или писал, он отчитывался – спит днем, встает почти на закате, курит, хавает (Пускай не курит натощак! – Ну, что я сделаю? Она в окошко курит у себя наверху. – Ну ладно), пьет кофе и идет купаться, провожу, почти не разговариваем, возвращается и смотрит у себя Ходячих, спускается взять кофе, обедает в полночь, я уже ложусь, иду в душ и дрочу на нее втихаря, засыпаю, утром она выходит чистить зубы, только я проснулся, говорю «спокойной ночи». Блин, едь уже – я тут совсем ОДИН…
Короче, к чему я это все? Ближе к завершению книжки это состояние у Влады проходило, она чаще спускалась к нам, как-то подглядывала за нами в душе (мы ее затащили и взяли – ну, мы очень соскучились), и вот когда уже она уже легла со мной внизу, когда Илья был в городе, сказала: «А помнишь, я тебе говорила?» – и сказала что-то, чего точно мне не говорила. Я ей об этом сказал.
- Ну как же, ночью в мансарде, вчера или позавчера…
Так, думаю, приехали… Город, психиатр, рецепт, таблетки… Позвонить Илье…
- Влада, я в городе жил, тут был только Илья. И ты живешь в мансарде две недели одна.
Какие все-таки красивые глаза у нее… безумные, но такие красивые. Она улыбнулась.
- Не думай, я не погнала. Я просто иногда, когда тебя нет, разговариваю с тобой, ну, представляю, что разговариваю с тобой, и что бы ты ответил. Я многое обсуждаю с тобой воображаемым, если хочешь знать. Прости.
Она мило улыбнулась.
- Если захочешь обсудить с реальным – я внизу. Или звони.
Я легонько нажал пальцем на кончик ее носа. Она поймала – укусила этот палец и смеялась.
То есть вот такая особенность, поняли? И вот когда она закончила книжку, амплитуда резко изменилась – вот этой буйной веселости стало очень много, а уныние – редко и недолго. А как у нее прыгнуло либидо – такого вообще никогда не было. Короче, дошло до того, что мы снова стали вместе смотреть порно. Тут надо пояснить – мы с Владой смотрели порно вместе только когда она жила у меня, Илья об этом знал, но совершенно не выкупал прикола, он вообще к порнухе был в целом равнодушен, и мы при нем не смотрели, но тут… Короче – ну а что? Илья уходил спать, а мы смотрели. Нам нравилось сидеть или лежать раздетыми, обнявшись, и смотреть. Было классно настолько доверять друг другу и смотреть на реакцию друг друга, обсуждать. При этом друг друга мы почти не трогали, только объятия, тепло любимого тела, иногда мы хватались за руки, иногда, ну, когда уж совсем – целовали друг друга, но быстро, и вновь возвращались к просмотру. Мы в основном смотрели что-то бисексуальное, но вообще-то по-разному.
- Ты хотел бы, чтобы с нами это делали?
- О… да.
- О Господи.
- Влад, ты красивая.
- Ляг ближе… Обними меня!
- Я здесь.
- Я сейчас сдохну... Поцелуй меня!
- Ты в норме?
- Да… Богдаш?
- Все хорошо. Будь рядом.
- Я проголодалась.
- Сука, как же классно, господи…
- Ты полежишь?
- Иди, я щас.
- Нет-нет, я полежу с тобой.
- Ты теплая.
- Ха-ха…
Илья прикалывался с нас – он говорил, что нам надо дрочить на камеру, был бы контент. А Влада говорила, что ей нельзя, потому что она знаменитость, а так бы с удовольствием.
И вот как-то часа в три ночи мы полулежали внизу на диване, порядком уставшие, мокрые, но ужасно счастливые, и тут Владе кто-то написал в дискорд, она перезвонила – это был ее издатель. Он извинился, что позвонил ночью, но он знал про ее режим и еще – он был вне себя от впечатлений, он сказал, что Влада гений (еще бы), и еще он сказал, что есть возможность издать эту книгу в Европе или даже в Америке, там будет видно, но издать обязательно надо, и вообще есть варианты…
Влада была немного в замешательстве после этого разговора – даже не надев любимую ночнушку, ходила голой по кухне туда и сюда – я ее усадил на диван и пошел варить кофе.
- Богдаш… – растеряно сказала Влада, сидя на диване.
- Илья, иди сюда!
- Та вы задрали…
Я знал, что он не спит, он мне две минуты назад написал «не орите!» (мы громко стонали). Он спустился, сел и обнял Владу.
- Что такое? Кто грустит? Ну, кто грустит?
- Я-а, – плаксиво протянула Влада.
- Почему?
- Ну я не знаю…
- Бодя, что?
Я разливал им кофе.
- Она будет издаваться за границей. Понимаешь?
- Еще ничего не ясно, и это все чушь, и вообще, может, я накрутила, что все получилось, а он…
- Так, молчать.
- Что-о-о? – опять плаксиво, так мило.
Он коснулся ее губ.
- Прекратить истерику.
- Но я…
- Молчать! И прекратить истерику.
Она прислонилась к нему, он обнял ее крепче.
- Все будет хорошо.
- Мы гордимся тобой, – сказал я.
- Гордимся, – повторил Илья.
Я поднес им их кофе.
***
В начале осени мы жили в городе. Влада жила у Ильи, я у себя. Это я так захотел, короче, там была одна подробность, сейчас попытаюсь объяснить. Издатель искал хорошего переводчика на английский, и мы заговорили с Владой на тему переводов – я сказал: «Ты же знаешь английский, может быть, сама попробуешь». Она сказала, что знает английский паршиво, чуть лучше немецкий, она училась в Германии, но тоже на уровне иностранного – это чушь. Она рассказала, как еще «Туманы» попыталась переводить на немецкий, была перспектива издания, но все затянулось, и со временем она забросила это дело как бы под предлогом издательских трудностей, но на самом деле потому, что была недовольна тем, что получалось, самим вайбом ее текста на немецком.
- Эта интонация совковой прозы, которая тебе нравится, – объясняла она. – Я совершенно не понимаю, как ее передать на немецком. Наверно, это было бы можно, если бы я владела им в совершенстве, понимаешь, – она задумалась. – Я как-то поняла, что для этого должно быть как бы две Влады – одна немецкая, а одна вот эта, которая перед тобой. Я трудно переводимый автор, к сожалению, не знаю. Я должна была прожить другую жизнь, ты понимаешь? Мне трудно объяснить.
- А украинский? – вдруг спросил я.
Мы как раз, помню, загорали на речке, ну, я загорал, а Влада просто обсыхала рядом, потом улеглась подле, и мы разговаривали, Илья рыбачил чуть поодаль.
Влада как-то болезненно скривилась и молчала.
- Ну? Говори, – сказал я.
Она как бы дернулась что-то сказать, но молчала дальше, стала как-то нервно пересыпать песок с ладошки в ладошку.
- Разденься, – вдруг сказал я.
- Что? Зачем?
- Просто так. Ну, сними этот чертов купальник, пусть высохнет. Позагорай со мной.
Она дернула плечиком.
- Ну, Влад. Полежи со мной. Плиз.
- Хорошо.
Она, вскочив на ноги, быстро сняла купальник – бросила в траву и тут же легла рядом, прижалась ко мне, как будто ища защиты. Я легонько приобнял ее за плечи – мы лежали ничком на большом каремате.
- Ты специально это сделал, да?
- Что именно?
- Раздел меня. Чтобы я не морозилась, да?
Я вынул из сумки бейсболку и надел ей на голову – козырьком назад.
- Тебе не нравится вот так лежать со мной? – спросил.
Она потерлась об мою щеку – слегка небритую. Ей нравилось так делать, а я говорил, что у нее будет раздражение, хах. Просто мне надо было бриться каждый день, а я пропускал иногда, потому что ленился.
- Нравится.
- Так почему не хочешь загорать?
- Не люблю.
- Почему?
- Но я ведь не именно голой не люблю загорать, а вообще. Мне жарко. У меня будет тепловой удар.
- И ультрафиолет вреден для кожи, да?
- Дурак.
Она отбросила мою руку, а я беззастенчиво шлепнул ее ниже спины. Она едва заметно поневоле улыбнулась, но тут же вернула серьезную мину.
- Так люблю твои бедра. Придвинься!
Она без всяких возражений вновь придвинулась и стала вновь играть с песком.
- Короче, просто подчиняйся мне, окей? Щас хочу, чтобы ты была голой.
Она стрельнула в меня глазками и чмокнула в ушко, я вновь ее обнял.
- А тебе нравятся бумажные цветы? – спросила она тихо, улыбнувшись.
Удивительно, как мне было легко проявлять с ней такую, знаете, гегемонную маскулинность, что мне вообще было не очень свойственно. Но я же говорил уже, что ей удалось меня раскрепостить тем, что она показала мне, что не требует от меня ничего, потому что я парень. Что я ей нравлюсь вовсе не потому, что чему-то там соответствую или нет. И после этого я, к своему собственному удивлению, стал много чему соответствовать действительно. Еще забавно, что и Илья это оценил – бывало, после каких-то моих настойчивых и даже самоуверенных ласк он как-то так приятно и довольно как бы весь смягчался, и мне это нравилось.
А, например, тот случай, когда мы купили Владе сережки… Ну, то есть да, она богатая. Она, по сути, этот коттедж арендовала, машина у нее, мы, конечно, пытались свою лепту вносить, как могли. А тут… это мне пришло в голову. А Илья поддержал. Я вообще никогда не думал, что такая идея способна меня прям физически возбудить, но факт есть факт. Я раньше всегда этого очень боялся – я вообще не особо слежу за деньгами, и мне на них похуй, по большому-то счету. Но сам факт этих ухаживаний так меня смущал – мне все время казалось, что, делая это все через силу, соглашаюсь молчаливо сам с тем фактом, что я не нужен, что я какая-то функция для возлюбленной, что я неполноценный, что она не любит меня, не любит мое тело, мою душу – да все что угодно. Я воспринимал это все довольно остро, оно довольно сильно мне болело. Тем более, что я был влюбчив, я всегда сгорал от этого чувства, а чем был я для адресата этой страсти, чем? Я понимал умом всю эту муть об размножении, об эволюции там, я не знаю. Но сердцем я принять не мог. Я понимал, что, наверно, хочу невозможного – чтобы объект любви испытывал ко мне то же, что и я к нему… Но вот с Ильей я это испытал, и это так наполнило меня, что вы не представляете. И тут… Тут я встречаю девушку, с которой я испытываю ТО ЖЕ САМОЕ. Знаете, когда я это понял в первый раз? Тот букет желтых роз. Помните, я говорил об этом невозможном взгляде. Знаете, что я в этом взгляде увидел? Отражение. Я там увидел ровно ту же бурю чувств, которую испытывал к ней. Дело было в этой буре чувств, а не в букете. Букет был предлогом выплеснуть эту бурю этим взглядом в меня, и я не пожалею всех букетов в мире, чтобы снова это испытать. Как ее посвящение мне книги – не потому, что она обязана мне посвятить книгу, иначе я, что… не буду ее жаждать или думать только лишь о ней? Нет. Просто она выплескивает в меня эту любовь, а я от этого, приходя еще в больший экстаз, выплескиваю в нее свою. Почему мои образы вновь вернулись к эякуляции? Из-за моей бисексуальности? Влада, может, мне нравится думать, что ты такой мальчик в девчоночьем теле? Может, ты была бы классным трансом или трапиком? Ладно, я ролфлю – мне как раз нравится, что ты девочка. Это так для меня удивительно, но я ОБОЖАЮ наши с тобой различия. И часто хочу их подчеркивать.
Ну вот, сережки. Короче, такая невыносимо красивая Влада невыносимо ходит по моей квартире полуголая и полностью одетая – это неважно. Она тут ходит ПО МОЕЙ КВАРТИРЕ и мне чего-то дико хочется, причем почти все время. Чего же мне хочется? Трахнуть ее? Безусловно. Отлизать ей? Да. Быть может, сделать ей массаж? Конечно! Может, все-таки поцеловать? Да, просто подойти поцеловать. Обнять? Обнять, конечно. Высушить ей феном волосы – да, высушить ей феном волосы и заплести косички, да! Сказать «ты такая красивая»? Да! Говорить-говорить, почитать ей стихи, приготовить ей ужин, сводить в ресторан, и раздеть ее, да, непременно раздеть вот сейчас, или лучше одеть потеплее, я знаю, я знаю, чего я ХОЧУ – подарить ей сережки!..
Вот да, примерно так этот мыслительный процесс и выглядел – сам в шоке. Я сказал Илье и пару раз сходил как бы к нему – на самом деле мы ходили в ювелирные. Мы долго выбирали. Выбрали не очень дорогие, но они нам обоим нравились – серебряные с изумрудом такие, что-то в них было такое волшебное. И когда, короче, мы ей отдали их… Взгляд, ВЗГЛЯД, господи, о этот взгляд!
Мы совершенно потеряли голову и делали с ней все, что хотели, а хотели мы, казалось, вообще всего на свете в тот вечер и в ту ночь. А она почти все время носила эти сережки – как бы как знак, что мы ей подарили их, и знак того, что мы с ней сделали потом и… вот мне не кажется – и знак того, что она НАША. Она так гордо их носила, как бы всем демонстрируя, с вызовом, что она НАША, и это было так прекрасно.
И вот она лежала рядом только в них и в своей резинке с крестиком, жалась ко мне. В этом ее движении все заключалось – она не стеснялась меня, она стеснялась как бы мира. Ее обнажение для нас и стеснение во всех других контекстах было тоже как бы знаком принадлежания нам, и это было классно. Ей нравилась моя нагота и нравилось, что при этом я жажду ее наготы, и ей нравилось утолять эту жажду, но в доме все было легко, а вот здесь, на реке, она жалась ко мне, и я ей хотел показать, что она под защитой, что я с нею рядом, пусть свободно разделит со мной удовольствие. Ну да, мне нравилось ее смущение и это очевидное «я раздеваюсь для тебя», но также я действительно хотел, чтобы она открылась.
Я читал, что главная черта шизоидов – вот это глубоко сидящее «ну и не надо, обойдусь без вас». Иногда все это объясняют только психологией, дескать, ребенок в детстве не получает должного тепла (КТО мог не дать тепла этому ЧУДУ? Вы совсем?) и закрывается в себе с этим «не нужно», но есть физические объяснения, в частности – перинатальная травма. У Влады была такая – у нее было неправильно прилежание, и при родах пуповина оплелась вокруг шеи, чуть не задушив ее. Она рассказывала про повторяющиеся кошмары иногда – будто она пытается выбраться из какого-то смертельно опасного места и всякий раз вперед ногами, что всякий раз странно. Мы это с ней обсуждали. Но недостаток кислорода, эта асфиксия как бы тоже способны спровоцировать подобные изменения в мозгу. Я не специалист, но что-то вроде. Но я знаю, просто вижу, что Влада как бы постоянно держит дистанцию с миром. И одежда, по-видимому, тоже часть дистанции, а может быть, тут дело в том другом кошмаре с глубиной небес… Это тоже перинатальная психотравма – когда ребенка кладут на стол, знаете, сразу после родов. И вот Владе часто снится, что она лежит навзничь, а над ней жутко глубокие небеса, и она беззащитна. Но я знаю и то, что под этой одеждой и страхом, смущением живет не только обожаемое мной до безумия существо, но и внутри этого существа такой огромный неимоверный мир, который мое любимое существо выстроило, потому что решило, что обойдется без внешнего, если внешний так недружелюбен. Поэтому, когда она решилась раскрыть нам с Ильей этот мир, мы сначала поразились его великолепию, а потом всячески пытались приучить ее к мысли, что это великолепие интересно и миру вокруг, и вообще он не насколько недружелюбен. А если все-таки окажется недружелюбным, то мы рядом. Короче, как-то так.
- Богдан, я плохая? – спросила она, лежа на животе, подставив спину, бедра, ноги палящему августовскому солнцу. Прижимаясь ко мне одной стороной своего голого невозможного тела, как бы пытаясь спрятаться в моей тени.
- О чем ты? Почему плохая?
Она не отвечала, и я решил пошутить.
- Ты развратная, но для меня это как раз не плохо, а красиво.
- Перестань.
- Ну-ну, иди ко мне, – я обнял ее крепче. – Говори. Ты хорошая. Ты даже не развратная на самом деле, просто ты любимая. Так что?
- Я пишу на этом языке, ненавидя его. Я просто разрываюсь – это, видимо, и есть шиза. Я не могу найти примирения между этими двумя началами.
- Говори.
- Ты знаешь, в детстве я писала стихи на украинском?
- Не знаю, но, честно говоря, не удивлен.
- Почему?
- Потому, что я читал «Лето» и «Ведьму». В «Туманах» тоже это есть, но меньше… Тем не менее – по этим текстам видно твою украинскую суть.
- Так почему я не пишу на украинском?
- Ладно… Почему?
- Мне кажется, это какое-то мое заблуждение. Ты же знаешь, что «Туманы» я писала еще до войны. Тогда это не было так остро. А теперь мне постоянно кажется, что предательница…
- Боже… Перестань!
- Нет, выслушай.
- Я слушаю. Но это чушь.
- Почему это чушь?
- Потому что. Какие твои тексты про Россию? Верно – никакие, по сути. В «Туманах» есть Вторая мировая, ну да, про совок, но это ведь просто реалии, там же немного и Беларуси есть, где эти партизаны.
- Да, но…
- Да. Но это сто пудово украинская книжка, только что на русском. Ну и что, что на русском? Они про Украину, в них украинский взгляд на мир.
- Я не вполне согласна.
- Почему?
Она перевернулась на бок – посмотрела мне в глаза.
- Потому что язык формирует мировоззрение.
- Ой. Не начинай, пожалуйста – только Сепира-Ворфа мне тут не хватало.
- Откуда ты знаешь о Сепире-Ворфе, ты же даже не филолог? – она мило удивленно улыбнулась.
- Имею много свободного времени, – парировал я. – Ну так что? Что там русского?
- А то, что я не сразу стала это понимать. В юности, не скрою, подростком я повелась на... да, по сути, на то, что украинский казался мне гораздо более политизированным, что ли.
- Так и было.
- Ты дослушай. Потом это ведь было во мне – у меня в семье говорили на русском, я со знакомыми в основном говорила на русском. Плюс, ну, я как бы еврейка.
- Да ты что?!
- Хорош!
- Не, ну а как я должен реагировать?
Я просунул руку под ее шею, и мы легли навзничь, я приголубил ее, чтобы она не испугалась бесконечности Вселенной.
- Словом, у меня был кризис идентичности. Именно поэтому там эта Рая в «Туманах»…
- Я знаю, там видно.
- Что видно?
- Все. Там даже подсвечено о том, что она не знает идиш и вообще не помнит мать-еврейку, а бабушка у нее украинка, по отцу. Ну, я слепой, по-твоему? Ее считают еврейкой, но сама она чувствует себя украинкой, говорит на диалектном русском. Это ты. Ты украинка. Если хочешь мое мнение.
В «Туманах» есть несколько сильных мест, связанных с этим. Например, в начале, где показано как типа в мультикультурном сталинском Союзе после череды разгромов Красной армии и приближения немцев в людях как бы из ниоткуда возникает это почти что звериное национальное. «Туманы» вообще вышли небольшим тиражом и не переиздавались, насколько мне известно, поэтому, наверное, придется пересказать немного… Короче, там вначале изображен первый месяц войны в небольшом полесском городке на границе Черниговской области (Владу вообще как бы тянет к этим местам, даже сложно сказать, почему, мы как-то решили, что это из-за географии, вот этой болотистой и лесистой местности, сыгравшей важную роль в этногенезе славян). И вот в этом городе эта девушка Рая заведует библиотекой вагоноремонтного завода, а муж у нее политрук на фронте где-то под Киевом. И там описаны вот эти первые месяцы войны, и что она, война, не столько еще приближается, а как бы проявляется, материализуется в воздухе. Сирены воздушной тревоги, поначалу редкие – все в целом безразличны к ним…
«Потом ближе к концу июля через станцию часто поползли на запад военные эшелоны и самолеты появились. В основном почему-то одиночные Ю-87 и истребители (разницы между которыми Рая не понимала, как ни силилась) – охотились за эшелонами, мало обращая внимание на усеянный отцветающими липами город. Удивительным было и установившееся время налетов, почти всегда строго около восьми утра и девяти вечера, в остальное время можно было вполне безопасно передвигаться по городу. Да и во время налетов не то чтобы кто-то таился, только старались обходить станцию и заполненные эшелонами пути, а увидав совсем близко пикирующий самолет, забегали в подъезды, дома, вполне себе даже лениво. Потом как-то вечером за городом в стороне Бахмача случился огромный пожар, о котором, впрочем, больше говорили да видели мутное зарево в летней ночи, и железнодорожный вокзал после этого ощетинился в небо зенитными пушками. Несколько их стояло на загнанных в отстойник грузовых платформах на территории завода – они в отсутствии авиации противника были обычно накрыты маскировочными сетями, а несколько орудий торчало прямо на площади перед вокзалом. После этого самолетов стало больше и появлялись они чаще, а к тому же – охотились за горожанами, поливая пулеметными очередями проспекты и улочки. Люди стали прятаться в подвалах и организованных бомбоубежищах на территории предприятий и школ, а один раз по пути на работу Рая, забежав в подъезд ближайшего дома при звуках сирены, своими глазами видела оставшегося снаружи одинокого красноармейца, совсем молодого, который палил из винтовки по низко летящему «юнкерсу» (так ей потом сказали) и упал, сраженный пулеметной очередью, причем когда сирена замолчала, парня на том месте не было, и Рая долго размышляла, где ж он делся, жив ли, мертв теперь?
В газетах же, по радио и на собраниях все сообщалось, будто наши бьют фашистских гадов, нанося им всем невосполнимые потери, и уже не то погнали их назад к границе, а не то погонят со дня на день. Так, впрочем, и Евгений ей писал, он был политруком стрелковой части аж под Киевом. Письма стали приходить все реже, а потом и вовсе прекратились. Город как-то внезапно заполонили беженцы откуда-то из Житомира, все больше бабы, дети, старики, но были и мужчины со своим нехитрым скарбом, сплошь оборванные, грязные, бывало, и босые. Их подкармливали. Те беженцы несли с собой дурные слухи о фашистах и о том, что наши врут, а как-то вечером к Рае домой пришла подруга из знакомого семейства, Элла – Рая бывала у них дома пару раз. Они, как оказалось, собирались уезжать в эвакуацию и звали Раю, та отказывалась. Элла теперь была непривычно возбуждена и будто даже озлоблена, все убеждала Раю уезжать, чуть ли не с криком, поносила дом ее – «кому он нужен?», мужа даже – «и давно писал?», потом сказала, дико озираясь: «Знаешь, что они с такими делают?» – и понесла такую околесицу, что Рая и не знала, что сказать. Мол, как это – в дома заходят и выкидывают всех подряд, мол как это – и грабят, и насилуют солдаты, зачем стрелять по всем подряд и даже детям, как это у них такой приказ? И как, в конце концов, они хоть различают, кто еврей, кто нет? У Раи мама лишь покойница была еврейской крови, а она ее не помнит вовсе – умерла, когда ей три годочка было, папа, полтавчанин, лишь рассказывал, бывало, что похожа на нее Раиса как две капли… Узнают – отвечала Элла, будто бы сквозь зубы то процеживая, злостно – вот увидишь, как узнают, различат.
- Та беременная я, Элла, ну, о чем ты говоришь?
- А беременных они руками душат, как скотину, ненавидят больше всех. Чтоб не плодилось нашей крови по земле.
- Какой еще крови? Погонят их скоро, Евгений писал…
Элла выругалась на идише, которого Рая не понимала, и еще сказала напоследок – мол, увидишь, как погонят. И Рая увидела вскорости. Увидела, как в толпе беженцев все чаще попадаются бойцы непобедимой Красной армии – шли организованно и нет, которые с оружием и прочей амуницией, которые с самими поясами, а которые и без. Эти уж ни с кем не говорили, только матом посылали в основном, а эшелоны почти вовсе перестали появляться – рассказывали, будто мост железнодорожный взорван в Мутине, а может, и брехали. А Элла выехала со своими на телегах, и еще евреи выезжали там с каким-то скарбом, Рая и хотела попрощаться, но как раз тревога. А потом она на рынке слышала, как дед какой-то, оборванец, поносил евреев, будто бы «жиды всех нас ограбили и шкуры свои убегли спасать». Он был нетрезв и все варнякал о жидах, и некоторые ему там поддакивали, бабы и мужчины, а в конце какая-то бабка пришлая еще сказала, что их подводы ночью где-то под Ромнами будто бы остановили, и порылись в их поклаже, и нашли в подушках вместо перьев деньги. «Набитые деньжищами были!..» И будто бы, увидев деньги, те «избили их, жидков, чтоб неповадно было!». Многие смеялись над той сплетней, а Рая молча отошла, растерянно оглянувшись. У нее не хватило воображения представить Эллу и ее родственников, сидящих на каких-то перинах, набитых деньгами, да еще ворованными непонятно у кого, у всех горожан сразу, что ли?»
Ну, или там дальше было место о детстве Раи, где соседский мальчик обозвал Раю жидовкой, а она пожаловалась бабушке, и бабушка так научила ее ругаться – будто саблей сечь – что больше никто в селе Раю не обзывал. Сильное место, мне оно очень нравится.
- Почему ты считаешь, что я украинка?
- Слушай, потому что! Давай я не буду пытаться объяснять тебе, почему ты красивая. Но ты красивая – вот так и тут. Ну, я так чувствую, окей?
- А тогда почему я не пишу на украинском?
- Ну, какая разница?
- Такая. Такая, что я зашла в тупик, – она уселась надо мной. – Потому, что я думала, что этот язык – это что-то вроде английского для этих мест, или испанского для тех, ну или, ну, короче.
- Так и есть.
- Подожди!
- Ляг назад.
- Я о том…
- Ляг назад! Хорошо. А теперь говори.
- Я люблю тебя.
- Я тебя тоже.
- Илья, я люблю тебя! Где он?
- Илья! Я не знаю. Короче говоря, он тоже тебя любит, продолжай.
- Ну, так вот… Я полагала, что я так освобождаюсь, но на самом деле я зашла в тупик. Он мертвый.
- Кто?
- Этот язык. Он мертвый. Кроме библиотечной пыли, в нем ничего нет, ты понимаешь? Ты думаешь, почему я стала писать о Гетманщине? Чтобы как бы быть ближе к украинскому. Потому, что он вдыхает туда жизнь, а так он мертв, язык мертвой страны.
- Это ситуативно.
- Нет. Я так не думаю.
- И что ты предлагаешь?
- Я не знаю. И от этого мерзко. Мир погибает, а я продолжаю фантазировать.
- Мир у тебя внутри.
- Я так не думаю. Он отражение реального, и вот реальный… Мне кажется, я предала саму себя.
- Какая чушь.
Я перевернулся на живот.
- Какая гребаная чушь. Разве я не знаю, сколько ты донатила…
- При чем тут те донаты?
- При том, что… Влада, блин, я просто ничего не знаю. У тебя внутри идут какие-то процессы, которые мне непонятны, и я не могу тебя переспорить с твоим интеллектом, но я могу, блин, сварить тебе кофе, поняшить тебя и надеть на тебя бейсболку, чтобы не было солнечного удара. Вот все, что я могу. Ну и, конечно, выслушать. А еще…
Она уткнулась мне в плечо, не дав договорить, и тут этот придурок облил нас с ног до головы водой из ведерка. Ну, да, Илья, подкрался из-за верб и облил, я хуею. Влада завизжала, а я вскинулся… Но оно классно разрядило напряжение, на самом деле. Влада тут же рассмеялась, заметив Илью, и побежала за ним, я тоже рассмеялся, глядя им вслед, потом стал одеваться. Скоро они появились – Илья нес обнаженную Владу на руках.
- Пожалилась? – спросил я.
- Чуть-чуть, – сказал Илья. – Я сразу же схватил.
- Ох, ну ты и придурок.
- Ну, прости. Мне захотелось.
Он поставил Владу на песок возле меня и, наклонившись, поцеловал меня в губы, я ответил на поцелуй. Влада прятала купальник в сумку, затем натянула ночнушку и спортивные штаны.
- Забирай каремат, – сказал я капризно, оттолкнув Илью.
- Не могу. Оставь, я потом заберу.
- Почему?
- Я понесу ее домой. В качестве извинений.
- А…
Одевшись, Влада собрала мокрые волосы в хвост и, не сказав ни слова, подошла к Илье, запрыгнула ему на руки – тот легко поймал и потащил к стежке.
Я босиком захромал следом, неся в руке тапочки. Илья немного подождал.
- Знаешь, что я еще могу? – сказал я Владе на руках Ильи. – Попробовать перевести тебя на украинский.
***
Не то чтобы я был уверен в своих силах, но раз ее так это мучило – решил попробовать. Но теперь уже я испытал потребность побыть хикикомори и отправил Владу жить к Илье. Она отнеслась с пониманием, хотя со временем начала надоедать. Писала сообщения в основном, но мы ж договорились, что пока не будем. Вы должны понимать, что со мною делалось в эти чуть больше месяца – дело не в том, что я не хотел общаться с Владой или видеть ее, все как раз наоборот – я ХОТЕЛ ее так сильно, что едва мог это вынести, ХОТЕЛ ЕЕ во всех возможных смыслах. Вот вы, возможно, думаете, что раз я описываю уже какие-то подробности наших общих соитий, то я просто повернут на сексе, ну, мы втроем повернуты на сексе и в этом все дело, да? Так вот – нет. И если вы так думаете, то вы реально нихера не понимаете. Помните, вначале там я сказал, что люблю ее мозг, а дальше я сказал, что дело в том, КОГО ты трахаешь? Так вот – все дело в этом. Для меня секс – это вообще вершина айсберга или, если хотите, такая метафора – вот есть стакан воды, ну, или ведерко, ну, или там водонапорная башня. И вот, если эта посудина наполняется жидкостью, то выплескивается лишь малая часть объема, да, малая? Вот так и с сексом: секс – это всего лишь выплескивания твоего восхищения человеком, когда это восхищение насколько переполняет тебя, что ты уже не можешь его в себе сдержать. Не знаю, почему меня опять тянет к образу эякуляции – может быть, вы знаете? Но не суть дела, я думаю, должно быть понятно – мое восхищение Владой порой достигает такого предела, что как бы проливается объятиями, поцелуями, засосами, эрекцией, хватанием за волосы, за руки, ноги, бедра, нежными и пошлыми словами, стоном, криком, это полнее всего может быть выражено фразой «я люблю ее», которую я тут так часто повторяю и которая вмещает в себя так неимоверно много и так недостаточно много в одно и то же время. Ведь я не то чтобы хочу ее взять и оплодотворить – я человечек вида хомо, примат с ручками и ножками, и есть ОГРАНИЧЕННОЕ число способов, которыми я хоть очень отдаленно могу выразить все то, что я испытываю к ней. Ведь даже слов таких мне не хватает, ведь если в одном контексте нашего взаимодействия слов «я хочу с ней слиться» будет достаточно, то в другом контексте я хочу, чтобы она принадлежала мне, а в третьем – сам хочу принадлежать ей. А в четвертом, пятом и каком угодно я ее бессильно ненавижу за ту боль, которую вздымает у меня внутри любовь к ней, а в седьмом и далее контексте я в восторге принимаю эту боль и я люблю ее еще сильнее за возможность ощущать всю эту боль. И вот если экстраполировать некую многомировую интерпретацию Эврета на макромир, то я хочу сказать, что просто в этой вероятности я не могу, не в состоянии хоть как-то описать суперпозицию своего восхищения Владой, потому как нет необходимых слов для описания суперпозиции, – ну, как сказать, «я хочу обладать ею, но я также хочу, чтоб она обладала мной, при этом я хочу не половинчатость и не одновременно сумму этих состояний, а как бы их оба во всей полноте, всех оттенках». Как это – быть и полностью ее рабом и господином полностью, как это – быть с ней бесконечно ласковым и грубым, как это – слиться с ней в одно и в то же время быть ее лишь мелкой частью или, быть может, чтобы и она была лишь частью меня – бесконечно покорной зависимой и неотъемлемой, но частью? Я не то чтобы хочу в какой-то миг чего-то одного, а в следующий – другого, я хочу все это сразу, ласкать и иметь, отдаваться и брать, целовать и хватать, быть всегда рядом с ней и отдаляться от избытка этих чувств, а выразить все это наиболее полно я, ничтожное биологическое существо, могу лишь в виде секса – средства неплохого, но ограниченного, согласитесь? И когда я говорил ей, что хочу ее трахать, пока не умру – это чистая правда при всей идиотскости такой формулировки. Просто я пытаюсь выразить языком несовершенного тела все, что это тело чувствует, ну, как-то так. Пожалуй, сделаю ремарку – почему с Ильей по-другому. Удивительное дело – вправду потому, что я очень четко чувствую, что притяжение мое к Илье не просто, блин, того же рода, оно суть одно и то же, но с Ильей оно как будто уравновешенное тем, что мы с Ильей одного пола, то есть я знаю, что при прочих равных чувствую к Илье то, что он чувствует ко мне, и наоборот, и вот не знаю, представляете ли вы, насколько это классно? Как его возбуждение отражается моим, усиливаясь в нем и возвращаясь, и мое усиливает, и так по кругу, как какой-то вечный двигатель, реально, вот что взрывного есть в наших с Ильей чувствах – вот эта цепная реакция, когда ты абсолютно счастлив, любящий, любимый, жаждущий, желанный, и спокойный, защищенный в то же время.
/@ruah: Богдан, но я ведь тоже люблю тебя настолько сильно, насколько это вообще возможно! Это самое сильное чувство, которое я когда-либо испытывала – почему ты не можешь видеть это же отражение во мне?
//@givenbygod: Я вижу. И в то же время нет.
@ruah: Но ПОЧЕМУУ? Почему ты не чувствуешь себя защищенным со мной?
//@givenbygod: Я чувствую.
@ruah: И в то же время нет?
//@givenbygod: Да.
@ruah: Почемуу?
//@givenbygod: Я боюсь тебя, Влада.
@ruah: Ну почемууу?
//@givenbygod: Потому что ты самая-самая лучшая в мире. Пы.сы – пойдем похаваем?
@ruah: Сейчас)/
Ну, короче говоря, – к чему я это все. К тому, что – может, вы думаете, что тот секс на даче, или тот куни, или… Что все, что я там описывал в подобном роде – это секс, и типа это…
Знаете, что такое секс? Ну, да, я уже говорил – это просмотр ее интервью вместе с Ильей. Но ведь не только. Это, например, перевод ее посвященной мне книги с русского на украинский. Это погружение в ЕЕ мир и взаимодействия с НЕЙ на каком-то метафизическом уровне, вы не представляете. А я так люблю ее мир, и как я бесконечно благодарен ей, когда она меня туда пускает, я… Господи, ну вы понимаете, почему я отправил ее к Илье? Да потому, что я бы просто головой поехал от переизбытка чувств, если бы она еще была ближе чем на полгорода от меня в момент моего проникновения в ее удивительный, яркий и одновременно жуткий мир. Мир, который я люблю не меньше, чем ее, потому что она создала его и потому что он часть ее. Знаете, почему в этом документе ее ник @ruah? Я вам потом расскажу. Пока вы лишь должны представить, сколь для меня было сексуально то, что я делал, этот перевод. Она была и творцом, и вдохновителем этого перевода, и я в полной мере мог воплотить всю свою страсть к ней в этом переводе, я это и делал во всем своем вожделении к ней, к ее миру и в восхищении ее всесилием.
Я скачал кучу словарей, интерактивный СУМ-11 и русско-украинский, толковые два, загрузил малороссийские повести во всех вариантах перевода – они были для меня ориентиром, а еще я скачал Кухаренко и несколько кубанских писателей, которых нашел в интернете – хотел там почерпнуть что-то полезное (нашел, по сути, только несколько сугубо низовских поговорок и фразеологизмов, дошедших из глубины веков), но в итоге я планировал получить шевченковский язык, ну, может, еще Стороженко немного – мне он нравился. Робота пошла не просто хорошо, а… Скажу так – мне казалось, я трахаюсь с ней, не кончая, больше месяца – это было то, о чем я только мог мечтать. Причем мне было классно, будто я эякулирую, а желание не ослабевает, и я продолжаю, еще и еще.
Естественно после нескольких «@ruah: Богдаш, ты как?» – я заблочил ее. Она устроила скандал Илье и чуть не поехала ко мне сама. Но он ее кое-как уболтал под моим дистанционным руководством, объяснил, что я ударно работаю и нельзя нарушать уединение, потом вечером я прислал ей с курьером огромный букет желтых роз с запиской: «Печальная дочь океана, зачем я тебя полюбил?» – Илья сказал, что она мило рюмсала и выглядела просветленной и довольной.
- Тр*хнешь ее? – спросил я у него в дискорде.
- Ну, если ты просишь… – выебнулся тот кучей стеснительных смайликов.
- Прошу, – сказал я. – Только ей не говори. Напишешь.
Я вернулся к переводу с удвоенной силой, я просто летал как на крыльях, отрывался, чтоб похавать, покурить и все как в бреду – только текст, только Влада, я видел ее во всем вокруг, я чувствовал ее пьянящий запах в запахе травы, дорожной пыли и каштанов под домом, я слышал во всем ее прекрасный голос – в сигналах такси, разговорах мамаш под балконом и пьяной возне под молодежным клубом, я, помню, стоял и поспешно курил на балконе, и закат над городом казался мне таким прекрасным, как никогда в жизни, и я думал – это потому, что в нем, как и во всем вокруг, как бы была разлита Влада. Я вернулся и добил главу, Илья прислал усталый смайлик.
- Кайф… – добавил после.
- Ну???
- После букета твоего как будто ебнулась. Такая ебанутая (куча довольных смайликов).
- Кричала?
- Да. Соседи слышали по ходу))
- Ну, пусть. Не будут думать, что ты гей.
- Очень смешно.
- (воздушный поцелуй)
- С букетом ты классно придумал.
- Завтра еще пришлю. Слышь, одолжи мне денег?
- Ок.
Я перевел еще главу до полуночи, хотя она и требовала еще редактуры… Но на вдохновении от того, что они стопудово опять занимаются любовью и Влада «ебанутая» (а я-то знаю, какой она бывает ебанутой…), я таки добил и эту главу.
Написал Илье коротко:
- Было?
- Да (опять усталый смайлик).
- Блин, можешь мне ее сфоткать незаметно?
- (задумчивый смайлик) Попробую, но крч она палит по ходу нашу переписку. Спросила – ты с Богданом разговариваешь – я показал чат ПАБГ.
- Понятно (грустный смайлик).
- Я попробую… вот.
Не очень хорошего качества фотка – Влада в футболке-ночнушке, со спутанными волосами, с кружкой кофе как будто идет по кухне.
- Блядь, классная такая, – написал я.
- Да, – откликнулся Илья. – Согласен.
- Поцелуешь перед сном.
- Конечно. Будем ужинать.
- Давай.
На следующий день я прислал букет с запиской: «Пока ты была со мною – я не боялся смерти». Илья ничего не писал до темна. Написал уже почти ночью.
- Бля, та ты заебал (фрустрированный смайлик)
- Круто? (улыбчивый)
- Да. Неописуемо. Но я уже не могу.
- Я завтра не буду присылать.
- Ок.
- Но это тоже опасно.
- Да я понимаю. А как у тебя там движется?
- Осталась меньшая часть.
- Мы с Владой, наверно, пойдем за покупками.
- Да, своди ее куда-нибудь.
- Я думал, в бургер… Там же вроде жарят эти стейки?
- Да, только салат какой-то заставь есть – пусть не топчет только мясо.
- Та я знаю)
- Цьом.
- Целую)
Мне не хотелось ее мучить. Но я ж вам говорил – во мне бывает это раздвоение, когда мне не хочется что-то делать, но и хочется, потому что я знаю, что ей это понравится. Илья написал мне вечером, что она нервничает, и я сказал:
- Будь с ней очень-очень нежным, понял? Посмотрите фильм. Ухаживай за ней.
- Та я так и делаю)
- Завтра пришлю)
- Ну я понял.
На следующий день я прислал букет с запиской: «Пылай, полыхай, греши – захлебывайся собой». Илья прислал:
- Долго курила на балконе, глаза влажные, едем к тебе.
- В парк! Я щас выхожу. Скажи, что я очень люблю ее, вот, ПОКАЖИ! (сердечко)
- Все нормально) Тебя подвезти?
- Я пешком. Потом сходим куда-то.
До сих пор помню тепло ее объятий в этом парке, у самого заслезились глаза, я искренне просил прощения за эту выходку, она правда сказала, что было очень романтично. Мы приподняли ее и поцеловали в щеки, шли люди – ну пусть видят типа, похрен. Похавали в кафе, потом еще ходили парком – я их с Ильей фотографировал на смартфон – такая парочка красивая - улет, я храню эти фотки, люблю их. Люблю ИХ.
***
Короче говоря – мой перевод напечатали почти одновременно с оригиналом. Причем гораздо большим тиражом… Там вот как получилось – издательство, печатавшее Владу, было небольшим и в основном ориентированным на СНГ, понятно – со всякой красиво изданной русской классикой, иногда какую-то говнофантастику из РФ издавало, но не совсем уж ебанатсво, а такое всякое нишевое – не Масодов, конечно, но, может быть, кто-то из тех, кому приписывают его творчество, мэшап юной Влады о зомби-нацистах в антураже гитлеровской оккупации Украины вполне себе ложился в направление издательства – они даже придумали красивую пиар-кампанию в духе «вундеркинд русскоязычной литературы» и все такое, но после четырнадцатого года это все, понятно, пошло прахом. Они еще издавали в эти годы какую-то классику и что-то замшелое перестроечное вкупе со всяким фолк-хистори очевидной антиимперской направленности, но о первоначальной ставке на эдакую булгаковщину, понятно, пришлось забыть, и горизонт планирования постепенно сузился. Несколько переводов тех же фолк-историков на украинский вовсе не пошли – в данной нише уже давно крутились рыбы покрупнее. Дошло, в общем, до того, что Владино «Лето Господне» было чуть ли не самым крупным их релизом за последние годы и не то чтобы оправдало ожидания – реакция публики была вялой, украинцы вовсе не понимали, нахрен им нужна книжка на русском, о чем бы там она ни была, идейных «малороссов» (если можно так сказать) было исчезающе мало, а на русскую аудиторию, во-первых, Влада и сама не рассчитывала, во-вторых, та аудитория, особенно после четырнадцатого, в упор не понимала, почему нельзя писать по-человечески о жалких хохляцких унтерменшах, ни на что не способных без руССких белокурых бестий. В общем говоря, как-то так сошлось. На мой взгляд, Влада являла собой хрестоматийный пример непризнанного гения, которому не повезло. Возможно, для ее текстов просто не существовало аудитории, хотя, впрочем, ей это скорее нравилось – во всех разговорах она сравнивала себя то с Имре Кертесом, пишущем о холокосте на венгерском, то с тем же Зюскиндом, пишущем об истории Франции на немецком… При ее шизоидности вполне себе комфортно было чувствовать себя оторванной от общего контекста, изолированной. Но я-то хотел для нее другого – история с расшаром «Лета…» через фанфик-сайты меня порядком вдохновила (несмотря на очевидную маргинальность данного дискурса), и я искал еще варианты. Украинский перевод мне показался интересным. Влада была от него в восторге, я понимаю, что, напиши я как-то по-другому, она бы исправила, поэтому я говорю – в восторге. И да, мне приятно. Не настолько, как это посвящение (в безупречность перевода я не очень верю), но все же приятно. Как и реакция издателя. Этот дядька, как я понял, искренне верил в талант Влады (что мне, понятно, импонировало) и печатал ее уже давно не для прибыли, а просто для истории. И вот, увидев перевод, он сказал, что предложит его знакомому редактору из крупного украиноязычного издательства. И знаете – там все как-то закрутилось. «Ведьма» вышла на русском в этом издательстве тиражом около 3000, потом, ради справедливости, были несколько дополнительных – уже после украинского, а в украинском 10000, и был дополнительный тираж. Знаете, что было самым смешным в этой предварительной работе? Наши споры с Владой по поводу авторства перевода. Я, ничтоже сумняшеся, сказал ей, что не надо никакого авторства, напиши – автоперевод. Мы поругались. Не сильно, играя, но весьма экспрессивно. Она сказала, что не обсуждается, и она сама подпишет моим именем. После «не обсуждается» я пошел на уступки, поскольку знал, что «не обсуждается» – это железно, спорить смысла нет. Я сказал, что «посмотри на посвящение и посмотри на имя». Ну и что? – сказала она, но уже немного растерянно. Я знал, почему это так – дело было не в том, что роман посвящен переводчику, а в том, что Влада как бы не афишировала наших отношений, не светила перед своим кругом, у ее близких было умолчание, что у нее где-то в провинции есть парень (наверное), но дальше она никого и не посвящала, понятно. Всех это устраивало – меня в первую очередь, Илью, конечно, тоже. Но тут как бы пришлось бы засветить мою фамилию и имя – Влада испугалась этого (и правильно), но все же от идеи внести меня в исходные данные не отказалась. Тогда я сказал – компромиссный вариант. И предложил «Илья (моя фамилия)». Моя фамилия – одна из самых распространенных в Украине, так что с этим никаких проблем не было. Ей вроде бы понравилась идея, но тут выделываться стал Илья – «это Богдан переводил», тыры-пыры…
- Почему это я должен быть в книжке?
- Только имя.
- Хоть и имя, почему?
- Ей так хочется, ясно? – я посмотрел на Владу.
- Хочется, – сказала она, кротко стрельнув в Илью глазками.
Я знал, что он повержен.
- Влад, ну, – сразу замямлил он.
Она подошла к нему и, став на носочки, чмокнула в щечку. И он совсем поплыл.
- А еще потому, что мы любим тебя, – сказал я.
- Очень-очень, – Влада еще раз его поцеловала.
Как он был падок на эти мимишные нежности – это так мило. Я с ним так не умел. А иногда хотелось. Но он правда понимал, что мне хочется, и относился с пониманием, иной раз даже с благодарностью. Ну, блин, короче – мы все утрясли. Илья Руденко – ну, пускай. Это так забавно – будто он мой муж (что так и есть, вообще-то).
Ну, короче, забегая вперед – был полный пиздец, потому что нас даже искали. Хорошо, что я придумал этот простой финт с псевдонимом. Дело в том, что книжка стала популярной. Она даже выиграла эту литпремию ихнюю, что для переводной книжки вообще дикость несусветная, ага. Владу по телеку показывали и звали на радио… Я с удивлением читал в рецензиях: «Як смачно та пристрасно Абрамова зазвучала українською. Але чи варто дивуватись, якщо це її рідна мова? Особисто я завше вважала Владу питомо українською письменницею». Я ее тоже считал украинской писательницей, но когда она мне то с восторгом, то чуть ли не в слезах рассказывала, что я для нее сделал и как она благодарна, я немедленно останавливал эту дуру и говорил:
- Ты красивая.
Это еще поначалу я что-то объяснял – что это всего лишь перевод, и хорошо, если мне удалось воссоздать хоть каплю из той бури чувств, что меня одолевала при прочтении «Ведьмы», что всегда считал Владу гением и что возможность просто быть рядом с ней для меня величайшая награда в жизни, на которую я никогда не мог рассчитывать, и т. д. Что литкритики – дуры-дурные, что все это чушь, потому что раньше они просто не читали Владу, потому что на русском, а сейчас на волне хайпа разродились, и вообще… все это не имело смысла – я не мог ее убедить и поэтому говорил:
- Ты красивая.
Это был и шифр в том числе, это у нас значило «и талантливая, и гениальная, и очень умная, и соблазнительная, и великолепная, и любимая, и милая, и хорошая». И это почти всегда действовало.
Это было веселое время. Я сдал свою квартиру и наконец переехал к Илье, сам Илья пошел работать в магазин бытовой техники консультантом, на целый день, но работал он пять дней в неделю, к тому же и на дому чинил, паял, собирал, короче, я занялся домашним хозяйством, и мне это даже понравилось – варить завтрак любимому, готовить тормозок и термос с кофе (не всякий раз, но все же), заниматься стиркой и уборкой, выпроваживать его, «стельки на батарее сушатся – засунь», «на улице мороз – другую куртку», «джинсы постирал – возьми спецовочные», «я тебя люблю, иди, удачи!». Выйти на балкон и посмотреть, как он идет. И как садится на маршрутку. Варить овощной суп, на ужин – равиоли. Вынуть стирку. Отчитаться Владе, как мы тут, спросить, как там она, и сделать комплимент. Посмотреть интервью с ней, а может, подкаст. Поржать над статьей какой-то фемки о лесбийстве Влады, исходя из «Ведьмы» и подробных постельных сцен оттуда (зная, что эти сцены иногда покадрово списаны с наших – с меня с Ильей). Найти нам с Ильей какой-то интересный фильм на вечер. Не забыть пропылесосить. А после выйти на балкон курить и подумать: «Я счастлив». О Господи – счастлив!
V
В начале зимы мы с Ильей задумали и осуществили нашу давнюю мечту – трахнуть Владу просто за кулисами ее презентации. Идея принадлежала как бы мне, но скорее мной была озвучена, ну, просто поверьте, если вы живете с парнем… а сколько я живу с Ильей? Короче – несколько лет, то многие вещи, ну, вы просто их произносите, чтобы как бы официально опубликовать, а не для того, чтобы что-то сообщить партнеру – это-то и так понятно. Вот и здесь – мы смотрели в трансляции Владину презентацию в Ивано-Франковске, зал фирменного книжного этого украинского издательства был полон, Влада была в ударе и в таком офигенном желтом осеннем платье, в кроссовках, в традиционном коралловом ожерелье и в НАШИХ сережках (причем у нее была манера время от времени ненавязчиво к ним прикасаться одной рукой – как это меня заводит). Тогда мне пришла идея подарить ей ожерелье, но об этом позже. А сейчас о том, что мы смотрели трансляцию на ноуте Ильи, и когда она увлеченно говорила об Ишигуро применительно к тому куску из «Ведьмы», я спросил Илью.
- Ты ее хочешь?
- Да.
Мне понравилось, как он резко это выдохнул. Я взял его за запястье и посмотрел ему в глаза. Он смотрел как-то растерянно, даже испуганно – я обожаю этот взгляд, и с этим обожанием я припал к его губам, он приобнял меня за талию, я, оторвавшись, гладил пальцами его виски и пристально смотрел ему в глаза, наслаждаясь волнением в них. Потом я оттолкнул его и резко произнес:
- Ну! Говори. Я хочу услышать, что ты чувствуешь, не молчи, заебал. Говори!
- Я злюсь на нее, – дрожащим голосом сказал Илья. – Я злюсь на нее за то, что люблю ее… и от этого люблю ее еще больше.
Я прислонился к нему, положив голову на грудь, и нежно обнял его. Влада улыбалась на экране ноутбука – кто-то многословно задавал ей тупенький вопрос.
- Что бы ты хотел с ней сделать?
- Целовать… – его голос задрожал сильнее – он был весь в экране.
- Ну? – мне хотелось его мучать сейчас.
Я будто ненарочно коснулся пальцами его живота.
- Обнять. Очень крепко обнять ее… Ну, Бодя!
Он робко потянулся рукой к моей руке, и я оттолкнул эту руку легоньким ударом.
- Ну?
- Лапать.
- Как? Описывай подробно. Понял? Я хочу, чтобы ты это описал. И смотри на нее!
- За грудь.
- Что бы ты делал с ее грудью?
- Блядь… тоже целовал? И лапал. Хочу опять ощутить ее запах.
Я улыбнулся, но не сказал Илье, чему я улыбнулся. Влада оставила кое-какие вещи у нас – в квартире Ильи, в основном в шкафу, но в спальне на стуле долго висела девчачья кофточка-кенгурушка, беленькая – она сушилась там на стуле. Влада промокла на дожде перед самым отъездом. И я несколько раз видел, как Илья украдкой припадает к этой кенгурушке, как бы вдыхая ее запах, ну, знаете, как будто проверяет, свежая ли вещь, или по типу того, или берет по типу переложить и не перекладывает, это так забавно – он каждый раз кидается, когда я захожу, а я делаю вид, что не заметил.
- Я хотел бы легенько ее укусить, как ей нравится, знаешь. За грудь, за сосок… прекрати!
Это он на мою руку у него под поясом…
- Я хочу пососать ее грудь! Ты доволен? Мне нравится сосать ее грудь, то одну, то другую, я от этого себя уже не контролирую. Она…
Он должен был сегодня хотя бы всплакнуть. Я хотел увидеть его слезы.
- Она самая лучшая!
- Я знаю. Что еще?
- Снять с нее платье.
- И?
- Снять с нее все, и войти в нее, и… – он всхлипнул и заговорил очень быстро. – Признаться ей в любви, как в первый раз, ты понимаешь, я хочу как тогда, я постоянно говорю, как сильно я ее люблю, но каждый раз это не в первый раз, а я хочу, чтобы ей было так же хорошо, как в первый раз, ну, или как в стихах, я не могу, как ты, красиво ей сказать. А я хочу, Богдан, чтобы она… чтобы ей было очень хорошо, ты понимаешь?
Я целовал его тогда так страстно, как только мог, гладя одной рукой щеку и слизывая слезы, другую руку же не одергивая от адского жара.
У нас был классный секс, и я, естественно, немедленно во все посвятил Владу. Она так растрогалась, что красивым готическим шрифтом (хотя и немного кособоко – она слала мне фотки процесса, это действительно было по ходу непросто) написала у себя на груди хной ИЛЬЯ и прислала ему фотку, которую еще и подписала «собственность Ильи». Тогда же мы разработали план (все втроем, ну, так было тупо удобней), как трахнуть Владу прямо на ее презентации, и потом мы его осуществили – сразу говорю. Но это потребовало от меня изрядной смекалки и преодоления социофобии.
Короче, мы давно придумали завершить Владин тур в Конотопе – ну, типа, символично, все дела, и я даже немного этим занимался, с поддержкой Ильи. Я договорился насчет актового зала техникума, использовав пару давних знакомств. Ну, тут я, конечно, тупо в большей степени просто связал их с Владиными организаторами, но прикольно было то, что те затеяли нехилое мероприятие с участием городской администрации, сгоном студентов и все такое – во время выступления Влада, конечно, разбавила этот официоз своим нонконформизмом, но это и добавило остроты нашему плану. Короче, скажу прямо, я виртуозно исхитрился добыть ключ от подсобки в раздевалке, объяснив это хуйней по типу – там мы оставим кое-какие вещи, но их надо будет время от времени брать, крч – все для мероприятия. Владу мы насколько можно незаметно утащили туда прямо в разгар автограф-сессии, под каким-то благовидным предлогом типа – важный звонок, пять минут. Ну да, можете смеяться, но мы действительно не хотели срывать автограф-сессию и плюс-минус уложились оба в эти пять минут, ну и плюс я же все довольно тщательно продумал вплоть до каких-то гигиенических процедур, извините, но не буду физиологизировать текст, ок? Но по завершению я все-таки не отдал ей ее трусы – я твердо был намерен не отдать и не отдал.
- Отдай трусы, – смешно-серьезно говорила Влада.
- Не, трусы не отдам, пойдешь так.
- Илья, скажи ему!
- Нет. Не скажу.
- Илья! – она дернула его за рукав. – Слушайте, ну это в конце концов пошло.
- Ну и что?
- Где мой рюкзак?
- Сейчас же!
- Бодя!..
Мы поцеловали ее в щеки.
- Хорошо, – сказала она примирительно. – Тогда я запрещаю себя лапать.
- Что-о? – я не сразу и вдуплил.
- Ну, Влада… – простонал Илья
- Запрещаю. Поняли?
- Но мы опять хотим!..
- После автограф-сессии. Пошли.
В коридоре актового зала с нами столкнулась заместитель мера по какой-то культурной политике – она долго и навязчиво восхищалась творчеством Влады, а мы с Ильей стояли поодаль и улыбались друг другу.
После презы очень долго длилась всякая нудная мура типа того, что Влада даже дала интервью местной интернет-газете, потом фотографировалась с местной администрацией (без трусов, хаха) и, короче, мы освободились, когда уже темнело, и отправились в нашу любимую пиццерию, предварительно отправив Владу переодеться более удобно и тепло в той-таки подсобке – на улице был не мороз, но довольно прохладно. Машину припарковали рядом (нас теперь почти всегда возил Илья) и пошли не спеша сквером. Я опять пытался лапать Владу, как и в машине, но она отталкивала.
- Нет.
- Ну, пожалуйста.
- Нет, я сказала.
- Тогда дай руку! – сказал я почти что плаксиво. – Не могу. Держи меня за руку, а то я с ума сойду.
Она охотно ухватила мою руку и даже взяла ее в замок, сказала:
- Почитай мне стихи.
- Нет, – взбрыкнул уже я.
- Читай.
- Ты не можешь мне это приказывать.
Я взглянул на Илью – он улыбался.
- Богдан, – капризно бросила она.
- Разрешишь себя лапать?
- Какой ты несносный! Я хочу стихи.
- А мы хотим лапать.
Она взглянула на Илью, и он со всей готовностью резко кивнул.
- Что ты будешь читать? – спросила она у меня.
- Это жаркое лето, которое станет зимой?
- Там про смерть, не хочу.
- Мертвую девушку в поле нашли?
- Ты специально?
- Конечно.
- Хочу украинские.
- Бо єдиний ти мій бог?
- Нудятина. Что-то любимое, плиз!
- Только лапать.
- Один раз.
- Один раз, но вдвоем?
- Хорошо.
- Илья…
- Я хотів би сказати «кохаю» щоразу по-новому,
Я хотів би не знаю чого, але лише тебе,
Я хотів цілувати тебе і тебе, заціловану,
Цілувати іще і тобі віддавати себе.
Ти пробач німоту мою, скупість мою на слова,
Якби тільки ти знала, як сильно мені небайдужа,
Якби ти тільки знала, як сильно тобою нездужаю,
Якби ти… о, пробач, я нічого такого не мав…
Он очень вдохновенно это прочитал. А я смотрел на Владу. О Господи – вы бы видели Владу. Помните, я затирал про взгляд благодарности за букет? Так вот – то был свет Венеры по сравнению с этим вот Солнцем. И, может, я уже и надоел, но повторю, что мы с Ильей ради этого взгляда вообще существуем, и нам совсем не стыдно в этом признаваться.
Тут Илья, правда, немного подпортил впечатление.
- Мне Богдан помогал, – кивнул он на меня.
А она, разгоряченная, как будто не зная, к кому броситься, так как-то лихорадочно взглянула на меня (блин, как я обожаю этот блеск в ее серых прекрасных глазах), потом на Илью и засосала все-таки Илью, потом меня. Да я и не против был такого порядка, впрочем, мы все равно обняли ее вдвоем. Знаете, как мы ее обнимаем? Так, будто куколку, она такая маленькая, и чтобы обнять ее одновременно, нам вдвоем надо самим немного сутулиться и даже немного наклониться, но мы всегда стараемся как будто заслонить ее от окружающего мира своими телами и обязательно согреть – нам всегда непроизвольно хочется ее согреть.
***
После триумфального завершения тура Влады она осталась у нас в Конотопе. Это было так классно. Недели две она тупо отсыпалась. Ну да, мы занимались иногда любовью, но только когда хотела Влада, не то чтобы мы с Ильей совсем к друг другу не прикасались, пока она спала, но это было весьма робко, потому что… Ну, можете смеяться – но мы боялись ее разбудить. Мы вновь, как и в коттедже, сконцентрировались на ней, и нам так это нравилось. Нам хотелось заботится о ней, и в том числе потому, что Влада была сущностью, вдохновляющей нас и придающей всему, что с нами происходило, какую-то неимоверную важность, возвышенность. Нам нравилось ходить на цыпочках, пока она спит, запираться на кухне и говорить там полушепотом. Готовить вместе ее любимый мясной суп, варить ей кофе. Этот маленький сопящий в затемненной спальне под двумя одеялами человечек был сердцем, гоняющим кровь наших чувств и стремлений, и это было восхитительно. Просыпаясь, она обычно, зевая, сразу ковыляла в душ, и мы ее, бывало, целовали в щеку, если разминались, она смешно сонно кривилась, даже не говоря «с добрым утром», у Ильи была манера как-то очень ребячески задирать ей ночнушку, она, сонно улыбаясь, рефлекторно одергивала ее. Она была потрясающая – обожаю ее сонную, обожаю тепло, исходящее от нее после пробуждения, обожаю ее запах в такие минуты. Мы не приставали к ней на предмет секса – она всегда тяжело просыпалась, она видела яркие колдовские сны и, возвращаясь в мир, ощущала его разительно блеклым и серым, это как бы приводило ее в легкий шок, и вот от этого шока она и отходила долго, обычно стоя под горячим душем, она всегда стояла под горячим душем, но умывалась потом холодной водой из-под крана и, пока сушила волосы, окончательно просыпалась. Ее ждал завтрак и кофе – в любое время суток. Но, проснувшись окончательно, она понимала, что нам нужен тактильный контакт, и, едва входя на кухню, не уговариваясь, садилась в Ильи или мои объятья, иногда на руки – мне или ему. Нам это было нужно, мы даже не обжимались за завтраком – просто обнимали завтракающую Владу, нам просто важно было ощущать ее тело рядом. За завтраком мы обычно обсуждали разные вещи – например, я часто предварительно искал, что еще говорят о Владе в интернете, и сообщал ей. Хавая, она становилась разговорчивой – просто забавная мелочь могла сподвигнуть ее на восхитительную тираду или полемику. Например, один раз я нашел пост в фб, где кто-то из тусовки таки высрался о ее рускоязычности, и вообще, дескать, «как это можно – давать такую премию за перевод?», в комментах там вообще было, что типа «богатый папа проплатил», хаха…
Я смеюсь, потому что немного знаю подноготную. Только мать (вернее, мачеха, но Влада называла ее «мама») поддерживала Владу в ее писательских устремлениях, но она была женщиной приземленной и практичной, посему ее поддержка была несколько обобщенной, что ли, типа «хорошо, что ты пишешь, я в тебя верю, но, Влада, я, пожалуй, в этом ничего не понимаю – вот ты говоришь, что у тебя беременность героини символизирует войну, а я вообще не поняла, как оно одно к другому». Короче говоря – такое. А вот отец этого всего вообще не признавал. Он был эмоционально холоден с Владой. Она говорила, что всю жизнь видела в нем по отношению к себе какой-то скепсис на грани брезгливости даже (я не мог в это поверить, но ладно). Он многое ей позволял, но всегда было ощущение, что, обеспечивая ее желания, он как бы откупается от отцовской близости, при этом постоянно упрекая Владу в разбалованности, типа: «Да, папа купит. Да, папа оплатит. Да, папины деньги». Я как-то сказал ей, что, возможно, он упрекал не ее, а себя за то, что откупается, за то, что она типа принимает эти откупы, а какая-то внутренняя часть его против них и хочет, чтобы Влада запротестовала, наоборот, типа: «Не откупайся от того, чтоб быть со мной!» Ну, я доморощенный психолог, наверное, вы уже поняли – хотя Влада долго над этим моим предположением размышляла. В любом случае – свою писанину Влада вообще скрывала от отца, а когда издала первую книжку, то он вообще испортил ей настроение от первого триумфа довольно тупой и, прямо скажем, мизогинной речью о том, что женская писанина вообще ерунда, и типа если бы папа не оплачивал ей все хотелки, то она не занималась бы ерундой – он буквально сказал «ерундой», даже не открыв книжки. Влада говорила, что тогда расплакалась у себя в комнате, и паскудней всего в этом состоянии было понимание того, что отец Владу на самом деле ранил, что она не может относиться к этому на похуях (как, в общем, следовало бы), а до сих пор жаждет отцовского одобрения и принятия. Ну, вы помните, да, «если я вам не нужна, то вы мне и подавно» – а тут в таком себе признаться. Шизоиды прежде всего боятся быть отвергнутыми. Но, забегая наперед, – с «Ведьмой» случилось что-то вовсе неожиданное. В связи с этой шумихой вокруг перевода и премии Влада чувствовала себя окрыленной еще и потому, что она чуть ли не впервые в жизни была чем-то реально занята и даже в этом состоянии не избегала бывать дома – в основном она просто ночевала там между несколькими киевскими мероприятиями. Она говорила, что впервые ощутила себя даже более свободной, чем когда жила отдельно – несмотря на то, что была теперь дома. Она была занята своим, и ей было все равно, как к этому относятся домашние. И вот как-то, приехав поздно, она застала отца одного на кухне – на столе стояла начатая бутылка коньяка и лежала… Владина «Ведьма». Было накурено, отец почти что дремал за столом. Влада поспешила выйти, надеясь, что отец ее не заметит, а он вдруг позвал ее:
- Влада.
Она даже почти что испугалась. Он как будто не знал, с чего начать.
- Слушай… а вот этот Сомко – он ведь гетманом стал потом?
Короче – я ведь не могу изобразить тут все отношения и все общение Влады с отцом с раннего детства, поэтому скажу просто – подобный вопрос, мягко говоря, шокировал Владу. Она не знала, что ответить, но если вы общались с шизоидами, то, возможно, знаете, как они любят прятать за сложным теоретизированием свои живые чувства. Короче, Влада стала объяснять, что Сомко был наказным гетманом, кем он приходился Хмельницкому и как в целом сложилась его судьба. В какой-то момент она увлеклась, что с ней часто бывает, и стала в красках рассказывать о казни Сомка в Борзне – на моменте с летописным татарином-палачом она случайно взглянула на отца и была поражена его взглядом. Она говорила, что обычно с трудом выдерживала его взгляд и тупила глаза – он всегда смотрел как-то надменно и даже, опять же, с нотой брезгливости, а тут… Он был искренне поражен – смотрел на нее широко раскрытыми глазами, как будто на что-то впервые увиденное. И когда он понял, что она смотрит на него (он был уже заметно захмелевший), он опустил взгляд и вдруг неожиданно стал рассказывать какую-то феерическую кулстори времен своей срочной службы – как он служил с каким-то молдаванином, и тот ему рассказывал что-то о Дубоссарах – при чем тут этот молдаванин и особенно Дубоссары, Влада так и не поняла, рассказ разваливался на глазах, в какой-то момент Абрамов-старший совсем запутался и вернулся к его началу, потом замолчал, и Влада подумала, что он заснул сидя, но робела встать и мешала кофе ложечкой в кружке (чего никогда не делала обычно), и вдруг увидела, что отец смотрит на нее все так же удивленно, но немного по-иному. Она вспоминала, что где-то в этот момент ей пришла в голову мысль, что вот она на самом деле всю жизнь мечтала о подобной близости с отцом, но теперь тупо не знала, что с ней делать, и она ее довольно сильно волновала и смущала. Ей было как бы одновременно хорошо и в то же время хотелось это прекратить (вообще для шизоидов характерна всякая амбивалентность, но как я уже, наверное, заебал этим @ruah: ничуть ? ). А отец вдруг сказал Владе:
- Знаешь… я хотел, чтобы у нас… было одно имя.
- Ты? Я думала, это мама хотела…
- Нет… Я…– он захмелело улыбнулся, не глядя на Владу. – Я… еще когда тебя не было… почему-то представлял, что ты будешь похожа на меня.
- А я похожа? – робко спросила Влада.
- Да. Очень.
Влада, вспоминая этот разговор, волновалась. Глаза делались влажными. Как-то она спросила у меня:
- А почему он, блядь, не мог сказать об этом раньше?
- Потому что боялся.
- Чего?
- Ну, вот этой похожести.
- Что же здесь страшного?
- А ты всегда спокойно смотришь в зеркало? А это, наверное, в сотню раз круче.
Влада задумалась. Потом сказала грустно:
- Мне всегда казалось, что я не соответствую его ожиданиям, что ли. Но при этом я никогда не могла понять, в чем же состоят его ожидания. Знаешь, мне искренне хотелось быть такой, какой он хочет меня видеть, но если бы я знала, КАКОЙ именно он хочет меня видеть. Иногда, казалось, его раздражали во мне вовсе противоположные вещи.
Она рассказала, что в детстве его раздражала ее замкнутость и отгороженность от сверстников – то, что она не играла с детьми, а постоянно липла к старшим – в основном к мачехе и к нему. Она говорила, как ее ранили эти упреки, особенно в присутствии других людей, например, в гостях на каких-то праздниках – вот это «пойди поиграй с детьми!», «она вообще в книжках своих постоянно», «она вообще людей боится», «она вообще затворница», «вон, посмотри, дети играют». Влада говорила, что в детстве не понимала этого – ей было хорошо с мамой и папой, зачем ей надо было играть с какими-то детьми? Но отношение отца становилось все более холодным, а мачеха… Ну, она как бы держала некоторую дистанцию – она иногда говорила отцу типа: «Чего ты бурчишь на ребенка?» – но только и всего, это казалось дежурным. Поэтому в подростковом возрасте, скорее, в позднем подростковом, лет в пятнадцать Влада на некоторое время ушла в отрыв – тусовки, мутные связи и, к сожалению, наркотики. У нее не было прям зависимостей, но вещества плохо легли на ее акцентуацию – произошел тяжелый депрессивный эпизод. Он начался с того, что Влада исчезла – ее искали больше суток и обнаружили на пригородном вокзале в Дарнице, и то случайно: кто-то из пассажиров сообщил милиции, что легко одетая девочка-подросток сидит на платформе на лавочке, хотя под вечер сильно похолодало. Она сидела там несколько часов, до этого приехав туда на электричке, и не понимала, зачем приехала, и зачем здесь сошла, и почему сидела. Она говорила, что ей хотелось и нравилось так сидеть, и молчать, и смотреть на поезда, и не двигаться. Она рассказывала, что каждое собственное движение вызывало в ней не то брезгливость, не то скорее какое-то недоумение, и хотелось совсем оцепенеть, насколько это было возможно. Это было что-то вроде кататонического ступора. Наряд милиции поднял ее с лавочки, но не смог разговорить – она смотрела на них удивленно, а когда один из милиционеров повысил голос, полагая, что она просто под кайфом, она вжала голову в плечи и по-детски зажмурилась. В вокзальном отделении она просто сидела на стуле недвижно, на нее надели милицейскую куртку. В конце концов пришел психолог, и он смог добиться от нее имени и адреса – она написала их на листке бумаги, как она говорила – чтобы он просто отвязался, он выбрал тактику такой нудной навязчивости, и она этим росчерком на бумаге просто отмахнулась от него, как от мухи. Влада говорила, что приехавший отец орал на нее прямо там в отделении, но впервые в жизни это ее не трогало, она была внутри себя и там ей было хорошо. Отца успокоила мачеха и психолог, а потом Владу положили в частную клинику. Там у нее была отдельная комфортная палата и к ней приставленный личный психолог, Влада не отказывалась от лекарств, но еще почти неделю ни с кем не разговаривала, потом все-таки начала отходить. Вероятно, говорила она, это из-за препаратов, но самой ей казалось, что причина возвращения в реальный мир была другая. Она впервые в жизни начала сама сочинять. Причем от этого ее первого сочинения остались какие-то куски, которые она потом сожгла – она говорила, что ей нравилось не столько писать этот текст, сколько именно сочинять – фантазировать о нем. Сама история была вдохновлена, как она говорила, видимо, библейскими главами из «Мастера и Маргариты», но была ветхозаветной – о грехопадении. Она говорила, что не очень помнит вообще фабулу, но в сути это была гностическая интерпретация этого мифа. История концентрировалась на Еве, от ее лица велось повествование. Там был некий остров, подобный таковому из «Повелителя мух», и, как и в «Повелителе мух», вне этой островной идиллии шла кровавая война между Ялдабаофом и посланцами благого истинного Бога. Как потом выяснялось, этот остров был не столько раем, сколько тюрьмой для двоих людей, и одновременно тюрьмой были их физические созданные Ялдабаофом тела, в которые он заключил величайшие творения Всетворца – бессмертные людские души. В какой-то момент в этот рай прибывает неназванный люцифер – он очень там запараллеленный на зверя, сходящего с неба в «Повелителе мух», он так и называется – Зверь, его ищут ангелы Малахи. Оно там буквально выглядит как поиски войсками сбитого пилота, я был удивлен, что эта линия вообще почти в точности повторяется в «Туманах», когда эта Рая находит советскую летчицу – Женю и пытается ее выходить в оккупации, а немцы ее ищут. Вы помните – у этой Жени разноцветные глаза? Вот то-то же. Вы помните, что эта Женя там – такое немного наивное, но все же очень светлое начало, какой-то сплошной свет, и Рае кажется, что, пока эта Женя хотя бы жива, – тьма не может победить. Так вот – Ева случайно там находит этого Зверя, но там он ранен, но не бессилен, как Женя, просто скрывается, не имея возможности покинуть остров. Ева пугается, а Зверь вдруг поклоняется ей, едва завидев. Короче, дальше там оно притчево как бы, но суть в том, что этот Зверь рассказывает Еве, что война идет за них с Адамом, что они венец творения, что Ялдабаоф вероломно пленил их, и постепенно Ева, прозревая, как бы просыпается, должно быть, это красиво описано, но Ева как бы постепенно просыпается и видит все очень ярко и красиво, и кульминация в том, что она как бы опять, но гораздо сильнее, по-новому влюбляется в Адама, у них происходит страстное соитие, и она убеждает его бежать со Зверем, оно именно переворачивает эту легенду, там именно акцентировалось на том, что Ева делает все это от чистой искренней любви – Зверь помог ей осознать, как они с Адамом на самом деле прекрасны. Ну, короче говоря, Влада сожгла даже куски, хорошо, что мы с Ильей постепенно убеждаем ее написать эту вещь опять. Но это не суть дела, смысл в том, что, выйдя из клиники, Влада занималась на дому с репетиторами, и мачеха предложила классную идею, а именно – записать Владу на танцы. На этих танцах Влада впервые нормально социализировалась, нашла несколько подруг и именно тогда уже как-то более зрело и ровно написала «Туманы», за границей, когда училась, а вернувшись, написала «Лето», но суть этого рассказа в том, что в тот период, когда Влада бунтовала, претензии отца были точно такого же рода, только с обратным знаком, типа «ты разгульная», «ты неуправляемая», «почему ты сбегаешь из дому?» и все такое. Влада говорила, что в подростковом возрасте это ее больше всего поражало, вот это понимание иррациональности отцовских претензий – что бы она ни делала, все было не так.
- Я любила его больше всех, понимаешь? Я жаждала его одобрения… А в тот вечер я поняла, что он искренен, – что я правда всегда была похожа на него, то есть… я всегда хотела быть похожей на него, но оказалось, что мне для этого ничего и не надо было делать!
- Да. Ведь ты его дочь.
Забавно, что у Влады и правда были отцовские черты лица, и даже цвет глаз точь-в-точь. Единственное – что он высокий и полноватый, станом Влада пошла в покойную мать – та тоже была невысокой и тоненькой, худенькой.
- Влада, я уверен, что он тоже любит тебя больше всего на свете.
- Я… не уверена. Мне этого очень хотелось в детстве, но потом… Я как бы научилась жить без этого, ты понимаешь? И когда мы познакомились, когда у меня получилась «Ведьма», я как бы почувствовала, что мне больше не надо ничего ему доказывать, что я могу прожить без его любви, потому что… Богдан, вы с Ильей показали мне, что я могу любить себя.
- Ну, слава богу!..
- Нет, серьезно.
- Я ж о чем.
Она взяла меня за руку.
- И тут вдруг он… Этот разговор.
- Влада, он мог видеть в тебе себя и злиться, потому что у него не было примирения с собой, а не с тобой. Он мог поэтому… Ну, или не поэтому, просто не уметь выражать свои чувства – могло быть что угодно на самом деле , но ты должна понять, что это были ЕГО проблемы. Понимаешь? Не твои. Судя по этой сцене, я все-таки думаю, что он испытывал к тебе очень сильные чувства, как ты и хотела, но были проблемы с выражением этих чувств. В любом случае, я рад… Короче – спасибо, что ты это сказала, потому что я думаю, что твоя любовь к себе – это самое важное, что я или Илья могли тебе дать.
Я не удержался и ущипнул ее за нос.
***
Мы встретили 2022 год вместе. Знаете, это был самый классный Новый год в моей жизни, сравнимый, может быть, с каким-то в раннем детстве, да и то. В детстве ты все равно слишком зависишь от родителей, а в силу того, что мои жили не очень хорошо, наши общие праздники постоянно омрачали их ссоры – сколько я себя помню. Ну, то есть, все могло идти нормально, но в какой-то момент практически обязательно летело прахом. Взрослым же, когда не стало матери и отец уехал практически уже навсегда, моя новогодняя ночь проходила почти как обычная. Да, зачастую я готовил себе какой-то праздничный салат, даже обычно покупал тортик – я немного сладкоежка. Но в остальном – я даже елки никакой не ставил и не вешал гирлянд, я делал то же, что обычно, готовил, скролил инет, играл во что-то, а потом вечером включал какой-то старый фильм эпохи VHS и пересматривал, хавая этот салат и запивая чаем с тортиком. Новогодние ночи для меня были ночами уединения – я старался ни с кем не общаться, даже анонимно в инете, и, выходя курить на балкон, молча слушал отдаленные хлопушки и салюты. Было ли мне грустно? Вот скорее нет. Наоборот, спокойно. Да, пресловутая детская новогодняя романтика ушла, как и у всех, но я считал это нормальной приметой взросления. И лишь встретив Илью, я понял, что новогодний праздник может быть до одури чудесным. Покупки! Господи, да, новогодние покупки в супермаркете! Ну почему так много счастья в этом словосочетании? Почему раньше на этот весь ажиотаж я смотрел с недоумением, а теперь, шляясь с Ильей вдоль этих стеллажей, я пребывал натурально в какой-то нирване. Нет, внутренне. Не то чтобы я внешне был тих. Поначалу я вообще феерически ныл всякий раз чуть ли не до скандала (тем не менее, никогда не отказываясь идти за покупками с Ильей).
- Ну, посмотри на них – какая мерзость! Это общество потребления, понимаешь? Это вот эти зомби, которых мы видели в «Рассвете мертвецов», можно, знаешь, снять римейк, только вместо этого Волмарта будет АТБ и зомби в новогодних колпаках – зачем эта дура надела колпак, посмотри? Как это все ужасно!
- Ты прекратишь или тебя поцеловать прямо при них?
- Илья…
- Ты думал, я шучу?
- Илья, не надо, нет… Ну я молчу. Ну я стесняюсь, перестань.
- Не против курицы? Я просто давно хотел попробовать запечь целиком.
- Возьми говядину.
- Зачем?
- Я приготовлю шницель.
- Ты умеешь?
- Да. Панировку и соус еще. Щас…
- А как оно?
- Расслабься, я все знаю. Надеюсь, что тебе понравится.
Выбирать продукты. Ставить елку, вместе вешать на нее игрушки. Выбирать ему подарок. Принимать подарок от него (он всегда к подарку прилагал какие-то конфетки, шоколадки, тортики – зачем он у меня такой любимый?). Но, как и с остальным, это была прелюдия к реальному отпаду – этому Новому году втроем. Они купили елку с Ильей – я долго спал, но наряжали мы ее вместе, фотографировали Владу (она выложила несколько фоток в инсту), и несколько подруг спросили ее, где она наряжает елку, а она только подмигнула таинственным смайликом. Потом мы вместе пошли в супермаркет. Вы понимаете – вместе. Идти и разговаривать. Идти под руку с Владой. Держать за руку Владу, в то время как она держит Илью. И выбирать продукты. Втроем. И обсуждать втроем, что лучше. И что вы думаете? Мы купили Владе шапку Санта Клауса. И надели на нее прямо в супермаркете. А потом продолжили покупки. Мы накупили столько, что Илья пошел за машиной, а мы с Владой расплачивались на кассе и укладывали все это в пакеты. Забавно, что именно там на кассе Владу впервые узнали в Конотопе – какие-то школьницы попросили с ней сфоткаться и еще извинялись, что не были на презе, но смотрели видео. Она так и сфоткалась с ними в этом колпаке, они ее тегнули у себя, и эта фотка стала довольно залайканной. Потом мы отвезли продукты домой, но нам еще не хотелось идти домой, было около полудня, и Влада с Ильей занесли продукты в квартиру, а я подождал их в машине, куря с открытой дверью, – мы поехали и съели по бургеру в забегаловке неподалеку, потом вышли пройтись по парку, потом я потащил Владу в книжный и ради прикола сфоткал рядом с полкой, где ее «Ведьма» в моем переводе стояла среди отечественных хитов – фотка вышла прикольная, хотя Влада и не захотела ее никуда выставлять – она, опять же в этом колпаке, строит недовольную рожицу, глядя на свою книгу на полке «Сучасна українська література». Где-то тут, фотографируя Владу возле этой полки, я и решил сказать ей.
- Влада, я хочу попробовать перевести «Лето». Как ты на это смотришь?
Мы стояли возле этой полки, и в книжном было довольно много посетителей – все по ходу пытались обналичить государственную дотацию за прививки (к кассе регулярно подходили с вопросом, можно ли рассчитаться деньгами за прививку). Илья отошел немного дальше, перебирая и листая все подряд.
- Ты правда хочешь?
Влада спросила тихо, и по ее немного испуганному взгляду я понял, что мои слова ее тронули.
- Помнишь, что я тебе говорил? Что этот перевод, – я указал на «Ведьму», – для меня был типа безумного секса с тобой, но на каком-то совсем глубинном мистическом уровне. И ты спрашиваешь, хочу ли я этого? Да, я хочу тебя, Влада. И ты даже не можешь представить, насколько.
- Могу, – сказала она тихо.
И теперь посмотрела на меня взглядом опасной темной Влады, чем-то подобен этот взгляд был на тот заплаканный в машине, когда я сказал ей, что влюбился в нее, потому что она гений. И, наверное, так или похоже она смотрела на поезда.
Но сказала она совсем не грустное, сказала, наоборот, то, что тронуло меня до глубины души и сердца.
- Могу, потому что… Когда я перечитываю эту книжку в твоем переводе – а я ее почти постоянно перечитываю, я чувствую, как ты меня берешь. Как ты владеешь мной, я раньше никому бы не позволила с собой такое делать, так проникать в меня, так познавать меня. Но тебе я хочу отдаваться, мне так сладко тебе отдаваться. Я никогда бы раньше в это не поверила, но тебе я открываюсь полностью, и это очень сладко.
- Влад, я зачарован тобой.
Чуть-чуть убрав волосы, я легонько поцеловал ее в чело – вполне целомудренно и прилично. Подошел Илья с книжкой о нанороботах, я шутливо толкнул Владу к нему, и он ее поймал, они тихо смеялись, и, глядя на них, я дико захотел посмотреть на их секс. Я бы просто смотрел, как Илья в нее входит, как он трахает ее, как она вскрикивает, как он наслаждается, владея ею, я представлял это в подробностях до того, что у меня потемнело в глазах, и если бы я это правда сейчас видел, то, наверное, не выдержал бы и закричал, как я сильно люблю их.
- Я сильно люблю вас, – сказал я негромко.
Илья улыбнулся и легонько подтолкнул Владу ко мне. Я был ему за это благодарен, потому что, обняв ее, я вдохнул ее запах, и вся эта дикость мгновенно… есть такое украинское слово «скресла» – это значит избавиться ото льда, но также и двигаться льдом и одновременно «воскресать» (в другом значении), и «вспыхивать» (в другом), и кресать в смысле выбивать искры… короче говоря, «цей шал миттєво із мене скресав» – я назвал бы это так, и мне теперь хотелось быть ласковым и нежным с Владой, я где-то краем уха слышал, что типа есть специальный гормон, который заставляет влюбленного самца заботиться о любимой самке, так вот – в это мгновение я весь целиком представлял собой этот гормон.
- Богдан хочет перевести еще и «Лето», – сказала Влада Илье, закутываясь в мои объятья.
- Я знаю, – кивнул Илья.
- Вы постоянно меня обсуждаете! – капризно возмутилась Влада, только глубже погружаясь в мои объятья.
Нас обошли мужчина с женщиной, неся какие-то детские книжки.
- Конечно, обсуждаем, – кивнул я.
- А мне не говорите!
- Да, – заключил я преспокойно.
- Но почему-у?
Она такая крашная, когда капризничает!
- Ну, потому что мы мужчины, и нам лучше знать, что для тебя полезней.
От этого она растаяла – я знал, что растает. Илья говорит, что у меня лучше получается как бы «вести» Владу, если метафорически представить отношения как танец. Вот он с ней больше, как я люблю говорить, гетеронормативен, что ли, они мне вообще очень напоминают такую мемную парочку Чэда и Стейси – ну прям хоть на обложку модного таблоида или в подборку светской хроники. И может быть, поэтому я так люблю смотреть на них со стороны – ну, это реально красиво.
Но сам Илья мне говорит, что его восхищает, как я умею «вести» Владу, он говорил, что я с ней могу быть «таинственным», как и она, во мне тоже есть «таинственность», как и в ней… Ну, он реально так сказал, он долго пытался, кстати, это сформулировать и в конце концов вспомнил мои колдовские глаза (ну это же была его формулировка).
- Она тоже колдунья, – сказал Илья, размышляя.
Я кивнул. Это было вообще интуитивное понимание – хрен его знает, что он имел в виду под этой колдуньей, но я как бы мгновенно понял, что, и кивнул. И тут он выдал неожиданное рассуждение:
- Ты понимаешь, этот крестик у нее, вот эта набожность… оно как бы ее уравновешивает, чтобы она не стала ведьмой.
- Как? Ведьмой?
- Да, ведьмой. Красивой и страшной.
Я улыбнулся, раздумывая.
- А меня что уравновешивает?
Он смотрел на меня очень серьезно. Ответил.
- Ничто. Ты красивый и страшный.
Я рассмеялся и скорчил гримасу непарализованной половиной лица, сказал:
- Да уж, второе так точно…
Но он даже обиделся.
- Перестань. Ты понял, о чем я. И именно поэтому она в тебя влюбилась.
- Она и в тебя влюбилась, ты забыл?
- Иногда мне кажется, что она со мной, потому что ты со мной.
- Что ты несешь?
- Ну в смысле… блин, Богдан, мне хорошо, мне с вами так классно, но, справедливости ради, она так на тебя…
Он говорил это без ноты ревности, а даже с каким-то восхищением, и я это понимал – потому что так же любил восхищаться ими, когда они были вдвоем. Я сказал:
- Ну ладно, слышь, как бы то ни было – ведь я в тебя влюблен по-настоящему.
- Богдан…
В его глазах горела боль, и я ответил:
- Ну, ладно, я понял, обнять, кам ту ми!..
Сейчас я обнимал Владу там, в книжном, и в который раз думал, что я обожаю ее рост – мне нравится, что я могу вот так просто, обнимая, целовать ее в макушку. Я поцеловал ее в макушку. Илья спросил:
- И что она? Не против?
- Эй, хватит говорить обо мне как о вещи!.. – возмутилась Влада, нежась в моих объятиях.
- Наша вещь что-то сказала? – спросил я у Ильи, навострив ухо, как будто прислушиваясь.
- Где? Я не слышал... – развел руками он.
- Дураки, – сказала Влада незлобиво и взяла из рук Ильи его книжку, стала листать, так и стоя в моих объятьях спиной ко мне.
- Машины создания, – прочитал я через ее голову. – Грядущая эра нанотехнологий. Читала?
- Да, – кивнула она. – Когда планировала писать нанопанк.
- Почему я об этом ничего не знаю?
Она демонстративно показала мне язык.
- Любимый, заводи машину, – подмигнул я Илье. – Нашу девочку ждет дома наказание.
- Признайся, что я тебя переиграла в этот раз!
Влада повернулась и ткнула мне в грудь пальчиком с разноцветным маникюром.
- Какая разница? – пожал я плечами. – У нас с Ильей остался последний и решающий аргумент.
- Какой же?
- Грубая мужская сила. Ты готова к наказанию?
- Да.
Это она сказала тихо и послушно кивнула. Мы взяли ее за обе ручки – каждый со своей стороны – и пошли к кассе. Влада шла чуть ли не вприпрыжку.
VI
Влада опередила нас с подарками, но в каком-то смысле так и задумывалось. Глупо было надеяться, что она нам ничего не подарит, но все-таки мы отодвигали время этого обмена, насколько могли – мы не только комплексовали по поводу нашего нищебродства в сравнении с Владой, но и, как это ни смешно, из-за той простой мелочи, что она как бы была вынуждена дарить что-то сразу двум парням, ха-ха. Из-за этой особенности мы с Ильей друг другу ничего не дарили, ну а хули, если мы были всецело заняты выбором подарка для Влады и иногда робкими предположениями, что же она подарит нам (чтобы потом хоть как-то соответствовать). Короче говоря, чтобы долго вас не томить – первым она преподнесла подарок Илье, это была очень точная реплика казачьего медного крестика-оберега, и признаюсь, когда Влада надевала его на шею обнаженного до пояса красивого Ильи, я, несмотря на внешний скепсис, возбудился – это было как-то так неожиданно эротично – спутанные волосы Влады, движения ее обнаженных рук, сползающая с одного плеча футболка с логотипом, ее нежные движения, трогательная неподвижность Ильи… вся эта какая-то внутренняя глубокая ритуальность данного действия, совершенная на нашей кровати во взбитых перинах, после всего того сладострастия, что мы только что пережили, как бы на выдохе его, под еще не остывшим похотливым восхищением друг другом. И они вдвоем, вы понимаете, а мне так нравится смотреть на них вдвоем! А ОНА надевает на НЕГО этот крестик и потом нежно целует в чело, как сестра или мать. Мне стало так сладко, что я отвернулся. Забегая наперед – я никогда не думал, что это все, раньше настолько безразличное и даже отталкивающее, вдруг привлечет меня к себе этим путем. Через девушку, которую я люблю больше жизни, через девушку, которую я хочу больше всего на свете, через страсть к ней, через секс с ней. Ты знаешь, Влад, я это очень долго формулировал и до сих пор мне это сложно, но уже тогда, там, на нашей постели, в предновогодний вечер, когда ты надевала крестик на Илью, я, может быть, впервые почувствовал где-то в себе, не осмыслил, а только почувствовал то, что, возможно, лучше всего передать словами типа – если ты веришь в него, то и я готов верить в него, потому что я всегда верил в тебя, и я всегда любил тебя, и если он в тебе, то я люблю его больше всего на свете, и если у него твое лицо, то он прекрасен. И я знаю, что ты не до конца понимаешь путь, по которому я прохожу, но я вижу, как тебе нравится сам результат, когда я начинаю разделять с тобой твою потаенную веру, я просто хочу быть абсолютно честен пред тобой, Руах, и потому я говорю, что готов принимать только такого бога, который открывает мне себя через тебя, и который меня вдохновляет посредством тебя, и которому я поклонюсь, поклоняясь тебе. Потому что, стоя на коленях рядом с тобой, и сжимая твою руку в своей, и произнося в унисон с тобой эти ничего не значащие слова, я испытываю, да, ты можешь возмущаться, но я испытываю чувства того же рода, что и фантазируя с тобой, обнимаясь с тобой, мастурбируя и занимаясь любовью с тобой. Ты говоришь, что я неправильно все понимаю. Но я готов это понимать только так, ну, возможно, пока, я не знаю, но главное, что я скажу, это – да, Влада, я обожаю молиться с тобой. Мне нравится идти с тобою в церковь молча, держа тебя за руку или просто ковыляя рядом, мне нравится стоять с тобою рядом и креститься, глотать это вино с размякшей проскуркой и смотреть, как ты идешь к причастию, сложив свои прекрасные ручонки накрест на груди, мне нравится идти с тобой домой и обсуждать все, что мы чувствуем сейчас, о Влада, я люблю тебя и, делая все это следом за тобой, я сближаюсь с тобой – и это то, чего на самом деле я хочу. И наши бесконечные споры о том, что, по-твоему, я должен спастись сам, а не через тебя, что я сам стократ важнее своего влечения к тебе – мне это все безумно нравится, но я все это отвергаю, и я благодарен тебе за то, что ты просто принимаешь мой путь таким, какой он есть, и просто рада, что он есть. Да, Влада, ты привела меня к этой вере, и если правда все, что ты постулируешь, то ты спасла меня и с этим я совсем не стану спорить.
Но я отвлекся, словом, Влада надевала Илье крестик, а потом поцеловала, а после, как-то извиняясь, посмотрела на меня и сказала:
- Я хотела, но я знаю, как ты к этому относишься…
Нельзя сказать, чтоб мы не предполагали что-то типа крестика, потому что Илья рассказывал, что Влада как-то спрашивала, крещенный ли он, типа между прочим, а если да, то почему не носит крестик… Но все же, признаюсь, это было немного неожиданно – Владина религиозность была очень интимной, потаенной вещью.
- Все правильно, ему идет гораздо больше, – дипломатично улыбнулся я.
Она, упав на постели, полезла в свою сумку и протянула мне коробку с бантиком. Я посмотрел на коробку мгновение и улыбаясь, ляпнул, ну, не удержался:
- А где справка о беременности от Ильи?
Влада поняла прикол буквально сразу и покатилась со смеху по кровати. Илья вообще не понял, мы вынуждены были прочитать ему мини-лекцию о происхождении этого мема с сойбоем, но он, кажется, все равно не понял, что тут такого угарного, и, махнув рукой, сказал нам:
- Дураки!
Короче, это был Nintendo Switch с OLED-экраном, новинка только с печки, я мог раньше только мечтать о таком. Найдя внутри картридж с последней Зельдой, я окончательно сложил этот пазл – как-то, обсуждая игры, я мимоходом сказал Владе, что поиграл бы на свиче разве что в Зельду, ведь все ее хвалят, но ставить ради нее эмулятор на комп мне тупо лень. К слову сказать, я до сих пор не запускал Зельду, так уж получилось. Хотя в свитч играю постоянно, но в основном в свич-порты тех же пекашных игр. Но об этом потом, постепенно.
Я очень переживал, соответствует ли наш подарок хоть немного. Их было два, но в комплекте, короче говоря, это была черная дизайнерская женская вышиванка, с офигенными (ну, на мой вкус) узорами на рукавах. Она была довольно длинной, до бедер, так что могла сойти и за ночнушку-футболку, но в остальном это была именно традиционная вышиванка по все лекалам – она была льняная, вышивка руками, оборочки и вся фигня. Блин, уже Влада все равно знает и прошло много времени – она была пиздец дорогая. Не свитч, но почти. А может быть, и свитч, особенно сейчас, а не тогда – почти в момент выхода. И можете не верить, но Влада была шокирована – сорочка ей сразу понравилась…
- Богдан… – дрожащим голосом сказала она.
- Надевай, – повелительно перебил ее я.
Она сняла футболку и надела вышиванку – круче всего, что в этом тоже была некая ритуальность, резкое обнажение, сорочка и… Я даже не мог поверить, что насколько сильно угадаю. Как с той нинтендо, у идеи этого подарка был толчок, а именно тот наш с нею разговор у речки. Ее боль и замешательство от того, что она не понимает, кто она. И я хотел этим подарком показать ей, не рассказать, не доказать, а именно показать, КТО она такая. И я не просто угадал. Передо мной сейчас сидела простоволосая прекрасная полесская ведьма. И от мгновенного безумия меня сейчас спасал только тот факт, что я уже спал с этой ведьмой, что я владел ею, что она мне говорила «я тебя люблю». А еще то, что Илья не растерялся и занял эту паузу надеванием ей на шею своего подарка – крупных янтарных бус. О боже, это было так прекрасно – эта рифма, что вот она только что надевала на него крестик, а он сейчас на нее бусы. Полуголый красивый чернявый казак с медным крестиком надевал на ведьму в черной вышиванке янтарные бусы. Но эти бусы насколько сильно подчеркнули ее образ, что он вспыхнул с такой силой, я больше не мог это выдержать, схватил ее за руку и, хромая, быстро подвел к зеркалу в коридоре. Буквально толкнул к этому зеркалу, держа ее за плечи, и сказал:
- Посмотри на себя! Смотри, какая ты красивая! Ты видишь, кто ты? Видишь?
Она вздохнула, и слеза покатилась по ее щеке.
- Мы очень тебя любим, – сказал подошедший Илья.
- Ты не можешь представить, как сильно, – сказал я, вторя его голосу.
И мы поцеловали ее в щеки.
***
Влада держала пост довольно спорадически, когда жила у нас, она объясняла это неким догматом, что, дескать, если вы живете или находитесь в гостях у людей, которые не соблюдают пост – лучше не соблюдайте тоже, во всяком случае не становитесь в позу – типа вы соблюдаете пост, потому что в таком случае это гордыня, и это хуже, чем не соблюдать пост. Как-то так. Да и вообще, если уж совсем честно, пост у нее зачастую был привязан либо к не то чтобы частым походам в церковь, либо напоминал некую диету или разгрузочные дни и отличался атрибутивностью. Предвосхищая ваш вопрос – типа как это, она соблюдала пост (хоть и атрибутивно, и иногда) и при этом спала с нами отвечаю – идите нахуй. Вот просто сори-вери, но идите в этом направлении, потому что я представить даже не могу, как можно находиться с Владой и не трахать ее регулярно, потому что, по моему убеждению, она создана для того, чтобы ее трахали.
Блин, ладно, говоря серьезно – мог ли бы я не прикасаться к ней, если бы эта ее шиза, не дай бог, прогрессировала, и она в какой-то момент начала соблюдать целибат или что-то в этом духе для спасения своей бессмертной души, или еще какой-то чуши? Мог. Я люблю ее. И если бы для нее это было важно, то, наверное, я бы пошел на это, я не знаю, как бы я это выдержал, скорее всего, сошел бы с ума или… Я говорил вам, что для меня любовь равно вожделение, и это совершенно точно. Но Влада… Может быть, дело в том, что мы уже спали с ней, и я знал и буквально кожей чувствовал, что мое вожделение взаимно, возможно, нужно пройти этот этап, но в какой-то момент, это я понял с Ильей и потом с Владой, наступает этап, когда ты хочешь счастья для любимого человека больше, чем для себя. Понимаете? Его счастье как бы становится твоим, понимаете? Я же абсолютно искренне предлагал Илье поехать на свидание с Владой одному. И это ведь не потому, что я недостаточно его любил, а как раз потому, что уже достаточно для такого предложения. Так и тут. Когда мы говорили об этом с Владой, то она рассказала мне, что в детстве была довольно набожной, в первую очередь с подачи мачехи – та была воцерковленной, но все-таки, похоже, это с ее стороны была больше дань моде, тогда это было модно, хотя уже и на излете, плюс мачеха была западенка, у них это более распространено. И маленькой Владе это очень нравилось, нравилось обсуждать с мамой (ну, мачехой, но я же говорил – Влада называет ее мамой) детскую библию, нравилось учить молитвы, ходить в церковь. Все это как бы хорошая игра, и все у Влады получалось, но трещина прошла по ее подростковому возрасту, по психологическим и даже психиатрическим проблемам, она говорила мне, что явственно почувствовала, что казавшаяся в детстве такой упорядоченной и радостной жизнь как бы стала выскальзывать из ее рук, пришел хаос, и в этом хаосе Владе мерещилось что-то невыразимо страшное, страшным был не сам по себе хаос, а нечто, как бы иногда угадываемое за ним. Ну, как страшна не ночь, а то, что может прятаться в этой ночи – это ее формулировка. Я говорил ей, что ее тревожность этого периода, вероятней всего, была вызвана наркотой, она не то чтобы спорила, но… она вообще мыслила метафизически, если вы понимаете, о чем я. Словом, после диспансера она стала почти что вовсе атеисткой, она говорила, что в этом не было ни вызова, ни злобы, просто в какой-то момент она перестала отличать добро от зла – так она говорила, и перестала думать о себе как о христианке; она с улыбкой рассказывала, как несколько раз отшивала сектантов типа свидетелей Иеговы (которые, к слову, постоянно к ней липли) фразой «я атеистка». Но считала она себя скорее агностиком, она говорила, что не только на вопрос «есть ли Бог?» ответила бы «не знаю», но и на вопрос «веруешь ли ты хоть во что-то?» ответила бы точно так же. Мне и сейчас она кажется скорее агностиком – ее вера и религиозность очень барочная, как ее поздние тексты, в которых удивительным образом православная метафизика соединяется не то с языческой, не то вообще невесть какой, причем на этих чудищ во тьме хаоса поздняя Влада научилась смотреть не с готическим ужасом, а с таким очень барочным удивлением. И это сделало ее спокойней и смиренней. Сама она объясняла свои метаморфозы похожим образом с той разницей, что, интересуясь казатчиной, она вернулась к православию, сначала с каким-то чисто эстетическим интересом, в частности, например, она любила читать библию на старославянском, изучать иконографию тех давних лет, устройство храмов и положение священства в этом обществе, ну, все такое. С удивлением она заметила, что любит слушать в плеере церковные службы, чисто как музыку. А потом во время ее учебы за границей случилось несчастье – старший брат ее матери (мачехи) погиб в зоне АТО. Влада почти совсем его не знала, он жил в небольшом городке Ивано-Франковской области. Влада приехала на похороны скорее, чтобы поддержать мать. В принципе, мама и так держалась хорошо – говорила Влада, но в числе прочего там, на похоронах, Влада краем сознания отметила, что ее рука сама тянется к крестному знамению, как будто механически, но это крестное знамение приятно и… как-то правильно – так она говорила. Это было на уровне ощущений, но потом в Германии она как-то пришла на лекцию российского богослова, не буду тут его пиарить – он урод, как оказалось, и там услышала кое-что, что легло ей на сердце. В общем и целом, там было о том, что вот этот религиозный перфекционизм, присущий некоторым пастырям, – он как бы что-то вроде фарисейства и только отталкивает людей от церкви, что, дескать, грешны все и этого не избыть, но надо думать не о том, насколько ты идеальный прихожанин, и лелеять эту идеальность, что тоже гордыня, а просто искренне стремиться к богу, и это стремление по типу и есть христианство. Да, даже я понимаю, что эта проповедь была, мягко говоря, неидеальна с догматической точки зрения и сильно отдавала очень уж прозрачным миссионерством типа «я вам щас тут наобещаю – вы идите в церковь, главное, уж там мы вами и займемся», но Владу это как-то очень успокоило, и она впервые применила к себе эту формулировку: «Я плохая христианка», – но почувствовала, что важнее в ней не «я плохая», а «я христианка». И впервые за годы пошла на причастие. И этот поход, говорила она, прояснил для нее, что все эти годы она хотела пойти на причастие, но ее это и останавливало – то, что она неидеальна и не чувствует в себе сил быть идеальной. Короче говоря, с того времени она совмещала в себе эту неидеальность и стремление к таинствам. Причем, как я и говорю, все это в ней окрашивалось в такие завлекательные барочные краски. Да, я люблю ее, и я люблю и это в ней, я все в ней люблю – и этот крестик на резинке, и все эти глупости. Что говорить, если она привела меня к этому тоже – во что бы раньше я никогда не поверил, если бы мне кто сказал. Можно ли прийти к этому богу из-за девочки, которую ты любишь и которую безумно вожделеешь? Получается, можно. Можно ли уверовать в этого бога, предположив, что он похож на девочку, которую ты любишь, потому что она создана по образу его? И если можно, то и для меня не все потеряно, потому что в такого бога я готов поверить. Я не готов верить в бога, которому не нравится моя любовь к Илье и Владе, но дело даже не в догматах или в чем-то наподобие, а дело в моем искреннем непонимании, как можно отвергать мою влюбленность не в одно, а в целых два его подобия! Но богослов с меня такой себе, я это понимаю. Я, впрочем, и не претендую, пожалуй что здесь я чужой, но я держусь за руку Влады, приходя в этот ваш мир, и я могу быть сколь угодно грешен с вашей точки зрения. Буду с этим соглашаться, но знайте одно – я во что бы то ни стало буду продолжать держать ее за руку. И даже если вы начнете побивать меня камнями – я не отпущу ее руки, пока меня не оставят силы.
Ну, короче говоря, я опять растекаюсь, но я хотел сказать, что из-за уважения к предрассудкам Влады мы приготовили не то чтобы постные, но и не очень скоромные блюда – в частности, у меня получился офигенный грибной салат с сухарями, ну разве что с сыром. Была рыба, в частности, роллы и рыбные палочки (Влада любила их почти так же, как и мясо), ну и мясо было, окей, мы не то чтобы настаивали, но нельзя же было не запечь с корочкой хотя бы крылышек, тем боле Илья давно хотел что-то куриное. Короче говоря – меню было не то чтобы постное, ну, может быть, не очень вредное и жирное, скорее. Пить нам особо не хотелось, была бутылка шампанского, которую мы даже до конца не раздушили за всю ночь.
Я очень хорошо помню, как мы встретили ту полночь. Наевшись до отвала, мы все вышли на балкон – мы с Владой покурить, Илья за компанию. Не очень помню, о чем мы там говорили, о чем-то несущественном, по-моему. Потом мы с Владой принялись распаковывать свитч и, вставив его в док станцию, подключили к телеку. Мы так этим увлеклись, что и не заметили, как Илья снова взял купленную сегодня книжку о нанороботах и улегся с ней на диване. Она его так заинтересовала, что он начал время от времени цитировать вслух, я с трудом отвлекался от приставки и слушал вполуха – решив испробовать джойконы, мы к тому моменту загрузили доступную по подписке коллекцию классических игр 16-битной Сеги (у меня была такая в детстве), а вот Влада живо комментировала прочитанное Ильей – она вообще удивительным образом умела делать несколько дел одновременно, не теряя при этом ни в одном. Я ни у кого такого не встречал, вот, например, она могла одновременно увлеченно читать книгу и слушать лекцию на ютубе, при этом еще и переписываясь со мной в мессенджере.
- А зачем ты читаешь книгу – ты же хотела послушать лекцию.
- Я слушаю, но мне скучно просто слушать – я и читаю.
- И ты все воспринимаешь?
- Да.
У меня, во всяком случае, внимание отказывалось так двоиться. В какой-то момент Илья зачитал что-то про эволюцию, там было что-то об РНК и ленточных червях, ну, мне трудно давался этот научно-популярный тон изложения, короче, там было что-то о том, что вот-де многообразие эволюции и подчиненность ее единым принципам, помню, Влада начала нудить, что ее тошнит от этого ебучего позитивизма.
- Начинается, – отвлекся я от просмотра каталога Сеги.
- Что начинается?
Влада стопудово знала, что я влезу.
- То, что в начале сотвори Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою…
- Ненавижу-ненавижу-ненавижу!..
Влада повалила меня на пол и начала колотить, я победно смеялся. Эта вышиванка так ей шла, а еще перед ужином я заплел ей косу, которая порядком растрепалась к полуночи.
- Ну, хватит меня бить… – я еще засмеялся.
- Почему ты такой!
- Ну какой? Не изъясняюсь языком тысячелетних сказок? Перестань, нет, не надо!..
Она начала меня щекотать – ведь знает, что я со своей чувствительностью очень боюсь щекотки.
- А тебе приятно изъясняться так, как прочитал Илья?
- Я не люблю научпоп, но я не вижу в том, что прочитал Илья, ничего, что вызывало бы тошноту. Чего ты завелась, позволь спросить?
- Из-за описательной системы.
- Что в ней не так?
- То, что этого не может быть.
- Чего?
- Того, что вот это сплетение эпителиальных, мышечных и нервных тканей, – она стала гладить мои волосы, – эти нитевидные придатки эпидермиса, вот эти сенсорные органы, – прикоснулась пальцем к носу и губам, – нелепые последствия движений нуклеина и белка, рекомбинаций, вот этот организм, начавшийся когда-то из слияния гамет, – тыкнула пальцем в мое солнечное сплетение, – не может быть важнейшим смыслом мной воспринимаемой вселенной.
- Все правильно, я и не смысл. Сама ты смысл.
Я был сдержан, но, мягко говоря, эта речь меня тронула до глубины души. Я обожаю эту девушку до одури, но я не мог сейчас проиграть в этом диспуте!
- Да нет же! Но мой смысл, ответ на все мои вопросы… Два ответа, – она с пола послала Илье воздушный поцелуй и он, поймав, поднес его к своим довольно улыбающимся губам. – Вот этот ответ, – опять ткнула мне пальцем в сплетение, – сейчас начнет тошнить о том, что есть две половозрелые особи, в конечном счете стремящиеся к бессмысленному самовоспроизведению.
- Не только.
- Что есть простой гипоталамус, половой гормон, эрекция… – она меня даже не слушала.
- Посмотри на мою руку. Что ты…
Она контратаковала бессловесно – начала целовать мою руку, я вырвал и взял в свои ее руку.
- Посмотри на СВОЮ руку! Смотри. Она предназначена для лазания по деревьям – брахиации, строго говоря. Но ты листаешь ею ленту новостей... и даже порой используешь как половой орган… Не дерись! Смотри… – я гладил эту бесценную ручку. – Если что-то изначально было предназначено только для продолжения рода, оно не обязано оставаться таковым, но дело даже не в этом. Дело в том, что гипоталамус – это совсем не просто, половые гормоны – не просто, эрекция – это не просто, а уж насколько не проста овуляция – не мне тебе рассказывать… Ты так претензионно несешь эту ничем не обоснованную религиозную чушь, при этом презрительно пренебрегая такими сложнейшими и совершеннейшими вещами, как слияние человеческих гамет – на каком основании?
Влада молчала, я гладил ее руку.
- Почему ты такой невыносимый? – обижено спросила она и повернулась к Илье. – Илья, почему он такой невыносимый?
- Не знаю, – пожал тот плечами. – Но за это мы его и любим.
- Да. И еще за цвет глаз.
- И еще за пару органов, да?
Влада оживилась:
- Да, у него…
- Так, стоп-стоп! – очнулся я от этого елея. – Она что – тебя уже воцерковляет?
- Не, ну не то чтобы…
- Что-о-о? Так…
- Что такое? – мило улыбалась Влада.
Неужели она опять победила? Ну, блин, как всегда.
- Ну, Влада интересно рассказывает. Я раньше этим не интересовался…
- Ну, блядь, все, – я сорвался на ноги.
Влада схватила меня за руку, потом обняла за ногу и так и прижалась головой, стоя на коленях.
- Отпусти меня.
- Нет.
- Что ты хочешь?
- Тебя.
Я взглянул на экран телика и вдруг увидел там то, что искал.
- Владюш, давай сыграем в Соника.
- Это платформер?
- Ну а что?
- Вдвоем?
- Ну да. Только чур я буду соником, а ты лисичкой!
Мы играли на половинках джойконов и реально залипли. В какой-то момент Илья поставил перед нами по бокалу с шампанским и, обняв нас за плечи, сказал:
- С Новым годом.
VII
Третьего января прямо с утра повалил страшный снегопад, и мы поехали в коттедж. На самом деле мы давно собирались, еще перед приездом Влады. Илья съездил туда один на автобусе и, пробыв пару дней, наладил там отопление – поставил на минимальный обогрев со всеми предосторожностями, включил холодильник, проверил интернет, убрался немного. И вот теперь, увидев снегопад, мы быстро собрались, кроме продуктов и кое-какой одежды, почти ничего не брали, мы побаивались, что совсем заметет проселочную дорогу от пригородной трасы к деревне (хотя Владин джип, скорее всего, проехал бы и не по такому снегу). Я почему-то помню те дни урывками, вот отлично помню саму дорогу сквозь тот снегопад. Илья был за рулем, мы с Владой, обнявшись, сидели сзади – я почти что полулежа обнимал ее за плечи и дышал сквозь ее волосы, а она уж совсем практически лежала на мне спиной, то схватывая меня за руки, то нежно гладя их. Я то и дело взглядывал в зеркало заднего вида на медовые глаза Ильи и, встречаясь с ним взглядом, улыбался. Он подбадривал меня этим взглядом, ведь он знал, что происходит, знал, что значит наша эта поза. Он как-то сам мне сказал, не помню в связи с чем даже, но он охарактеризовал довольно четко:
- Вы если обнялись, то значит, очень сильно спорите.
Я удивился точности формулировки, но это была правда. Это происходило само собой, причем обоюдно – когда полемика обострялась, кто-то из нас обнимал другого или тянулся к нему, или мы оба тянулись к друг другу, но я только после этих слов Ильи стал отдавать себе отчет в том, что, скажем, чем сильнее несогласен с Владой, тем сильнее ее обнимаю и прижимаю к себе. У нее было так же, только, может быть, более резко, у нее была манера вот так, знаете, набрасываться на меня и хватать в ответ на какие-то сокрушительные мои доводы, маленькая, она как бы вжималась в меня, у нее еще была особенность оплетать меня не только ручками, но и стройными ножками (кстати, пиздец какие у нее ноги сильные – вот прям не ожидаешь, она ногами может так прям очень сильно сдавить, аж дух перехватывает, ну, крч). Суть в том, что в этот раз был спор по поводу «Бенедетты» Верховена, недавно просмотренной. Вообще этот спор тянулся уже два дня, кажется, то вспыхивая, то затухая, но перед самым выездом вспыхнул с новой силой, именно поэтому мы уселись сзади спорить, вообще Влада хотела или сесть за руль, или на переднее – смотреть на дорогу, но валил такой плотный снегопад, что видно было совсем недалеко, Илья ехал медленно, почти что наощупь, не отключая дворников и фар. Ну а мы спорили. Вообще мы начали спорить совершенно о другом, нам обоим фильм скорее понравился, только что показался несколько затянутым, и я на каком-то витке обсуждения вспомнил фразу Влады, произнесенную во время просмотра, чисто спародировал или сказал отвлеченно типа: «Ты классно тогда сказала: старик великий инквизитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму». Короче, я же говорил, что это обычный просмотр с Владой, когда она начинает в контексте что-то цитировать, как тогда с Апокалипсис Нау, ну, вот и здесь была та сцена, где эту девочку приводят в пыточную, и Влада пробубнила:
- Старик великий инквизитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо ее.
Я понял, что сюжетный поворот действительно взволновал ее. «Великий инквизитор» – вот именно эта вставная новела была у нее любимым произведением Достоевского, возможно, и одним из самых любимых в русской литературе вообще. Я видел отголоски ее во всех ее текстах, а уж отсылок к искушению Христа в пустыне в ее творчестве было вообще не счесть. Она вообще не очень любила Достоевского, более-менее воспринимала «Бесы», и то, как когда-то призналась, – только, пожалуй, из-за некоторой девчачьей симпатии к персонажу Ставрогина. Я, впрочем, не находил в нем какой-то особенной привлекательности (ну, мог же я об этом рассуждать хотя бы, являясь бисексуалом, а?), на что Влада неожиданно возразила, что я и не должен находить его симпатичным.
- Почему это? – удивился я.
- Потому, что ты похож на него сам, – загадочно улыбнулась она.
Мы тогда нудно поспорили тоже – не то что бы я очень противился этому сравнению, мне было как-то похуй, честно говоря – просто персонаж Ставрогина казался мне картонным, все только и говорили в тексте, какой он охуенный харизмат и все такое, но только я этого по сюжету решительно не видел, это было очень тупо и примитивно, вот Лавкрафта обвиняют в том, что он не описывает ужас, а как бы просто говорит, что он ужасен, только это не так, а вот в «Бесах» этот Ставрогин – какая-то мерисьюха, причем именно что «со слов». Ну, крч, не суть дела, прикол в том, что по этой цитате я понял, что Влада крепко над чем-то задумалась по ходу просмотра, мне стало интересно, но фильм же я не буду прерывать, я решил, что запомню, что мне интересно ее расспросить, но потом мы заговорили об этой затянутости, и я совсем забыл, что хотел спросить, помнил только, что что-то специально запоминал, не помнил только, что именно. Крч, размышляя об этом, я сказал почти что бессознательно:
- Ты классно тогда сказала: «Штарик великий инквизитор шо шветильником в руке медленно входит в тюрьму».
Ну, я не прям так жестко утрировал ее шепелявость, но получилось вообще похоже на нее интонационно даже, а она не закапризничала даже, и по тому, что она не закапризничала, я понял, что щас будет серьезно, и весь внутренне напрягся, и тогда она почти без паузы сказала:
- Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси.
- Что?
- Ну, тебе ведь понравился фильм?
- Ну типа да, в общих чертах. Ну, я бы мог с тобой поспорить о довольно четком фемковском месседже, но это вторично – фильм хорошо развлекает и, если бы не провисания, вообще бы было идеальное зрелище.
- Вот именно что зрелище. Огонь с небеси. Ты знаешь, что такое духовная прелесть?
- Нет, владыко.
- Перестань! Я серьезно.
Она немного улыбнулась – шутка ее рассмешила-таки.
- Я тоже серьезно – щас начнешь душнить по богословию опять?
- Ну, Бодя…
- Что?
- Ты считаешь, что мне не стоит этим интересоваться? Типа это не для меня?
Она говорила серьезно. Я помню, что поцеловал ее. И сказал, нежно обняв:
- По моему скромному мнению, у тебя есть только две важнейшие функции. Первая – влюблять в себя до умопомрачения, вторая – дарить неземное наслаждения от траха с тобой. Проще говоря – быть романтическим и сексуальным объектом. И на мой взгляд, ну, что касается меня – ты с этими функциями, мягко говоря, справляешься на тысячу процентов. Все остальное – производное.
- То есть я не имею никакой субъектности?
Она спросила немного игриво – я знал, что этот спич подействует.
- Я этого не говорил. Быть центром притяжения не значит не иметь субъектности.
Наконец она опять смотрела на меня прекрасным взглядом самки человека. И спросила:
- Кем ты хочешь быть?
- Бартоломеей.
- Да?
- Ну, ты же меня просвещаешь по богословию, да, аббатисса? Лежи.
- Богдан.
- Лежи!
Я обнажил ей грудь, точно как в фильме – натянув ночнушку ей на лицо, и принялся лизать коричневый сосок.
- Илье это безумно нравится, да?
- Откуда ты знаешь?
- Заткнись. Я хочу отсосать твою грудь.
Она застонала, и я вдруг сказал, даже не знаю почему:
- Ты пахнешь молоком.
***
Короче говоря, я сбил эту всю духоту трахом и не особо жалею, совсем не жалею. Между прочим, получилось классно – Влада даже вздремнула, а я настолько сжился с ролью, что оторвал Илью от книжки и потянул в ванную, мне не хватало все же однополого соития, чтобы совсем аутентично. Но, думаю, вы поняли, что разговор о прельщении этим не кончился, было несколько витков, последний из которых –перед самой поездкой и уже в машине. Еще за завтраком я сам нарвался – ну понятно же, что меня это тоже интересовало, что бы я из себя ни строил. А как иначе, если мне безумно интересно все, что интересно ей? И вот я помню, что уже в машине в моих крепких объятиях она душнила неимоверно на тему того, что типа кроткое православие в корне отличается от католицизма своей непритязательностью, светом истинной веры, который выражается, в частности, меньшей подверженностью искушениям всякой прелести. Короче, загуглите – я манал эту муру пересказывать даже сейчас, но если кратко, то типа есть всякие бесы, и они могут искушать тем, что дают всякие знания, таланты и даже чудотворные способности, и если так задуматься, то всякая притязательность, по ее выходило, – это искушение вот этой прелестью, даже вдохновение, экстаз, ну, вообще все, блядь, нахуй – искушение и прелесть, она договорилась до того, что Рафаэль и Микеланджело – это все тоже искушение, а Да Винчи так и вообще содомит, ага /@ruah: я этого не говорила //@givenbygod: иди нахуй/, а также половина классической музыки и даже ее все тексты – это искушение, особенно те, которые вдохновлены отношениями с нами. /@ruah: Богдашечка, я несла хуйню, прости пожалууууйста //@givenbygod: да все нормально, я ж просто восстанавливаю эмоциональный фон, съеби, люблю тебя шо бозна/
- Влада… ваххабитка ты ебучая. Заткнись. Заткнись! Что ты несешь вообще? Мы посмотрели фильм. О том, как в стесненных условиях монастыря под влиянием ядерной пропаганды с детства люди творят какую-то херь, потому что… Потому что – а что они еще должны творить? Девочка с детства несет какую-то херню о том, что с ней разговаривает Дева Мария, и никто ее не только не останавливает, но даже хвалят, затем ее в детском возрасте отделяют от семьи и селят в монастырь, где она и мужиков-то не видит, удивительно ли, что ей снится Христос в виде некой эротической фантазии, а потом она влюбляется в монашку, а потом…
- Опять, опять, опять, опять, – сердито ворочалась она в моих объятьях, а потом с силой обняла мои руки и прижалась ко мне.
- Опять это либидо, обезьяны, эволюция, макаки-бонобо…
- Нет, шимпанзе.
- Опять, опять, опять, мы шимпанзе, да?
- Нет, мы не шимпанзе.
- А что ты затирал про генетические совпадения?
- Это не точно. Но дело не в этом, прикинь? Мы не шимпанзе, потому что никакие шимпанзе не мучат и не убивают друг друга миллионами из-за абстрактных идей. Это чисто человеческая тема, и это действительно грустно. Ты знаешь, вот Илья рассказывал, что раньше было немало программ, способных ушатать ПК на аппаратном уровне, в том числе вредоносных, например, но не суть, я хочу сказать, что еще раньше вычислительная техника вообще представляла собой типа ввод-вывод, там только определенный спектр задач, а потом появилось множество программного обеспечения, и в какой-то момент оно вообще обогнало аппаратную начинку, ну, вот как сейчас, когда какой-то сраный плагин порой ценнее микросхемы, понимаешь?
- Ты несешь херню, – улыбнулся Илья в зеркало.
- Та знаю я, заткнись! – я обиделся, хотя и знал, что несу херню.
- Богдан хочет сказать, – сказал Илья, – что религиозность – это устаревшее программное обеспечение.
- Спасибо.
- И еще он хочет сказать, что абстрактные идеи – это что-то вроде программного обеспечения мозга… И человека типа отличает уже не аппаратная начинка мозга, а вот это программное обеспечение – ну, тут я не вполне понял.
Я наклонился и поцеловал ее. Она еще сильнее обхватила мою руку и сказала:
- О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Я так люблю тебя, Богдан.
- И я тебя.
- Я так люблю тебя, Илья.
- И я тебя.
***
Я помню снегопад и редкие фары навстречу, огни светофоров, за ними сплошной снегопад, в котором даже не угадывались отдаленные деревеньки, помню тепло Влады, лежащей у меня на руках, медовый взгляд Ильи в зеркале заднего вида, его полуулыбку. Помню, как мы играли в снежки во дворе коттеджа, как зашли в коттедж и как-то сразу успокоились, помню, как Илья достал рыбную пасту, чтобы сделать бутерброды, как мы с Владой, еще вяло споря, пошли в душ вдвоем, но там забыли, о чем спорили, и просто мылись, по очереди становясь под струю, и почти даже не прикасались друг к другу, лишь намылили друг другу спины и стали говорить о том, что неплохо было бы сварить картошки просто на подсолнечном масле и посыпать зеленью, нарезать салат. Я сказал, что нарежу салат, а она пускай варит, Влада кивнула и потянулась за полотенцем, а я вновь стал под струю и услышал, как Влада звала Илью, чтобы он принес полотенца из машины, потом я почувствовал прикосновение Влады к своему бедру, она, приобняв меня за талию, легонько отодвинула и опять стала под струю рядом со мной, я, стоя рядом с ней, выдавливал из волос остатки шампуня, потом протер глаза и, увидев, что Илья уже вытирает Владу полотенцем, выключил воду. Потом помню вкус бутербродов с этой рыбной пастой – они почему-то показалось мне дико вкусными, и я смаковал их и вообще сидел, задумавшись, и очнулся лишь когда понял, что Влада с Ильей говорят обо мне, они сидели рядышком напротив меня, и когда я взглянул на них, Влада сказала, приклонившись к Илье и указав на меня бутербродом:
- Скажи, он такой секси, когда мокрый.
- Да он вообще водяной.
- Вскоре очень злой вылез водяной, – сказал я и поднялся налить кофе, вставая, я пошевелил волосы Ильи.
Помню, что сидел в мансарде до сумерек с ноутбуком, курил в форточку, Влада сказала, что картошка готова, я сказал, что не хочу – я переводил, но ей об этом не сказал, они по ходу похавали, потому что Влада принесла мне кофе и два бутера, уже как стемнело, сказала, что картошка в кастрюльке и что они с Ильей слепили во дворе снежную бабу.
- Наклонись, я тебя поцелую, – сказал я, глядя в монитор, затем быстро поцеловал ее в лоб и сказал: – Передай Илье. Вон.
Отредактировав раздел, я опять покурил в форточку, потому что опять сошел с ума от Влады, от них двоих, от ее книжки, от всего. Снег тихо падал на вечерний лес. Мои любимые внизу о чем-то говорили.
Спустившись вниз, я оделся. Илья лежал на диване со своей книжкой о нанороботах, а Влада сидела, подобрав ноги, возле него с макбуком.
- Ты куда? – спросила она.
- Посмотрю на бабу, пока не стемнело.
- Картошка вкусная, остынет.
- Я недолго.
Баба рили была титаническая – это только Илья со своими тренировками мог взгромоздить один на один такие шары. Еще смешно, что на голове у бабы был тот Владин колпак Санта Клауса.
***
Перед Рождеством у Ильи появилась срочная работа в городе – кажется, к ним на склад пришла партия то ли бракованных, то ли даже контрафактных мониторов, и их все надо было проверить, он хотел съездить на автобусе, но Влада захотела, чтобы мы поехали вместе, я сказал, что посижу тут, поработаю, если они не против – пусть едут вдвоем.
Работа шла неплохо, а еще мне неожиданно понравилось чистить снег во дворе. Ну а обслуживать себя в быту я вообще привык. Я даже один раз сходил в деревенский магазин – потом поймете зачем.
Короче, они приехали на Свят-вечер, и не просто приехали, а еще и оставили машину возле пионерлагеря, чтобы я не услышал, подкрались и позвонили. Я вышел – Илья простоволосый, Влада в шапке Санта-Клауса. Запели хором и весьма стройно (видно, тренировались):
- Добрий вечір тобі, пане господарю!
Радуйся!
Ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
Я, не растерявшись, вручил им, когда они допели, по картонному новогоднему мешочку с конфетами – именно их я купил в магазине. Их это растрогало, мы обнялись. Потом они внесли пакеты – накупили в городе мяса, чтобы разговеть Владу, короче, как я и говорил, она не то чтоб прям постовала, но так немного типа диеты, теперь мы решили ее разговеть и на следующий день пожарить что-то на мангале.
- А сегодня что будем ужинать? – спросил Илья между прочим.
- Как что, кутью, – сказал я.
- Серьезно?
- Ну а чем я тут занимался? Мойте руки.
Я приготовил не то чтобы постную кутью – на сливочном масле, с изюмом и курагой. Ну, вроде бы ниче получилось, моим понравилось. Какие-то и рассуждения в тот вечер у нас вновь были околорелигиозные, впрочем, говорили в основном Илья с Владой, я не особенно встревал. Помню, что Илье стало интересно об этих местных церковных реформах, и Влада терпеливо и, кажется, не без удовольствия объясняла ему об истории христианства вплоть до катакомбной церкви, короче, там прикол был в том, что Илью заинтересовало, имеет ли значение для Влады непосредственная юрисдикция храма, в который она идет за таинствами; там началось с того, что Влада еще на презентации познакомилась с местным попом ПЦУ, настоятелем храма, ну, короче говоря, Илья вдруг спросил у Влады, ну как он это понимал, прихожанка она РПЦ или ПЦУ, короче, на что она снисходительно улыбнулась и сказала, что, по ее мнению, для истинного христианина это непринципиальный вопрос, и попыталась объяснить, какие для истинного христианина вопросы принципиальные.
- Спасение своей души, – сказала она, а дальше, кажется, примерно так ему объясняла: – Это, знаешь, вроде какой-то игрушки, вот ты заигрался – полностью уже там, в какой-то момент ты уже забываешь, что ты не персонаж, тебя волнует сюжет, или там гринд, или еще что-то, но ты же должен вспомнить, что это всего лишь игрушка, так вот эти все дрязги, они… Ну как, как споры, кому нравится играть с геймпада или клавы, а кому, может, вообще с виар или там на свиче или стимдеке. Это как бы важно, но ты же вряд ли настолько будешь загоняться по этому поводу. Важна твоя настоящая жизнь вне игры, понимаешь.
Илья не очень понимал. Видно было, что ему очень интересно, это важно для него, но он не может сформулировать, и ему от этого сердито. Упрощенно объясняя, он как бы напирал на то, что в его представлении это какие-то разные боги, в этих двух разных юрисдикциях, а у католиков, может, вообще третий, ну, он мыслил немного как стихийный язычник, ему казалось важно, в какой храм идти и кому ставить свечки, Влада терпеливо ему объясняла как монотеист, что это все обрядовая часть, как вот с этим постом – «важно, что выходит из уст», и вот это вот все, это как удобство игры на той или иной платформе, но для истинно верующего (которым Влада себя, к слову, не считала) важна в первую очередь метафизика.
- Ага, чем серафимы отличаются от херувимов, – вставил я, кривясь.
- Давай с ним что-то сделаем? – сказала Влада, деловито глядя на Илью.
Тот улыбнулся и приобнял ее, сказал ей, глядя на меня:
- Не знаю почему, но он очень красивым кажется, когда язвит. И вообще, когда сердится.
- Да! – восхищенно выдохнула Влада и прижалась к Илье. – Ты точно формулируешь.
- Ну и пошли вы! – обиженно бросил я и, развалившись в кресле, демонстративно лазил в телефоне.
Не знаю почему, но мне вот очень нравится играть с Владой в эту игру, я играю с огромным азартом, но когда она выигрывает (в большинстве случаев, надо сказать), то мне почему-то, наоборот, становится приятно, мне приятно ей проигрывать. Тем более что проигрыши часто бывают чисто номинальные – вот как сейчас, я же прекрасно знал, что апелляция к Илье – это ее последний аргумент, ну, как тот мой с грубой физической силой. Подумав об этом, я едва улыбнулся, забавно, что последний мой аргумент – это как бы моя мужская сила, а последний Владин – как бы сила Ильи. Мне тут же пришла в голову довольно неожиданная фантазия – в ней Илья меня крепко держал, а Влада повелительно, раскованно меня ласкала, от внезапного возбуждения я резко вдохнул с едва слышимым свистом в бронхах и слегка кашлянул. Чтобы как-то отвлечься, я незаметно сфоткал их на телефон – они были так милы, сидя в домашнем и подобрав ноги на диванчике, обняв друг друга и разговаривая дальше о церковных догмах. Я даже подумал, не записать ли их на видео, но показалось палевным, поэтому я пошел заварить кофе к кухонной стенке.
Влада как раз рассказывала о смысле рукоположения, что-то о том, что апостол Петр считается первым Папой Римским и что его могила где-то под Ватиканом, в катакомбах, под собором святого Петра. Я подумал, что в этом есть какая-то эстетика мифа, но еще не вполне мог определенно объяснить себе, в чем ее притягательность, а Влада как раз рассказывала ту историю о том, как Петр бежал из Рима и встретил Христа на ночной дороге, который на вопрос: «Что ты тут делаешь, Господи?» – ответил:
- Иду в Рим, чтобы вновь быть распятым.
Но Илья все равно не догонял. Он спросил, получается ли, что католики более правильные, что ли, Влада начала про Великую Схизму, это у нее получилось похуже, она сама путалась, но Илья, кажется, в общих чертах понял, потом Влада уточнила, что формально мы крестились в 988 году как бы еще в единой церкви, ну да, юрисдикции как бы были уже разные, но развод был официально не оформлен, и еще она объясняла, что католики не считаются у нас еретиками, а схизматиками, сиречь раскольниками – что-то в этом роде, и типа, строго говоря, мы можем у них в храмах причащаться, если нет других, и они в наших типа тоже. Что мы взаимно признаем истинность наших таинств, то есть, получается, у нашей церкви тоже есть апостольская преемственность.
- А если человек перекрестился в католичество? – не понимал Илья.
- Туда не надо перекрещиваться, – сказала Влада. – Как и им к нам. Они же признают таинства.
- А как тогда?
- Ну, просто ты приходишь в их храм и причащаешься там.
- Ну, ты же только что сказала, что можно в исключительных случаях туда прийти причащаться и православному, который, ну, православный.
- Ну да.
- А он не станет католиком?
- Это вопрос выбора, воцерковления, ну, как тебе сказать. Говоря очень грубо, мне кажется, ни у них, ни у нас это не приветствуется, ну, знаешь, они как мафия, кто под какой крышей ходит, пусть все так и будет – нечего перебегать.
Она засмеялась.
- Ну, почему тогда ты так это православие… Ну, любишь, – Илья замялся.
- Я вас люблю.
Она прижалась к нему крепче, а мне послала поцелуй одними губами, я капризно показал язык.
- А православие принимаю. Помните, вы говорили мне, что я украинка просто по факту, как бы я ни сомневалась?
- Да, – сказал Илья.
- Я думаю, вы правы.
- Ну, хоть что-то путное, – пробурчал я.
Теперь она показала мне язык и продолжила:
- Ну, вот и с этим так. Я думаю, что это неслучайно, что меня крестили в этой церкви. Возможно, это кто-то выбрал за меня, и пусть так будет.
Она задумалась, Илья поглаживал ее плечо. Я допил кофе и послал Владе ту их фотку с подписью «крашные». Она посмотрела в телефон и так трогательно улыбнулась, показала Илье.
- Иди к нам, – сказала мне игриво.
- Не хочу, – ответил я.
- Иди!
- Скажи Илье, пусть он меня заставит, – спокойно сказал я.
Влада взглянула удивленно, и тут же в ее взгляде вспыхнуло понимание. Она взглянула на Илью, тот заинтересованно повел бровью.
***
На Рождество Илья пошел ставить мангал с утра, мы с Владой еще дремали в обнимочку. Я где-то прочитал на бордах давно, что с девушкой неудобно спать – типа то жарко, то волосы в нос забиваются, то все такое. Даже сам так раньше думал, но когда стал засыпать и просыпаться с Ильей и не замечать при этом никаких неудобств, даже наоборот, я решил, что это, наверное, только с девушками, что ли – ну, у Ильи же не длинные волосы, и, может, он не такой горячий, что ли, хотя ну как сказать – я просто где-то читал, что во Вторую мировую замерзших в воде летчиков отогревали, положив рядом девушку, может, это и миф, но мало ли там, может, есть какая-то особенность неудобства спать с девушкой. Только когда Влада с нами стала спать, я понял, что это какая-то херня, серьезно. Вот в этом вопросе как раз было немного по-другому, чем в остальном – спанье с Ильей немного будоражило, хоть и подспудно зачастую, но всегда, вот как-то до сих пор имело для меня сексуальный подтекст. Не то чтобы просто лежать было плохо, тоже хорошо и гораздо лучше, чем одному, и не то чтобы спанье с Владой не имело сексуального подтекста, но как раз таки ВНЕ его, ну, когда просто валяешься с утра, как в то Рождество, с Владочкой было ну так комфортно нежиться, ну, я не знаю, как объяснить, она какая-то такая, как подушечка, нежная, пахучая, такая вся какая-то уютная. Вот в сексе я ее больше боялся, чем Илью, хотя этот страх и был сладок, а в такие моменты, вне сексуального контекста, в ней было что-то такое вот именно что комфортное, что ли, я все же это как-то связывал с ее женской природой, ну, типа, знаете – они к этому предназначены – именно создавать такой вайб, в такие моменты я лучше понимал любовь Ильи к Владиной заботе, к вот этому ее «утютю», которое я все же не мог досконально подделать.
Ну, в общем, помню, что мы с Владой долго валялись, сначала дремая, потом вовсе проснувшись, вяло поцеловав друг друга, вновь укрывшись одеялом почти с головой и прижавшись к друг другу. Я увидел, что за окном вновь идет снег – как будет на русском «лапатый»? Ну, короче, такой типа крупный, но падал не так плотно, как в тот день, когда мы ехали сюда в этом году, но ветви сосен в лесу он присыпал, я еще прижался к Владе, и закутался в одеяло, и сказал:
- С Рождеством.
- Спасибо, тебя тоже.
Потом, пролежав так несколько минут, мы потянулись за телефонами, мы повернулись к друг другу спинами и листали ленты, прижимаясь спинами друг к другу.
- Прикинь, уже десять часов. А на улице так серо… – сонно сказала Влада.
- Идет снег, – ответил я, зевнув.
- А где Илья?
- Во дворе, жарит мясо.
- Откуда ты знаешь?
- Он мне написал.
- Вот еще, а мне нет.
- Он пишет, что мы сони, чтобы шевелились.
- Идем в душ?
Мы опять вместе пошли в душ.
***
До конца января мы прожили следующим образом. Я в основном сидел в Ведьмином Доме и переводил. Они регулярно приезжали навестить и привезти продукты. Но тактично не задерживались надолго. Я наконец поймал волну, и перевод пошел, и странным образом в это время я как бы копировал Владу даже поведенчески – я ложился под утро, мне нравилось быть одному. Когда снег подтаял, я ходил вечерами и утром смотреть на замерзшую реку. Я ощутил нечто новое в этой работе, я ощутил… Только не смейтесь (Влада говорит, что ничего смешного в этом нет, но мне это немного смешно) – иногда мне казалось, что я проваливаюсь в какую-то параллельную реальность, где Влада родилась парнем, и этот парень – я. Я как бы стал немного другой версией Влады из параллельной реальности, и это мне было приятно, и в этом состоянии мне удивительно легко работалось. Иногда этот пустой дом, этот заснеженный лес и замерзшую реку, необитаемый коттедж рядом и заброшенный пионерский лагерь я представлял даже не частью нашего или того параллельного мира с парнем-Владой, а некоей транзитной станцией между двумя мирами, мне казалось, эта станция пуста, как мир прошлого из «Лангольеров» Кинга, знаете, что здесь на всей земле никого нет, кроме меня и этого парня-Влады, и только в этом месте междумирья мы можем с этим парнем встретиться и как бы стать чем-то одним на какое-то время. Именно поэтому я был немного напряжен, когда мои любимые приезжали ко мне – они нарушали эту волшебную иллюзию, впрочем, конечно, не только они – иногда где-то в деревне гудели машины или какие-то корморезки, очень далеко, и я научился абстрагироваться от этих звуков, а ночью или в сумерках стараться не смотреть на далекие огоньки хат за пустырем. Но от Влады с Ильей абстрагироваться было нельзя, а когда они приезжали, то этот парень-Влада как бы тактично уходил куда-то. Когда-то после их отъезда я стоял у окна мансарды и смотрел на вечерний заснеженный лес, и вдруг придумал неплохую отговорку, что, может быть, не транзитная станция куда-то девается, когда они приезжают, а она как бы пристыковывается к той реальности, где Влада-девочка, и Влада-парень остается где-то в шлюзе, удаляясь типа на транзитную станцию, или на шлюз наезжает моя реальность, заполняя его собой, как воздух, понимаете? И в такие моменты появляется деревня, люди и цивилизация, как воздух. Наполняя собой шлюз, как кислород. А когда Влада с Ильей уезжают, моя реальность с ними отдаляется, и в шлюзе происходит декомпрессия или, ну, я там знаю, – короче, приближается та, другая реальность с Владой-парнем, он снова приходит ко мне, возможно, он просто приходит из леса. Мне понравилась эта задумка по поводу того, что парень-Влада просто ждет в лесу, пока Влада-девочка тут, вот только бы не спутать их когда-то – подумал я с улыбкой и вдруг задался вопросом: «А с какой версией меня Влада летом общалась в мансарде?» Меня рассмешило, что, может быть, я там был девочкой.
Пару раз я уезжал с ними в город, раз просто погулять, а раз на встречу с Владой в гимназии, ну, мы потом тоже пошли погулять, после мероприятия, и я переночевал с ними в квартире, потом они меня отвезли. Тогда же Влада и заговорила, не хотим ли мы с ней съездить в Киев – она хотела навестить родных, и были еще дела в издательстве, и пара мероприятий там. Я стал уламывать Илью поехать с ней, тот: «А почему ты не хочешь?» – я ему, мол, «очень хорошо идет, Илья, боюсь сбить настрой, вообще б я с радостью». Он начал, что у него ж работа, я говорю – отпросись или отпуск за свой счет возьми, ты заебал. Он: я отпрашивался столько раз… Но это все фигня: во-первых, он там не то чтобы сильно официально работал, а во-вторых – он там был на золотом счету реально, за него держались. Потом он позвонил и сказал, что, наверное, поедет, раз я не хочу – с ним связался один давний друг из Горловки, хотел встретиться. Они поехали в конце января, затарили меня продуктами и прочим – я остался в коттедже. Илья вернулся где-то через неделю поездом, Влада осталась у своих. Я, помню, встретил Илью на остановке в деревне, стояла противная оттепель. Я сразу понял, что что-то не так, просто по его виду.
- Что случилось? – спросил.
- Богдан, там пиздец, – ответил он просто.
- Что, что-то с Владой?
Я забеспокоился, но все равно не до конца верил – я ж буквально вот с ней общался по видео, вроде все было нормально, она мне свою еще детскую комнатку показывала, щас жила там у своих.
- Не-не, я о другом.
Он казался страшно обеспокоенным.
- Рассказывай.
Я закурил, и мы, повернув возле памятника Неизвестному солдату, неспешно пошли через лес тропинкой к коттеджному поселку.
Короче, он рассказал, что встретился с тем давним корефаном, а тот сейчас был уже офицер нацгвардии, короче, проще говоря, тот ему нарассказывал ужасов и сказал, что Илье лучше уезжать, или что-то в этом духе, потому что скоро будет пиздорез.
- Я хочу, чтобы вы с Владой уехали, – сказал Илья.
И вдруг жестом попросил у меня докурить сигарету – чего с ним почти не случалось. Он, затянувшись, кашлянул.
- Аккуратно, – сказал я. – Ты можешь успокоиться?
- Богдан, я хочу, чтобы вы с Владой уехали.
- Что? Блин… куда?
- За границу, не знаю. На время хотя бы.
- Та у меня даже загранника нет.
- Ну, сделаем, проблема тоже.
- Ты Владе что-то говорил?
- Нет.
- Она по виду поняла, да?
- Та нет.
- Угу, я понял, а она нет.
- Ну, я… – он выбросил бычок. – Мы так немного заговаривали – ее старик, как я понял, считает, что это херня, и атмосфера у них там такая дома, типа — это херня.
- Может, так и есть? Ты видел отца Влады?
- Ну, так… мельком, можно сказать. Ну, познакомились.
- Как он тебя воспринял?
- Ну, так… Ты знаешь, параллельно вроде, честно говоря. Она не то чтобы там прям как жениха представила, но кажется, я ему не особо интересен был. Она реально на него похожа, знаешь. Даже замашки такие. Трудно объяснить.
Он наконец улыбнулся.
- Ну, так что насчет ехать? – заладил опять.
- Какое звание у твоего кента?
- Летеха вроде, а к чему ты это?
- Ты уверен, что он владеет какой-то сверхсекретной информацией о том, что будет пиздорез?
- Не знаю. Но он вообще не паникер – был раньше, я его давно не видел.
Я какое-то время размышлял, шагая, потом даже остановился.
- Нахуя им это делать? – спросил я.
- В смысле?
- В смысле… это все!
Я махнул рукой.
- Какая в этом логика?
- Богдаш, я тоже малым думал, что будет какая-то логика. Давай еще закурим?
Я зажег ему сигу и сам закурил.
- А в этом никакой логики нет, оно просто происходит и все. Причем оно происходит вот так, – он щелкнул пальцами, – раз и все.
Я не помню вообще, видел ли его таким взволнованным когда-то. По привычке зыркнув через плечо, я погладил его предплечье. Ну, я не Влада, но вроде ничего получилось, он опять улыбнулся, немного смущенно.
- Та норм.
- Норм?
- Да.
Мы не спеша пошли опять.
- Знаешь, я в четырнадцатом году, помню, спорил об этом с отцом, – сказал я. – Я почему-то был уверен, что даже если они попрутся, то не смогут проглотить всю эту территорию, поэтому и смысла нет. Ну, типа – даже если представить, что они не встретят сопротивления, то чисто экономически и логистически они не смогут это обеспечить. Послушай, я немного читал о войне восемь-восемь в Грузии, ты знаешь, что они тогда втащили только потому походу, что грузин мало и страна – как наши две области, типа того. А так у них были проблемы со связью, логистикой, обеспечением. Но все равно – да, тогда я этого немного побаивался, особенно ото как у вас началось. Я че-то боялся, что станут на их сторону переходить или типа того.
Илья молчал, я продолжал:
- Но теперь какой, бля, в этом смысл? Вот скажи – ты сегодня в Конотопе не видел военных?
- Не помню. Наверное, видел, к чему ты?
- К тому, что я вижу их, бля, каждый божий день. В маршрутках и на улицах. На технике, та как угодно. Каждый второй брат-сват служит или отслужил, с АТО я уже знаю человек двенадцать, это при моем-то образе жизни…
- И что?
- А то, что в детстве я не знал, какие они и есть, только в американских и кацапских фильмах видел. Ну, разве это не показатель, что армия может втащить?
- Я не знаю. Бля, мне всегда очень нравится, как ты умеешь ровно рассуждать.
Тут уж я хихикнул. И чуть не поскользнулся на грязном талом льду, Илья меня удержал за плечо.
- И потом – вспомни, сколько раз уже такое было. Ну, вспомни, вот с четырнадцатого года. Это уже годами тянется реально, просто вспомни.
- Но войска же есть.
- И что? Ты реально думаешь, что они со всем миром рамсить собираются, да? С голой жопой? У нас ковид, у нас Зеленский этот, нахуя им это щас – тупо сиди и жди, пока само случится.
- Почему со всем, если никто не вступится?
- Ты вообще слышал, что они хотят? Границы НАТО до 1997-го года? Ну, это ж блеф, причем весьма тупой.
- Не знаю.
- Не знаешь, а уже нагнал себе.
Я почему-то четко помню то свое состояние. Мне казалось, что я не просто успокаиваю его, а как бы успокаивая защищаю, что ли, в этом было что-то суеверное, как будто не нужно говорить о плохом – и оно не случится. Как бы – ты не навлечешь его на себя и близких, я не знаю. С другой стороны, все, что я ему говорил, было искренним – я реально помню, что боялся этого в четырнадцатом году, но потом оно тянулось и тянулось… Мне в какой-то момент стало казаться, что вот это «тянулось» в их пользу, что мы сдаем и затухаем как бы, а они все ждут. Я не понимал того, что происходило в девятнадцатом году и, помню, полностью ушел в себя, а потом еще этот ковид… Я помню, мне казалось, что парадигма насколько сменилась там после 2019-го, что мы уже то ли сами свалимся к ним в руки, то ли я не знаю. Никаких иллюзий на их счет у меня не было, я уже даже с отцом идиотом не спорил, просто не видя смысла. Но после девятнадцатого, ковида и всего этого мне стало казаться, что мы вообще проиграли, что ли, что им сейчас и смысла нет там что-то делать, мне казалось, мы не выдерживаем гонку в долгую, а они выдерживают. И я ничего не мог сделать, а что я могу, кроме вот этих переводов или еще какой глупости? Опять же и ковид этот долбаный, я за эти два года уже как-то привык к тому, что лучшая стратегия – спокойствие. Ну, помните, как в начале ковида и потом было вот это все – прививочники/антипрививочники, Билл Гейтс, мывсеумрем, говномоча, вот это все. Спокойно – говорил я себе и Илье с Владой, и типа оказался прав. А тут? Сейчас? Мне все казалось дико неуместным, причем для них же самих, нахуя? Единственный раз помню призабытое чувство звериного страха с четырнадцатого, когда, может, помните – была посадка этого «Боинга» в Беларуси военным самолетом. Такой какой-то хтонью на меня дохнуло от этой всей истории, что я порадовался впервые за долгое время своему гражданству – типа, чего бы там ни было, но пусть хоть так. Может, знаете, у Милоша в «Порабощенном разуме» есть такая сцена, где он попадает в СССР во время войны и видит на вокзале где-то на Западной Украине польскую семью, он их безошибочно узнает среди толпы совков еще до того, как слышит их речь, и он там пишет, что узнает их по какой-то человечности труднообъяснимой, по тому, как те кормят детей или общаются друг с другом. Так вот – то, что я видел в этой истории, было антитезисом этой человечности, я бы сказал, я видел в этом что-то инфернальное. Ну, блин, не суть, я, во всяком случае, старался сохранить спокойствие.
- Богдан, ты все правильно говоришь, – сказал Илья. – Но я просто не могу тебе объяснить, что чисто на ощущениях оно совсем по-другому бывает. Как будто просто вот есть обычная жизнь, как всегда, а потом просто – раз, и оно наступает. У нас тогда было много людей, которые жили обычной жизнью, даже когда шли бои. Та хоть мои родители и я.
- Илья, не приплетай себя опять, пожалуйста.
- Но это важно.
- Нет. Ты был подростком.
- Я щас не о том.
Я, конечно, знал эту историю, хотя старался лишний раз не подымать. Родители Ильи владели довольно крупным бизнесом до войны. Он верно говорит, что они были из тех, кто долго не хотел, ну, как бы замечать происходящее, да плюс все эти дела – у них было несколько магазинов вроде или ларьков. Но деньги были. Он говорил, что они как бы старались не замечать всего, что происходило, или как бы находиться в стороне. Незадолго до того Илья с ними поругался и жил у той своей первой девушки. Как-то его нашел дядя, брат матери Ильи – он был полковником милиции, ну, до всех событий, а кем он был на тот момент, понять было довольно сложно – он вроде бы не был с боевиками, но и милиционером, наверное, не был. На самом деле с матерью Ильи у него были не то чтобы совсем плохие отношения, но общались они мало, хотя пару раз он выпивал у них. И вот этот дядя велел Илье немедленно собраться, ничего не объясняя. Он повез его на своей машине ночью через блок-посты, ничего толком так и не объясняя поначалу, с ними ехал еще один парень в форме ихней народной милиции и с автоматом, подсумком, разгрузкой, ну, весь запакованный – они с дядей в гражданском сидели спереди, Илья сзади, он говорил, что почему-то запомнил натянутую чуть ли не на затылок, ну, как шапка, балаклаву того парня и едкий запах вроде самосада. Блокпосты они проехали просто, один раз тот парень выходил и говорил с этой ихней самообороной, а на последнем вообще вышел. Уже где-то то ли на серой, то ли на украинской территории – Илья говорил, что запомнил близкую канонаду, как она ухала, – так вот уже там, перед рассветом, в утренней серости этот дядя сказал Илье, что его отец сейчас в тюрьме, он так и сказал «в тюрьме», и что он, дядя, все выясняет пока, все типа будет хорошо, но нужно разобраться, а ему, Илье, лучше сейчас уехать к бабушке. Когда Илья спросил, что с мамой, этот дядя ответил, что она с отцом. На украинском блокпосту он показал свои милицейские документы, и его пропустили. Только через два месяца, уже находясь в Конотопе, Илья точно узнал, что родителей нет в живых. Как оказалось, их похитила одна из местных групп боевиков, по ходу даже непосредственно связанная с Безлером, короче говоря, они хотели денег, и что там получилось, сказать сложно, было одно из журналистских расследований, в котором говорилось, что их тела нашли в здании одной из заброшенных шахт и сильно изуродованные. Я до сих пор говорю Илье, что журналисты любят привирать. А он иногда рассказывает мне свой постоянно повторяющийся сон, как будто вот этот предутренний свет, и он маленький совсем, и они с матерью на краю какой-то лесополосы прячутся в машине этого дяди-милиционера, а вокруг ходят люди в камуфляже и с оружием, прочесывают лесополосу и разговаривают по рациям, и как бы ищут их, и в какой-то момент Илья замечает, что мать вся избита и в крови, он хочет что-то сказать, а она просит: «Тише, сыночек, молчи», – и так несколько раз типа, а потом вдруг перед самым пробуждением: «Сыночек, ты не виноват».
Я миллион раз говорил ему, что он не виноват. Но он все-таки, наверное, не верил. И вот сейчас он снова вспомнил о том дяде, и я сказал ему:
- Илья, мы не твои родители.
- Знаю, но… Ну, вы мне как семья.
- Это верно – ты нам тоже, – кивнул я. – Ну, хорошо, вот, послушай еще.
Мы уже шли по пустырю, почти что по поселку.
- Если все будет, как ты говоришь, то им нет смысла сразу лезть сюда, ну, так ведь. В основном наша армия там, на Донбассе. Ну, так?
- И что?
- А то, что, значит, у нас будет время. Надеюсь. Но это все ладно, я так полагаю – нам надо вместе это обсудить.
- Влада не поедет одна.
- Та знаю я, – бросил я с толикой злости.
Он зрел в корень – это все усложняло. Можно было бы отправить ее за границу на месяц-другой, тем более она привычна… Но вообще я сразу увидел, что Илья что-то темнит.
- Ты о себе-то почему не говоришь? – спросил я у него.
- Та я не знаю…
- Поехали втроем.
- Ты серьезно?
- Да. Что?
- Почему ты так легко согласился сейчас?
- Потому что вижу, что ты не собираешься.
- Нет, я… Ну, я хочу быть с вами вместе, но… не знаю. Мне неохота больше убегать.
***
Разговор на этом как-то остановился – я пытался еще что-то говорить, но он меня почти не слушал, делал вид, что слушает, но весь ушел в себя. Я собирался его накормить, но он жевал с неохотой, сидел весь в себе, и в этой самоуглубленной своей растерянности он казался мне таким невозможно привлекательным. Я встал и пошел за кружками, остановился за его спиной, его волосы были немного растрепаны, он пахнул теми же духами, которые мы выбрали для свидания с Владой, он так ими и душился с того времени, крепкие плечи были расправлены, он немного наклонился над столом, опустив голову, меня возбуждала его беззащитность при этих крепких плечах и фигуре, эта легкая усталость, отраженная в позе, я понимал, что вновь, как и почти всегда, всю бурю чувств, которую он возбуждает во мне, я мог выразить только одним доступным способом – я обнял его за плечи и поцеловал в шею, потом в ключицу и щеку, прикоснулся щекой к его щеке и так и обнимал.
- Богдан, – сказал он едва слышно, не вопросительно и не просительно, и вообще без какой бы то ни было интонации.
Я вдруг понял, что ему это сейчас так же необходимо, как и мне, просто понял, что он хочет меня так же, как и я его сейчас.
Я уже говорил, что в числе прочего прекрасно в сексе с парнем – то, что я как бы отражаюсь в нем, как в зеркале, а он во мне, и так до бесконечности. Он поцеловал меня, немного прикусив мою губу, я отшатнулся и, взяв его за руку, потащил за собой наверх. У нас в тот раз был классный секс, инициатива исходила от меня, но он страстно откликался на мои малейшие движения и ласки, я лапал его, целовал и кусал, как хотел, а хотел я, казалось все сразу, я долго ласкал его до изнеможения, вслушиваясь в ритм его дыхания и возбуждаясь от его возбуждения, помню момент, когда я целовал его, и он прикоснулся рукой к моему возбужденному члену, меня всего передернуло, и я отбросил его руку, и от этого внезапного разряда в своем теле я с каким-то озлоблением смотрел в его медовые глаза и видел в них невыносимое желание и обожание меня, и тогда я понял, что хочу его помучить, как иногда мучил Владу – мучил ее, мстя за то мучение, которое она мне причиняет своей невыносимой красотой, я откинул его руки назад на подушку и сказал:
- Не двигайся.
И опустился ниже вместе с поцелуями, затем поцеловал его в невыносимый жар, он застонал.
- Заткнись. Ты меня любишь?
- Да…
Он тяжело дышал.
- Люблю.
- Сильно-сильно?
Я играл с его членом – я отлично знал, когда остановиться, а когда продолжить, я мог делать это очень долго.
- Сильно.
- Нет! Верни руки на место.
Я опять ЕГО поцеловал – что делалось с Ильей, это неописуемо. Мне очень хотелось сказать, что я тоже люблю его, но сейчас весь прикол был не в этом.
- Богдан…
- Замолчи.
- Не могу.
- Посмотри мне в глаза.
- Перестань.
- Перестать?
Я рассмеялся.
- Ну, Богда-а-ан…
- Я разрешаю.
Он так вскрикнул в миг, когда я отпустил его член – тот задергался, пульсируя и изливаясь.
VIII
После семяизвержения Илья иногда может секунд двадцать еще тихо постанывать. Стон постепенно угасает, а потом сразу взрывается, как лебединая песнь, и в этом последнем или предпоследнем стоне он мелко вздрагивает всем своим красивым смуглым телом и часто будто сокрушенно так хватается за голову, будто бы от чего-то прикрываясь, иногда он еще так постанывает на выдохе: «Ну, Богдан», или «Ну, Влада», – что-то в этом духе. Иногда просто «Ну, что-о-о?» – Владе это тоже кажется забавным. А тогда он лежал, наверное, минуту или что-то около, я думал, он заснет, и просто нежно целовал его живот, когда он вдруг сказал:
- Позволь мне, ладно?
Я понял, чего он хочет. Это был вообще такой дежурный оборот, если хотите, я возбужденный поднялся на локоть и придвинулся ближе к нему и немного выше, опершись на спинку кровати, провел большим пальцем по его вспотевшему лбу и губам – он едва ощутимо сжал губами этот палец, я придвинулся ближе, глядя на него сверху вниз, и когда он губами коснулся моего возбужденного члена, я вновь ощутил этот резкий разряд в позвоночнике, который растекся по телу, но сейчас я не злился, а всецело наслаждался им.
Возможно, из-за этого волнения, а возможно, соскучившись за мной, он кончил второй раз, не прям вместе со мной, но почти что, я думаю, от факта моего оргазма, но теперь он был уж вовсе обессиленным, почти не стонал, а только смотрел на меня из-под полуприкрытых век и тяжело дышал, я быстро поцеловал его в губы и, не без удовольствия ощутив свой собственный вкус, пошел в душ. Я, честно говоря, думал, что он ко мне присоединится, но его все не было, я, вытираясь, поднялся наверх и увидел, что он так и лежит нагой, раскинувшись на постели, и спит. Я аккуратно вытер его лицо и живот и укрыл, он что-то проворчал, но не проснулся, я оделся и спустился вниз похавать, потом вышел покурить с чашечкой кофе. Пустырь лежал вдали в полосах талого снега, было сыро, но так, знаете, свежо, немного ветряно. Я, поставив кружку на крыльцо, достал смартфон и отписался Владе, сказал, что позвоним вдвоем, но позже, Илья спит. Закрыв дискорд, я несколько секунд смотрел на заставку с голой Владой в камышах, с той самой летней фотосессии, у меня всегда стояла на заставке Влада, но разные фотографии, кстати, голой редко, долго стояла та фотка с букетом, которую сделал Илья, просто в нашей квартире, просто с букетом, в свитере, легко накрашенная и непричесанная, еще и с дурацким фильтром и рамочкой тоже из цветочков. По-жлобски, но Владе удивительно шло (потому что она была самая-самая лучшая в мире, и ей все шло). Иногда я ставил фотки, где они с Ильей обнимаются как парочка – мне они тоже нравились очень. Тогда же на крыльце, в окружении этой февральской слякоти, я смотрел на русалочку-Владу несколько секунд, а потом, как часто бывало, поцеловал свои два пальца и прикоснулся этими пальцами к заставке, как бы к лицу Владочки.
***
Там на крыльце я, конечно, размышлял о россиянах. Мне сложно сказать, что я ощущал в связи с тем, что мне сказал Илья. Я часто полагаюсь на интуицию, и она меня даже не всегда подводит, но тогда почему-то она глухо молчала, а включалась одна лишь формальная логика. Я скажу, как я себе представлял вероятное развитие событий вплоть до этого года. Экономическая стагнация, социальные взрывы, возможно, новый экономический кризис во всем мире, постепенное снятие или послабление тех несчастных крымских и донбасских санкций, наше загнивание и постоянные удары в зоне операции объединенных сил. Деградация общества в конфликте низкой интенсивности, российские агенты в силовых структурах и политике, культурная экспансия, гроб, кладбище, пидор (ну ладно – пидор, а потом все остальное – в случае меня). Я, кстати, не люблю слова «пидор», хотя, слышал, многим геям оно нравится даже, я слышал, Берроузу нравилось. Но типа там было «квир», а мне сложно сказать, те же ли в нем коннотации, что и в русском «пидоре», но вообще, возможно, дело в том, что я не гей, а бишка, и поэтому я не люблю эту эстетику, ха-ха. Ну, короче, о наших русских квидарах – я почему-то думал, что они поставят на какое-то расшатывание, ну, типа, «умеющий шагать не оставляет следов». Ну, типа, че б и не представить, как на фоне усугубляющейся нищеты и разлада кто-то вдруг, допустим, ну, не подчиняется правительству и создает, ну, если не сумскую народную республику, то что-то вроде. Вообще не знаю. Но почему-то мне этот зерграш казался маловероятным не потому, что они на самом деле не кровавые имперские скоты (кровавые, имперские и скоты – дело не в этом, дело в том, что мне казалось это малорациональным, вот). А вот водить войска к границам каждый год, постреливать в зоне ООС и шатать, шатать экономически, культурно, политически – вот это да. Ну, в конце концов, думал я – кроме вот этих прококаиненых тусовочных стратегов типа государственного советника Суркова, там же, думал я, хоть кто-то адекватный есть. Ну, может, генералы, которые понимают бесперспективность. Кажется, об этих генералах я и Илье говорил за обедом. Короче говоря, подумав, я составил такой примерный план: недурно было бы действительно куда-то спровадить Владу, ну, на месяц-два. Уж мы пускай, парни, останемся. Но Илья прав, что она не поедет одна, и заболтать ее, что это типа не из-за кацапов, а просто – не получится. Но мне почему-то показалось тогда логичным уболтать ее хотя бы чтобы она оставалась пока у своих, ну, блин, ближе к отцу – он все-таки шишка, и вдруг чего, типа что-то придумает.
Я стоял на том крыльце довольно долго, провалившись в размышления, потому что когда зашел, услышал, что Илья моется в душе. Я поставил на разморозку готовый бифштекс для него, и когда он вошел на кухню, мило распаренный, в футболке и спортивках, чмокнул его в щеку и указал на обед, сказав:
- Я хочу, чтоб ты похавал наконец, садись.
Он улыбнулся и принялся есть. С гораздо лучшим аппетитом, чем тогда. Я в это время заправил и включил кофеварку, налил себе сока и сел на противоположном конце стола, некоторое время отпивал сок и слушал, как он ест.
- У меня есть план, – сказал я наконец.
Он взглянул с интересом.
- Делаем вот что – пока вообще не подымаем эту тему, я говорю Владе, что на днях пришлю ей законченный перевод.
- Ты сделал? – даже как-то восторженно спросил Илья.
- Нет, но на днях постараюсь доделать, поэтому отправлю тебя в город, и не спорь, – лукаво улыбнулся я.
- Да я все равно поеду по работе завтра.
- Ну, вот, – я кивнул. – Я отправляю ей перевод и подталкиваю заняться издательскими делами прямо сейчас, ну, тип ситуация, чтобы ничто не наломало.
- Неплохо придумано.
- Ты же знаешь, как она увлекается, когда что-то издает. Это займет некоторое время, пока все прояснится.
- Ну, кстати, она там плотно занялась щас этими… Ну, заграничными изданиями. Даже вначале хотела поехать со мной, но осталась из-за этого ж.
- Ну, вот. Даже если не выгорит с этой заграницей, то, мне кажется, надежней, если она побудет с батей. Ты как думаешь?
- Согласен.
- Ну, он все-таки не мы по возможностям.
- Та я согласен. Люблю, когда ты четко так все раскидываешь, – он улыбнулся.
- Ешь.
Он опять улыбнулся и вернулся к еде. Я налил ему кофе, поставил, сел на свое место и смотрел на него.
- Почему ты так смотришь?
- Как?
- Ну, так… Интересно, – он опять улыбнулся.
- Расскажи, как ты трахал ее.
- Прямо щас?
- Прямо щас.
- Почему сразу трахал?
Он забавно нахмурил брови.
- А что делал?
- Ну… мы занимались любовью.
Я смотрел на него.
- Ну, что?
- Вот сейчас, глядя мне в глаза, скажи, что ты там ни разу не хотел ее именно трахнуть немедленно, во что бы то ни стало, и не делал этого тотчас.
Он смотрел на меня медово-карими глазами и сказал:
- Хотел и делал много раз.
- И это было классно.
- Да. Но мне немного стыдно.
- Почему?
- Ты знаешь почему.
Я действительно знал почему. Так как сам испытывал нечто подобное, я уже об этом говорил. Вот, скажем, наш секс с Ильей отличался некоторой, ну, я бы сказал, поэтичностью, что ли. Дело не в том, что с Владой поэтичности не было – ну, мы, в конце концов, для нее сочиняли стихи, друг для друга как-то обходились. Но вы дослушайте, потому что это довольно сложно вербализировать. Но, короче, да, – вот когда мы вдвоем с Ильей, как сейчас, мы трахаемся от какого-то лирического, эмоционального или даже эстетического порыва, что ли. В этом для меня всегда была какая-то художественность, что ли. Вот как хотите понимайте. Я не очень точно помню, но вот что-то типа того, что в античности было такое представление, что любовь к юноше – это что-то более возвышенное, чем любовь к девушке, потому что, дескать, любовь к девушке — это все-таки чистая природа, деторождение, вот это вот все. Я в каком-то смысле согласен с этим тезисом с той поправкой, что любовь к девушке ничуть не лишена этого всего тоже, но это как бы надо распробовать, это требует более тонкой настройки или погружения… но какой это космос, если погрузиться и распробовать – описать невозможно. Просто есть разница, но и то, и то охуенно, причем вот для меня в сочетаниях и перетекании одного в другое и обратно охуенность только возрастает, понимаете? До невозможности просто. И когда ты познаешь эту природу и животность с девушкой, в которую влюблен до умопомрачения, причем влюблен взаимно, ты как будто постигаешь высшее блаженство, ну, я просто не знаю.
Ну, вот смотрите такую разницу. Когда мы с Ильей, то наша телесность – это поэзия, душа, ну, какая-то песнь, я б сказал. И тут в нашем пространстве появляется Влада – с кем-то из нас или с нами двумя. И что же? А вот что – все отходит на какой-то отдаленный план, все ввергается в какое-то безумие, потому что важнейшим и необходимейшим становится одно-единственное побуждение – надо немедленно трахнуть Владу. Отыметь ее, выебать ее, ну, как хотите, овладеть, оплодотворить это непонятное и прекрасное существо. Вот что происходит с нашим миром. Стихи теряют ритм и рифму, хор фальшивит и срывается на визг и вой, рушатся строгие ансамбли храмов и дворцов, на Солнце вспыхивают выбросы из звездной кроны и плазма летит сквозь магнитное поле Земли, геоцентрическая картина мира терпит крах и людоедские фантазмы сифилитиков уничтожают целые народы, падение комет и излучения галактик провоцируют немедленное вымирание целых таксонов жизни, сами же галактики стремительно исчерпывают водород и гелий, порождая нейтронные звезды, распадается протон, аннигилируется темная материя, мрак, ужас, тепловая смерть вселенной, горизонт событий агонизирует последними фотонами, безумие и хаос, да? А вот и нет. Потому что когда ты уже рухнул в эту тьму и распрощался с божьим миром, ты как будто умер, побежден и поруган, но окончательное умирание как будто отдаляет какая-то пульсация в тебе, и ты вдруг понимаешь что-то вроде того, что – да, вот ты разрушил свой прекрасный ясный мир ради безумия, ты весь поддался этому уничтожению, пороку, страсти – и ради чего? И ты вдруг понимаешь – да, ради вот этого экстаза. Да, боже, этот экстаз красивее всего, что ты видел и слышал, и чувствовал, этот экстаз красивее всего, и ты, не задумываясь, снова разрушишь весь космос даже ради мгновения этого счастья, о господи, да. И сказав это все самому себе, ты вдруг начинаешь замечать, что что-то меняется внутри тебя и снаружи что-то происходит. Ты видишь, как во тьме огромные прожорливые сингулярности ползут друг к другу, будто слизни, и сливаются в скопления и сверхскопления, срастаются в одну безумную и вечную сверхчерную дыру, и вдруг с ней тоже что-то происходит. Она сжимается под действием огромной гравитации и неумолимо греется, и, достигнув граничной плотности и температуры, вдруг в какую-то миллисекунду взрывается и в результате охлаждения конденсирует элементарные частицы и материю, антиматерию, разбрасывает плазму, экспоненциально расширяясь и рождая из этой реликтовой плазмы протоны, постепенно охлаждаясь в водород и гелий, и в этом киселе постепенно рождаются новые звезды, ионизируя и освещая тьму, собираясь в спиральные ветви галактик, планеты собираются из пыли, постепенно образуя океаны с возникающей в них невесомой молекулой рибонуклеиновой кислоты, трилобиты вылазят на сушу, строители строят дворцы и соборы, цивилизации растут из идиллических порывов шизофреников, а рядом с тобой в твоих объятьях тихо дремлет самое прекрасное в мире существо, о котором тебе хочется заботиться и посвящать ему самые совершенные и самые великие стихи.
Вот так примерно это происходит с Владой, и когда я это понял, то как будто прозрел. Потому что я стал благодарен ей за все – и за мое безумие и похоть, и за нежность и желание заботиться, я понял вдруг, что это все едино, а если максимально кратко попытаться объяснить, то просто Я ЕЕ ЛЮБЛЮ. И, поняв это и поделившись этим пониманием с самой моей любимой, я научился открывать такие грани наших чувств и взаимоотношений, о которых помыслить не мог.
Но вот Илья – он немного другой в этом смысле, хотя это, конечно, красиво по-своему. Ну, вот, например такая особенность – Илья гораздо реже занимается любовью с Владой отдельно, когда мы втроем. Вот мы с Владой спокойно можем переспать вместе, когда Илья рядом с нами. Ну, скажем, в соседней комнате, как тогда, при нашем разговоре в Конотопе о религии. Я могу спокойно переспать с Ильей, и Владе это нравится, ей нравится смотреть или даже подслушивать, или наоборот – ее просто может возбуждать сам факт того, что мы рядом с ней занимаемся любовью с Ильей. Ну, короче. Мы так же спокойно присоединяемся друг к другу в разных, так сказать, конфигурациях. Но вот Илья спит с Владой без меня, когда я рядом, чаще всего с инициативы Влады или с моей. Или нашей с Владой. Но вот он и сам не может сформулировать, почему, но он несколько более целомудренный в присутствии Влады, что ли. Понимаете? Но зато они, когда мы втроем, чаще вот именно что няшатся друг с другом, вот это все лежание/сидение обнявшись, всякие прикосновения, не то чтобы я не няшился с Владой, когда мы втроем, но оно у них и происходит как-то немного по-другому и гетеронормативней, что ли (я знаю, что уже заебал этим словом, ха-ха). Ну, вот там захожу в коттедж или в зал квартиры. Пожалуйста – если обнимашки, то обязательно Илья, такой, знаете, «легінь», обнимает девчушку. А она нежится в его объятьях, ну хоть на картинку. Или, наоборот, если Влада обнимает Илью, то такие поглаживания женские, несколько робкие, осторожные, и мурлыкание – вот это все утютютю, как я и говорю, а он, как кот, доволен – ему это нравится. Ну и что уж там – не то чтобы мне не нравилось на это смотреть, я же постоянно это фоткаю и сохраняю, но они вот именно такая какая-то правильная пара, что ли, я не знаю. У нас с Владой все-таки немного по-другому. Я раньше вообще полагал, что наши взаимодействия менее эстетичны, что ли, но все-таки они меня, наверное, убедили, что они тоже могут классно выглядеть, только по-другому. Илья это называет, что мы с Владой колдуны, а Влада не без внутреннего удовольствия признается, что мы с ней более развратны, чем Илья. Но это именно что тоже полюса – классно и то, и другое, и, как я и говорил, классно так же и перетекать, и пробовать себя, то есть, например, совратить Илью вместе с Владой, или мне побыть с Владой тоже такой правильной, несколько более целомудренной, что ли, парой. Или вообще поподчиняться Владе и поудовлетворять ее любую похоть. Ну, короче, я вот к чему (а к чему я, и правда?) – у Ильи этот зазор как бы ощутимей, и это забавно по-своему. Он именно что любит быть с ней таким, знаете, принцем, таким правильным, что ли, парнем, девичьей мечтой, ему это нравится, и Владе тоже. Но ведь не только это – и Влада любит над ним поиздеваться тоже, ну а что? Ну, вы же не думаете, что вот этот весь из себя парень со своими благородными ухаживаниями не сходит от нее сума в той же степени, что и я? Сходит. Но я думаю, что ему самому нравится метаться между этими состояниями, не как я, принимать их сразу оба, а именно что метаться – вот я такой принц из книжки, весь такой благородный рыцарь, и тут… прекрасная, но порочная дама совращает меня и ввергает в абсолютно животное состояние, ха-ха. Но я вижу, да он и сам бегло говорил все-таки пару раз, что ему именно нравится вот благородно за ней ухаживать и при этом носить в себе «я хочу только одного – трахнуть ее, насладиться ею, овладеть ею», ну, чтобы это прорвалось, чтобы он насладился, ему опять стало «немного стыдно», и чтобы он потом опять ходил такой галантный, чтоб потом опять… Ну, вы поняли. Не скрою – это кажется мне по-своему интересным. Тем более что я знаю, что и Влада тоже это знает, и ей тоже нравится играть с ним, не только его третируя, но и как бы себя, ну, выражаясь метафорически – с ним быть принцессой, непорочной, скажем, только внешне, хах, а со мной – колдуньей, всецело порочной, но если присмотреться… то возможно, что только на первый взгляд. И, блин, короче – это очень классно все, и я безумно их двоих люблю.
В тот раз он рассказал мне о нескольких их соитиях, но особенно выделил одно – как он впервые ночевал с ней у нее в комнате. Конечно, он был весь такой из себя, тем более что только перед тем виделся с тем своим кентом из нацгвардии, и они там бухнули, понятно, с утра у него был бодун, он шлялся по городу целый день, его забрала Влада – они сидели в какой-то бургерной, потом гуляли, он ей вывалил все эти свои опасения о кацапах. Ну, короче, она потащила его вечером к себе, он отказывался (он жил у того знакомого), что типа неудобно, родители, все дела, Владе удалось взять его на понт фразой: «Ты думаешь, ты первый парень, которого я привожу?» Потом она сказала, что он действительно был первым парнем, который не только приходил, но и ночевал у нее, но это было потом. Она показала ему дом, тогда же познакомила с родителями. Бегло. И они пошли к ней. Он там стеснялся, как всегда, Влада показывала ему старые альбомы с ней маленькой и свою коллекцию фигурок из Вахи – это так трогательно, блин. Ну, короче, уже позднее ночью она проломала его весьма просто, Ну а что еще надо, если она такая обалденная? Она пошла в душ, вернулась в одном халате, с полотенцем на голове и, заходя, быстрым движением защелкнула дверь на защелку, Илья это заметил, но решил, что это у нее в порядке вещей (ага, конечно). Потом она сняла с головы полотенце и начала сушить волосы феном, несколько раз поймав смущенный взгляд Ильи, вот умора. Потом она подошла к шкафу как бы одеться и, сняв халат, отвлеклась на телефон, что-то смотрела в нем. «Она была в натуре, как ведьма. Волосы эти», – это характеристика Ильи. Короче, Влада, так и глядя в телефон, подошла к компу и уселась в свое игровое кресло, как и была, голая и распатланная, стала что-то там смотреть и стучать по клавиатуре.
«Я хотел убежать, но вроде неудобно – еще ж защелка, там балкон есть в комнате, подумал выйти подышать, но побоялся простудить ее».
Ой, это умора! Жаль, что я этого не видел хоть сквозь дверную щель какую-то. Короче, надо отдать ему должное – он удержался, пока она сидела за компом, вот так, спиной к нему. Хотя говорил мне, что это было пиздец эротично, даже сложно передать, особенно ее сконцентрированность на этой клаве и экране… Представляю… Ну, короче, он сам залез в телефон. Но говорил, что не смотрел уже на него все равно.
- А эрекцию как скрыл? – смеялся я.
- Блядь, на бок перевернулся, иди ты!
Я ржал и наслаждался, представляя, как его красивый член вздымается там при виде голой неописуемой Влады за компом. Короче говоря, ну, понятно же было, что дело в шляпе уже. Влада просто встала з задумчивым видом и стала расчесываться перед зеркалом. Он обезумел, конечно, и взял ее. Она была очень довольной, но после долгого и сильного оргазма Илья стушевался, застеснялся и реально по ходу едва не ушел, он нудил ей, что это неправильно, в ее комнате, прямо рядом с родителями, он настолько, короче, вышел из себя, что Владе пришлось прекратить спектакль, она усадила его силой назад на кровать, обняла и сказала, что очень хотела именно в ее комнате и что ей очень сладко сейчас, не наламывай, типа, и еще что она очень его любит. Он растаял и лежал с ней, няшился, потом было еще. А потом он говорил, что очень сладко спал в ее кровати и ее объятиях, давно так хорошо не спал, и ему даже приснился странный сон… Он говорил, что оно как во сне, конечно, странно, но было типа – вот эта комната, непонятно, то ли Владина комната, то ли его комната в Горловке, но скорее – одновременно и то и то, и что он вроде и такой весь, как сейчас, но при этом он ребенок, это его детство, такое чувство, когда все хорошо и радостно, и родители живы, и все самое лучше еще даже не начиналось. И вот он в этой комнате, которая и в Киеве, и в Горловке, в какой-то прекрасный день, типа праздника, играет в приставку с лучшими друзьями – и эти друзья мы с Владой, представляете, мы тоже как бы такие, как сейчас, и одновременно дети, он говорил, что оно как-то плавало, ну, сложно объяснить, короче, мы увлеченно играем в приставку втроем, ну, как дети, а в какой-то момент заглядывает мама Ильи и зовет нас всех завтракать. В этот момент Илья проснулся – это Влада звала его завтракать.
Ради этой истории я его и расспрашивал, по сути – ради чего-то такого. Я так вдохновился, что после созвона с Владой сел за работу и закончил перевод начерно до утра. Утром поухаживал за Ильей, накормил, напоил кофе и провел на автобус, потом поспал немного, отредактировал перевод и отправил Владе. Пошел пройтись перед вечером к реке, потом вернулся, прошел в лес возле пионерлагеря, было такое торжественное какое-то настроение, что я даже произнес меж темнеющие сосны: «Влада, которая парень, – спасибо тебе. Я вас, Влад, всех люблю очень-очень», – потом я вернулся в дом и разогрел себе бифштекс с овсянкой, очень как-то плотно и вкусно поужинал. И уже куря с чашечкой кофе на крыльце, увидел сообщение от Ильи. Он перепостил мне новость о том, что государственная дума России проголосовала за проект постановления о признании независимости ОРДЛО.
***
Я позвонил ему тотчас – он был почти так же взволнован, как в день приезда. Я попытался успокоить его тем, что это то, чего я в принципе и ждал.
- В смысле? – не понял он.
- В смысле, я говорил тебе, что с высокой степенью вероятности эта заваруха коснется ОРДЛО. Она бы все равно коснулась его рано или поздно, послушай, этот кровоточащий гнойник куда-то бы прорвался все равно.
- А войска на границах? – спросил он уже с угадываемой в голосе надеждой.
- Шантаж, прикрытие, все что угодно.
На самом деле я так не думал. Я перед разговором быстро и даже несколько горячечно проскролил ленту в поисках точного определения границ ОРДЛО с точки зрения государственной думы России. Ничего по этому поводу не найдя, я встревожился еще больше. Но думаю, что даже если бы нашел то, что хотел найти – определение границ по фактической линии разграничения войск, не успокоился бы, потому что в этой новости и в этом решении меня встревожил в первую очередь сам этот залихватский тон. «То есть серьезно? – думал я. – Сейчас? С наскока в пиздорез? Но, блядь… зачем?» Но это «зачем» не имело смысла – я видел тон. Но почему я успокаивал Илью? Не знаю, господи, не знаю… Поймите, мне хотелось как бы защитить его. Мне казалось, что я с ним пятнадцатилетним сейчас сижу в той ебаной машине в серой зоне, и мне надо хотя бы убедить его, что не случится ничего ужасного, даже если это и будет заведомой ложью – какая разница? Если сказать ему, что его папу и маму сейчас пытают и насилуют в здании заброшенной шахты в десятках километров отсюда, то он выбежит из машины и ринется навстречу канонаде. Это весьма вероятно, даже если сказать ему, что ничего не известно, что может быть и так и сяк, и поживем – увидим, или типа. Надо, чтобы он не волновался, надо увезти его подальше, даже обманув его. Но я ведь не был его дядей в этот миг – дядя, скорее всего, знал правду, но врал во благо, каким бы он ни был сам по себе, возможно, он был ублюдком, но он хотя бы знал, что делает, и спасал Илью, обманывая его тогда, это была ложь во благо в классическом смысле, я же сейчас был кем-то наподобие его покойных родителей, которые всего лишь отрицали реальность, полагая, что, отрицая, они смогут игнорировать ее. Этот поток мыслей шел у меня в голове на втором-третьем плане за разговором, но даже в нем мне удалось на что-то опереться, чтобы оправдать себя, это было не до конца осознанное чувство, с которым я смог разобраться уже после разговора, но вкратце оно говорило вот о чем: я не его дядя, но это, может быть, и хорошо, потому что его дядя – ублюдок, по вине которого все в том числе случилось, а его родители не виноваты в том, что их убили такие ублюдки, и утверждение, что этот дядя более разумен, чем они – это оправдание убийц. Я понимаю, что логика странная, но это была соломинка, за которую я уцепился, не говоря о том, что чисто логически я продолжал считать, что какими-то резкими действиями могу навредить, может быть, даже больше. Это может сейчас казаться странным, но тогда я вспоминал в том числе ту ковидную панику и видел, что многие люди, поддавшись этой панике, творили какую-то дичь со своей жизнью, буквально, и я такого тоже боялся.
Потом – нам обоим удалось собраться благодаря Владе, мы почти что сразу после того ликбеза об ОРДЛО заговорили про нее, и как бы оба облегченно выдохнули и мобилизовались – нам больше не надо было думать, что нам делать со своими жизнями и планами, ведь перед нами встала главная задача – защищать нашу девочку. После короткого обмена вводными я быстро сделал заключение:
- Короче, так: вечером, как обычно, заходим в Дьяблу – Владе ничего не говорим, играем как всегда, и пусть ложится спать. Главное сейчас, чтобы она сидела с батей.
- Да.
Я уже упоминал, что в этот раз, при переводе «Лета», я не настолько изолировался от Влады, как при переводе «Ведьмы». Сложно сказать, почему так, наверное, тут несколько причин. Во-первых, сам факт того, что «Лето» она все же и писала не при нас, еще не будучи с нами знакомой, и меня так не выносил факт перевода той или иной сцены, как в случае, когда я видел сам процесс создания оной. Во-вторых – я говорил, что открывал какие-то новые грани взаимоотношений с Владой и с удивлением даже отмечал, что львиная доля моих метаний заключалась в моих собственных загонах, и когда я понемногу разбирался с ними и впоследствии не выстраивал хуеву тучу защит вокруг себя, а просто ОТКРЫВАЛСЯ Владе, то видел, что мой страх перед силой ее красоты и привлекательности удивительно легко превращался в радостную нежность и любовь. Метафорически выражаясь – еще вчера я был влюблен в прекрасную, но жестокую ведьму и, чтобы как-то с ней взаимодействовать, выстраивал вокруг себя какие-то немыслимые заговоры и заклинания, а сегодня я отдался этой ведьме со словами «я так люблю тебя, что согласен погибнуть» и с удивлением обнаружил себя не в загробной тьме или пламени ада, а в теплых ласковых объятьях этой самой ведьмы, в которых мне так хорошо и комфортно. Узрев же мое пробуждение, ведьма подарила мне не некий вампирский укус, а сонный поцелуй. И тогда я, пораженный, спросил ее:
- Что происходит, это ты наколдовала?
- Что наколдовала, милый? – удивляется она.
- Как что? Ну, ты ведь была ведьмой, ты хотела погубить меня, и я тебе отдался…
- Что? – сонно удивляется она.
Она так красива, но почему же в этой красоте больше нет страха – только радость и любовь? И почему она мне говорит:
- Ведь это ты – колдун, которого я страшно полюбила.
Короче говоря, вы поняли – дело в том, что у нас с Владой действительно был похожий разговор, мы обсуждали это образно, как часто делаем, и даже задолбали Илью этими метафорами, так что он как-то даже со смешным раздражением бросил (он что-то паял, помню):
- Та вы оба колдуны ебаные, отстаньте!..
Ну и вот, я к чему. В частности, еще при переводе «Лета», когда Влада с Ильей были в Конотопе, а потом в Киеве, мы сначала с Владой начали играть вечерами в ремастер второй Дьяблы, я ж вообще люблю диаблоиды, а Влада даже раньше не играла. Мы с ней уже проходили кампанию Far Cry 5 в кооперативе, ну, это была моя издевка в сторону религиозности Влады, но сам процесс нас обоих очень затянул, мы еще потом в Fortnite играли вместе, а тут вышел ремастер Дьяблы, и я предложил. Влада вообще играла немного в Warhammer: Chaosbane в этом жанре, но ей не понравилось, а Диабла неожиданно затянула, ей понравилась вообще эстетика, стилистика, мы подолгу обсуждали наши сессии, помню, в каком-то подземелье, кажется, под монастырем в первом акте, мы оба настолько погрузились, что ощутили даже страх друг за друга, это было так эмоционально, что Влада потом долго рассуждала о том, что у старых игр вообще значительно выше порог вхождения, но вот если его преодолеваешь, то оно настолько затягивает…
- Почему, – говорила она, – вот в этом подземелье у меня такое ощущение, что я слышу треск факелов, ощущаю запах плесени и слышу, как какой-то оживший мертвец шебуршит за углом? Ну, это же чуть ли не пиксели, изометрическая гриндилка… Но почему я, кажется, ни разу в три-де-играх подобного не ощущала, разве что в виар, да и то, может, в Аликс одной…
Я, помню, согласился с ней и сказал, что, возможно, это потому, что геймдевлоперы прошлого были ограничены в средствах и вынуждены были более глубоко продумывать каждую деталь взаимодействия с игровым миром. Ну, и потом, говорил я, скупость выразительных средств заставляла их постоянно обращаться к воображению игроков – а это сильная штука. Это как, пытался я объяснить Владе свою мысль, ну, вот книги – да, у них ведь тоже порог вхождения выше, чем в тех же фильмах. Но зато в книге ощущения могут быть сильнее, потому что твое воображение само рисует все. Ты понимаешь?
Ну, и вот мы играли в Дьяблу вдвоем, потом присоединился Илья. Влада играла волшебницей, Илья паладином, а я некромантом. В тот вечер все прошло по плану, мы даже завалили вместе Лорда Боли, наконец, и получили доступ в джунгли Лут Голейна, Влада так радовалась, что хлопала в ладоши. Потом, когда Илья ушел спать, мы с Владой еще немного пообщались в дискорде – она ни словом не обмолвилась о новостях, зато начала издалека распрашивать о том, как я вчера встретил Илью и все такое… Меня растрогало то, что ей интересно ровно то, что было интересно мне, о чем я расспрашивал Илью, и что она до сих пор об этом думает. Но я поначалу отмораживался, лишь после какого-то вопроса рассказал максимально кратко.
- Ты делал с его членом то, что и с моей грудью??
- Да.
- ОМГ. Я не могу.
- Пришли мне свою грудь.
- (имейдж)
- Ты так прекрасна. Так люблю тебя.
- Богдаш, я тебя тоже (сердечко).
- Ты в ночнушке?
- Да.
- Сними ее пока.
- Окай. (имейдж)
- Хочу целовать твои ноги.
- Богдан (сердечко), почему ты не здесь?(
- Укройся одеялом и пришли мне лицо и чуть плеча, чтоб только видно, что ты голая лежишь, но больше ничего.
- (имейдж, имейдж, имейдж)
- имейдж1 – я кажется не видел ничего красивее, никогда в жизни.
- Я хочу отсосать тебе.
- ?
- Да, как Илья. Пришли, плиз, себя, чтобы видно было член.
- нет.
- Богдаааан
- нет
- Ну, Богданчик (слезы)
- нет
- пришли лицо
- нет
- (слезы)
- разве что глаза (имейдж)
- Богданчик (сердечко), он возбужден?
- на (имейдж)
- ааааааааааа. Он такой классный. Хочу.
- расскажи как бы ты сосала
- сначала просто трогала бы какой он горячий греет руку
- да
- потом бы прикасалась щекой и всем лицом. И целовала целовала целовала
- да. я б смотрел и смотрел на твою красоту
- потом бы наконец взяла в рот но постепенно. тыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
- не надо блин я сейчас почти что. Сейчас опять тебя боюсь как тогда)
- не бойся
- нет, приятно) я бы наверно попросил потом отлизать тебе, как Илья у меня просил. Хотела бы?
- да
- Знаешь, мне нравится сам факт, что я лижу тебе, мне, например, нравится стоять перед тобою на коленях, как бы это такой ритуал – я тебе поклоняюсь.
- ты очень классно лижешь
- сенскс) но ты вроде стесняешься)
- ну, да, как я выгляжу с этого ракурса)
- тю, дура, она у тебя восхитительна. Как и вся ты впрочем
- Ну, хорошо) могу сосать?)
- соси. ты бы заглатывала?
- дааааа
- вот чего я всегда боялся – что тебе неприятно
- ты чтооо. Это кайф
- ты как будто захлебываешься)
- в этом и кайф. Захлебываться ТОБОЙ
- ой блин
- нормально?
- да. еще
- мне приятно
- мне тоже. Знаешь я никогда не глотал у Ильи особо глубоко, вот у него бывает, когда я в порыве страсти, ему нравится, как в этот раз, но когда ты сосешь так глубоко у меня или у него, и когда захлебываешься – это так волшебно. Почему?)
- )
- Ты дрочишь?
- да, немного)
- продолжай
- глотала бы потом смотрела на тебя
- продолжай дрочить. Хочу тебя обнять. Знаешь вот сейчас момент
- ?
- Практически при любых ласках наступает момент, когда мне хочется просто схватить тебя и трахнуть
- ))
- тебе это нравится
- да))
- расскажи
- Ну, подспудно мне всегда где-то в глубине этого хочется
- ты типа дразнишься?
- Ну да вообще т)
- а когда мы с Ильей тебя вдвоем ебем?
- умираю (сердечко)
- хорошо, а у меня, знаешь, еще часто, ну, когда я кончаю в тебе, то прямо сдавливаю тебя в объятиях
- (сердечко / сердечко / сердечко)
- хочется растворится в тебе или тебя в себе растворить, не знаю. И потом еще долго именно прижимать тебя к себе мммм. Влада?
- ………..
- было?
- (сердечко)
- сосать то дальше будешь?)
- безусловно (сердечко)
- интересно, если бы я был у тебя дома и захотел до визга довести, как в тот раз)))
- Илья тебе рассказывал?
- да. ты просто космос
- (сердечко) я бы хотела сверху быть на тебе первый раз здесь, даже не знаю почему. Ты как на это?
- да. только сначала дала полизать, прям как будто трахаешь, а потом толкнула и залезла на меня
- да. да.
- ты касаешься
- немного болезненно, щас. У меня тоже есть рефракторный период спок)
- мне интересно, что мы обсуждали, как это, когда матка сокращается, жаль я не могу испытать)
- ну, может быть, это как простата, ведь наши органы похожи в целом. Я бы тебе вот так сосала (имейдж)
- блииин
- Богдаш?)
- до стона) зачем ты такая потрясная)
- я бы хотела отпустить, чтобы он дергался, как у Ильи
- ну, может, сделаем, когда приеду
- даа. тебя клонит в сон?
- немного. Не хочешь больше? Может, сделать что-то?
- меня клонит)
- ходить сон коло викон а дримота коло брод питается сон в дримоти де ми будем ночувати де хатина чепурненька и де Владочка маленька будем Владу колихати колисанку ий спивати люли люли люли спи Владюша, спи Владюша, спи
- цьом цьом цьом
- пришли мне завтра утром фотку, как проснешься, вот так, укрытая и голая под одеялом, сонная с утра, ок?
- попробую. А ты?
- Что я?
- Богдааан
- хорошо, договорились, я тоже попробую
- спокойной ночи
- спокойной. Знаешь я еще хочу, я сам, если что, если ты тоже захочешь, можешь думать, что я делаю, давай
- давай попробуем присниться друг другу
- да, знаешь, как бы я хотел
- ?
- мы полетим на шабаш вместе
- Богдааан
- Скажи, что ты не хочешь
- Хочу. С тобой все что угодно
- Отлично
- Ты будешь все время со мной?
- Да. Из дома полетим вместе вдоль реки, а потом за городом на запад вдоль железной дороги)
- А вернемся вместе?
- А как же, мы ж супруги)
- Я люблю тебя. Но мы попадем в ад.
- Главное, что я буду там с тобой. Впрочем, не попадем.
- Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших; Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем.
- Аминь. Полетели)
***
На другой день я проснулся ближе к обеду, день за окном стоял какой-то серый. Сосны голые какие-то, совсем как будто черные на фоне этой серости. Я по привычке потянулся за смартфоном и увидел непрочитанные сообщения, понадеялся на утреннюю фотку Влады и открыл – это был Илья.
«маякни когда проснешься»
«что?» – поморгав, написал я.
Ответил почти сразу:
- Влада у меня.
- Чтоооо?
- Приехала рано утром. Я отпросился на работе. Крч, отчитал ее, но я не знаю, что делать, просто сижу с ней. Богдан, мне почему-то стремно и неуютно как-то, я не знаю, что делать
Я оделся и взял сигарету – покурил в окно. Я даже чувствовал, что делаю неправильно, но не мог себя остановить – наверное, это было какое-то тревожное предчувствие плюс неспособность контролировать ситуацию, плюс стыд за ту вчерашнюю переписку – типа, почему я не мог просто пожелать спокойной ночи ей, возможно, я сам виноват, что раззадорил, и она приехала. Вот это последнее, наверно, было главным, я злился на себя и выплеснул все на нее, потом жгуче себя ненавидел. В общем, я набрал ее и наорал, довел до слез, а когда она в слезах оправдывалась, бросил трубку. Это был, наверно, первый раз, когда во мне проснулось что-то садистическое, что-то внутри меня как будто радовалось ее всхлипам и толкнуло бросить трубку, а когда я ее бросил и типа должен был торжествовать от причиненной Владе боли, я вместо этого до такой степени себя возненавидел, что впервые за много лет вновь захотел себя убить.
Вновь закурив у окна сигарету, я вдруг понял, что сейчас не ей причинял боль, а себе, что я просто бил в самое ценное, что у меня было, чтобы себя разрушить. Я узнал этот стиль, этот тон, этот голос. Этот голос я впервые услышал в себе лет в четырнадцать и называл шутливо Собеседником. Я не был шизофреником и понимал, что этот голос мой. Где-то вот там в подростковом возрасте во мне как бы выделилась какая-то часть, которая, наверное, была каким-то защитным механизмом по своей природе, но этот защитный механизм, по сути, убивал меня. Наверное, я попытаюсь описать его и его голос. Мне кажется, что он похожий на меня – почти что моя копия, только почему-то мне кажется, что мой прыжок с балкона пятиэтажки в далекой уже юности совсем не затронул его. Ну, возможно, это и логично, потому что он познакомился со мной еще до прыжка. Он, наверное, внешне такой, каким бы был я, если бы тогда не прыгнул. Иногда он кажется мне симпатичным, точно красивей меня, и дело не только в отсутствии паралича лицевого нерва, хромоты и всего прочего. От него просто веет чем-то темным, инфернальным, он ненавидит все хорошее и нежное во мне, и некой части меня это, видимо, нравится. Впрочем, ненавидит – не то слово, он скорее презирает. В наши многочасовые диспуты он, в принципе, в разных вариациях отстаивает одну и ту же позицию: «Ничто не достойно любви, всякое счастье иллюзорно и кратковременно, а мерило всему сущему – лишь смерть и неизбежное забвение». Когда мне бывает хорошо, то он как будто бы таится в глубине меня. Но когда мне очень плохо, до невыносимости, он появляется и говорит мне: «Я же говорил», – и в эти вот мгновения мне кажется, что он мой единственный друг. В подобные мгновения я почти что люблю его. Он презирает все светлое и иногда почти что называет себя голосом смерти и забвения, но я как будто не могу без него в мгновения, и часы, и дни, когда мне очень плохо. Но он, безусловно, почти что убил меня и попытался бы снова, если бы я ему позволил. В последние годы я, смеясь ему в лицо, говорил, что он всего лишь комок моей боли, с которой у меня не было сил и умения справиться, и я спрятал эту боль в себе так глубоко, что в какой-то момент она там зажила собственной жизнью. Мне кажется, его задели эти речи и мой смех. Но в тот момент, ненавидя себя, я вдруг остановился и понял, что он хотел бы, чтобы я так думал. В минуту моей слабости какая-то часть меня заставила меня причинять себе же боль, накричав на Владу и бросив трубку, и дальше она хочет, чтобы я себя за это ненавидел до суицидальных мыслей. Но нет – этому не бывать, все будет не так. Я быстро оделся, собрался, отключил все нужные приборы и закрыл дом.
Автобуса не было, и я просто пошел по проселочной дороге к шоссе. На удивление, вскорости меня догнала легковая машина, кажется, видавшая виды «хонда», впрочем, я не очень разбираюсь. Я, не надеясь даже, махнул рукой. Хонда приостановилась. В машине сидела пара лет около тридцати – парень и девушка. Девушка показалась мне смутно знакомой, возможно, просто виденной где-то, она была довольно красивой и, несмотря на недорогую одежду, казалась ухоженной, парень выглядел попроще и поколхозней, что ли, но при этом казался сильным и уверенным в себе. И еще они мне почему-то показались какими-то доброжелательными, что ли. Возможно, неплохими людьми. Вот просто по ощущениям.
- Не подбросите в город? – спросил я.
- Садитесь, – кивнул парень с легкой улыбкой.
Да, парень не так прост, как кажется, – довольно большая редкость обращение на вы от парня старше в наших краях. Да, сразу, чтобы было понятно – я буду передавать по-русски, но была забавная особенность в речи – парень говорил суржиком таким деревенским, больше приближенном к диалекту украинского, а девушка на конотопском русском – я сразу понял, что она городская. Причем именно конотопская. Замечу тут, раз уж пришлось к слову – мы тоже не все время говорим на русском между собой, просто я решил, что так будет лучше, раз уж авторский текст русский, ок? Так-то если уж углубляться, то до знакомства со мной Илья был довольно русскоязычный, с некоторым донецким акцентом, потом постепенно я видел, как он, живя со мной, перенимает от меня некоторые местные обороты, в основном, понятно, украинские, ну, конотопские. Я говорил тоже на конотопском русском в основном, но часто сваливаясь в суржик и вообще применяя массу украинизмов. Среди нас именно подолгу чесать на литературном украинском спокойно могла только Влада, и под ее влиянием мы тоже постепенно украинизировались оба, как-то даже незаметно, плавно. Но это так, к слову.
- Дорогу развезло опять, – пожаловался парень, выруливая из лужи. – Тут скоро ни пройти ни проехать вообще будет.
- Ну, собираются заасфальтировать же вроде, говорили, – возразила девушка.
- Та мать их еб там собираются, прошу прощения.
Парень золотозубо улыбнулся.
- Я как малым еще был, так в селе свой автобус был, делал два рейса туда и назад в Конотоп. А щас и с Конотопа видите, какое – три раза в неделю. Сами видите.
- Та да, – кивнул я.
- Не обижайтесь, шо вторгаюсь – вы ж в коттедже живете?
Я удивился – возможно, это отразилось на лице.
- Ну да, – кивнул.
- Я без подтекста, просто видел вас в селе мельком.
- Наверное, уже все село меня знает, а я никого, – не удержался я.
- Та какое там село, – махнул рукой парень, – тут десяток пенсионеров остался.
- Богдан, – легонько улыбнувшись, представился я.
Парень подал мне руку меж сиденье.
- Саша.
- Вита, – девушка тоже протянула наманикюренные пальчики. – Вы не из Конотопа сами? Я извиняюсь, тоже будто где вас видела, но вроде бы не здесь.
- Давайте на ты. Из Конотопа.
Мы с этой Витой разговорились, оказалось, что были общие знакомые, а в юности даже пару раз отдаленно пересекались в компаниях. Оказалось, что они с Сашей муж и жена (ну, я так и понял), и, выйдя замуж, она даже на некоторое время переселилась из родительской квартиры в эту глухомань, довольно, кстати, тоже нетипичная история – городская девушка, пусть даже из райцентра, выходит замуж в колхоз. Но потом я понял, что этот Саша и правда был забавный штрих, начнем с того, что, оказалось, я его тоже немного помню по юности, не столько его, сколько… Короче, у нас в городе было несколько молодежных рок-групп. В основном они играли разную альтернативу, металкор там, скримо всякое и т. д., это уже к двадцатым угасало. Но все же самые интересные группы были на слуху, а была вообще одна легендарная практически, еще со времен моего детства, они играли репкор и немного нью-метал и даже выступали в Сумах и в Киеве, а в Чернигове даже как-то открывали крупный фестиваль, и оказалось, короче, что этот Саша был тем самым техничным гитарюгой этого групешника и автором значительной доли его музла. Я действительно был удивлен. Короче, немного забегая наперед – это и правда была забавная история: городская королева бала влюбляется на каком-то сейшине в этого деревенского самородка-нефора и уезжает с ним в колхоз. Но они с ним прожили тут недолго – жили у его родителей. Работы не было, Саша заглядывал в бутылку, и, короче, родаки обоих скооперировались и купили им отдельную квартиру в Конотопе. Там они теперь и жили, Саша ездил на работу на стройки столицы, а Вита делала ногти на дому и возилась с дочкой дошкольного возраста. В деревню к родителям они ездили практически каждую неделю, бывало, оставляли дочку, вот как сейчас, в связи с отсутствием садика и пр. В связи того, что они ездят каждую неделю, Саша даже сам набился, чтобы я записал его и Витин телефонный номер – на всякий случай, вдруг ехать сюда или отсюда. Что характерно, моего номера он тактично не попросил.
Вообще же они мне понравились. Ну вот было ощущение (и я в нем, забегая наперед, ни разу не разуверился), что они просто хорошие люди. Подъезжая к городу, я даже спросил их, что они думают по поводу признания ОРДЛО и т. д., хотя обычно с малознакомыми подобных разговоров не веду.
Саша вздохнул:
- Богдан, меня в пятнадцатом году призвали, я после школы служил строчку, ВДВшник был. Но там на блок-посту стоял в основном коло Песок. Ничего я там такого не делал, не въебись десантура, конечно, но так насмотрелся. И как всякие предприятия чьи надо целые посреди лунного пейзажа, контрабанда, да вообще… Я не говорю, что кацапы не уебки и не обезьяны. Но мне непонятно, как эти все короли, которые самые богатые в Европе, к этому могут быть непричастны, а? Одни и те же рожи всю мою жизнь и сейчас в шоколаде…
- Это ты про Ахметова?
Он даже повернулся ко мне.
- Че он пиздел в четырнадцатом году? Нахуй в десна пиздовался с теми обезьянами? И шо, как будто ничего не сделалось? А как вообще может человек такие деньги в нас в стране заработать, ты скажи? Шо, типа, дохуя бизнесмен? Та ага.
Вечерний город был как-то уютно-торжественен. Многие закрытые в пандемию заведения вновь открылись или сменили собственников и завлекательно сверкали вывесками и витринами, люди возле магазинов и остановок месили грязный снег подошвами.
- Куда тебя подбросить? – спросил Саша.
- Та на Миру высади.
- Можем подбросить, если чо.
- Та не, тут рядом, на бензин возьми.
- Не морочь головы. И она на газу.
Я вылез, и они еще руками махнули – я махнул в ответ. Они меня как-то развеселили, воодушевили, что ли. Я купил в цветочном магазинчике одну, но красивую желтую розу, расплатился в терминале и пошел не лишком быстро. Выкурил еще сигарету на пути – сделал последнюю затяжку, увидел внедорожник Влады под подъездом.
Мне открыл Илья, как я и ожидал, я, положив ему руку на плечо, отдал желтую розу сразу и спросил:
- Где она?
ОНА вышла из комнаты тут же. Одновременно с моим вопросом, растерянная, с воспаленными глазами – в той самой кенгурушке, которую любил нюхать Илья, не расчесанная. Я бросился к ней так быстро, как только мог со своей ногой, и прижал к себе так сильно, что, наверное, она могла бы задохнуться.
- Прости меня, прости меня, прости меня, пожалуйста, прости меня…
Я целовал эти растрепанные волосы.
- Нет, это ты прости, Богданчик, я должна была…
- Нет, не должна, прости меня, я так соскучился. Я так тебя люблю!
Я, короче, рухнул на колени перед ней.
- Ну, Богдан…
- Я… ПРОСТИ!
Я уткнулся ей в живот.
***
Потом, помню, мы полулежим на диване – Влада между нами, за окном темнеет, на полу стоят пустые кружки, роза в вазочке с водой. Мы обсудили все, что мы обсуждали с Ильей вдвоем, что они, Илья и Влада, обсуждали в Киеве. Я высказал свои опасения по поводу границ ОРДЛО.
- Знаете, что… – сказала Влада. – Вы оба и каждый по отдельности – любовь всей моей жизни.
- А ты наша, – сказал я, потом посмотрел на Илью и добавил. – Вы с Ильей оба и каждый по отдельности – любовь всей моей жизни.
- Вы с Богданом и каждый по отдельности – любовь всей моей жизни, – улыбнулся Илья.
- Вот, – сказал я.
И мы поцеловали Владу в щеки. Этот поцелуй перешел в обмен поцелуями, как у нас часто, бывало, а потом мы с Ильей в какой-то момент замерли и любовно взглянув в глаза друг другу, влюбленно смотрели на Владу.
- Так вот что я хочу сказать, – улыбаясь, сказала она. – Я встретила вас, и мне так классно с вами в этом городе, я счастлива. И мне кажется, что я должна быть с вами, это правильно. Не говоря, что я хочу быть с вами.
Мы взяли ее за руки и поцеловали в запястье – я в левое, Илья – в правое.
- Кто хочет еще кофе? – спросил Илья, взглянув на кружки.
Мы с Владой синхронно подняли руки, как в школе за партой. Илья улыбнулся:
- Понятно.
IX
Блин, я вот только сейчас понял, что не рассказал о наших кружках, а это же достопримечательность со своей забавной предысторией. Короче говоря, только не смейтесь раньше времени, но у нас с Ильей еще до встречи с Владой было заведено поздравлять друг друга с 23 февраля. Это не потому, что мы имеем какое-то отношение к советской армии и армии вообще, просто там еще в первый год нашего романа я как-то ужасно бомбил с дискуссии об этом 23 февраля и 8 марта, которая каждый год разгоралась у нас в соцсетях. Мне эта дискуссия казалась уродливым симптомом мизандрии в нашем обществе, потому что за всеми этими тейками про совок и не совок имхо скрывалась именно что мизандрия, а если точнее – возмущения наших женщинесс необходимостью что-то дарить противоположному полу. Ну, рассудите сами – если 23 февраля они вопят о советской армии, а 8 марта о Кларе Цеткин не вопят, ну, крч. По-моему, тут и так все понятно, я даже не знаю, зачем тут что-то вообще объяснять. Мне кажется, что наше общество довольно мизандрично вообще, если на то пошло. Это выражено много в чем и, вполне возможно, это общемировая тенденция последних лет или десятилетий, но у нас это сопряжено еще с отвратительным местным колоритом. Да я на эту тему лекцию бы мог, наверно, прочитать. Я ведь уже говорил, что, по моему мнению, даже наша гомофобия имеет под собой эту основу, причем, как я тогда отмечал, – сама же эта гомофобия порой обнаруживается в самых неожиданных местах. А меж тем, на мой взгляд, это серьезная проблема. Вообще – отношение к мужчинам, мужественности, репрезентации мужчин, если хотите. Можете смеяться, но, на мой взгляд, это одна из важнейших проблем вообще, даже, возможно, важнее проблемы ебанутости кацапов, независимости Тайваня или сирийской гражданской войны, ну и всего подобного. Говоря очень и очень грубо, я полагаю, что мужененавистничество (как и женоненавистничество, естественно) – частный случай человеконенавистничества. Вот как человек, ненавидящий какую-либо расу или нацию, ненавидит тем самым людей в целом, так и ненавидящий в том или ином виде тот или другой пол – тоже ненавидит людей. И себя он тоже ненавидит – вот в чем дело. Это, если хотите, болезнь. Ну, знаете, как в психологии есть непринятие себя через непринятие какой-то из своих черт, есть люди, ненавидящие свою внешность (привет, это я), или какую-то черту этой внешности, или характера. Ну, тут широкий спектр. И это все, по сути, патология же. Попытаюсь просто объяснить. Если я ненавижу или просто не принимаю женщин, то я не принимаю женское в себе, не принимаю свою мать, в конце концов, ее черты в себе, да господи – ее зеленые глаза, которыми я вижу этот мир. Но ведь не только это: я должен что – ненавидеть свои молочные железы, редуцированную вульву на члене или просто то, что этот член и вся остальная часть половой системы предназначена по всем параметрам для взаимодействия с аналогичной женской? И, бля, что теперь? Ну, так же и у женщин, они что – должны ненавидеть, не знаю, свой клитор? Черты своих отцов в себе или то, что их половые органы предназначены для взаимодействия с аналогичными мужскими? А тем не менее это есть, и я это вижу буквально везде – в разных паттернах поведения и сферах жизни. Конечно же, ситуация не так проста, как я вот выше описал, я упрощаю, чтобы объяснить наиболее доходчиво – безусловно, есть и мизогиния и, например мизандрия в исполнении мужчин, сплошь и рядом. Но в том-то и дело, что это сложный всеобъемлющий комплекс, где все взаимосвязано, и, например (этого как будто не понимают наши борцы и борцессы) – невозможно изжить мизогинию в мизандричесском обществе. Она ведь постоянно будет возникать хотя бы как реакция. Перетекать, как в сообщающихся сосудах. И в конце концов – это о принятии себя. Возможно, вам это покажется странным, но, влюбившись в Илью и отдавшись этой любви, я, сложно даже объяснить как, встал на путь большего принятия себя. И в то же время эта любовь и этот путь позволил мне влюбиться во Владу и еще продвинуться по этому пути. И любя их, Илью и Владу, двигаться по этому пути дальше и дальше.
Мне кажется, только не смейтесь, что что-то подобное в идеале должно произойти и с человечеством. Понимание того, что мужественность – прекрасна, женственность – прекрасна, и то, и другое, по сути, часто как бы, так сказать, содержится одно в другом и трудно различимо или вообще неразличимо, постоянно перетекает одно в другое и дополняет, и наполняет друг друга. И этот процесс сам по себе прекрасен, как любовь и секс, в нем содержится жизнь, и познав это, мы, наверное, даже страшно удивимся, как раньше этого не понимали, как все просто и классно на самом деле, как мы красивы и желанны, и как красивы и желанны люди вокруг нас, короче говоря, not war, make love – ну, я плохой писатель, почему Влада не хочет этого писать сама?
Короче, говоря о любви и войне – в какой-то раз перед 23 февраля я так бомбил по поводу прочитанного в интернете, что высказал все Илье, по сути, мне нужны были свободные уши, я говорил, ничего не видя и не слыша, я говорил о волнах феминизма («какая из них стала неприкрыто мужененавистнической, или они все такими были?»), о мужской моде («задумайся и назови мне хоть один современный чисто мужской элемент одежды? ну? А чисто женских пруд пруди!»), о кинематографе («когда ты последний раз видел обнаженное мужское тело в фильме, нужное там чисто для эстетики, типа любование оператора задницей Шварценеггера в первом терминаторе или Мела Гибсона в «Смертельном оружии», или вообще сравни эротику 1980-х и современную – насколько щас мужчина больше обезличенный, как будто механизм или ходячий фаллоимитатор, как это ужасно, это все такое кибелическое, жуткое и противоестественное»). Короче, я там бомбил не на шутку, Илья это все выслушал, и что вы думаете? Утром 23 февраля я продираю глаза – он стоит надо мной с ебучим букетом бледно-розовых тюльпанов и говорит:
- С международным мужским днем.
Я нихера не понимаю (я уже забыл о том вчерашнем бетхерте) и сонно моргаю, а он вручает мне вот этот веник и продолжает:
- Этого достаточно? Потому что если нет, то я еще купил тебе электробритву, твоя отцовская скоро совсем развалится.
Как я отреагировал? Сначала смутился и жутко застеснялся. Ну, короче, я тогда был менее открыт, и это мне казалось необычным до неловкости… Хотя, казалось бы – я жил с парнем, спал с ним, ходил на свидания. Ну, вот это я и имею в виду под всякими болезненными паттернами поведения, крч. Илья заметил эту мою неловкость и весьма уверенно, с улыбкой стал объяснять, что специально гуглил, и типа тюльпаны вполне себе мужские цветы, вполне допустимо для парня, вполне себе гетеро… крч, я сказал ему в разгар этой тирады, улыбнувшись:
- Поцелуй меня.
Он наклонился, и мы чмокнулись в губы.
- Кофе в постель не пожелаете? – улыбался он, нависая надо мной.
- Будьте любезны, – приподнял я бровь.
Он ушел, а я, помню, как-то стыдливо, но и не без удовольствия понюхал эти тюльпаны.
В тот раз я в ответ отделался печеночным пирогом, который нравился Илье, а на следующий год мы, будучи по уши влюблены во Владу, чуть не забыли об этой дате, но вспомнив где-то за неделю, придумали себе нетривиальные подарки, там как раз немного надкололась любимая кружка Ильи, и я предложил подарить друг другу кружки и, конечно, это были кружки с изображением Влады. Я нашел прикольный фильтр и сделал из двух ее фоток такие типа рисунки. Но и не рисунки – говорю же, фильтр, но мне показалось прикольно, Илье тоже очень понравилось и вот так мы отметили 23 февраля – заказали друг другу по такой кружке (у них были даже кодовые названия «Владислава смеется» и «Владислава надменная» – первая для Ильи, вторая для меня). Но когда мы получили кружки и полюбовались ими, Илья задал мне вопрос:
- А Владе на восьмое марта будем что-то дарить? Она же спросит, что за кружки.
И вот, знаете, если бы до знакомства с Владой он у меня спросил про восьмое марта хоть что-то, я бы, наверно, бомбил пуще прежнего, но сейчас… Дело в том, что я почти сразу придумал решение.
И вот когда Влада приехала, уже в конце весны, она, конечно, увидела эти кружки, и мы ей рассказали ту историю о двадцять третьем – она нашла это очень романтичным и даже сексуальным, стала сокрушаться, что не подумала и что обязательно что-то подарит… я прервал эти излияния и достал коробку:
- Это тебе, с восьмым марта.
- Что? – она не поняла сначала.
- На!
Короче, это тоже была кружка, точно такая по форме, как и у нас с Ильей, только чисто белая, с единственным рисунком – так называемым Зверинецким крестом. Эту историю я прочитал в интернете – короче, в Киеве в начале двадцатого века оползень открыл вход в какие-то древние пещеры, и оказалось, что это не упомянутый ни в каких летописях монастырь, сохранившийся с времен еще до монгольского нашествия. Зверинецкий – это по названию местности, потому что здесь располагался княжеский дворец со зверинцем для охоты. Над жертвенником подземной церкви сохранились изображения крестов, один из них, четырехконечный с Голгофой, был подписан как ИС ХР НИКА, что значило «Исус Христос – Победитель» (Господь победил смерть и диавола). Дальше было забавно, это уже в 1990-е, когда тот монастырь восстановили, короче, ихнее начальство неиронично решило сделать логотип монастыря и распространять его как мерч (я с этих верунов иной раз угораю). Вот как-то в городе я увидел такую наклейку на машине и заинтересовался, это было еще во время учебы, и вот эту историю я нагуглил тогда. Понятно, что я попытался раздраконить Владу, ну, помните, я говорил, что иной раз мне нравится ее третировать, как будто в детстве дергать понравившуюся девочку за косичку. Но в тот раз я увидел, что подарок Владу даже тронул. Она так кротко и красиво на нас взглянула по очереди, держа эту кружку в руках, а потом по очереди быстро нас поцеловала, приподнявшись на носочках, мы тут же в ответ синхронно поцеловали ее в щечки.
- Ну, я же… Ну, я должна вам что-то подарить, – виновато проговорила она.
- Да, ты должна нам секс, – не растерялся Илья.
- Прямо сейчас, – поддержал я, и мы принялись ее раздевать прямо там, на кухне. Нам нравится ее раздевать вдвоем – иногда мы делаем это нежно, снимая вещь за вещью, а иногда неистово и быстро, чуть ли не разрывая одежду на ней, стараясь обнажить как можно быстрее, дрожа и задыхаясь от желания… В тот раз мы раздевали ее быстро.
***
Что же касается того вечера вскоре после российского признания ЛДНР, то помню, что мы втроем говорили допоздна и даже не занимались любовью. Ну, то есть мы немного целовались, так вот сидя на диване, это пару раз случилось стихийно, наверное, вы уже поняли, что такие обмены поцелуями и ласками у нашей троицы случались часто, не всегда прямо перетекая в секс, причем катализатором этого, надо сказать, была Влада, у нас с Ильей это как-то не особо прижилось, я же объяснял, что у нас с Ильей это всегда был такой эмоциональный, что ли, порыв, даже просто поцелуй в губы или в плечо там заключал в себе хоть некую толику страсти… вот, я, кажется, нашел нужное определение – дело не только лишь в поэтичности нашей с Ильей страсти, я ведь объяснял, что с Владой это тоже поэзия, просто другой тональности, что ли, ну, это как разница между античным гекзаметром и персидской газелью, что ли, короче говоря, разница не в поэтичности, а разница в том, что ласки между мной и Ильей – это при множестве вариаций все же был в сути своей ПОРЫВ, а с Владой это было скорее СОСТОЯНИЕ. Я не устаю поражаться тому, как ее женская природа способна совершенно фоном продуцировать вот всю эту няшность и уют. Поймите, я не про то, что мне неуютно с Ильей (уютно, и ЕЩЕ КАК), просто источаемый им уют – это какое-то в сути своей бесконечно теплое и нежное «братик», а уют, источаемый Владой – это что-то типа «мои мальчики», я ни в коем случае не хочу сказать, что что-то одно лучше другого, но я хочу передать вам свое состояние удивления от того, что вот, повстречав Илью, я поразился тому, сколь много нежности и страсти в нашей с ним любви, ведь принято считать, что у парней с этим какие-то проблемы и т. д., я даже какое-то время полагал, что, может быть, это и есть глобальная разводка, хахаха, что типа как раз парни и способны к настоящей нежности и страсти, а почему-то принято считать наоборот. Но когда мы повстречали Владу… блин, как это бывает крайне сложно объяснить словами, ну, короче, скажем так – парней принято ассоциировать с силой, да? Так вот, полюбив Илью, я поразился тому, как много в этой силе КРАСОТЫ. А полюбив Владу, мы оба поняли, как много в ее красоте СИЛЫ. Вот, скажем, умение СОЗДАВАТЬ вот это состояние в любой практически ситуации и заполнять все грани наших взаимоотношений этим каким-то совершенно непобедимым «утютю», вот этим «мои мааальчики», «Богданчик, Илюша», «цьом-цьом, мимимии» – вот этим. Короче, в этом есть какое-то величие, вот как хотите, мы ее безумно любим, в общем.
И вот тогда в тот слякотный, но в общем зимний вечер мы сидели на диване в комнате с балконом, пили кофе, и помню, что поглотили какое-то немыслимое количество шоколадных дедов морозов, ну, серьезно, вот этих, в фольге, знаете, с рисуночками, короче, у Ильи в холодильнике оказывается, стоял типа маленький ящик этих дедов – он объяснил, что вообще-то это для меня, сладкоежки, подгон, типа он хотел на днях мне привезти этот вот ящичек в коттедж, а налутал он его в соседнем с ними магазине (там в одном здании их несколько – бытовой техники, универсальный и почему-то музыкальных инструментов), причем получил он его на халяву – че-то там чинил по знакомству. И вместе с кофе Илья в какой-то момент принес вот этот ящичек – этим так мило развеселил Владочку, она схватила деда мороза и моментально сожрала, естественно, измазавшись, и пока Илья вытирал ей щеку влажной салфеткой, я потянулся еще за одним дедом сам… Короче, мы ели этих дедов и говорили. Мы обсуждали, если так угодно, «украинский мир».
Это началось с Влады – по сути, это было продолжение наших летних разговоров в коттедже, вот это все об самоидентификации и всем таком, Влада согласилась наконец, что, несмотря на свое сложное происхождение, она украинка. Мне было приятно то, что она очень как-то трогательно поблагодарила меня, нас обоих, но Илья сам выделил меня особо, и Влада согласилась, в общем, она поблагодарила меня за то, что я помог ей типа открыть себя. Я заметил, что это была как работа психотерапевта, типа знаешь же, что они стараются всего лишь направить клиента, помочь ему как бы самому пройти этот путь. Она сказала, что как бы там ни было, но ей стало как-то так ЛЕГКО ДЫШАТЬСЯ после этого признания самой себе, кто она есть и… Ну, она это объяснила метафорически, как она часто делает, но мне стало понятно, не знаю, насколько будет понятно вам, в общем, она сказала, что некие чудесные краски, которые, как ей казалось, жили только в ней внутри, в этот момент как будто бы пролились на реальность, и реальность неожиданно ответила ей, Владе, этими же красками, и эти краски слились, и она, Влада, ощутила себя частью этого пейзажа, этой географии, если хотите, она, в частности, говорила, что, приехав сюда и пожив с нами здесь, она почувствовала, – возможно, говорила она, это и иллюзия, и самовнушение, – но она почувствовала, что это все пространство ПРИНЯЛО ее как свою, и даже не то что приняло, а будто бы ПРИЗНАЛО, типа – здравствуй, Влада, долго ж ты сидела там в своей Германии или своих мечтаниях, ну ничего, теперь ты ДОМА. Она так и описала это, и мне это показалось очень уместным и красивым, а потом она объяснила подробней, и я щас попытаюсь воспроизвести хотя бы приблизительно, что она говорила, ну, это был часто диалог – что-то вставлял я, что-то реже Илья со своей немногословностью (но он очень трогательно и внимательно слушал). В общем, Влада это описала так, что вот эти все рождественские ночи Гоголя, военные зарницы Гончара и Стельмаха, шевченковские вербы над Днепром, калина при долине из казачьих песен и даже степь Дикого Поля, ужасавшая Сенкевича, – это все было не прочитано замкнутой в себе девочкой Владой в раннем детстве и потом в Германии в каком-то труднообъяснимом любопытстве и тоске, но это все было в ней, Владе, изначально, и она в нем была, да, была его частью всегда. Она сказала, что впервые ощутила это тогда, за несколько часов до нового 2022-го года, глядя в это самое зеркало в коридоре, в этой вышиванке и янтарных бусах.
- Да, – сказал ей я, – это было убедительней всяких слов, но это была ПРАВДА, это была ТЫ.
Тогда же, помню, я ее поцеловал, она меня, а Илья нежно коснулся губами ее руки. Потом она опять начала свою обычную телегу о русском языке, но уже очень робко, и я тут же контратаковал, я сказал ей, чтобы она вспомнила русскоязычные тексты Шевченко и Основьяненко, чтобы, в конце концов, подумала о том Сенкевиче, которого упомянула, а кроме этого, хотя бы и украинские переводы, а скорее переложения Кулиша из Мицкевича, я говорил ей, что это все как бы перетекает из одного в другое и глупо тут искать границы, но Влада не перестает быть Владой, хоть о ней пишет Сенкевич, хоть Шевченко, а хоть Гоголь… хоть сама Абрамова! Смотри, говорил я ей, эта техника вышивки на твоей сорочке имеет французское происхождение, а узоры на ней встречаются и в Беларуси, а сколько полонизмов и тюркизмов в твоей речи, в этих книжках, сколько германизмов, сколько церковнославянского, а сколько древнерусского. Наш разговор перетек к теме того влияния, которое украинский язык и культура оказали на русский язык и культуру. Я говорил Владе, что одной из самых прикольных черт ее литературного языка является как раз вот эта украинскость, эта уникальная херня по типу, скажем, колумбийского испанского у Маркеса или, я там знаю, чилийского у Изабель Альенде. Тут Влада вклинилась и рассказала, что интерес к своим корням неожиданно проснулся у нее почему-то как раз за границей, не то чтобы ей там не нравилось, но сложно объяснить, она сказала, что скорее почувствовала, типа, чтобы стать там своей, она должна для начала понять, КТО она. И, помню, она рассказывала, что дома больше интересовалась всякой фантастикой типа Нила Стивенсона и Питера Уотса, и как-то в Германии купила «Der Schwarm» Франка Шетцинга в оригинале, она слышала о нем, но все никак не попадалось прочитать… и помню, она длинно отвлеклась и начала об этом романе, что типа он ее даже возмутил, в нем была какая-то нарочитая брезгливость к человеческому, что ли, какая-то даже не зоо-шиза, а совсем какое-то капитулянство, вырождение или типа того, особенно это было разительно на фоне умиления какими-то обществами охотников-собирателей, там, кажется, были какие-то то ли индейцы, то ли эскимосы, но не суть, короче, Влада сказала, что гуляла по вечернему Берлину, как-то отрывисто об этом размышляя, и ей в этом космополитичном городе внезапно показалось, что смешение его приводит к выцветанию всех красок, и что-то, что ей казалось воинственным манифестом гринписа или чем-то вроде, на самом деле было признаком бессилия старости. Это была странная мысль. Она говорила, что испугалась ее поначалу, потому что – ну, господи, что это такое, я размышляю, как восточнославянская дикарка. Стоп. Вот эта мысль ее буквально остановила, она рассказывала, что это была какая-то набережная или типа того, ну, она говорила, что остановилась и смотрела на воду, и в ней прикольно отражались фонари или витрины. Город жил вокруг, но Влада его не видела, она смотрела на эту берлинскую воду и неожиданно сама для себя думала: «Постой, но ведь я же и вправду дикарка, ведь я же украинская дикарка, но почему я этого стыжусь?» Она говорила, что у нее в голове пронесся каскад мыслей, который протянулся куда-то нахрен в дельту Миссисипи, в Новый Орлен с его блюз-клубами, потом в Восточный Гарлем с его пуэрториканцами и «черными пантерами», потом куда-то в Бронкс с его хип-хопом и противостоянием Лос-Анжелесу, потом через Пуэрто-Рико почему-то к стихам Дерека Уолкотта, которые Влада любила в юности, а потом куда-то вовсе в так и наступившее киберпанковское будущее под властью тиранических японских мегакорпораций, в котором на каком-то чердаке когда-то раненный в боях под Киевом американский ветеран пытается расшифровать советскую военную программу-взломщик, удивляясь кирилличным буквам, складывающимся из ее вредоносного кода. Короче, взбудораженная этим потоком мыслей, Влада тогда пошла домой – она жила у какой-то немецкой семьи и, закрывшись в комнате, перечитала почему-то «Вий» Гоголя. Сто раз читанная в детстве повестушка была теперь почему-то подобна прозрению. Влада вдруг поняла, что она не просто безликая студентка из постсоветской Восточной Европы, а что она живая часть того удивительного мира, в котором в глухих чащобах вдали от дорог еще сохранились заросшие мхом и терновником древние церкви с застрявшими в их ветхих окнах демонами. После этого она много читала, очень много, как в детстве, перечитав все малороссийские повести Гоголя, она вдруг неожиданно сама для себя загрузила на читалку «Кобзарь». Она рассказывала мне потом, как неожиданно заплакала, читая вступление к «Княжной» (и она еще сомневается, украинка ли она, – от дура…) После этого она, время от времени постоянно возвращаясь к Кобзарю, читала много украинских классиков, а на написание «Туманов» ее вдохновила «Мать» Довженко (там же весь этот перифраз – только что там партизаны, а там летчица, это из «Прометея» Малышко). Она не решилась тогда писать на украинском, но даже русский с украинизмами ее увлек, и она погрузилась в сочинение. Помню, она говорила, что ей хотелось как-то это осмыслить, что ли, находясь там, в Германии, и вот она и писала о Второй мировой. Я, помню, часто спрашивал ее, и сейчас иногда спрашиваю, что она думала, когда писала тот или иной кусок. И почему-то часто представляю, как она писала там, в Германии, например, вот это (один из первых кусков, после той истории с евреями):
«К началу августа артиллерийская канонада где-то на западе, в стороне Черниговщины стала ощутимо слышной, особенно душными летними ночами. Далекий, напоминающий гром звук, поначалу пугающий Раю и не дающий ей нормально выспаться, постепенно приелся, стал чем-то привычным, знакомым. На территории вагоноремонтного завода расположился инженерно-саперный батальон, вроде бы минирующий пути, но выглядел он как обычная пехотная часть, причем сильно потрепанная и недоукомплектованная. В цехах оборудовали госпиталь – посторонних туда не пускали, но в спертом августовском воздухе тошнотворно ощущалась исходящая оттуда вонь. Рая с несколькими женщинами подрядилась кашеваром в этот батальон. Это вышло почти что случайно. Рае не сиделось в пустующем читальном зале, и она подалась во двор, там две заводские уборщицы помогали солдатам разгружать полуторку с полным кузовом каких-то тяжелых шинелей (непонятно, зачем только они понадобились в такую жару) и разбросали вокруг обрывки веревки, Рая взялась за метлу и усердно подметала двор, незаметно появился командир, майор, что ли, и подозвал их, слово за слово… Рае понравилось готовить на целый батальон – ее даже поставили на довольствие, давали в руки по килограмму хлеба в день и котелок ею же сваренного борща. Там же, в батальоне, Рая впервые услышала слово «котел» в совсем не обычном значении, а также кучу других грозных слов, таких как «группа армий Центр», «Гудериан», «Юго-западный фронт». В общем и целом, ей стало понятно, что и бомбардировки захолустной станции, и взрывы полотна, и канонада в тишине ночей существуют не сами по себе, а как звенья единого плана, единой крупной наступательной операции по окружению столицы УССР. Хотя вот так вообразить себе все эти сотни тысяч человек, шагающих по шляху, едущих на танках и машинах, задыхающихся от пыли в нераспаханных степях и вязнущих в болоте, все равно не представлялось возможным, не вмещала голова. А канонада между тем приблизилась, цвела зарницами рябиновых ночей. Евгений больше не писал. Хотя, конечно, может, письма и не доходили».
Не, все-таки она у меня гений. Но суть не в этом. Суть в том, что мы как бы поочередно в тот вечер делились историями о нашем «украинском мире», Влада, пожалуй, из нас троих была, может быть, наиболее украинской, что ли, во всяком случае, приехав домой тогда, она рассказывала, что стала очень интересоваться историей, например, ей нравилось вникать в историю Киева, она даже там ходила в какой-то кружок, ей нравилось как бы прощупывать город, узнавать его лучше, и удивительней всего было то, что многие вещи она как бы знала, но ЗАБЫЛА – было такое ощущение, что стоило взглянуть на что-то под несколько другим углом – и оно казалось близким и знакомым. А еще Влада заинтересовалась историей своей семьи: глубокой киевлянкой и еврейкой она, как оказалось, была по отцу, а вот по матери не вполне, корни родни покойной ее матери протянулись аж на Полесье, на север Черниговщины, к простым крестьянским семьям молодой Гетманщины, наверное, поэтому Влада и любила наши места, тут рядом ведь. Вообще она в силу таланта, например, умела говорить на хорошем украинском с таким западенским акцентом – от мачехи это, но в то же время и бойким околокиевским суржиком, и довольно быстро переняла наш местный говорок. И она при этом единственная из нас сомневалась в своей украинскости – ну, дурь какая-то, ей-богу. Вот взять Илью (к нему разговор перешел после Влады). Он рассказал, что в детстве и юности на тему какой-то идентичности не особо задумывался. Но с нынешнего времени она ему кажется не русской, а скорее советской или, точнее, постсоветской. Вот эти все мемы из рунета, российские сериалы и эстрада. Ну, и куча наших там, опять же – вперемешку. У Ильи вообще с этим беда с мейнстримной точки зрения, его отец был украинцем лишь наполовину (дед, военный летчик, россиянин, поселился в Конотопе, как ушел на выслугу), у бабушки местной Илья почти не бывал, только пару раз в раннем детстве, а мать была вообще глубокой россиянкой из Московской области. Но, на наше общее с Владой удивление, Илья сказал, что какое-то самосознание, что ли, в нем пробудили мы. Он рассказал, что Владины «Туманы» зажгли в нем что-то вроде робкой надежды. Он говорил, что это было как-то подсознательно, но когда он читал эту книгу в Харькове, ему вдруг показалось, что в мире еще остался кто-то близкий ему, тот, кто, казалось, мог бы его понять, например, вот эта девушка, написавшая книжку (эта девушка, то есть Влада, тут же обняла его и зацеловала, так и лежала в его объятьях, а он играл с ее волосами). А потом, продолжил он, я ощутил что-то похожее, когда встретил Богдана. И тут он понес вообще какую-то сугубую чушь о том, что я сколько ему рассказал и так завлек, что теперь все украинское у него ассоциируется с чем-то красивым и любимым, то есть со мной. Блин.
- Какая херь, ничего я ему такого не рассказывал, пусть не выдумывает, – набычился я.
Влада смотрела на меня серьезно, но глаза ее смеялись.
- Поцелуй Илью, – сказала она мне.
- Что?
- Поцелуй Илью сейчас же, я приказываю.
Вообще я, конечно же, хотел его поцеловать, и поцелуй получился отпадным.
***
Я так люблю ее прекрасный восхищенный взгляд, когда она смотрит на наши с Ильей поцелуи. Она вообще прекрасная, такая прекрасная, я, наверно, уже говорил, но пусть, мне нравится это повторять, хотя, пожалуй, это стилистически избыточно, плевать. В тот раз, когда я посмотрел на нее, ее взгляд был насколько манящим, что я в который раз ощутил внезапное блаженство до головокружения, я когда-то читал, что оргастические ощущение в мозгу имеют по сути ту же природу, что и героиновый или морфийный приход, сложно сказать, ведь героин я не пробовал, бог миловал, иначе бы, наверное, давно скололся – мне кажется, я очень восприимчив к дурману, по конституции своей, взять то же курение, да и вообще хоть ту же сексуальную зависимость, хаха. Но мне приходилось пробовать медицинский морфий в качестве обезболивающего, и, может быть, поэтому я так подробно помню свою первую операцию. Это было поздней осенью 2013 года, к тому времени я уже почти три месяца был прикован к постели и перележал в целой веренице больничек, от реанимации в Конотопе до нейрохирургии и травматологии в Сумах, откуда в конце лета меня «скорой» притаранили в столицу, в институт ортопедии. Почему-то, хуй его знает, также неплохо помню саму ту поездку, ну, вернее, как какие-то яркие образы из нее: помню, как в коридоре сумской травматологии меня перекладывают на носилки в какой-то утренней полутьме люминесцентных ламп, предварительно введя обезболивающее, еще не рецептурное, а что-то типа анальгина с димедролом, потому что, короче, основное дело в том, что если человек лежит на вытяжке, – это, проще говоря, такие гири, которые оттягивают ногу вниз, чтобы она типа правильно срасталась... У меня была одна гирька, ничего особенного, спица была проделана через колено, на ней скоба, веревка и гиря – вот и вся конструкция, короче. Я почему-то запомнил, что когда меня перевели из реанимации в хирургию в Конотопе, то меня пришли навестить одноклассники, и я как-то с самого начала этой встречи пытался их отвлечь, что ли – я понял, что мой вид походу их ошеломил, и я, наверное, даже нарочито весело пытался шутить на разные отвлеченные темы и постоянно их расспрашивал о школе там и о каких-то общих знакомых. А Лена, это одноклассница, – короче, я с самого начала этой встречи видел, что ее взгляд прикован к моему торчащему из-под одела колену, с этой скобой, и она как бы пытается его отвести, а он постоянно возвращается к этому колену. Так было всю встречу, а уже перед уходом она меня вдруг неожиданно спросила:
- А на чем держится эта скоба?
Я от удивления сразу ответил:
- На спице.
- А спица… как она прикреплена к колену?
Я взглянул на Лену и почему-то запомнил ее взгляд – какой-то обжигающе холодный. Я убрал вымученную улыбку с одной половины ебала и сказал столь же холодным голосом:
- Колено сверлится и в дырку вставляется спица. Короче, забей.
Ну и, короче, я к тому, что эта гиря – она пока висит, не болит, типа привыкаешь, а если ее снять, очень болит, а потом, когда повесят опять, болит еще сильнее… короче, не знаю, к чему я сейчас это рассказываю, по ходу, должен быть какой-то общий лейтмотив у всех этих воспоминаний, Влада сказала, чтобы я писал, и я продолжу и даже соединю это подходящим лейтмотивом, типа, пусть это будет наркота или обезболивающее – перед встречей с одноклассниками мне ведь тоже укололи обезболивающее. А тем утром в Сумах меня переложили на носилки, предварительно отсоединив эту сраную гирю, оставив одну скобу, и мне почти даже не было больно из-за укола, правда, там тоже не все пошло гладко, потому что сначала меня положили на каталку и я довольно долго лежал в коридоре – я помню, начало сереть, и эти лампы светили очень тускло, казалось, вовсе не светили, родаки решали какие-то вопросы по поводу кареты «скорой помощи», и я какое-то довольно продолжительное время лежал один в этом пустом коридоре, было раннее утро и из палат никто не выходил, вдали виднелся пустующий пост дежурной медсестры, тускло светили эти лампы, и на улице серело. Этот утренний свет тек из окна возле поста, которого я не видел, и из окна в конце коридора, на котором было жалюзи и за ним смутно угадывались ветви какого-то дерева. Я почему-то четко помню эти лампы и этот коридор… Я, впрочем, знаю, почему. Дело в том, что когда лежишь прикованный к постели месяц или больше, то пространство вне палаты кажется некой терра инкогнита, тебя до дикости интересуют мельчайшие детали, вплоть до того, что ты начинаешь фантазировать об этом коридоре, дорисовывая какие-то подробности в голове. Знаете, когда я лежал в реанимации в Конотопе, то вообще еще не видел коридора, сопряженного с реанимационной палатой, ведь меня привезли туда еще в бессознательном состоянии, и в вот эти несколько дней, когда реаниматологи восполняли мою кровопотерю и по сути ждали, умру я или нет, я пребывал в каком-то странном полубессознательном состоянии, но тем не менее очень интересовался этим коридором, расспрашивал мать о его устройстве и убранстве, и до сих пор помню странную мысль, посещавшую меня на грани сна и яви.
- Ничего, – говорил я себе, – ночью, когда я усну, то пойду и рассмотрю коридор и палаты, возможно, что-нибудь запомню.
Были ли эти мысли вызваны черепно-мозговой травмой с кровоизлиянием в мозг? Вероятно. Во всяком случае, биохимия мозга тут, естественно, имеет ключевое значение, какие бы бредни ни несла Влада по этому поводу. Вот вам известно, например, что, вопреки распространенному мнению, тот же дофамин – это не гормон удовольствия, а скорее, ну, как бы гормон мотивации, в частности, он закрепляет разнообразный новый опыт, связанный с сильными переживаниями, а также помогает в адаптации организма к стрессовым ситуациям, травмам, кровопотере и т. д. Вот этот коридор сумской травматологии так врезан в мою память из-за переизбытка дофамина в тот момент? Вполне возможно. Во всяком случае, я помню, что привозили меня в ту травматологию в вечерний час, и коридор я совсем не запомнил из-за суеты, царившей там. Теперь же я лежал там на каталке совсем один, и мог все рассмотреть, и запомнил в подробностях. Потом пришли родители, и выяснилось, что с каталки придется слезать, по ходу, не работал лифт, что ли, и придется спускаться по лестнице – это отдельный цирк, короче, но в итоге меня переложили на носилки, больно почти не было, и следующим воспоминанием было то, как меня выносили на этих носилках из черного хода отделения. В закреплении этого воспоминания тоже виновато наркотическое вещество, но только абсолютно естественного происхождения – этим веществом был свежий воздух. Я не был на свежем воздухе больше месяца, и мне вскружило голову. Я помню все – я помню липы в этом дворике и влагу на асфальте, руки санитаров и рассвет, о господи, рассвет. Он полыхал в тяжелых тучах за многоэтажным жилым домом возле поликлиники и был насколько страшным и красивым, что я запомнил его на всю жизнь. Все дело в запечатлении и запоминании – вот этот алый пылающий кровью рассвет над Сумами на исходе лета и влажные горящие глаза моей любимой девушки, когда она восхищенно смотрит, как я целуюсь с нашим общим парнем – это все мозг, вероятно, вносит в общие реестры и, сортируя, маркирует как чувство, которое наиболее точно можно описать словами «страшно и красиво».
Вот там в мозгу есть папка «страшно и красиво», и она лежит в какой-то большей папке под названием, ну, скажем, «удовольствие», «экстаз», а может, «морфий». Вот знаете, у Булгакова эта короткая вещь, которую обычно присовокупляют к «Запискам юного врача», но она не является частью этого цикла, так вот, у меня она самая любимая из его сочинений. Короткая, но офигенно точная. Знаете, какой там, по моему мнению, самый сильный кусок? Две строчки: «2 марта. Слухи о чем-то грандиозном. Будто бы свергли Николая Второго. Я ложусь спать очень рано. Часов в девять. И сплю сладко». Вот это и есть ОНО. Да, оно. Я помню свою первую операцию, тогда, поздней осенью 2013-го, почему-то помню, как меня готовили к ней весь предыдущий день, помню, как мне пришлось мыться просто на постели, ходячие соседи тактично вышли из палаты, и я с огромными усилиями поднялся и повис на перекладине, чтобы подо мной простелили прорезиненную ткань, и потом я мылся с помощью тряпочки. И вместе с тем я почему-то помню эти разговоры, и что мать даже принесла откуда-то из города какую-то листовку по типу газеты, где говорилось об этой ассоциации с ЕС. Все многословно спорили, я помню деда из Днепропетровска, который без умолку вспоминал разные стори о жизни в застойном совке, потом бывшего десантника из Джанкоя с деградировавшим мениском – он вывихнул колено из-за неправильного приземления в свой первый в жизни прыжок, и оно дало о себе знать через десятилетия, помню пару баптистов – жена ухаживала за мужем – которые тоже не могли остаться в стороне от этих споров, помню более чем девяностолетнего деда, который тоже, нахуй, спорил об этой ассоциации, почему-то постоянно сворачивая на воспоминания о том, как они, роняя винтовки, отступали неизвестно куда летом 1941 года, а потом его ранили, а потом опять ранили, а потом был конец войны. Чтобы не слышать эту какофонию, я постоянно втыкал наушники и врубал mp3-плеер, и читал «Дорогу в ночь» Ричарда Лаймона, возможно, даже воображая себя этим уродливым маньяком, убивающим ИХ ВСЕХ. Я был подростком, и у меня ничего не было. Я очень четко помню это чувство, что вот этот дед может сколько угодно вспоминать о своем гребаном совке, об этой колбасе по пять копеек, санаториях и том концерте Высоцкого у них в ДК… Это было даже не в Днепропетровске, он любил вспоминать, что работал в каком-то райцентре Херсонской области, и Высоцкий у них выступал – о, как он обсасывал эту историю, и особенно ту подробность, что знакомый медбрат на «скорой» рассказывал ему, как после концерта они укололи Высоцкого. Короче говоря, этот дед мог, казалось, в любой ситуации просто пуститься в эти воспоминания, по сути, идентифицируя себя с этими воспоминаниями и таким нехитрым способом, по типу, обретая самость. Блядь, несмотря на то, что даже я тогда понимал, что эти воспоминания являются чистейшим, как из учебника, постмодерным конструктом, мифом, нахуй, тем не менее этот дед имел на них право, как Высоцкий на ту ампулу наркотика в райцентре, потому что все-таки, несмотря на их расплывчатость и иллюзорность, этот дед их все же пережил, а не придумал. У второго деда было лето 1941-го с вот этим отступлением и бегством под огнем через какое-то кукурузное поле, потеря винтовки, ранение, госпиталь, снова ранение, мирная жизнь. У этого десантника был голубой берет, прыжок, мениск – о, как он с упоением рассказывал о том своем неверном приземлении… казалось, что в неправильности оного как будто бы и был особый смак. А что я мог рассказать и с чем себя ассоциировать? С тем, что скучно жил, а потом пизданулся с балкона из-за неразделенной любви? И теперь вынужден мыться тряпкой на подстеленном брезенте, не говоря уж о других гигиенических процедурах. Я не знаю почему, но это дико меня харило. Меня харило как раз то, что они все прожили какую-то жизнь и себя с ней теперь ассоциировали, а я мало того, что не жил особо, так и сейчас только окончательно выбросил себя за борт этой жизни. Короче, меня все это бесило. Целый день перед операцией я, как и положено, не ел и заснул только благодаря снотворному. Потом я помню, как опять лежу на каталке в коридоре – уже в Киеве. Но этот коридор живее, все куда-то бегают, и вообще я более радостный, ведь наконец-то будет операция и, возможно, через каких-то пару месяцев я даже смогу ходить, хотя бы с костылями. Помню, как меня везли на лифте в операционную, и вот тут важно – закрепление. На следующем этаже ко мне в лифт вкатили еще одну каталку с девушкой-ровесницей. Она тоже была весела, я помню, что у нее были каштановые волосы, и она, как и я, лежала голая под покрывалом – ее тоже везли на операцию, и несколько этажей мы ехали вместе – каталка к каталке. Так вот – вопрос на миллион долларов – я поэтому теперь прошу Владу сфоткаться голой под одеялом? Поэтому люблю, лежа рядом с Ильей, тереться своим голым телом об его голое тело? Так работает закрепление или это просто случайное воспоминание? Я сам не знаю. Я помню, что всякий раз боялся спинномозгового наркоза, этой толстой иглы в позвоночник, помню, что в операционной было холодно, помню вдалеке в окне пожелтевшие листья. Помню, что так долго ждал анестезиолога, что наркоз, кажется, стал отходить, и мне дали общий. Помню опять реанимацию и помню, что рядом со мной лежала девочка лет четырех с мамой и папой, и когда ее наркоз стал отходить, она начала тупо монотонно выть, и я, как Ума Турман в «Убить Билла», стал смотреть на свои большие пальцы ног, приказывая им: «Пошевелись, пошевелись», – чтобы они скорей пошевелились и меня отсюда увезли. Я также помню, что был очень голоден и уже в палате схавал ложку йогурта, и меня вырвало аметистово-черной желчью. Помню вечереющее небо в прямоугольнике окна и силуэт недостроенной высотки на его фоне – говорили, та высотка проклята. И я знаю, почему все это помню. Наверно, знаю. Потому что вскоре принесли укол. Эта история, впрочем, не будет новой – я что-то подобное читал у советского психолога по фамилии Леви, удивительно, как эти истории повторяются, выныривая из глобального интертекста, ну, короче говоря, вот что. Я почему-то не помню подробностей после укола, но помню общее чувство, что «все не напрасно». Понимаете? И помню, как, отдавшись этому чувству, я сначала внимательно слушал все эти бредни, от которых час назад меня тошнило, а потом вдруг, зацепившись за случайную фразу деда-фронтовика о том остоебеневшем уже всем тут лете сорок первого года, я вдруг так увлекательно пересказал тот кусок из «Неба войны» Покрышкина, где он впервые был сбит над вражеской территорией в начале войны и пробирался к своим несколько дней, питаясь одной шоколадкой, – короче, я так увлекательно это пересказал, что все в палате слушали, разинув рты. Я это так пересказал, как будто пережил и будто бы имел на это право. Так вот к чему я это. У Булгакова в этом рассказе есть еще одно сильное место. А именно – там он сверяется о своей несчастливой любви: типа, спасибо морфию, что он избавил меня от нее – вместо нее теперь морфий. Так вот в моем случае – вместо него теперь Влада.
***
Да, Влада ты вместо него, и, предвосхищая твое возражение, – Илья тоже вместо него, но я уверен, что ему понравится такая формулировка и он будет, как и я, на ней настаивать. И опять я знаю, что это избито и пошло – представлять любимую в виде наркотика, но ты и есть наркотик, мне плевать, мне так нравится всякий раз осознавать, что ты источник моего наслаждения, но если ты хочешь максимальной точности, то пусть будет так – Илья морфий, а ты героин. Я никогда его не пробовал, но мне кажется, что ты что-то по типу героина. И ты почему-то не хочешь понять где-то в глубине души, что это не оскорбление, а восхищенный возглас, мне так нравится об этом думать, что я млею, в сущности, это моя мировозренческая максима, если так хочешь. Знаешь, есть такая маргинальная теория, что вся культура человечества – не что иное, как своеобразный вторичный половой признак, типа павлиньего хвоста, необходимый, в сути, только лишь для размножения. Так вот, мне нравится об этом думать, и дело тут не в половых различиях, хотя бы потому, что я обоих вас люблю и посвящаю вам двоим весь этот текст как любовную песнь. И, кроме этого, этим вступлением мне хочется ретроспективно придать некую глубину нашему тогдашнему разговору, надеюсь, будет понятно, почему.
Короче говоря, тогда после нашего с Ильей поцелуя Владин взгляд был так прекрасен, как тот алый пылающий кровью рассвет над Сумами на исходе лета моей юности, а может быть, даже красивее. Точно – красивее, ну, просто потому что Влада сама по себе красивее всего на свете. И вот она, столь прекрасная, смотрела на наши с Ильей поцелуи, и я в какой-то момент посмотрел на нее и поймал этот взгляд, и Илья сам легонько толкнул меня к ней, и я растаял, растворился в поцелуе с ней. В какой-то миг я вновь остановился и смотрел на нее завороженно. Мне захотелось взять ее. Но этот порыв неожиданно резко перевалил через пик как бы подразумеваемого оргазма, после которого всегда так хочется заботиться о ней и изменить весь этот чертов мир ради нее, чтобы ей в нем было максимально легко и комфортно. Я поцеловал ее еще раз и улегся, а вернее, она сама меня как бы уложила в свои объятья, мы как-то забавно лежали тогда на диване в комнате с балконом – Влада как бы в объятьях Ильи, а я во Владиных. И тут она спросила меня вот о чем:
- Богдаш, а почему ты как будто стесняешься?
- Чего? – не понял я.
- Ну, вот только что Илья сказал о твоей украинскости, и это так классно сформулировано – я ведь ощущаю то же. Но ты это отрицаешь, ты иногда так яростно отрицаешь все отпадное в себе, как будто говоришь не ты.
Я тихо улыбнулся и представил, что в ее объятьях вдруг оказался парень, очень похожий на меня, но без паралича лицевого нерва и черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием. И я сказал ей то, что, как мне представляется, сказал бы он:
- Потому что я не верю в это.
- Во что это?
- В это все.
Они в целом оба знали эту историю, но я вкратце им пересказал ее опять. О той осени-зиме 2013-2014 года в Киеве. О том, как я дико ненавидел всех этих людей на площади. И как мне истово хотелось, чтобы ничего у них не получилось. А знаете почему? Потому, что я хотел быть с ними и не мог. Мне было пятнадцать лет. И мне казалось, что я тупо просрал свою жизнь за мгновение до того, как все изменилось. Вот там, за окнами чистейший свет сметал все самое паскудное, что было в этом мире, а я лежал в этой больничке, полностью поломанный и ни на что не годный. Я всегда отмахивался от этой темы, а когда меня доставали, я говорил, что они проиграют, да типа и хер с ними. Помните, как я на презентации в Сумах убеждал себя, что Влада – обычная девушка и ничего особенного в ней нет? Так вот – это было такого же рода отрицание. Я как-то это пережил, уехав из Киева в конце боестолкновений. Казалось, я никогда еще так не любил Конотоп, все это его жуткое провинциальное безвременье. Мне хотелось убежать от света, и скрыться в гнилом погребе, и самому там сгнить, чтобы меня никто не видел. Но иллюзия продлилась недолго. Пока я по новой учился ходить, отец ушел из дома, и матери резко стало хуже. Она болела уже больше года, еще до моих приключений. Он немного помогал, пока она была в больнице, но пробыла она там недолго. На похоронах мне почему-то казалось, что отец нервничает больше меня, а я почему-то размышлял только над тем, что, оказывается смерть и жизнь не противостоят друг другу, а запараллелены и не пересекаются. Не знаю почему. Мне почему-то не было страшно, я думал, что будет. Помню, что я не поцеловал мать, хотя так было положено, но мне это казалось неприятным, вместо этого я перекрестил ее, и это крестное знаменье было первым и до встречи с Владой единственным исполненным мной за многие-многие годы. Последний раз я крестил что-то или крестился в далеком детстве, а тут почему-то само вырвалось, машинально. Когда отец в очередной раз уехал в РФ, мне стало немного лучше. Если Влада считает, что во мне и есть какая-то особенная украинскость, то она проснулась где-то в этот период. Щас, может, будете смеяться, но мне иногда кажется, что собирательно это было похоже вот на что. Знаете, есть такое гадание, где девушки гадают на суженного, поставив маленькое зеркало перед большим, и в этом сонме отражений в определенный миг они видят как-то смутно образ своего будущего парня. Так вот – я как бы поставил маленькое зеркало своей жизни перед большим зеркалом отечества, и на какой-то миг увидел в этих отражениях какой-то очень размытый, но прекрасный образ в черной вышиванке и янтарных бусах, с невозможным серым взглядом, ну, вы поняли… И я влюбился в этот образ, понимаете? А любовь для меня всегда была величайшим стимулом и ценностью. Но что случилось потом? Мне трудно сказать. Помните ту историю с одноклассником и сватаньем? Ведь я, казалось, тогда влюбился в эту, по сути, случайную девушку, да? Но потом ведь я ее с болью, с трудом, но все же разлюбил. Да, разлюбил. Ну, метафорически выражаясь, здесь было что-то похожее. Я видел, что происходит в стране, видел войну, видел реакцию общества. В какой-то момент, как и с той девушкой, мне показалось, что я просто нагонял себе, и если эта прекрасная девушка для кого-то и суженная, то уж точно не для меня, инвалида-урода, возможно, она вообще там, в зеркале, ошиблась дверью, а выходила изначально к какому-то смуглому кареглазому казаку с красивыми плечами, понимаете? И тут случилась неожиданная вовсе херня – а именно, я влюбился в этого самого казака, и, что удивительней всего, – он в меня тоже (хотя иной раз мне и до сих пор не верится). И это было так классно, что я вообще обо всем забыл, об этих умопостроениях, об этой украинскости, обо всем. И слава богу, слушайте. Да, если угодно – мне хотелось спать с этим прекрасным парнем больше всего на свете, и я бы не колеблясь променял любой патриотизм на этот секс. Вот так. Я, вообще, я, если хотите, вообще ожидал чего угодно, я не знаю – кар небесных, смерти и забвения, ну, я же понимал, что если это так классно и сладко, то, конечно же, наступит какая-то расплата, отходняк или похмелье, я не знаю, но вместо этого мы оба повстречали Владу, и началось какое-то вообще безумие, непроходящий восторг, героин, героин. Я так и сказал Владе:
- Я ни о чем не хочу думать, я хочу вас любить – вот и все.
- Ну, ты же должен еще чего-то хотеть от жизни…
Влада перебирала мои волосы, уже, в общем, понимая, к чему я клоню.
- Хочу тебя и Илью, – сказал я.
- И все?
- Конечно.
- Ну, блин, я просто не пойму, я разговариваю с тобою о фольклоре, языке, истории, литературе, мне так интересно, как ни с кем…
- Влада, если тебе нравится этот павлиний хвост, то я буду растить его, пока не свалюсь под его весом, хорошо?
Она так мило улыбалась.
- Единственное, чего я хочу взамен, – это секс. Хорошо?
- Хорошо, – она кивнула. – Но ведь все не может быть так просто…
- Какая душнила!.. – подмигнул я Илье.
Она меня придушила в объятиях.
- Влада, я не могу понять… – продолжил я, слегка задыхаясь, – что тебя не устраивает? Почему ты постоянно как будто ищешь вчерашний день? Или пятое колесо в телеге?
- Ну, потому что, что… – она легла поудобнее и подобрала колено, как будто фиксируя меня, чтобы я не вырвался. – Суть всего – Эрос, что ли? Да? Ну, а Танатос тогда как?
- Смерть и жизнь не пересекаются, – сказал я.
- Что?
- Ни что. Вот ты реальный шизик. Что?
Илья рассмеялся и отмахнулся от моего вопроса, смеясь.
- Короче, ты вечно какие-то схемы-хуемы ищешь там, где их никогда не было.
- Ну, а если…
- В том-то и дело! Не важно, что если, а важно, что здесь и сейчас. Это единственное важное по-настоящему. Надо уметь наслаждаться. И вот когда ты трахаешься с нами, ты вроде бы прекрасно умеешь наслаждаться, а потом сразу начинается душниловка, о природе евхаристии и прочей мути… Стой.
Я смотрел на нее, вылупив глаза.
- Что? – улыбалась она.
- Что, это ТВОЙ павлиний хвост?
Она улыбалась. По ходу, она опять выиграла. О боже, как же это сладко.
***
Но я еще даже не подозревал о том, что она решила меня окончательно добить. Она, еще раз одарив меня своей невероятно восхитительной улыбкой, спросила:
- Но если ты считаешь это павлиньим хвостом, то значит… тебе это нравится?
Я не знал, что сказать, на самом деле мне хотелось подчиниться ей.
- Мне нравится все связанное с тобой и… Ну, что мне сейчас сказать? Что я отчаянно сопротивляюсь твоим попыткам меня воцерковить, потому что мне на самом деле хочется?
Я повернулся боком, полуобняв колена Ильи, и посмотрел в ее мучительные серые глаза. О, как я их любил и как их ненавидел за ту власть, которую они имели надо мной! Уж больше года моя жизнь была дихотомией из отчаянных, но изначально обреченных попыток сопротивляться этой власти и оглушительных провалов всякого сопротивления, позорных сдач, капитуляций перед этими глазами и оглушительных экстазов, наступающих впоследствии. После которых я опустошался и был счастлив, как будто познав все глобальные истины, чтобы потом, пусть и не скоро, вновь окрепнуть в неверии, вновь бунтовать и вновь же сдаться. И вновь ощущать внеземное блаженство. И вот этот миг наступает опять, я смотрю в эту мучительную серость, вспоминая, что серость не цвет, а смешение главных цветов, и вдруг я понимаю, что смотрю на самом деле в некую запекшуюся изотропную материю изначальной вселенной, где цвета не успели еще разделиться на спектры. Так вот, значит, каков твой знак, богиня смерти и рождения? Так знай же, подлая, жестокая, глумливая – я весь принадлежу тебе!
- Ты слышала, – говорю я ей, – что одной из самых распространенных сексуальных фантазий будто бы является изнасилование? Это у женщин, но, может быть, дело в моей ориентации… короче, по ходу, я очень хочу быть тобой изнасилованным.
Дальше я молчал. Я сказал даже не то, что думал на самом деле, а то, чего даже не осознавал, но что, вероятно, и было подоплекой наших бесконечных споров, потому что эта мысль самого меня пронзила. Она тоже молчала и смотрела на меня, а потом жадно поцеловала меня в губы, положив мне ладонь на затылок. Помню, что мы оба лежали головами на коленях у Ильи и так поцеловались, и мне было сладко, а потом она сказала:
- Скажу, как есть – я хочу причаститься, и Илья не против сходить со мной, мы бы хотели, чтобы ты был с нами. Вот. Илья, я это сказала.
Она поднялась и Илья обнял ее за плечи и поцеловал в волосы, она приклонилась к нему, подобрав ноги, я смотрел на них снизу вверх, так и лежа головой на его коленях.
- Почему ты с ней секретничаешь? – сказал я, иронично улыбаясь одной половиной лица. – Почему?
- Потому, что она красивая, – пожал красивыми плечами Илья и еще раз ее поцеловал.
- Это правда, – кивнул я.
- Богдан тоже красивый, – вдруг сказала она.
И, ей-богу, в какой-то другой ситуации я бы расстроился от этого замечания, но она, как всегда, удачно выбрала момент, какой-то как бы и игривый, и в то же время торжественный. Илья тоже не сплоховал в этот момент, вместо того, чтобы, например, горячо соглашаться, он просто, любовно глядя на меня своим медовым взглядом, легонько пошевелил одной рукой мои волосы, потом пригладил их и провел тыльной стороной руки по моему лицу от скулы по щеке к подбородку – ну, короче, я поплыл, мне было хорошо.
- Куда вы собираетесь идти? – спросил я с нотой скепсиса.
- В эту новую церковь, – сказал Илья. – Влада уже обо всем договорилась. Помнишь того капеллана с презентации в техникуме? Он познакомил ее с местным батюшкой, ну, украинским, ну, который настоятель там.
- И как он смотрит на тот факт, что мы живем и спим втроем?
- Никак, он об этом не знает, – опять пожал красивыми плечами Илья.
Влада просто смотрела на меня, улыбаясь одними глазами – короче, они уже все обсудили вдвоем.
- Я помню, что там надо исповедоваться перед причастием. Я в детстве, помню, – поп спрашивал, не издеваюсь ли я над кошками и собачками. А если спросит, с кем ты спишь, а я скажу: с вот этим братом и сестрою… хотя брата они, может быть, поймут.
Влада принялась колотить меня своими прекрасными ручонками, я засмеялся, повернувшись набок.
- Это сексуализированное насилие, хорош… Эй, только не щекотка, хвааатит! Ну, зачем ты ей хоть про щекотку рассказал, аяй!
Илья, вместо того чтоб посочувствовать хотя бы, принялся тоже меня щекотать, они залезли прям под свитер, суки, ненавижу, когда они это делают, и да – в глубине души я это обожаю. Я тогда чуть не свалился с дивана, пытаясь выскользнуть из ихних вероломных рук, они меня удержали и оставили, я забрался с ногами на диван, обиженно простонав «нууу», и Влада протянула мне деда мороза – я откусил кусок, и она откусила за мной, мы его вдвоем приговорили.
- Короче, он не будет спрашивать, – сказала Влада, пережевывая.
«Шпрашивать…»
- Шпрашивать, – повторил я задумчиво.
Она вновь протянула половину деда, я откусил, затем откусила она. Я вот за это ее «шпрашивать» отдал бы все на свете, не задумываясь.
- Ладно, я пойду, – сказал я.
***
Помню, что я лег вместе с Ильей – Влада допоздна готовилась к завтрашнему выступлению по скайпу. Помню, что проснулся поздно и один, был сонный и какой-то разбитый, потянулся за трубой и написал Владе
- Ты где?
- На кухне) Кофе будешь?
- Да, я сейчас встану, сенкс.
- Лежи, я принесу)
- Илья уже ушел?
- Ты на часы смотрел?))
- А, да… туплю)
- (сердечко)
- Ты спала хоть?
- Да. В комнате с балконом.
- Почему?
- Боялась разбудить вас)
- Ох и дура.
- Я сейчас.
- (большой палец)
Только я отослал этот большой палец, она вошла с дымящейся «Владиславой Надменной». Я почему-то очень люблю ее утренней, такой, знаете, растрепанной, непричесанной, без макияжа (она вообще макияж не особо жалует, но я думаю, вы поняли, о чем я) и немного сонной.
- Кофе в постель для любимого, – проворковала она. – Вот.
Мы чмокнулись в губы.
- Ты сонный, – сказала она и еще быстро поцеловала в лоб.
Она села рядом, я оперся на локоть и отхлебнул кофе.
- Люблю тебя утреннюю, – сказал я, слегка зевнув.
- Какую? – усмехнулась она.
- Ну… неухоженную, – ляпнул я первое, что пришло, ну, спросонья.
- Я неухоженная? – наигранно возмутилась она.
А я смотрел на нее молча, потому что, как часто бывает, меня уже клинило. Блин, не знаю, ну, почему я с ней так резко становлюсь таким самцом? Еще секунду назад я так элегически любовался ее восхитительными нерасчесанными волосами и сонливостью, ее неаккуратно заправленной в спортивные штаны ночнушкой и расстегнутой кенгурушкой поверх, в этом было столько поэзии, сколько и с Ильей, практически, а сейчас уже все – внизу живота и в бедрах течет, наливаясь, возбуждение, и поверх ее абсолютно родного прекрасного лика мигает огромное ТРАХ*ТЬ!
Я повернулся набок, как бы отставляя кружку, но высвободившийся от этого движения член только сильнее меня возбудил. Я все же попытался не поддаться, потянув одеяло выше плеч, закутался в него, как в ознобе.
- Нет, ты реально выспалась? – спросил.
- Вполне. Я полчаса назад проснулась. Ну, посунься.
Блин, она стопудово знала, что со мной происходит! Но все же я, изображая крайнюю сонливость, очень целомудренно подвинулся и, укрывая ее одеялом, не раскрыл себя.
- Что такое? – спросил еще недовольно и растерянно, но глас мой дрогнул, что уж тут.
- То, что я ночью прочитала твой перевод и хочу секса, – невозмутимо сказала она.
Ну почему она такая невозможно всемогущая?.. Пиздец.
- Богдан, я уже тебе говорила, но все пытаюсь подобрать слова – ты потрясающий. Я полностью покорена тобой. Я влюблена в тебя и полностью принадлежу тебе.
Я взял ее руку в свою и поцеловал ее ладонь.
- Владочка, если бы ты только знала, как больно то, что ты сейчас сказала, как же это адски больно, блин, – я покривился.
- Ну почему больно? – она легонько стукнула меня в плечо другой рукой. – Почемуу?
- Ну, потому что, я не знаю, потому что… больно. Потому что настолько приятно, что больно.
Она молча смотрела на меня некоторое время, потом начала гладить меня по щеке и скуле, так и глядя в глаза. Изотропная вселенная сплошным светло-серым потоком неслась на меня, конденсируясь в кварки, протоны, нейроны, рождая все сущее из ничего.
- Забавно, что Илья так и предупреждал, – улыбнулась она. – Ну, вы же дольше друг с другом знакомы.
- Вы опять обсуждали меня, – я улыбнулся тоже, меня немного попустило от этого.
- Он сказал, что от него ты отбиваешься сарказмом.
Я чуть не засмеялся – вот как он умеет так точно формулировать? Это, по ходу, врожденное.
- От чего, от его комплиментов? – саркастично улыбался я. Хотя, наверное, при парализованной половине лица только так и возможно улыбаться.
- От того, что ты классный, что ты потрясающий. Ты как будто постоянно пытаешься это обесценить.
- Ты причиняешь мне боль.
- А я буду причинять! Мы об этом и говорили, что от меня тебе будет сложнее отбиться.
- Это правда.
- Я, правда, не знаю почему… Но не важно. Ты любишь меня?
- Больше всего на свете. Тебя и Илью, ну, ты знаешь, вы самое лучшее, что со мной было.
- Так научись, блин, принимать нашу любовь.
- Ну, Влада, блин… А если я скажу, что вот есть вы и смерть-смерть-смерть, и больше ничего? И я должен постоянно стоять к этой смерти лицом, чтобы она ничего вам не сделала.
- Ты же вчера сказал, что жизнь и смерть не пересекаются?
- Потому что они параллельны друг другу. Но я потому и стою к ней лицом, чтобы она не пересеклась с вами. Я как бы не могу поворачиваться к вам полностью, потому что она следит за моим взглядом и именно как в зеркале повторяет его, понимаешь? Господи, любимая, иногда мне кажется, что вы столь же огромны, как и эта тотальная смерть. И тогда мне бывает так радостно, как никогда, и мне даже кажется, что я ее победил, потому что вы ей неподвластны. Но я боюсь повернуться к вам и посмотреть на вас, потому что – а если и она повернется?
Возможно, вы удивитесь такому нашему странному разговору, но он странный на первый взгляд и для постороннего. Мы с Владой понимаем друг друга с полуслова и сотни раз обсуждали подобное, и она практически всегда в точности знает, что я имею в виду, вот так.
Тогда она сказала:
- Эта смерть – твой Собеседник?
- Может быть. Точно знаю – она ему нравится.
Я смотрел на нее, задумавшись, чувствуя ее прикосновение к щеке.
- Знаешь, иногда он мне говорит, что эта смерть – ты.
- Что-о?
- Да, я не говорил тебе, что ты ему нравишься?
- А Илья?
- Вот Илью он почему-то побаивается. Это странно, но правда.
Не думайте, что я шизик только – я имел в виду, ну, типа, свою субличность, часть меня. Ну, это сложно объяснить так сразу.
- А меня – нет?
- Тебя побаиваюсь я – и ему это нравится.
- Опять ты за свое. И вот зачем ты превратил мое признание в любви в какой-то мутный философский диспут? И меня называешь душнилой еще.
- Я люблю тебя.
- Я тебя тоже.
- Влад, скажи, что ты ощущаешь, когда я или Илья возбуждаемся от тебя?
Она очень сладко улыбнулась – меня прям проняло. И закатила глаза, задумавшись, – у нее это очень характерно всегда получается, я даже не удержался, говорю:
- А знаешь, почему ты так закатываешь глаза? Это биологический процесс, ты как бы пытаешься рефлекторно посмотреть на ту зону мозга, к которой в процессе думанья резко приливает кровь…
Она ДОТРОНУЛАСЬ к нему под одеялом – я резко придвинулся спиной к краю постели.
- Не надо.
Она улыбалась – у нее бывает такая улыбка, как у ведьмы.
- Он принадлежит мне, ты забыл? Как и весь ты.
- Да, но… Не надо пока, ладно?
- Я ощущаю восторг. Немного ощущаю стыд за то, какая я тупая примитивная самка, и эта чуточка стыда только подчеркивает, какая я тупая, примитивная и похотливая. А еще мне кажется, что это самое восхитительное из всего, что я видела. А еще я предвкушаю, что меня сейчас возьмут.
Она постепенно стягивала одеяло, но я уже не мог сопротивляться. Я чувствовал себя немного беззащитным от того, что нагой, а она одетая, немного, но все же чувствовал.
- А вот я никогда не думал раньше, что меня так может возбудить возбуждение парня, – проговорил я, стараясь смотреть в потолок. – Но с Ильей я поразился тому, какой он классный возбужденный, а понимание того, что он возбужден от меня, доводит меня до безумия. И знаешь, мне нравится, как они соприкасаются, особенно невзначай во время ласк, а еще мне нравиться сперма. Знаешь, мне иногда кажется, что, наслаждаясь его мужественностью, я в то же время наслаждаюсь своей, и это умножается, как в зеркале, как зеркало одно в одном, мне нравится сам выброс спермы, ты знаешь, возможно, все дело в тебе…
- Во мне?
- Ну, в том, что сам выброс спермы как бы подразумевает тебя, понимаешь? Это как когда мне нравится повторять за тобой, лаская Илью, или когда ты за мной повторяешь, не знаю, возможно, дело в самом символе оплодотворения, не чего-то даже, а вообще как символа, самоценности такого оплодотворения, но с Ильей я ощутил как это классно – быть мужчиной, быть с мужчиной, быть самим этим оплодотворением в любом контексте, выражать себя через него, ты понимаешь? А когда приходишь ты, то я люблю в тебе черты Ильи, и твои черты в нем, и вашу красоту…
Я кончил, когда она заглотила его до конца и, казалось, пыталась еще. Я коротко и хрипло вскрикнул, на мгновение провалившись в черноту, и в этой черноте представил, что оплодотворяю изотропную серость вселенной, наделяя ее некой бессмертной душой.
X
И вот она – квантовая запутанность, или как там ее. Я описал это так и подумал, что это хорошо, но тут же я подумал, что это неправильно, потому что ведь она не вселенная, возможно, это я вселенная – вот я же лежу перед ней беззащитный, нагой, а что она делает? Она приводит меня в движение, она оживляет меня и возбуждает, а что такое это возбуждение, если не одухотворение направленной волей ее? Да, ведь могу абсолютно подтвердить хотя бы то, что она Вдохновитель. Она, безусловно, вдохновитель, и, может быть, мы с Ильей представляли собой некую еще неоживленную материю, некие рибозимы первобытного океана, еще не способные к автокатализу, а всемогущий образ Влады привел нас в движение, как сейчас с легкостью приводит в движение наши половые клетки – почему нет? Но в этом и проблема Влады, что мои чувства к ней чрезвычайно сложно, может, даже невозможно описать. И если мои чувства к Илье – они как бы самодостаточны и в целом вовсе не нуждаются в описании… Ну, то есть, конечно, нуждаются, но где-то у того же гребаного Головина я когда-то вычитал, что вот поэзия – это не обязательно стихи, а могут просто два человека сидеть и многозначительно молчать, и это будет поэзия, так вот, вся наша с Ильей любовь друг к другу может быть выражена в этом великом молчании, понимаете? А может, даже лучше сказать так: я же объяснял, что акт нашей с Ильей страсти – это законченный акт, что ли, это завершенное произведение, потому что это порыв, и вне порыва мы любим друг друга, и все прекрасно, да, и порыв это только оттеняет, а Влада – это состояние, понимаете, именно поэтому я многословен, потому что типа постоянно признаюсь ей в любви и постоянно корректирую это признание, потому что это состояние, а не процесс, это постоянно незавершенная херня, но я в то же время поражаюсь, как оно в сути одно и то же, при разнице внешних выражений. Но в целом говоря, короче, – она самая красивая. А что под этим лучше понимать – решайте сами.
Но в тот раз она меня классно трахнула, что я могу сказать. Я знаю, что она хотела повторить то, что я делал с Ильей, когда он приехал, только по-своему, как ей хотелось, она с той переписки этого хотела. На самом деле мне очень понравилось. А когда я, невыразимо счастливый, вынырнул из той мгновенной тьмы, то с, казалось, еще с большим наслаждением увидел, как она сомкнула влажные губы и сглотнула. А потом смотрела на меня сверху вниз, медленно и с наслаждением облизывая губы. Я приподнялся с жаждой поцелуя, я хотел разделить с ней этот выплеск себя, но она глумливо провела пальцем по губам и лизнула его.
- Все мое, – засмеялась.
И спрыгнула на пол.
Я ненавидел ее и от этого обожал, как никогда.
Я полностью сдался, я был растоптан, сражен.
- Пожалуйста, вернись, – простонал я. – Я сделаю, что ты захочешь, только вернись.
Послышался шум воды в ванной. Мне правда захотелось плакать. Я лежал и думал об этой двойственности – почему она так жестока и всесильна, и в то же время так любима и прекрасна. Возможно, я действительно готов был заплакать, когда ее прекрасное умытое личико появилось надо мной перевернутое и поцеловало меня в губы.
- А почему тогда не позволила? – плаксиво протянул я.
- Просто, – невинно улыбнулась она.
- Тебе нравится надо мной издеваться?
Она юркнула под одеяло, так же одетая, и прижалась ко мне. Мне перехотелось плакать.
- А тебе нравится, когда я издеваюсь?
- Да, – кивнул я. – Так же как тебе нравится, когда я грубый?
- Да.
Она водила рукой по моей спине, от плеча к бедрам, и это было чудесно.
- Тогда знай, что я сегодня буду грубый.
- Да.
- Потому, что я ненавижу тебя.
- Не ненавидь.
Она прижималась ко мне.
- Как скажешь, любимая.
***
Когда она ушла разогреть завтрак, я встал и пошел в душ, так и закутавшись в одеяло – после ее такого вероломного вторжения в меня мне хотелось быть застенчивым и ранимым и не хотелось, чтобы она сейчас видела меня нагим и беззащитным. И еще забавно, что, вскользь думая об этом, я поразился тому, насколько мне действительно приятно ощущать себя ее жертвой, что мне в действительности хочется ощущать ее насилие надо мной, но не банальное, не садистическое, а вот какое-то ее любящее превосходство надо мной, и, вновь вспомнив об этой неожиданной евхаристии, я подумал, что это тоже насилие, которого я жажду. Вот как сейчас – сопротивляться, отстаивать свою самодостаточность и самоценность, чтобы потом наконец сдаться и признать, что я нуждаюсь в ней буквально каждой своей клеточкой, что я порыв, направленный в нее, что я родился, чтобы ей принадлежать. В этом суть вселенского падения, о котором я говорю, и, кажется, что-то подобное есть в Ваджраяне, где ты достигаешь просветления через некоторое пограничное состояние смерти. Ну, смотрите – я как бы сдаюсь и умираю, потеряв свою субъектность, и вдруг я заново рождаюсь, понимая, что она совсем не хочет моей гибели, не жаждет упиваться моей болью, что она мне предназначена, как я был предназначен ей, и вот – что она тоже поет мне любовную песнь, но я слишком долго вслушивался в свою, доводя ее мотив до совершенства, и звуки ее песни, что так мучительно влекли меня, я стал со временем воспринимать как некую опасность и угрозу, потому что они отвлекали меня от собственного сочинительства, в которое я погрузился с головой, уже забыв об его главной цели. Наверное, что-то в этом есть – возможно, я сумел полюбить Илью сначала именно потому, что я не испугался его восхитительной песни, так как она была похожа на мою? И я в этом случае еще мог понять, что это песнь и что она любовная. А сладкое пение Влады я воспринимал как угрозу, как что-то, несущее боль и мучение, потому что оно отвлекало меня от дела, которое было для меня главным, но цель которого я вовсе позабыл. Возможно, влюбляясь в него до беспамятства, я смутно узнавал в нем Владу, или, может быть, себя, и это столь сильно меня поражало, а потом, когда я пел с ним вместе, пел ему, а после этого, как бы услышав нашу песнь, она пришла сама и вероломно нас в себя влюбила, и это было так невыразимо страшно, лишь теперь я понимаю, почему. Да потому, что естество мое высвобождалось от самим же мною созданных оков. Но она методично крушила оковы. Именно для этого она употребила власть, о господи, мне кажется, что именно тогда, моясь в душе, я впервые понял, что ведь она Влада, знаете, что такое Влада – это на украинском ВЛАСТЬ. Я был поражен этим открытием, забавно, что оно случилось со мной в душе под потоками воды, как и тогда, когда я понял, что люблю Илью. И вот так она и поступала – я думал, что она пришла, чтобы убить меня, а оказалось – чтобы воскресить, чтобы, погибнув как бы, я наконец-то осознал, что она меня любит, что я могу так же узнать в ней себя, как узнавал в Илье, и узнать в ней Илью, как смутно узнавал в Илье ее, и что, возможно, они оба узнают во мне друг друга. И, поняв это, я душой постиг, мне казалось, нечто самое важное, но это сложно описать – я, скажем, понял нашу непрерывность и в трех обличиях, если хотите; где-то в статье о Ваджраяне я читал, что тантра – она как бы тройственна, и в этой тройственности она при этом непрерывна, состоя в основе из первоначальной мотивации, пути ее реализации и результата. И, образно описывая, я вдруг понял, что, возможно, это допустимо описать так, что Влада – это мотивация, Илья – это путь, а результат – я, обретший себя через них. Это прикольно, но на самом деле недостаточно, потому что я же говорю – мы непрерывны, это значит, между нами нет границ и мы перетекаем и, перетекая, мы становимся друг другом, и в другом разрезе будет, например, – я – мотивация для Влады соблазнить меня же полчаса назад, Влада – это путь, по которому я двигаюсь, лежа беззащитный и ранимый перед ней, а двигаюсь я к результату, то есть Илье, потому что, вожделея Владу, я вспоминаю о том, что меня привлекает в Илье, и в какой-то момент различаю его в ней, поражаясь этому внезапному прозрению. А в другом смысле юный Илья, читающий Владину книжку в пункте для беженцев в Харькове, – это мотивация, я, помогающий ему преодолеть робость и переписывающийся от его имени с Владой, – это путь, а Влада – результат для нас обоих. Не знаю, насколько это понятно, но я был настолько благодарен ей тогда за эту сверкнувшую передо мной истину, что пока одевался в спальне, постепенно наполнялся счастьем, видя разбросанные по комнате Владины вещи, чувствуя ее запах и предвкушая общий с ней завтрак. Я решил, что буду тих и кроток и всего себя посвящу созерцанию Владиной привлекательности.
Мы разогрели по большой рыбной котлете, запарили овсянку и, как оказалось, Влада еще намутила салатик. Мы действительно завтракали практически молча, лишь Влада иногда бросала на меня улыбчивый взгляд. Но я уже преисполнился принятия и воспринимал эту объективацию с ее стороны как должное. Когда мы курили на балконе, я, стоя за ее спиной, обнимал ее за плечи, защищая от февральской сырости, абсолютно безмолвно и тихо, мне нравилось осознавать себя некой принадлежащей ей функцией, возможно, я и существую для того лишь, чтобы защищать ее от сырости и холода – и я от этого в восторге.
С Берлином она соединилась около часа пополудни, сидя за макбуком в комнате с балконом, я тактично плотно прикрыл дверь и поначалу ушел на кухню, потом в спальню, но на самом деле я, короче, постоянно выходил на цыпочках в коридор и жадно прислушивался. Я вдруг понял, что впервые полноценно слышу ее немецкую речь – раньше, так как мы с Ильей не владели, она разве что что-то цитировала, или читала стихи на немецком, или пела песенки (были почему-то очень милые детские песенки, которые нам нравились, и Влада их частенько напевала – например, про разноцветную одежду или приключение утенка, помню).
Ну, так вот, короче, я зачарованно слушал в коридоре, как она говорит, а потом не выдержал и написал Илье.
- Блин, Илья, я больше не могу! Она произносит эти ихь, михь, дихь, и меня выносит! Я должен сейчас быть у нее под столом между ног, а не здесь!!
- Богдан, я на работе – перестань.
- Ну и дурак!
Подумаешь. Как будто раньше я не слал ему на работу фотки своего эрегированного члена с подписями типа «думаю о тебе».
***
Короче, наверное, и так понятно, что я не слишком долго сохранял умиротворенность, и когда она проговорила эти все данке, ауфвидерзейн и хлопнула крышкой ноутбука, я потерял остатки рассудка и человеческого облика. Это было довольно сильно в тумане, но помню, что быстро. Ворвавшись в комнату с балконом, я повалил ее на диван и, прижав голову к подушкам, дернул за резинку штанов, после чего от вида этих округлых голых бедер совсем очумел, и вошел в нее, и двигался ожесточенно и с каким-то совершенно диким упоением, как бы мстя ей за то, что она погубила меня. И сам в каком-то шоке от того, во что она меня превратила, я двигался все быстрее и грубее, не слыша, как она постанывает подо мной, а в какой-то момент, схватив ее за прекрасные волосы и одним движением намотав их себе на кулак, я весь внутренне обратился в одну пылающую безумием мысль: «Это ты виновата во всем, ты сама виновата во всем, ненавижу тебя, ненавижу тебя, ненавижу», – в этот момент я услышал этот уже знакомый мне высокий вскрик, есть такое украинское слово «зойк» – это было бы даже точнее, в общем, этот вскрик и дрожание плеч, и изгиб спины в продольной судороге, обожаю, когда она первая, видя все это, я тут же повалился на нее, пульсируя всем телом, и так и пульсировал в ней, обнимая ее и уткнувшись лицом в ее волосы, я так хотел раствориться в ней весь, на какой-то, не знаю, минуте, а может быть, геологической эпохе я простонал в унисон с ней, и этим стоном как бы наконец-то растворился в ней и больше не существовал. Я повалился набок на диван сначала лицом к ней, потом перевернулся навзничь, я просто упал, меня ведь не было, я больше не существовал. Я хотел еще всего лишь разлететься эхом напоследок, и чтобы это эхо тихо угасало, говоря:
- Прости.
- Ты самый лучший, – ответила мне изотропная вселенная.
И этим мгновенно меня воскресила.
***
Когда мы мылись в душе, я пару раз поцеловал ее плечи, стоя за ее спиной, просто захотелось, больше ничего. Потом мы пили кофе и говорили о мероприятии – Влада рассказала, что темой ее выступления была культурная самоидентификация, «то, о чем мы говорили» – сказала она, и, в частности, она сказала, что попыталась объяснить той пусть и немногочисленной немецкой аудитории, что русский взгляд на украинскую историю очень далек от реальности, несмотря на то, что на него часто и ориентируются там, на западе. Так же она там впервые анонсировала мой перевод «Лета» на украинский. Как часто бывает после мероприятий, она была немного не уверена, все ли у нее получилось так, как надо, но я уверен, что получилось даже лучше, потому что она у меня гениальная – я так ей и сказал.
- У нас с Ильей… – добавил. – Кстати, об Илье – не хочешь пройтись в город его встретить?
- Обязательно.
Вообще мы часто так ходили с ней, и она сама была инициатором этих прогулок, потому что вообще-то мне положено ходить – спокойно, не спеша, но, вообще говоря, когда я не ленюсь, а хожу, то нога себя чувствует гораздо лучше, и я даже могу подолгу обходиться без трости, даже вне дома, например.
Но в тот день было еще одно – мне пришла СМСка с «Новой почты», и я решил совместить приятное с полезным. Но Влада, как оказалось, тоже имела дела в городе, и, короче, выпив кофе, мы пошли, было еще светло, часов около трех дня, наверное, помню, что на проспекте Мира нас немного присыпало мокрым снежком. Как оказалось, Влада хотела зайти на рынок и выбрать там себе платок – она об этих платках прочитала в местной группе. Она сказала, что вообще обычно надевает в церковь простую темную косынку, но, объяснила она, сейчас ей хочется какой-то аутентичности, что ли.
- Это вы виноваты! – заявила она мне.
И мы действительно вместе придирчиво выбирали ей платок, мне это понравилось, не скрою – вот выбирать, какой ей больше идет, и т. д., тем более сейчас я был вяловато насыщен – она была моей любимой девочкой, которую я полтора часа назад ебал на диване, намотав ее волосы на кулак, и теперь я источал лишь нежность и заботу. Я где-то читал какие-то довольно, впрочем, мутные исследования, что кажется, окситоцин в женском организме влияет, например, на молочные железы при грудном вскармливании, а в мужском – в частности, на сильное желание заботиться о партнерше после секса. Так вот если это верно – я ОБОЖАЮ окситоцин. И Владу.
***
Мы выбрали черный шерстяной платок с узором из цветов и жар-птиц, я сказал Владе, что черный ей идет, потому что она ведьма. Она укуталась в этот платок, и я хотел ее поцеловать прямо там, на рынке, но не сделал этого. Потому что я хотел мучиться, НЕ целуя ее, не обнимая ее, не прикасаясь к ней, как будто она мне чужая. До встречи с ней я много размышлял о природе вот этой куртуазной любви и о феномене прекрасной дамы. Если углубиться в эту срань (я имею в виду мои соображения по этому поводу), то в ней в целом было три переплетающихся мотива. Первым был очевидный – собственно вот это рыцарское служение некоторому идеализированному образу, перетекшее в эпоху Возрождения в таких реальных примерах, как у того же Данте к Беатриче. Но это было на поверхности. Глубже же были мои туманные юнгианские размышления об Аниме, но все же, проще говоря, если представить, что эта дама на самом деле, по сути, ты сам, твоя некая женская часть. Мне это казалось логичным, но, кроме этого, меня когда-то в глубокой юности, почти что подростком очень впечатлило сочинение того же гребаного мистика Головина под названием «Опус в черном». Я уже не подробно помню его содержание, но, кажется, там речь шла о том, что важнейшая процедура, которую должен осуществить над собой алхимик, дабы достичь высших знаний, – это соединиться с некой женщиной в себе (для женщин-алхимиков там предусматривался мужчина), причем там было прикольно в том смысле, что она как бы должна ему присниться и стать реальностью. Эта женщина в себе – самая важная любовь и страсть алхимика, и мне нравился этот образ. Мне казалось, что, по сути, так и есть, и более того – в этом есть что-то от освобождения, там так и говорилось, что мужчина таким образом как бы движется сам в себя, и его движение через это наконец-то обретает смысл. Я долго жил с такими убеждениями, я даже объяснял себе, что все мои несчастливые любови и вообще все женщины, которые мне нравились, включительно с той стоящей на перроне в Киеве, – на самом деле только эхо главной женщины внутри меня. Познав эту истину (неиронично я считал ее одной из главных истин, которые я познавал в жизни), я на какое-то время, казалось, даже обрел примирение с собой, и тут встретил Илью. Я уже говорил, что через него я как бы познал себя в том числе, но также мне казалось, что этот прекрасный образ внутри меня не увял от влюбленности в парня, а наоборот, расцвел. Это довольно сложно объяснить – я любил Илью как парня, я с ним ощущал себя парнем даже в большей степени, чем когда-либо, но вместе с тем моему внутреннему прекрасному образу нравилось все это, понимаете? Это было как бы второе и даже более важное открытие себя, я наконец-то чувствовал себя самодостаточным и самоценным, понимаете? Наверное, нет, но не важно. Важно другое – этот сладкий кошмар. Да, я это так называю, но у меня нет другого названия для того, что случилось потом, потому что потом как бы из сна моего самого любимого юноши ко мне пришел мой лев, пожирающий солнце. Вот этот образ, который я лелеял, вдруг оказался не некоей моей проекцией самого себя, а реальным человеком, и даже более реальным, чем я мог себе представить. Вообразите этот ужас! Вот я, наконец-то обретший себя и любовь, вдруг вижу это невообразимое, прекрасное чудовище. О Господи – она прекрасна! Она лучше, чем я мог себе вообразить в миллион, в секстиллион, в дециллион раз. Но, кроме этого, она гений. О Господи, ведь я всегда считал, что мой ум – одна из не таких уж многочисленных сильных сторон моих, но вот она передо мной, и ее ум просто непередаваем. Знаете, мне казалось, что я всегда, даже в самых безвыходных ситуациях, все же могу отмахнуться даже от самых сильных чувств просто во имя самосохранения, во всяком случае, после того прыжка, но почему же я влюбился во Владу – да потому, что ничего не мог поделать! Потому, что я готов был погибнуть под тем поездом на киевском вокзале, но перед этим отпустить все и сказать – да, я влюблен в нее без памяти. Пускай бы это и была финальная истина моей жизни, финальный итог моей жизни, трагический и черный, как сентенция по типу «эта жизнь бесмысленна», да, это так, она бессмысленна, и я влюблен вот в эту девушку, влюблен. И в этот миг она сказала мне, что тоже влюблена в меня. Это откровение было насколько оглушительным, что полностью перевернуло весь мой мир. И всякое взаимодействие с Владой после этого иногда казалось мне в сути своей какими-то постоянными попытками еще и еще с разных сторон распробовать на вкус ту оглушительную истину, что я постиг тогда в осеннем Киеве. Вот и сейчас я любовался ею в этом платке. Мне как бы хотелось распробовать все и понять – ну, не сплю ли я? Вот моя прекрасная дама, Анима и лев, пожирающий солнце (вы будете смеяться, но она по гороскопу Лев). Я ведь могу сочинять стихи и совершать что-то великое во имя ее? Безусловно. И при этом что, я вот сейчас могу ее поцеловать? Могу. О господи, но я НЕ БУДУ! Да, не буду, я буду идти рядом и молча любоваться.
- Почему ты молчишь? – спросила Влада, улыбаясь.
- Прости меня, солнышко, – выдохнул я.
- За чтооо?
- Ну, за ЭТО.
- Блин, Богдан, ты был таким потрясным.
Она вздохнула так достоверно и ТАК закатила глаза, что я совершенно поплыл, а она, безусловно, специально стыдливо закуталась в этот платок так, что остались видны одни ее бесподобные большие серые глаза.
- Я не должен был после твоего выступления…
- Я ХОТЕЛА именно после моего выступления, блин, ну, Богдан, мне было так хорошо, я тебя так люблю.
У Кавабаты в снежной стране в самом финале Млечный Путь с грохотом падал на героя. Так вот, это хуйня – когда она сказала то, что написано выше, меня, экспоненциально расширяясь, поглотила изотропная вселенная. И я не знаю как, но я сказал вселенной:
- Можно, я обниму тебя?
- Когда ты перестанешь спрашивать, дурак? – ответила вселенная. – Сейчас же обними.
Ее температура около десяти в двадцать третьей степени кельвинов. Ее плотность около десяти в девяносто третьей степени грамма на кубический сантиметр. В ее едином веществе содержится все будущее многообразие эйнштейновской, и боровской, и всех возможных физик, она уже родила гравитацию, которая прижала меня к ней и не отпустит. И в этом сером изотропном веществе – прообраз создаваемых ею звезд.
- О чем ты думаешь? – спросила вселенная, которую я нежно обнимал.
Мы не спеша шли вдоль проезжей части и месили мокрый снег.
- Эта зима похожа на твои глаза, – сказал вдруг я.
Как часто с ней бывает – неожиданно для самого себя.
- Мои глаза такие же тошнотные? – засмеялась она.
- Нет, они изотропные.
- Эй, куда ты?
- На почту, идем.
- А зачем?
К счастью, большой очереди не было, и я быстро получил свой сверток. Какая-то телка почему-то обожгла меня сердитым взглядом, когда мы с Владой, обнимаясь, стояли в очереди.
- Короче, – сказал я Владе, распаковывая прямо там, в отделении. – Оно должно было быть по-другому совсем – мы пока не решили, когда тебе преподнести, и все такое, я вообще-то хотел посмотреть, не надули ли нас, но вроде не надули, вот, это тебе.
Я отдал ей зелененькую видавшую виды книжицу.
- Мне показалось романтичным, что лучший украинский писатель современности будет владеть сборником украинского самиздата из 1970-х. Он издан за рубежом, и, предвосхищая возможные твои вопросы, – я нашел его на букинистическом сайте за сущие копейки. Вообще, мы хотели так тебя поздравить с заграничным изданием, но раз ты уже здесь…
Она взглянула на меня блестящими от влаги изотропными глазами.
- Нет, не надо, не смотри на меня так, я ненавижу этот взгляд… Ну, то есть… нет, смотри, смотри, смотри!
- Богданчик…
- Я так обожаю тебя, ты такая… Ты даже не знаешь, какая ты, господи…
Ну да – я расклеился. А что вы хотели, если этот взгляд благодарности за подарок, черт, не думал, что скажу такое, но нет в мире ничего прекрасней, чем дарить что-то любимой женщине! Я обожаю этот гребаный окситоцин, обожаю быть мужчиной, обожаю Владу и дарить ей вещи, а теперь вы можете назвать меня оленем, каблуком, куколдом, как угодно (слушайте – а я могу быть куколдом, если влюблен в любовника своей любимой?). Короче говоря – мы шли к Илье под ручки, и пока мы шли, пошел снег с моросью. Она сказала:
- Но я ведь не пишу на украинском.
- Теперь пишешь.
- Но это ведь ты пишешь.
- Я ничего не пишу, я принадлежащая тебе функция. Примерно как мой член, окей?
- Почему ты всегда пошлишь при возвышенных темах?
- Потому что тебя это веселит.
Она прижалась ко мне, и я ей был за это благодарен.
- А может быть, это я хочу быть твоей функцией. Да блин, слушай, я не думала, что кому-то это скажу, но я хочу раствориться в тебе. Да, коханый, я этого не боюсь.
Этот захолустный город в мокром сочащемся влагой снегу и коричневой мороси, эти блики витрин, эти толпы и грохот трамвая – я все это помню так отчетливо потому, что я умер тогда, я не смог пережить этих слов «я хочу раштворитьшя в тебе» и погиб от вселенского выброса счастья и страха. И все, что было дальше – лишь посмертие.
Она сжимала мою руку. Я спросил:
- А как точно звучит эта короткая молитва?
- Что? Какая? – она улыбнулась немного растерянно.
Такая потрясающая в этом разукрашенном платке.
- Ну, которую ты читаешь постоянно перед важным, об Исусе.
- А, Иисусова молитва? Господи Исусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешную. Или грешного. А почему ты спрашиваешь?
- Можно с тобой вместе?
- Что?
- Ну, прочитать, блин, заебала, можно с тобой вместе помолиться? Быстро, прямо здесь.
Она внимательно посмотрела на меня, потом еще силнее обняла мой локоть. Я высвободил руку и взял ее пальцы в замок. Она проговорила:
- Господи Исусе Христе, сыне божий…
И я повторил:
- Господи Исусе Христе, сыне божий – помилуй нас грешных.
Вероятно, это было начало. Я не знаю, что со мной делалось, но это было какое-то соединение с ней. Как в сексе, но на каком-то ином уровне, как будто… Сложно объяснить, но я как будто декларировал вот этой фразой все, что мы с ней делали вдвоем, как будто это были попытки соединить в одно нашу грешную плоть, и мы, как могли, ее соединили, а теперь мы просто стояли вдвоем, держась за руки, перед этим огромным безразличным миром, и говорили – мы одно. Мне почему-то мерещился этот ведьмовский костер в глуши осени, ночь и галактики в кронах зловещего леса, и вот за мгновенье до этого было безумие – мы танцевали голые и ненасытно спаривались среди десятков или сотен таких же, как мы, но было в этом безумии нечто трудноуловимое, а именно – мы с Владой танцевали вдвоем и спаривались только вдвоем, нас целовали и лизали, нас толкали и ласкали, и на нас эякулировали, но мы с Владой все время держали друг друга за руку и, предаваясь, кажется, всем формам разврата, мы тем не менее были сконцентрированы друг на друге, и в какой-то момент эта концентрация достигла тех пределов, что мы уже не видели творящегося вокруг ада – а только друг друга. И в этом видении друг друга мы как бы узнали, познали наконец друг друга – в этом заключалось какое-то высшее откровение всей этой страшной колдовской ночи, и, узрев друг друга наконец, мы как бы прокричали в эту ночь, и в этот мир, и в эти осенние звезды, и блики костра: МЫ ОДНО! И в этот миг ад исчез. Я стоял и крепко держал за руку любимую девушку и жадно вдыхал ее запах, как и раньше, но она, одетая и в старомодном, но чудесном платке с узорами, держит в другой руке самиздатовскую антологию, за ее плечом сонно тлеет предутренний Киев семидесятых, кроны деревьев шуршат опадающим листом, а перед нами остывают угли давно сгоревшего костра. И в остывающем моем сознании вспыхивает одна-единственная мысль: «Так вот что я должен был понять?». И еще на самом обрыве мне вдруг кажется, что за другую руку меня тоже кто-то держит, и это безумно приятно.
***
Этот кто-то ссорился с охранником ихнего склада, когда мы подходили. Ну, как ссорился – он его за что-то отчитывал, вообще я всегда поражаюсь, как он придумывает вот эти хлесткие околоуголовные конструкции, практически никогда дома, со мной или с Владой, но часто в каких-то вот подобных ситуациях. В тот раз я отдаленно расслышал что-то в духе:
- Не заваливай балкон…
Но это у него всегда именно что как-то красиво получалось, не вульгарно. Увидев нас, он так забавно беззащитно улыбнулся, отмахнулся от того охранника и пошел к нам. Влада тут же воспользовалась своей гендерной привилегией и сладко поцеловала его. Впрочем, я был не в накладе – обожаю на это смотреть (так куколд или нет все таки?..). Но Илья, нацеловавшись с Владой, еще по сути на излете поцелуя сделал немного неожиданный ход, а именно… короче, я ж типа стоял сбоку от них, но рядом (шел же с Владой под ручку), и вот на излете поцелуя с Владой Илья так типа… Ну, не то чтобы засунул руку мне в штаны, но типа сделал такое движение, как он вот иногда говорит «с понтом» засунуть руку мне в штаны.
- Ты че?.. – смутился я, взглянув растеряно на магазин.
Но мне, конечно же, не то чтобы было неприятно.
- Ну, мне же тоже хочется, – сказал Илья с улыбкой и многозначительно взглянул на Владу.
- Что? Ты что… ты все ему рассказывала?
- Да, – довольно кивнула она.
- А… меня отшивал, типа… ты на работе!
- Ну, Влада не так у нас часто бывает, – оправдательно развел он руками.
Мы расположили Владу по центру и взяли под ручки. Вот еще тоже грустно – если бы они вели меня под ручки, или мы с Владой Илью, привлекали бы много взглядов. Ну, хотя бы так можно.
- И что… – все-таки ворчал я. – К чему вот эта конспирация?
- Ну, я как-то рассказывал Владе, как ты на меня набрасывался.
- Ну и дурак.
- Не ворчи.
- А я буду.
- Поцелуй его.
- Отстань…
Обожгла поцелуем. Я задумался.
- Давай я поцелую Владу, а она передаст тебе. А потом обратно.
Мы сделали так пару раз, но все же было стремно. Надо было хотя бы свернуть в улочку – где не так людно вечером. Провинция-с.
***
- Вообще меня очень впечатлил рассказ Богдана о вашем сексе, – задумчиво сказала Влада, когда мы все-таки вошли в проулок. – Ну, вот об этих возбужденных друг на друга членах – это красиво так.
- Серьезно?
- Да! Блин… Да!
Она даже сжала кулачки – это было так мило.
- Я бы, наверное, хотела что-то такое испытать, не знаю даже, как сказать. Приятно думать о таком.
Она мечтательно улыбнулась, и я сказал немного неожиданно для самого себя:
- Это как мне бывает волнующе думать, что я мог бы от тебя забеременеть.
- От меня? – она удивилась.
- Ну да, почему-то об Илье я такого как будто не думал. Но почему-то о тебе мне иногда прикольно думать, что бы было, если бы ты могла меня оплодотворить, понимаешь? Чтобы я как бы мог взять твои гены.
- И… что бы?
- Ну, не знаю, мне хочется этого. Типа я от тебя забеременел, и типа, знаешь, я бы хотел пережить все это, гормональный фон, интоксикацию, неврозы – все вот это. Я даже хотел бы, чтобы меня тошнило, знаешь, чтобы меня накрывало, и типа все это из-за тебя, это ты со мной сделала, и мне сладко от того, что это ты со мною сделала, и я вынашиваю продолжение тебя, ну, блин, ну, часть тебя во мне, должно быть, это классно.
Влада задумалась, потом повернулась к Илье.
- Это как ты говорил, что когда он рассуждает об этих странноватых вещах, то кажется таким любимым.
Илью тоже потянуло в этот вечер на откровения.
- Я когда в него влюбился, то долго думал, что все-таки по ходу гей. Ну, я ничего подобного с девушками не испытывал. Типа влюблялся, но по сравнению с Богданом это... Ну, игра какая-то.
- Влада, пусть он заткнется.
- Не мешай!
- Ну, до тебя, конечно.
- Это не обязательное замечание.
- Не, ты послушай. Я о тебе ведь тоже фантазировал.
- Серьезно?
- Ну, я смотрел на видео и фотки. Забавно, что я не думал о сексе почти, вот… Ну, верь не верь, я фантазировал о том, что мы под ручку, как сейчас, ходим по этим улицам. И ты мне что-то умное такое рассказываешь.
Она его так трогательно в щеку поцеловала.
- Ну, это, короче, это было сильно.
- Наверное, лучше, чем в жизни.
- Не, в жизни совсем уж какой-то пиздец… Но я не о том. Короче, я думал, что такого не бывает, нагонял себе. А когда встретил Богдана, то испытал, блин, именно вот это, понимаешь? Я просто не думал о том, что он парень, а просто что он такой классный, и все.
- Я сейчас тебя тростью перешибу, уебок…
Она не дала мне договорить – впилась горячими губами в мои, и я обмяк.
- Молчать, – сказала напоследок.
- Благодарю, – кивнул Илья. – И я вообще о сексе с парнем даже не думал, а тут, оказывается, это такой кайф.
- Ну, блин, коханый, ну, это неправильно – ну, мы должны постоянно ее обсуждать, воспевать и смущать, чтоб ей было невыносимо…
- Кому я сказала молчать?
- Дураки, ненавижу.
- Ты зря думаешь, что я не обратила на тебя внимание в Сумах. Просто я была занята презой – оно всегда так бывает, но ты выглядел как пришелец из другого мира, этот рассказ о боевых действиях, и букет желтых роз… И, ну, ты правда красавчик, тут я с Богданом согласна. Ну, было, правда, что-то… короче, я была тогда в ударе, у меня начало что-то получаться, и я типа такая вся из себя, и тут ты меня взволновал. Я почему-то постоянно помнила наше рукопожатие там, скажу откровенно – мне это не нравилось. Боялась, что – ну, как это так, какой-то красавчик меня покорил? Потом эта история с Богданом, ну, короче, мне стало иногда казаться, что это не вполне реально, плюс те параллели с книжкой… Я держалась до того момента в машине, того разговора про «Кровавый меридиан». Вы что, думаете, что я так просто могу расплакаться при незнакомых парнях?
- Ты самое лучшее, что с нами происходило, – сказал я, и мы поцеловали ее в щеки.
- Но вообще я с ума сошла тогда ночью, – заключила она. – Ну, я еще не спала с двумя парнями так… Да, блин, ну, я сошла с ума от секса – оказалось, это то, чего я на самом деле хотела, то, что мне было нужно, что это лучшее…
- …Что может вообще быть, – закончил я.
- Да! Что так влюбиться, так познать другого… Ну, не может же все быть так просто.
- Начинается….
- Ну, ладно, я про то, что…
Я почему-то так любил ее в этот момент. Забавно, что моя любовь к ним вместе и каждому из них по отдельности иногда как бы перетекает от одного к другому, например, тогда я так любил Владу, так был ею вдохновлен, если хотите, что в коридоре еще при открытых дверях начал целовать Илью, я целовал его ВО ИМЯ НЕЕ, понимаете? В какой-то момент наших ласк я боковым зрением увидел, что она стоит и смотрит, как-то так мило сложив руки и как будто трогая костяшки своих пальцев, при этом она вся как бы замерла, стоя и трогая эти костяшки, и только губы приоткрыты, грудь вздымается. Владочка, Влада, Владюша, львенок, съедающий солнце, хочу раствориться в тебе. Илья уже смотрел на нее, как и я.
- Возьми нас вместе, – шепнул я на ухо ему.
***
Я уже говорил, что, лаская Илью вместе с Владой, в унисон с Владой, я как бы, можно так сказать, срастаюсь с Владой или, может, как-то с ней объединяюсь и люблю это чувство до одури, я растворяюсь в ней. Это что-то очень личное, глубинное, но я часто дико этого хочу и, получая, ощущаю себя цельным и законченным. Тот же принцип и когда мы с Владой вместе становимся объектами любви Ильи, мы это не так часто практикуем, но иногда, пожалуй, когда нам с Владой хочется какого-то важного для нас обоих глубинного единения – и Илья нам дарит это единение. Сегодня еще после той общей молитвы нам этого хотелось, и Илья это видел, и мы отдались ему с благодарностью.
Я люблю ощущать обжигающий жар ее голого прекрасного тела, когда Илья наслаждается ею, и люблю, когда она горячечно пытается обнять меня или поцеловать в момент, когда Илья всецело занят мной, люблю, когда Илья, как бы пытаясь разделиться на две сущности, ненасытно ласкает меня, овладевая Владой, или столь же ненасытно лапает ее, овладевая мной. Люблю это чувство само, когда мы с ней стремимся, льнем к друг другу, как будто пытаясь наконец-то раствориться друг в друге, как льнущие друг к другу сингулярности в той непроглядной тьме инфляционной вселенной. Люблю этот момент и это ощущение, что мы одно, что мы так влюблены с ней в нашего прекрасного мучителя, что он влюблен и дико хочет нас. Люблю растворяться в ней, господи, да, растворяться в этом полном наслаждения прекрасном взгляде, в этом стоне, в этих мокрых волосах, в руках ее всесильных, в ее кровотоке и поте пахучем, пьянящем, люблю лежать с ней рядом отражением ее. Я растворяюсь в ней, я наконец-то растворяюсь в ней. Мы отражение друг друга, потому что мы, обсуждая это, признались друг другу практически в унисон, что в такие моменты я представляю себя ею, а она себя мной. И это самое сладкое, что только можно себе представить, и когда мы, отлюбленные, и любимые, и смертельно уставшие, лежим рядом, то Илья часто целует нас поочередно в губы – чаще всего сначала Владу, а потом меня, и это выглядит как ритуал, как некая благодарность от него нам, и нам двоим так сладко в этот миг, и мы еще лежим вдвоем потом, обнявшись или соединив руки вместе, прижавшись друг к другу, мы глубоко дышим, мы как бы теперь одно целое на какое-то время, мы кажемся друг другу отражением друг друга, и мы наконец-то едины. Даже потом, через какое-то время, например, куря вдвоем, мы все равно таким довольным, понимающим и родным взглядом смотрим друг на друга. И почти не говорим, а только молча смотрим. Или восхищенно обсуждаем охуенность Ильи.
***
Следующий день, по общему уговору, мы должны были посвятить этой гребаной евхаристии. Ну что же, пусть, я старался как мог, единственный мой существенный прокол случился рано утром, когда Влада еще спала, а Илья собирался. Короче, я по ходу проснулся от его плеска в душе, и помню, что мне снилось что-то потрясающее – кажется, мы с Владой в этом сне купались голые в каком-то озере или реке, я помню местность очень болотистую, с какими-то унылыми туманами и яркую, как в детстве. И помню ощущения какой-то полноты бытия, сутью этой полноты было то, что мы с Владой как будто наконец-то объяснились друг с другом по поводу чего-то важного, ну, знаете, как бывает в ссоре, например, такие огорчительные недопонимания, когда все кажется порой таким неразрешимым, а потом вы объясняетесь с человеком, и оказывается, что вы оба одинаково смотрите на вещи, просто, ну, так получилось, что вы не поняли друг друга, – знаете вот это счастье, да? Так вот – это было что-то подобное, только в миллион раз сильнее – мы с Владой будто поняли что-то предельно важное друг о друге, и этим важным было, помню, какое-то РОДСТВО, вот я не знаю почему, быть может, как в плохих мелодрамах, когда оказывается, что два давно знакомых человека еще и родственники, не знаю. Но я почему-то помню, что это прозрение как-то повлияло на то, что Влада обнажилась и вошла в воду со мной, хотя вообще-то редко плавала без ничего, но сейчас она как бы хотела что-то разделить со мной, и, кажется, ей было приятно, и мы вошли в воду, держась за руки, и вода была теплой и нежной, и мы улыбались. Потом мы поплыли, и помню, что мы хохотали от прикосновений этой ласковой воды к нашим телам. И я помню, что мы что-то громко и с удовольствием обсуждали, плавая в этой живительной воде, и вот мне кажется, что мы обсуждали Илью. Я помню, что проснулся с чувством, что это мучительно сладко – вот эти шелковистые прикосновения воды, унылые и грустные туманы, плечи Влады, лик ее, прекрасный до невыносимости, ее влюбленный взгляд, направленный в меня, и наше великое какое-то экзистенциальное единение в этих уютных теплых водах, то, как эти воды любят и ласкают мое тело, блин, то, как я возбужден при виде Влады и ощущаю ее ответное возбуждение в этом влюбленном взгляде, и то, как этим водам будто нравится, что мы возбуждены, и они как бы еще подзадоривают нас и толкают к друг другу. И наше счастье, и наш смех, и то, как мы восхищенно взахлеб обсуждаем любимого парня. Я, помню, проснулся счастливым и, признаюсь, возбужденным, но огорчился от осознания, что ухожу из этого чудесного места, из этих теплых вод, как вдруг увидел перед собой лицо спящей Влады, она лежала, подпирая головой подушку, откинув руку в мою сторону и тихо сопела, и я поразился тому, что это не конец сна, а его прекрасное продолжение, потому что вот это ее сопение и спутанные волосы – это лучшее, что вообще может быть. Я смотрел на нее, ощущая исходящее от нее тепло и слушая это великое сопение, потом я абсолютно бессознательно чуть-чуть к ней приклонился и втянул ноздрями ее теплый сладкий запах. Потом откинулся на подушку с тихим и счастливым вздохом и вдруг, как это часто бывает, перешел от умиротворения к неистовству – дело в том, что я вспомнил вчерашнюю ночь и, в частности, сладкие ласки Ильи, его прикосновения и поцелуи, я же говорил, что, глядя на невыносимую красоту Влады, я могу как бы В ЕЕ ИМЯ воспылать неистовой страстью к Илье. Ну, если не понимаете, то объяснить это, опять же, сложно, но тогда я помню, что я воспылал к Илье какой-то сладкой ненавистью, это было что-то того же рода, что и ненависть к Владе за ее красоту и непреодолимые чары, которыми она меня к себе приковывает. Так вот, я ненавидел Илью за то, что он вчера так сладко мною овладел, я помню, что с восторгом ощутил к Илье примерно то же, что и к Владе, типа: «Зачем же ты влюбил меня в себя, подонок? И как ты смел так мною овладеть и почему меня заставил быть твоим, принадлежать тебе?» Короче, он с тем душем сам виноват, пускай бы меня не будил. Я отомстил ему за эту ночь по полной. Он поначалу, увидев меня, растерялся, но я помню, что сквозило из этой растерянности… Я помню этот растерянный медовый взгляд, и как он скользнул по мне, и как остановился ниже, и мне казалось, я даже услышал в шуме воды едва различимый растерянный и в то же время восхищенный вздох. Я так жадно обнял его, мокрого, и не менее жадно целовал, и с наслаждением скользнул рукой по спине и ниже, и рука моя была неумолима. Он немного отклонился и пролепетал растеряно и тихо, полушепотом:
- Богдан, ну, пост… ведь Влада же просила…
Я уже по голосу понял, как он хочет, и все и так уже решил за него, но это упоминание Влады окончательно свело меня с ума, нарисовав передо мной эти спутанные волосы, сопение и всю ее совершенно безумную красоту. И тогда я поцелуем заставил его замолчать, а в дальнейшим был грубым. Но не как с Владой в этот раз, вернее, не во всем. Илью я, казалось, жаждал поглотить, а не столько раствориться в нем, в частности, я жадно целовал его и постоянно ласкал. Но, кончая, я обнял его так же сильно.
***
- Не говори Владе, – как-то трогательно жалко попросил он уже на кухне, одетый и прихорошенный, когда я собирал ему тормозок.
Я не ответил.
- Что это? – спросил он, отхлебнув кофе без сливок.
- Постные бутерброды. С грибами, – улыбнулся я.
- А… когда ты успел приготовить?
- А что там готовить? Это консервированные шампиньоны – я на рынке вчера купил, ну, тут немного майонеза есть, пусть боженька извинит – без заправки оно совсем какое-то непрезентабельное, ну, а так зелень. По идее вкусно, щас попробую…
Я откусил только что слепленый бутер – реально показалось неплохо.
- Такое… – махнул рукой.
И, посмотрев на него, в который раз подумал, что эти подбритые виски – отличная идея.
- Ну, не говори, ладно? – жалобно улыбнулся он еще.
Я опять не ответил.
Потому что знал, что обязательно расскажу.
***
В целом же не очень подробно помню, как прошел этот «постный» день. Помню, что, когда Илья ушел, я приступил к готовке овощного супа и некоторое время мучительно размышлял, бросать ли в него бульонный кубик – решил бросить, потому что так вкус у супа стопудово будет выразительней. Помню, что, пока закидывал овощной набор, услышал плеск воды в душе – Влада проснулась и пошла мыться. Естественно, на меня нахлынуло видение, что вот я врываюсь сейчас к ней, как и к Илье… Но я остановил эту мысль. Конечно, в первую очередь от понимания того, что для Влады это важнее, чем для Ильи, но было в этом и что-то иное, о чем я вновь задумался – я задумался о том, что с Ильей это было гораздо менее выражено, а с Владой почему-то мне нравилось НЕ делать того, что мне хочется. И чем сильнее хотелось, тем волнующе мне было сдерживать себя. Вот почему мне в безумном восхищении ее красотой иногда хотелось… Нет, в первую очередь мне всегда хотелось ее трахать. Я уже говорил, что абсолютно смирился через тягу к Владе с тем, что я самец, ну да, самый заурядный и обыкновенный похотливый самец, но если раньше эта мысль меня скорее огорчала, то с ней было по-другому и, вероятно, просто из-за силы ее привлекательности. Мне просто было в кайф признаться – да, самец, да, просто хочу трахнуть. Потому что и в этом «хочу», и в самом процессе было столько наслаждения, что я готов был к полной деперсонализации, если хотите. Мне было все равно, кто я, и я хотел лишь только ЭТОГО и только лишь ЕЕ. Но был и еще один уровень этого сумасшествия, а именно – почему-то при диком животном желании трахнуть мне иногда хотелось этого нарочито НЕ делать, а, например, почитать ей стихи, отпустить комплимент, подарить букет роз или какую-то безделушку. Понимаете – в момент, когда мне хочется и (это важно) я вижу, что ей тоже хочется и что она готова, я вместо этого как бы говорю ей: «Нет, любимая, сейчас я воспою всю Вашу неземную красоту словами или действием, вложу всего себя в это воспевание, а трахать Вас не буду; Вы – великолепны и мое сердце Вам принадлежит. Па-па!» Ну почему мне иногда так это нравилось? Я сам не знаю. Как тогда, когда я нарочно с ней не разговаривал, и довел этим до слез (мне показалось это излишним, но она говорила, что как раз наоборот), и наслаждался, фантазируя, как в это время с ней развлекается Илья… Впрочем, это все-таки другое – мне нравится, когда они спят, еще и потому, что ведь я так же люблю и желаю Илью, и мне приятно, когда ему хорошо, а спать с Владой – это синоним слова «хорошо», ну, короче. Короче, у Ильи тоже этого нет – у него есть вот эта немного целомудренность, но не в прямом смысле, а что типа он с ней хочет быть джентльменом, а она его проламывает становиться дикарем, или что-то в таком духе, но все же у него нет вот этого, как у меня – демонстративно не давать ей того, чего мы оба хотим, и того, что само собой напрашивается. Но тут еще есть тонкость в том, что, возможно, ей это просто самой очень нравится, и, по сути, мне просто нравится доставлять ей удовольствие. Мы как-то обсуждали не вполне определенно эту особенность наших взаимоотношений, и она, помню, произнесла, что, дескать, суть вообще ее натуры – сублимация через то же творчество (я согласился), и ей нравится, когда объект ее страсти (это мне особенно было приятно) применяет это к ней же во взаимоотношениях, ну, короче, это тоже своего рода дергание за косички… вот никого не дергал за косички и не мог подумать, что когда-то до такой степени это распробую, хаха. Почему она делает меня настолько нормальным, что ли? Не важно, это все не важно, просто это восхитительно, ты гребаный длинноволосый сероглазый героин!..
Ну, так вот – вот этот сонный сероглазый героин себе там мылся в душе, я готовил суп, смотрел в окно. Было облачно, но вроде распогодилось, и все уже как будто выглядело по-весеннему, дышало влагой.
- Доброе утро!
Она вошла мокрая, распаренная и закутанная в халат, с распущенными влажными волосами, подошла, чтобы меня поцеловать, но я ее легонько отстранил, сказав:
- Давай уже по плану…
Полагаете, я сволочь? Может быть.
- Садись и кушай бутерброды. Тут грибы. Немного майонеза, но, я думаю, бог с ним…
- Ты сделал бутерброды?
- О господи, ты как Илья! Да что их делать-то?
- А что Илья?
- Тоже спрашивал про бутерброды… Я трахнул его в душе утром. Извини.
Она смотрела на меня секунд десять, потом с таким квакающим звуком проглотила кусок бутерброда и спросила:
- Зачем ты это мне сейчас сказал?
- Чтобы тебя позлить. Прости. Короче, я не знаю, что мне делать в этой ситуации, мы что, должны псалмы читать…
Она тихонько засмеялась.
- Или слушать радио «Епархия»? Ну, блин, если ты знаешь, то скажи, я признаюсь, что какой-то подспудный интерес к этому испытываю, но все это для меня ново и, стесняясь, я, возможно, странно себя веду…
- Богдан, ты все правильно делаешь.
- В смысле?
- Вот что ты щас делаешь?
- Варю овощной суп.
Она молча жевала бутер, улыбаясь одними глазами, и я помню, стушевался и сказал:
- Мне просто уже очень хочется с тобой опять обняться.
Она призывно раскинула руки для объятий.
- Нет, – сказал я. – Пусть уже по плану. Хотя бы будет стимул ждать завтрашнего дня.
***
Я и правда к ней не прикасался (к Илье тоже) в этот день. Я даже спать лег на диванчике на кухне – Илья в комнате с балконом, а Влада на нашей большой кровати в зале. Более того, я вообще спал в спортивках и футболке и из-за этого, мне кажется, хреново выспался.
Единственную вольность я позволил себе вечером после прогулки к магазину Ильи, а именно уже когда они с Ильей ужинали, я, быстро что-то перекусив, ухватил эту Владину книжку с самиздатом и, найдя там статью диссидента Ивана Дзюбы под названием «Секс, секс и немного антисекса (перевожу тут по наитию). Женский идеал в поэзии», принялся ее широко цитировать с очень серьезной интонацией:
- Давно уже отмечено, что ни в чем так не выражается мера человеческого в человеке, как в отношении к женщине, в самой интимной сфере любви, и, наверное, душевный склад поэта очевиднее всего и естественней всего выражается именно в том, как он любит и как говорит о своей любви!..
Влада, помню, перестала есть и с набитым ртом посмотрела на Илью.
А я не мог остановиться:
- В поэзии, которая по своей сути есть искусство эротическое в античном понимании этого слова, эта сфера временами просто втягивает в себя все иные или же распространяется на них, сжато вмещается в них. И поэтический язык об искомом интимном идеале становится поэтическим судом над миром и собой, проклятый женский вопрос перерастает в вопрос мировой боли! Тема любви становиться темой духовности и социальности вообще, тема женщины становиться темой жизни, мировой жизни!
- Я не слушаю, – сказала Влада Илье с невыразимо серьезной интонацией.
- И вот, – не унимался я, – в создании этого нового, еще не вполне для себя определенного поэтического мира Иван Драч, кажется, и ухватился горячечно за спасательный секс! Он должен был стать одним из тех внутренних нервов человеческих восстаний, сквозь него хотелось бы узреть и почувствовать проблематику человеческой экзистенции, он должен был компенсировать некоторый недостаток чувственной непосредственности в реакции на другие сферы бытия, он, наконец, должен был усиливать внутреннюю интригу поэзии, так как без пикантного привкуса в этот раз в ней не было уверенности.
Короче, после ужина некоторое время я бегал за ней с этой книжкой и практически от корки до корки читал вслух эту статью, а она, убегая от меня из комнаты в комнату, категорически говорила:
- Я не слушаю, – и даже зажимала уши руками, продолжая говорить. – НЕ слушаю!
Илья, невольно улыбаясь, говорил мне:
- Ну, перестань…
- Не перестану, – пожимал плечами я.
Но вскоре перестал.
XI
Я говорил, что плохо выспался тогда, спал какими-то урывками и очень беспокойно. Можете смеяться, но, блин, если ты привык спать голышом, то одежда буквально душит тебя, а еще этот миниатюрный диванчик на кухне… в общем, проснувшись, я подумал, что очень желал бы сейчас послать все это священнодействие нахуй, раздеться и, нырнув под бочок Владе, провалиться в сон. Но желание сделать приятное этой самой упомянутой верунке, безусловно, пересилило весь дискомфорт. На кухне было серо и как-то сиротливо, что ли, в том смысле, что мое пробуждение тут казалось дико неуместным, все будто бы протестовало против этой ерунды и типа – вот объясните мне, нахуя? Вот урчит холодильник со всякими вкусняшками, сочатся теплом батареи, в квартире мирно дрыхнут обожаемые мной существа, жизнь так коротка, мимолетна и в целом жестока – почему я должен тратить ее драгоценные мгновения на всякую религиозную хуйню? Чтобы что – воскреснуть к вечной и гораздо лучшей жизни? Какой это, позвольте? Что может быть лучше утренней дремы голышом под боком у самого прекрасного в мире существа, пускай и облаченного в эту идиотскую подаренную мной ночнушку? Что может быть лучше волос ее спутанных, тела пахучего потного под одеялом, сопения в носик и редкого сования, случайных объятий во сне, когда она непроизвольно залапывает или прижимает меня к себе или сама прижимается? Если есть на свете рай, то это он. Если есть на свете высшее блаженство, то оно не что иное как случайные пробуждение от того, что ты во сне толкаешься разбухшим детородным органом в ее случайно заголившееся бедро. Если есть на свете высшее блаженство, то это просыпаться от недостатка воздуха, потому что ты во сне уткнулся в ее грудь, или ощутил эту грудь в своей ладони, или она проснулась от того, что ты во сне обнимаешь ее слишком крепко (или она обнимает тебя). Это проснуться от собственного возбуждения и тотчас же войти в нее спящую и разбудить своими поступательными движениями. Это проснуться от того, что она ловит губами твой член или сжимает ногтями твою ягодицу, это проснуться от того, что ее трахает Илья или они целуются под одеялом, это проснуться серым утром, и смотреть на ее сон, и шептать беззвучно, только шевеля губами, о том, что она самая красивая на свете, и ты влюблен в нее без памяти на всю оставшуюся жизнь. Это укрывать ее, о Господи, тихонько нежно укрывать ее и бороться с желанием взять ее просто сейчас, несмотря ни на что, и, поборов это желание, беззвучно кричать в коридоре от того, что поборол это желание, а ничего важнее этого желания и не было на свете никогда. Я уже говорил, что готов верить в Бога, который создал ее по своему подобию такой красивой. Но этот Бог, как и я, обожает наш утренний секс, наши ласки или просто сонное лежание рядом, потому что это Бог Тепла Нашей Постели, это Бог Рассветного Запаха Смятой Ночнушки Влады, это Бог Случайных Сонных Поцелуев И Моей Эрекции Во Сне. И, признаваясь в любви к Владе, я всякий раз признаюсь в своей верности этому Богу. Так вот – этот всемогущий и прекрасный Бог сейчас надо мной смеется, угорает с этих суеверных ритуалов и лишь, может быть, подбадривает меня тем, что ну, типа, пускай это будет еще одна ролевая игра, которая ее заводит. Согласившись с этим замечанием, я нажал кнопку на электрочайнике, но, вспомнив, что пить ведь тоже нельзя, выключил его и совсем обозлился. Решил в таком случае даже в душ не идти, что было для меня совсем нехарактерно, чтобы случайно не хлебнуть воды, или я знаю, ну, короче, назло этой всей ситуации. Я вообще натянул свитер поверх футболки, в которой спал, и решил, что так и пойду, нахуй, в этом домашнем свитере, спортивках и курточке, и не буду бриться и тем более расчесываться. В окнах дома напротив горел свет, солнце еще не взошло, и вообще было облачно, серо, противно и сыро. Я решил, что как бы там ни было, но по дороге выкурю сигарету.
Тем не менее, в окне все светлело, я сидел несколько минут, засунув руки в рукава свитера и сгорбившись, не включив даже света, а через некоторое время, сам не знаю почему, стал тихонько напевать:
- Возле тихого Дунаю
Сам я стану, подумаю,
Чи мне втопиться, чи с коня вбиться,
Чи назад воротиться…
Ну, и все в таком духе, уныло и сонно. В ванной зажурчала вода, и вскорости вошла умытая Влада.
- Доброе утро! – сказала она, тепло улыбнувшись и сделав шаг ко мне, чтобы поцеловать или хотя бы погладить рукой, но я отрезал:
- Не смей подходить ко мне!
- Ты так красиво пел, я слушала, – опять улыбнулась она, остановившись посреди кухни. – Что это за песня?
- Не знаю, услышал откуда-то. Ну, что, еще что-то надо делать или уже пойдем?
- Сейчас я оденусь. Илья пошел в душ.
- Ладно, телитесь быстрей.
- Какой ты колючий забавный.
Я не выдержал и, вскочив, оскалил зубы – двинулся на нее, быстро маневрируя и клацая зубами, как бы пытаясь укусить ее то за плечо, то за руку, то потом за задницу – пока она убегала в коридор. Но меня развеселила эта шутка, и, усевшись назад на диванчик, я подобрал ноги и констатировал:
- Божеволило зализо и скаженилы люди. Михайло Стельмах, «Кров людська – не водиця».
***
Мы действительно недолго совались тогда, пошли пешком, потому что тут недалеко, а я так даже рискнул и пошел без трости – скажу честно, по-видимому, прогулки с Владой возымели действие, и нога теперь болела все реже, во двор или в ларек за какими-то сигаретами я теперь почти всегда ходил без трости. Мы не шли теперь под ручку, но как-то, как всегда, автоматически расположились по привычке – Влада по центру, а мы по бокам. Ну, хорошо хоть Илья отстал, а то в квартире он донимал меня, то ущипнет, то пощекочет – ему тоже нравилось донимать меня раздраженного.
Забавно, что это была именно та церковь, которую открывал Ющенко в моем далеком детстве – та, про которую я рассказывал Владе в наш самый первый разговор в реале. Церковь, на мой взгляд, была несколько безвкусная – как бы с закосом под какое-то барокко, но очень колхозное, кроме этого, мне почему-то не нравилась пустота вокруг нее, она располагалась почти что на перекрестке, с одной стороны к ней примыкали детские площадки, а с другой – руины казарм бывшего артиллерийского училища и, кажется, расформированной советской ракетной части. Я тогда усмехнулся этому соседству и вспомнил мем про то, что в РПЦ разные святые считались покровителями разных видов войск, и вроде, в частности, святая Варвара была покровительницей ракетных войск стратегического назначения. Аналогию усилил маленький мемориал при входе в церковь – там располагались большие стеклянные стенды с фотографиями конотопчан, погибших в зоне АТО, в основном военнослужащих местной 58-й отдельной мотопехотной бригады – эта бригада, к слову, была сформирована в начале войны и с недавнего времени носила имя гетмана Ивана Выговского. С этим Выговским вообще была забавная штука – у нас тут носились с ним, как с писаной торбой, и даже открыли бюст там на одном перекрестке, на мой же скромный взгляд, он к городу имел настолько касательное отношение, что даже смешно. Ну, рили, давать местной бригаде имя Выговского на том лишь основании, что он когда-то выиграл Конотопскую битву (которая, как я и говорил, даже не Конотопская по сути), столь же обоснованно, как и дать ей имя, например, Махмед-Гирея. Ну, ладно, во всяком случае, мне нравилась их эмблема – герб рода этих Выговских, который, кажется, назывался Абданк по-научному.
Мы, как-то не сговариваясь, приостановились возле стендов и рассматривали их некоторое время. Я видел, как Влада понурилась, и понимал, что у нее внутри опять разгорелась эта тяжелая борьба, которая, на мой взгляд, конечно, не имела под собой оснований. Но вы же понимаете, что тот наш разговор о русском языке, когда мы загорали у реки, был не единственным таким разговором между нами, чаще всего она обсуждала эту тему со мной, но и с Ильей тоже случалось. Я смотрел на это как на фундаментальное противостояние двух начал во Владе, но, забегая наперед, я бы сказал, что на самом деле не было там никаких начал, была одна цельная и офигенная Влада, которой по разным причинам нравилось расщеплять себя и даже наслаждаться этими противоречиями, то ли специально себя накручивая, то ли уж я не знаю. Ну, пусть так, допустим, два начала были не в украинскости и русскости, как, может быть, вы могли бы подумать, а во Владе-художнике и Владе-гражданине, если хотите. Влада была художником, по сути, и этим мне нравилась (ну, не только этим, ну, короче вы поняли). Мне нравилась в ней вот эта стихийность или скорее погруженность в волшебные сферы, она мне больше представлялась неким алхимиком, а может, чародейкой – не зря же я приплетаю этот образ с философским камнем и т. д. Но ей почему-то как бы постоянно хотелось себя заключать в какие-то рамки или даже, пожалуй, принижать и ограничивать себя, как вот с этим православием, его постами и евхаристией. Я уж, ей-богу, иногда думал, что это тоже какая-то перинатальная травма, что как бы эта пуповина, душившая ее в утробе матери, истлела, ну, уже давно сгнила в реальности, а в сознании или, может, подсознании Влады осталась целехонька, и она сама уж то ли по привычке, то ли кто его знает, но продолжает себя время от времени ею душить. Пуповина-православие, пуповина-ночнушка, пуповина-гражданственность. Ну, что угодно. Я сотню раз с ней говорил на эту тему, спрашивая ее:
- А что бы ты хотела? Писать военно-патриотические книги?
- Нет.
- А что?
- Ну, ведь идет война, возможно ли дальше фантазировать, пока там гибнут люди?
- Люди гибнут всегда, и как твое молчание поможет им не гибнуть?
Ну, тут, как и с этим православием – почему она не могла просто позволить себе быть охуенной, какой и являлась на самом деле? Почему она постоянно искала какие-то причины хоть в чем-то себя обвинять? И здесь, стоя у этих стендов, она стопудово размышляла в духе какого-то синдрома выжившего и стопудово опять обвиняла свой русский язык, несмотря на то, что, может быть, для половины погибших из этих стендов он был родным или двоюродным. Ну, пусть, наверное, после службы она придет и тупо скинет какие-то деньги опять в какой-то волонтерский фонд – она как-то говорила, что если чувствует себя ненужной, то дает милостыню, типа это правильно, по-ихнему, а если не чувствует себя гражданином – донатит на армию, на какое-то время помогает.
Я же смотрел на эти стенды и видел просто человеческую смерть и больше ничего. В какие бы одежды или родовые гербы вы ее ни рядили – она остается просто смертью. Я не склонен к метафизике и уж тем более ко всяким трансцендентностям, как Влада, и постоянно стараюсь смотреть на жизнь и смерть по типу как на двустороннее движение. Ну, что-то типа – если едешь по одной полосе в одну сторону, то нечего излишне глазеть на соседнюю – и незачем, и аварийно-опасно. Влада пару раз говорила, что я инфантилен (добавляя, правда, что ей это нравится), но я в упор не понимаю, почему нельзя жить текущим моментом и ловить в этом моменте жизнь во всех возможных проявлениях, а не тратить этот момент на размышление о состоянии, находясь в котором, ты просто физически не сможешь ни размышлять, ни сокрушаться по этому поводу. Я думаю, что смерть должна учить нас ценить жизнь, а не наоборот, но Влада склонна всякое горе мира ставить в приговор ему, я же пытаюсь втолковать ей, что мать, рыдающая над потерянным ребенком, должна позволить себе рыдать, и орать, и проклинать все человечество, а не выстраивать какие-то химерные конструкции в виде всезнающих богов с их невъебенными многоходовочками, недоступными смертному. В конце концов, я почти сам был таким ребенком и слышал, как в коридоре больнички мать орала, когда ей вынесли только что срезанные с меня окровавленные шмотки. И, может быть, если бы она позволила себе и в других ситуациях орать, а не пытаться рисоваться или даже как-то полюбить все, что причиняло ей страдания, то прожила бы хоть немного дольше. В любом случае, я воспроизвожу эти свои размышлизмы, чтобы как-то постепенно подвести вас к, на мой взгляд, важному разговору об оправдании зла, который состоялся у нас с Владой после – чтобы он был вам более понятен.
Тогда же, постояв возле мемориальных стендов, мы прошли внутрь храма. Помню, что там было всего несколько прихожан, я почему-то запомнил двух теток, одна помоложе, одна предпенсионного возраста – обе в траурных черных платках. Вероятно, кого-то поминали. Помню, что Влада подошла к киоску, или как оно называется, где продают свечки и иконки, короче, купила свечки и понесла к какому-то специальному столику книжечку – у нее, оказывается, была специальная книжечка, куда она записывала, кого поминать за здравие, кого за упокой – она типа идет попу вместе с вложенным туда денежным вознаграждением – ну, понятно. Помню, мы с Ильей торчали возле этого киоска, потом Влада повела нас прикладываться к двум стоящим по центру иконам, причем там надо было прикладываться в определенном порядке, я почему-то запомнил, что Исусу, кажется, к ногам надо было прикладываться, хотя, может, я путаю, кстати. В любом случае, помню еще короткий ликбез Влады по поводу причастия – как-то по-особенному там надо было подходить, но, честно, я уже не очень помню, помню, что чашу эту к голове сначала вроде выносили прикладывать, а может, опять путаю. А, да, там еще две какие-то большие книжки были, и опять же, надо было куда-то класть деньги, про деньги точно помню. Помню, мы стояли и рассматривали иконы втроем, попа еще не было. Мне, помню, не нравились эти иконы – уж лучше Рафаэль, ей-богу. Ну, или хотя бы что-то наподобие. Даже вот эта необходимость стоять всю службу казалась какой-то бесящей условностью либо тупо древним суеверием (коим, впрочем, по моему мнению, тут все и являлось). Знаете, что мне здесь не нравилось? Здесь не было какой-то необходимой дистанции между тобой и миром, как на улице. Но в то же время не было тепла и уюта, как в доме. Да, кстати, там реально было холодно. Это, может быть, было похоже на приход к кому-то в гости, но тот, к кому ты приходишь в гости, зачастую ведь или пытается организовать тебе какой-то хоть минимальный уют, или, как минимум, не лезет тебе в душу – здесь же все было наоборот, в душу тебе лезли, но морозили и даже не давали сесть. С другой стороны, это место не казалось через меру бесящим или тем более жутким – оно казалось унылым, но тоже не чрез меру, даже эта унылость была какой-то заурядной, что ли, и не выдающейся. Я не хочу сказать, что это все казалось жалким или провинциальным, но эти определения, возможно, наиболее близки к тому, что я там поначалу ощутил. И вывела меня из этого уныния, как у меня часто бывает, одна фантазия. Короче, я как-то туманно подумал о том, что же Владу привлекало в этом всем, и вспомнил тот ее берлинский образ заброшенных церквей с окаменелыми демонами, и в тот момент подумал, что – ну, ведь это красиво, эти заросшие церкви с окаменелыми демонами на обочинах пыльных дорог, и вся эта просодия, несмотря на трагичность, она ведь по сути красивая. Ну, вот как «Ведьма» Влады – в ней ведь тоже полно этого душного православия, но там оно не душное, потому что оно пребывает в каком то странном танце с этой бесовщиной, этим колдовством, и все оно живое в этих антитезисах и их перетекании друг в друга. И тут я вспомнил, что оно ведь и у Гоголя не вполне аутентично. Дело в том, что, насколько я помню, у Гоголя этот миф, по сути, склеен из двух как бы противоположных. Там в первом фольклорном протографе была, кажется, история о такой Бабе Йошке, ну, или же мстительной девушке, которую одолевает остроумный герой, а во втором – по сути, история о спящей красавице. Я читал эти фольклорные протографы, и практически во всех случаях эти истории были довольно милыми и светлыми, например, в одном распространенном варианте как раз бабушка-колдунья, но именно что добрая, советовала герою, ночевавшему в церкви с ведьмой, всяческие ухищрения и в конце посоветовала ему спрятаться в гробу, когда ведьма будет его искать…
«Вот в ту ночь около полуночи она вылезает и просто побежала под престол; а он влез в ее гроб. И она смотрела, смотрела, и не могла его найти. И петухи запели — и она уже высмотрела и идет прямо к гробу. И начинает его щипать и кусать. А он так и не вылез. И уже запели третьи петухи, и она говорит ему: «Встань, не бойся! я уже не уйду от тебя!». И он встал, поцеловались оба, и она говорит ему: «Ну, теперь ты мой муж, а я твоя жена!». Приходят к пану, и пан утешился и сейчас же устроил свадьбу. Повенчал их и дал им половину своего панства, и они еще и до сих пор панствуют. И я там на той свадьбе была. Дали есть, пить, дали мне синий жупан. Летят гуси и говорят: «Синий да хорош!». Я думала, они говорят: «Скинь да полож!». Я скинула и положила, а они тогда в смех: «Ха! ха! ха!»
Блин, ну вот вы понимаете? Сколько здесь витальности! И вот если бы оно все таким было, я бы, может быть, его и полюбил… Но у Гоголя ведь и вообще была какая-то вот эта духота, я вообще когда-то еще в школе размышлял, что у него есть какое-то внутренне отрицание женственности, что ли, связанное, уж не знаю, с гомосексуализмом ли, или просто с гиперопекающей мамашей – кто его знает. Уж во всяком случае в поздние годы он настолько отравился этой духотой… Но у Влады этого не было, и я не хочу, чтоб появилось. Поэтому я и должен был с ней заниматься этой религиозной чушью, чтобы на всякий случай постоянно быть рядом и по мере контролировать, чтобы не увлекалась. Это меня взбодрило, и мысль понеслась дальше. Я представил вот эту самую напряженную сцену из «Вия», но она у меня как-то замикшировалась с той церковной сценой из «Ведьмы» Влады, короче, я представил себя таким философом, который боится страшной и прекрасной ведьмы (ну, вы поняли, кто может быть прекрасным и страшным тут), которая за ним охотится. И ведьма эта приводит некоего сильного страшного (ну, вы поняли – сильный и страшный, да?) монстра, и я не выдерживаю и смотрю на него, и этот монстр указывает на меня, я падаю бездыханный. Но в этот момент я как бы и просыпаюсь в какой-то полусгнившей заросшей церкви с окаменевшими демонами – меня держит на руках ведьма, которая совсем не ведьма, а прекрасная девушка в современной одежде, а рядом с ней прекрасный парень в каком-то подряснике или типа того.
- Что это такое? – говорю я. – Ты ведьма! А ты монстр!
- Что? – говорит она. – Да это ведь ты ведьмак из заброшенной церкви, который ночами охотился на людей.
Красивый священник говорит:
- Вот эта девушка в тебя влюбилась и желала исцелить. Ну, я ей помогал, насколько мог.
Короче, какая-то такая праздная фантазия (уж извините – я не Влада, так что за художественность не обессудьте), но она меня развеселила, пока пришел поп (совсем не такой красивый, как Илья).
***
Тем не менее поп был хотя бы не жирным. Вообще странным образом наши попы (из ПЦУ) казались гораздо менее жирными в общей массе, чем РПЦшные – хотя это, безусловно, тенденциозное рассуждение. Еще мне странным образом понравилось все-таки, что служба велась на украинском. Я до этого был в РПЦшных храмах и таки скажу, наверное, что есть какой-то особенный вайб у наших… щас попытаюсь сформулировать, что я имею в виду – дело в том, что из этих размышлений начался тот памятный наш с Владой разговор после службы. Короче, в общем и целом, в РПЦшных приходах было что-то безысходное. Влада постоянно пытается мне втолковать, что для христианина эта суета сует не важна по определению, ну, говорит она, представь, что ты приходишь пообщаться со сверхъестественным всемогущим существом, создавшим этот мир, – ну неужели тебя вообще будет заботить, общаешься ты с этим существом по вайберу или по зуму?
- Нет, это важно, – говорю я. – Это как… Ну, какая-то Зельда, эта, которая на эмуляторе, идет лучше, чем на свиче, но ты должен долбиться в этот свич, потому что Нинтендо – транснациональная корпорация, зарабатывающая на джойконах.
Она, помню, ржала – мы вообще тогда после причастия все трое были в таком приподнятом настроении.
- Ты не хочешь меня понять, – пересмеявшись, продолжила она.
Она, помню, шла под ручку с Ильей, так нормативно к нему прижимаясь, а я курил немного в стороне.
- Почему?
- Это самое важное в твоей жизни существо, а не игра. Ты вообще ни на что не обращаешь внимания…
- Стоп, я понял, кажется. Сейчас, – я затянулся сигаретой. – Скажем, мое самое важное в жизни существо вернулось из всеукраинского презентационного тура. Илья, прости по поводу расставленных акцентов.
- Да, я тебя тоже люблю. НАШЕ самое важное в жизни существо, – он обнял Владу.
- Блин, как ты охуенно формулируешь.
- Так, хватит, – она попыталась капризно вырваться из его объятий, но не очень старалась.
- Существо, заткнись, – продолжил я. – Так вот, имеет ли значение, где я встречусь с этим существом. С одной стороны, это существо для меня важнее всего. Илья…
- Аналогично. Продолжай.
Он быстро поцеловал ее в волосы – как они мне оба нравятся!
- Но, с другой стороны, поведу я это существо в дорогой ресторан накормить его чем-то изысканным, напоить дорогим алкоголем, чтобы потом торжественно выебать в шикарном номере пятизвездочного отеля, или буду выбирать скидки в макдональдсе, чтобы потом пойти в общагу, с которой предварительно попросил убраться всех троих соседей по комнате, из которых один все равно не ушел, потому что дрыхнет пьяным под окном на чужой койке…
Меня удивило, что она не возмущается очередному сравнению со сверхъестественным и всемогущим существом, и я мельком глянул на нее.
- Богдан, тебе хочется повести меня в ресторан? – спросила она, тут же уловив мой взгляд.
- Вообще-то хочется, – спокойно кивнул я. – Причем в самый дорогой, который есть, хотя я в них совсем не разбираюсь. И снять номер в пятизвездочном отеле, хотя я в них тоже не разбираюсь, но где-то слышал, что это самые лучшие. Да, Влада, мне этого хочется.
- Ты понимаешь, что мне глубоко на это все плевать – кроме ТЕБЯ.
- МНЕ не плевать. В том-то и дело, ты понимаешь? Я ХОЧУ. Хочу, не знаю… как, например, хочу носить тебя на руках, но не могу из-за этой ноги.
- Поехали со мной в Берлин?
Она смотрела изотропными глазами. Я же, растерявшись, взглянул на Илью и прочел в его взгляде то, что не хотел щас там прочесть.
- Это будет понарошку, потому что у меня все равно нету денег.
- Богдан, ты не забыл, что я должна тебе за перевод? Уже за два. Если хочешь, я заплачу тебе роялти за полгода, и ты закажешь столик в ресторане и мотель.
Я опять растерянно взглянул на Илью, и Влада взглянула следом, улыбнулась ему.
- Пригласи в ресторан нас двоих, если хочешь, Илья, ты же не против?
Сейчас я почему-то часто думаю об этом ресторане. Наверное, вы в курсе, что среди множества интерпретаций знаменитого двущелевого эксперимента Юнга есть и довольно мейнстримная, так называемая многомировая интерпретация Эверетта, на которую издавна дрочат почти все гуманитарии. Вкратце говоря, там имеется в виду, что вся вселенная на самом деле как бы является квантовой суперпозицией самой себя – то есть пребывает во всех множествах возможных состояний, а каждое конкретное состояние, как и в двущелевом опыте, всего лишь фиксируется конкретным наблюдателем, ну, в смысле, это можно представить так, что существует (на самом деле нет, но щас неважно) масса непересекающихся вселенных, в которых каждый наблюдатель видит свой уникальный результат опыта, но наблюдатель по сути всего один, но в этом множественном состоянии, которое он каждый раз приобретает, нет противоречий, потому что невозможно наблюдать вселенную извне. Короче говоря, это просто красивый образ, но я щас часто думаю о том, существует ли вселенная, в которой где-то в конце февраля 2022 года мы втроем пошли в этот проклятый ресторан в Берлине. Мне почему-то нравится в подробностях представлять, как это было бы. Я думаю, я оделся бы непритязательно, конечно, я не надел бы никакой костюм, но мне, наверное, хотелось бы джинсы, какие-то светлые, наверное, в меру облегающие, мне не особо, на мой взгляд, идут скинни (хотя Илья как-то предложил мне примерить в секонде, и ему понравились – мы их купили, но я их почти не носил). Возможно, стоило надеть скинни, раз ему нравилось? По идее, мне они должны идти при моей фигуре, но я постоянно говорил ему, что у меня ноги какие-то не то чтобы кривые, но узловатые, что ли, а может, излишне плотные, такие, как у слоненка, мне всегда казалось, что у меня какие-то немного выпирающие ляхи и, может, для парня излишне округлая задница, хрен его знает… На самом деле вот что – мне нравилось носить все то, что нравилось ему на мне, но хромать в облегающих джинсах мне почему-то всегда было попросту стыдно. И я предпочитал немного более свободные модели, оправдываясь их удобством. Вспоминая это, я почему-то ругаю себя за то, что не надевал для него эти гребаные джинсы каждый божий день. Возможно, есть вселенная, где я их надевал? Но если так, то и в той берлинской вселенной я могу выбирать, что хочу, и компромиссно я надел бы узкие, но посвободнее, у меня есть пара хорошо сидящих, подчеркивающих, но не выпячивающих задницу и ляхи, но при этом с помощью свободной штанины визуально делающих ноги ровнее, что ли, и главное – в них почему-то субъективно мне не так стыдно хромать из-за этой свободной штанины. Короче – не суть, скажем, я бы выбрал джинсы по фигуре. Думаю, что светлые, те скинни были светлые, что мы купили в сэконде. Вряд ли я бы надел рваные – мне они кажутся моветоном, но, может быть, потертые слегка, что-то такое, как бы ношенные. Думаю, что наверх я надел бы рубашку или свитер, если свитер, то немного растянутый, такой домашний, возможно, с широким горлом, мне нравятся еще такие, с этой шнуровкой возле горла, типа, знаете, ну, что-то нонконформное, а если бы рубашку, то либо темную свободную, а может, даже клетчатую, но тоже темную, неброскую, я бы надел еще что-то типа кедов, ну, таких, чисто уличных, почему-то я думаю о салатовой подошве или шнурках, ну, типа – мне нравится салатовый и вроде бы идет, но только тоненькая нотка. Наверное, я бы даже рискнул нормально подстричься, не скажу точно как, но я всегда предельно примитивно стригся, стесняясь паралича половины лица, потому что мне казалось особенно жалким делать красивую прическу при парализованном ебале. Но я бы постригся, наверное. Вот тупо долго выбирал бы и выбрал бы то, что понравилось больше всего. Наверное, я даже сделал бы легкий маникюр. Я говорил, что рука, ну, запястье, которое у меня хуже функционирует, само по себе меньше здорового и кажется немного ссохшимся. Так вот – плевать, для такого случая я бы сделал маникюр, не то что прям ногти, хотя возможно – мне всегда хотелось что-то типа едва уловимых красивых рисунков этим черным лаком, ну, для особого случая. Духи бы я использовал те самые, какими душится Илья с того самого свидания с Владой. Потом бы я купил два букета – желтые розы и бледно-розовые тюльпаны. Хочу, чтобы букеты были самыми красивыми в Берлине. Я представляю, как заезжаю за ними на машине с водителем и, выйдя из машины, несу эти букеты и дарю их им – желтые розы Владе и бледно-розовые тюльпаны Илье. Я почему-то хочу, чтобы Влада была в платье, таком, возможно, осеннем, как на той презентации, которую мы смотрели вместе с Ильей, и он дрожащим голосом рассказывал, как сильно ее любит. Она бы была в платье, обута, возможно, тоже в кеды или кроссовки, я не люблю, когда она надевает каблуки, мне кажется всегда, что ей ужасно неудобно и больно, и она почти не носит каблуки из-за этого, хотя пару раз надевала при нас, и, я признаюсь, в этом было что-то манящее, я, помню, ей сказал, что пускай лучше будут как аксессуар в сексуальном контексте, но, Владочка, если ты хочешь – надень каблуки эти, я нанял машину с водителем, ходить много не придется, да и вообще, если уж я не могу, то Илья на руках понесет тебя. У тебя распущенные волосы, но если не очень удобно, то пусть будет такая как бы небрежная прическа, собранные не прямо на голове, а как бы на шее или спине, стильно небрежная прическа, над небрежностью которой долго бы работали специалисты. Знаешь, чего я хочу – макияж. Ты будешь накрашена, не потому что тебе это нужно. Ты знаешь, как я тебя обожаю утреннюю, после душа, например, как ты тогда смеялась, «неухоженную», но сейчас я хочу, чтобы ты долго собиралась, делала прическу, макияж. Я представляю, как ты долго красишься перед свиданием со мной, а Илья, возможно, бреется или расчесывается рядом, мне нравится это представлять, представлять, как вы долго собираетесь, и ты красишься, а Илья, например, ополаскивается лосьоном после бритья и трогает руками свои волосы. Возможно, в какой-то момент вы улыбаясь, взглядываете друг на друга и целуетесь, и ты опять подводишь губы, а Илья опять же умывается.
Я специально так много описываю Владу, потому что знаю, что и Илья так хотел бы, это трудно объяснить, что мы любим друг друга одинаково втроем, но Влада – наш брилиантик. Ну, короче, Илья бы был гладко выбрит (хотя темная щетина у него растет настолько быстро, что, может, уже и не так гладко), а его густые волосы отросли, ну, на какой-то сантиметр больше, чем ему обычно нравится – это всегда делает его таким немного расхристанным, ну, не подберу другого слова, ха. Хочу, чтобы Илья, как и тогда, был одет немного в унисон со мной – что-то темное и небрежное наверх, вот ему офигенно идут рубашки и тенниски, вот прям вообще идеально, подчеркивают плечи и вообще фигуру, думаю, приталенная ему бы как раз на этот случай и, возможно, тоже джинсы, может, серые и тоже немного потертые. Неплохо и какие-то не официальные туфли или типа того. Да, у Ильи еще будет курточка, но он предварительно накинет ее на плечи Владе, потому что вечер и февраль, хоть и Берлин. Отдав цветы, я поцелую их обоих в губы, неважно, в каком порядке, и приглашу в машину, сказав что-то типа:
- Столик ждет.
Обязательно надо что-то такое сказать.
Я почему-то много представлял сейчас эту сцену, и конечно, и сам ужин, наши разговоры (мы говорили много красивого и умного), и путь в мотель, и, конечно, наш секс. Да, секс я представлял в очень разных вариантах, но все-таки чаще я был инициатором, скажем – мне нравилось думать именно в том ключе, что это ведь я пригласил их на это шикарное свидание и теперь хочу сполна ими насладиться. Хотя, не смотря на мою страсть, они то и дело отвлекаются друг на друга. И мне это тоже нравится. Это ведь совсем не мешает мне наслаждаться ими. В этих фантазиях самыми интересными бывают именно всякие мелкие детали типа, например, я лежу и смотрю, как они курят у окна (Илья не курит, но ради такого случая не отказал бы Владе) и как типа их голые фигуры кажутся мне черно--белыми или в какой-то сепии на фоне этого окна. Да, они курят одну сигарету, передавая ее поочередно друг другу. А может, украдкой еще и целуются. Мне почему-то нравится думать, что они именно украдкой целуются и улыбаются, глядя друг другу в глаза, потому что я типа купил их за деньги, а между собой они пара, и поэтому они целуются и смеются украдкой.
Моя сигарета обожгла мне пальцы, и я вновь увидел в глазах Ильи то, чего и боялся, а затем он все это озвучил:
- Езжайте с Богданом.
- А ты? – спросила Влада.
Не знаю, понимала ли она контекст тех наших с Ильей гляделок, вообще она очень чувствительная, но тогда – все-таки думаю, что нет.
- Ну, Влад, я на работе, тут квартира и коттедж, к тому же я недавно ездил.
Он обворожительно улыбнулся Владе и, кажется, все-таки она не понимала подтекста. Я сейчас вот о чем думаю – они говорят, что никто не может наблюдать вселенную извне. Это, я так понимаю, само собой разумеется во всех интерпретациях и пр. А что если может? И когда я думаю об этом «может», мне становится немного жутко, ведь в воображении рисуется отнюдь не самое прекрасное в мире существо с большими изотропными глазами, а некий уродливый Шуб-Ниггурат, миллионами глазищ глядящий в наши волновые жизни. Вслед за этой мыслью приходит совсем уж абсурдная, но приставучая – о том, что притвор этой церкви чем-то мне напомнил щель.
***
Но на самом деле это весьма глупые мысли, не говоря о том, что ничего пошлее, чем метафоры из квантовой физики, представить себе невозможно – особенно в исполнении обоссаных гуманитариев (впрочем, у меня и гуманитарного-то нет – я школу даже не закончил, если честно, точнее, закончил по блату, за взятку, но щас не о том).
Я просто зацепился за эту мысль, потому что втолковывал Владе кое-что важное, и от этого важного пытаюсь оттолкнуться теперь в своих воспоминаниях, скажем так – я ей сказал, что пусть не переводит разговор, и если метафора ресторана неудачна, то пусть подумает о своей вышиванке:
- А что с ней не так? – спросила Влада, предварительно игриво дернув меня за рукав прямо из объятий Ильи.
- Все с ней так, но не вышиванка делает тебя, а ты наполняешь ее собой.
- В смысле? – она задумалась. – Ну, это глупости…
- Да? Давай наденем вышиванку на Аврил Лавин?
- Да чушь…
- Мы же тебе говорили, что вышиванка только подчеркивает твои черты, а не придает тебе их.
- Ну, слушай, Богдан. Ты сейчас серьезно пытаешься мне сказать, что Киевская митрополия идет Богу больше, чем РПЦ?
Я рассмеялся, а она сказала:
- Невозможный.
Но я не хотел этого сказать, понятно – я просто над ней подтрунивал (косички-косички). А если серьезно, то я потом Владе дальше привел старую избытую цитату о том, что из Украины еще неизвестно, что будет, а из России уже известно. И, типа, я это ощутил и в храме – что, может, эти попы еще какие-то неоформленные, и поэтому немного легче дышится, что ли. Мне действительно так показалось, и я думал о том, что подобным образом отношусь ко всей украинской идее, если хотите, – ее жизнеспособность в том числе в какой-то новизне.
В целом же, возможно, будет неожиданно, но мне даже по-своему понравилось. Можете удивляться, но во всем этом действительно было какое-то таинство, что ли. Мы стояли там рядом втроем, Влада посерединке, а мы по бокам, и мы оба постоянно краем глаза следили за Владой, потому что не знали, когда правильно креститься, и когда она поднимала руку, то мы поднимали вслед за ней. И я же говорил вам, что люблю ее. Так вот, это «люблю» – это значит и креститься вслед за ней, и хотеть в ней раствориться, или, быть может, наполниться ею до края во всех человеческих и нечеловеческих смыслах. Я видел, что нам с Ильей обоим хочется ей подражать и повторять за ней, и, стоя в том храме, я сформулировал впервые эту максиму, которую потом не раз транслировал Владе. Дело в том, что я, может быть, впервые отчетливо подумал о том, что никаких Шуб-Нигуратов, наполняющих пространство этих и подобным храмов такой невыразимой тоской, на самом деле не существует. Они – абстрактные идеи, как сказал тогда Илья, ну, что-то типа вирусов, жрущих ресурсы компа, чтобы он тупо майнил крипту, вместо того чтобы серфить в сети или улучшать в фоторедакторе снимки для семейного альбома. Их нет, потому что никаких миллионов их глаз нет, а есть только мои зеленые глаза, которыми я вижу этот мир, и есть еще бесценные медовые глаза и серые большие изотропные глаза. И тут я понял, что вот эти изотропные глаза создали время, и пространство, и само понятие созидания, и все кровавые козлы с миллионом глаз вышли из этих серых изотропных глаз, ведь кто-то же меня привел за руку в этот храм и провел сквозь эту щель-притвор. И тут мой гнет как будто испарился, потому что я внезапно ощутил не нас и не себя частью этого пространства и времени, а это пространство, и время, и эти унылые песнопения – частью Влады, а ее частью я не только согласен был быть, но и жаждал этого. Она стояла и крестилась – я крестился вслед за ней. Мне вдруг пришла в голову какая -то важная мысль, но знаете, как оно иногда бывает – я почему-то не мог ее как бы уловить за хвост, как будто мозгу то ли не хватало мощности, чтобы ее четко сформулировать, то ли он выставлял передо мной какие-то преграды, бывает так, что мозг как бы купирует какую-то мысль, оставляя ее невысказанной, но тем не менее вот в этом невысказанном виде как бы сохраняя ее где-то в закромах, чтобы она всплыла там через какое-то время. Ну, у меня так бывает иногда. И я, помню, тоже забыл об этой мысли и отложил само воспоминание о ней. Пока же нам вынесли эту чашу, потир, или как она называется, и прикоснулись к нашим головам – сначала Илье, потом Владе, а потом мне. Ведь, кроме нас, в тот день больше никто не причащался. Кажется, после этого мы пошли к исповеди, тоже в том же порядке, и она произошла как-то сумбурно и быстро – как Влада и говорила, ни о чем тот худощавый поп не расспрашивал. По идее, кстати, не потому что он был знаком с Владой и все такое, а просто потому, что оно так заведено, типа – особенно расспрашивают на первом причастии, но я уже причащался, в школе еще, раза два, давно, конечно, но все-таки было, родители водили, короче, это долго объяснять, но батя эту моду принес из первых поездок на заработки в рашку, ходил еще с семьей какой-то его кум, которого я почти не знаю, кстати, из Конотопа, ну, короче, это продлилось не особо долго и сейчас уже не важно. Я только запомнил, что когда поп (он, кстати, был какой-то не давящий, знаете, вот при всем… опять же – потому что ПЦУ или сложилось так?) спросил, раскаиваюсь ли я в грехах (вообще в грехах, я ж говорю, что он не конкретизировал), то я очень быстро подумал вот что. Как я и писал выше – я не раскаивался в своей любви к Илье и Владе, потому что не считал эту любовь грехом. Я мог бы долго сейчас разглагольствовать на эту тему и, кстати, возможно, в каких-то аспектах и втащил эту дискуссию даже с не особо умным попом. Ну, я, короче, конечно, не стал бы дискутировать с попом вообще, дело не в этом, когда-то один неглупый человек посоветовал мне вообще не спорить с дураками, потому что чем дольше ты споришь, тем меньше понятно, кто из вас кто. Ну ладно, я специально издеваюсь, но, если хотите подробней, то я попытаюсь, хотя сразу говорю, что аргументация моя тут не очень держится кучи просто потому, что я не размышлял об этом до встречи с Владой, а потом случалось, что мы это обсуждали, и щас я попытаюсь вспомнить свои аргументы. Короче, вот что – половину этих библейских кулстори о геях, типа Содома и Гоморры, вообще можно пропустить с покерфейсом, потому что – а какого, собственно, хуя? Там во всех нормальных переводах, насколько я помню, в этих историях идет речь об угрозе сексуального насилия, а не о гомосексуализме как таковом. Воля ваша, но этот гомосексуальный контекст попы всю дорогу туда подтаскивали, не пойми на каком основании. Иногда мне даже казалось, что есть какая-то традиция у клириков еще с катакомбных времен самозабвенно гатить друг друга, не допуская к себе женщин, и в то же время садистически и мазохистически друг друга в этом обвинять, ну, типа, чтобы было слаще, типа добавляет остроты. Могу понять в каком-то смысле, хотя к БДСМу равнодушен, как и говорил. Ну, это ладно, я опять ерничаю, но по серьезу – там если лезть в залупу, то можно найти более-менее твердый запрет на гейство вот в этом куске из Левита, но, позвольте, тут нахер возникает миллион вопросов. Ничего, что, например, там где-то буквально перед этим в предыдущей главе сказано, что нельзя употреблять в пищу кровь? Или отцы церкви по этому поводу продемонстрировали охуительную сверхманевренность, и это уже, типа, не считается? Ничего, что там свинины тоже жрать нельзя? Я об этом всем знаю, потому что как-то в Конотопе уже, в ЦРБ, лежал с одним дедом – свидетелем Иеговы, при получении инвалидности, короче, еще школьником будучи, и он мне так башку напарил этим всем, что я до сих пор помню. Там прикол в том, что палата была четырехместная, и в ней лежали вот это я, шестнадцатилетний еще, с трудом передвигающийся на костылях, вот этот дед, лежачий полностью, еще один дед, поначалу не совсем лежачий, но об этом позже, и еще один айтишник, наносек из Киева, приехавший в Конотоп на выходные с какой-то своей блядью и сломавший лодыжку на катке. А, да – поначалу мы вообще лежали там втроем: вот этот айтишник и на месте иеговиста – начальник местной исправительной колонии поселения, полковник милиции, что ли, я уже не помню. Было сразу даже как-то скучно – этот айтишник со мной не особо разговаривал, он вообще держал себя заносчиво со всеми местными, как мне показалось, и целыми днями смотрел фильмы на нетбуке, у меня не было денег на такой нетбук, и я считал айтишника уебком. У меня был простенький смартфон, не помню уже, какой-то хуавей, кажется, но в больничке не было вайфая, а мобильный интернет еле грузил, и фильмы я посмотреть не мог, а к айтишнику вечерами приходила молодая постовая медсестра и приносила ему фильмы на флешке – она, наверное, дура, думала, что он в нее влюбится и заберет в свою айтишную страну. Слава богу, у меня был старый, еще в средних классах на подаренные деньги купленный mp3-шник, я до сих пор как-то не люблю слушать музыку на телефоне, не знаю почему. Ну, короче, этот айтишник постоянно смотрел фильмы, положив нетбук на пузо и надев наушники, я что-то смотрел в смартфоне, или слушал музыку, или читал газеты (в больницах все время хранится какое-то просто невообразимое количество газет, особенно в травматологиях, короче – где много лежачих; ну, хотя, может, щас уже и нет), а этот полковник милиции, блин, это вообще прикол, короче, он почти не слышал без слухового аппарата, а в этом аппарате как раз села батарейка, и никто не мог никак ему ее купить и привезти, он громко объяснял несколько раз, что там какой-то невьебенный аппарат, батарейки к которому не везде продаются. Ну, короче, этот мент тоже читал газеты и постоянно их у меня забирал – с моей тумбочки – в конце концов мне это надоело, и я, помню, с каким-то трудом скачал на смартфон «Идиот» Достоевского и перечитывал его – кстати, не знаю, почему именно его.... Ну, это все не суть – этого полковника вскорости выписали, у него вообще какая-то фигня была, мы жили с айтишником вдвоем дня два и, на мое счастье, я познакомился и даже немного подружился с парнем из соседней палаты, ему было лет двадцать и вообще-то он был военным, то есть мобилизованным, не помню уже из какой волны, на самом деле он то ли не был на Донбассе, то ли был совсем немного, он не был ранен, а сломал бедро, неудачно спрыгнув с БТРа, представляете? Ну, я-то знаю, что это возможно, потому что со мной как-то в Киеве лежал один мужик, который сломал бедро, упав у себя в кабинете и ударившись бедром об угол письменного стола – и не такое бывает. Ну, и вот, этот солдат лечился тут с этим бедром, я, помню, говорил ему, что его тут не вылечат, а надо ехать в Киев, а он говорил, что вообще-то его собираются комиссовать и у него нет денег никуда ехать. Ну, короче, этого солдата через несколько дней тоже таки куда-то перевели – может быть, в какой-то госпиталь, но я тоже не помню уже, а к нам в палату вселили сразу двоих потерпевших – один был этот дед-иеговист, он жил в селе неподалеку у какой-то марухи, пешком шел по пенсию в город, и его в предутренней темноте нечаянно сбила машина. Вторым был дед тоже из села, но натуральный колхозан, а не как этот, и он, прикиньте, пьяный ехал на велосипеде и вел за уздечку коня, и вот не спрашивайте, как это могло вообще произойти, но он на этом велике по типу ебнулся в канаву, а этот конь, в свою очередь, ебнулся прямо на него. Не то что затоптал копытами, а именно что ебнулся сверху на деда как-то типа боком, типа тот, падая, схватился за уздечку и свалил коня вот прямо за собой в эту канаву. Но дед там был такой дебелый, я не то чтобы не верю. Я даже обрадовался этому деду поначалу, потому что он был такой веселый, с прибаутками, а иеговист почти совсем молчал, как будто бы боясь всех нас. Но ночью наступил пиздец, потому что дед походу чуток протрезвел и его накрыла белка. Ну, бля, натуральная белка, вот если вы не видели никогда, что это за залупа – лучше просто слушайте, потому что я по травматологиям на эту срань за глаза насмотрелся. Я, блядь, сразу понял, часов около одиннадцати, что щас будет – дед начал буянить очень резко и хотел вставать, я на своих ебучих костылях пока поднялся, пока, блядь, разморгался, где тот ебучий выключатель… Короче, я пытался его уложить немного, но быстро плюнул и позвал сестричку – дура спала в ординаторской. Укладывали его вчетвером по ходу – позвали еще, кажется, дежурную бригаду «скорой» снизу, или что-то типа. В ту ночь его, короче, привязали, а потом еще пытались лечить, по-моему, даже я сказал сестричке, что просто дайте ему ночью грамм пятьдесят – верняк, или везите в наркологию прямо отсюда. Я в Сумах подобных кадров видел. Ну, короче, я уже не помню, давали ли ему пятьдесят граммов или он постепенно сам немного утихомирился, но это ж, сами понимаете, всю ночь, блядь, монологи-хуелоги, я почему-то запомнил что-то типа такого (а там много было подобного):
- И от как оно так, шо земля там такая, шо каждый шофер едет и спрашивает: чего же она такая злая и не родит, от чего? Да-а… Сидят надо мной тринадцать зайцев!
Ну, короче, этого колхозного уебка забрали вскорости какие-то инцестуальные уродливые родичи, и я уже подумал, что все стабилизировалось – айтишника со дня на день выписывали, да он уже почти в палате не бывал, и даже ночевал с сестричкой в ординаторской довольно часто. Но тут раскрылся с новой стороны второй – сбитый машиной дед. Ему было уже под сраку лет, и он, как оказалось, был родом с Камчатского полуострова, но работал почти всю жизнь в советской Украине, и даже на каких-то должностях нехилых, чуть ли не в министерстве, а в 1990-х прибился к этим иеговистам, продал, короче, все, что было, за несколько лет, типа в пользу церкви, и вот жил у какой-то марухи в селе и ходил пешком по пенсию, потому что даже на автобус не было. Короче, вот если вы с ними не общались, то, наверное, даже не представляете, какие это душные типы. Он всякий разговор сводил к этой религии, и когда я напрямую спросил: «Вы из свидетелей Иеговы?» – ответил с блаженной улыбкой, что «есть только один бог, а Иегова – это его имя». Ну, понятно – решил я. И да, каждый раз хотелось тупо уебать. Ну, типа: «Ну, неужели ты не можешь по-человечески разговаривать, надо каждую залупу выводить к монотеизму?» Я там впервые, кстати, эту мантру с часами, которые сами собрались, услышал – ну вы представляете? Ну, короче, он травил вот эти стори, а мне невмоготу было его заткнуть, потому что, во-первых, я был школьник, а он старый дед, а во-вторых (и, наверное, в-главных), мне было его немного жалко. Он лежал на такой же вытяжке, как я около полугода назад, такой очень худощавый до изнеможения. К нему никто не ходил, и он постоянно выпрашивал у меня еду – то «парочку пельменей», то кусок колбасы, вот тупо как ребенок – «можно парочку пельменей?» Я не мог ему отказать, а после парочки пельменей он обязательно опять травил всю эту муть. Забавно, что ему на самом деле было что рассказать – какие-то детали прорывались иногда, и это было интересно, например, про консервы «спам» из американского ленд-лиза, которые он ел ребенком на своей Камчатке. Такие баночки забавные, колесико по кругу – открывашка, а под крышкой вареная колбаса типа докторской в масле. Они ели эту колбасу, а масло вымазывали хлебом. А потом хранили эти баночки как ценность.
***
Ну, короче, о книге Левита. Я думаю, вы поняли и так, к чему я клоню – есть такая поговорка, что «закон как дышло – куда повернешь туда и вышло», так и тут. Почему этот кусок считается актуальным, но мы не приносим Иегове в жертву животных и не окропляем жертвенники их кровью? Как насчет субботы, которой этот иеговист мне всю плешь проел – по-ихнему, выходной в воскресение и вообще почитание воскресения — это чуть ли не смертный грех? Как насчет лесбийства, о котором в книге ни упоминания? А если лесбийство норм, то почему тогда всех женщин, надевающих штаны, мы не считаем грешницами – разве это не надевание одежды другого пола, которое там также возбраняется? Как насчет вообще прелюбодеяния, ведь по этой логике прелюбодействующий вообще ничем не лучше гомосексуалиста, а если ты посмотрел на женщину с желанием, то ты уже автоматически прелюбодействующий – при том, что, блядь, доказано научно, что эрекция вообще в спинном мозгу рождается, это рефлекс ебучий, ну, серьезно. Но если так, то, может, стоит все-таки одеть всех телок в паранджу? Ах, нет? Это ДРУГОЕ? Ну, понятно. Не говоря уже о том, что, возможно, Христа распяли за изгнание торговцев из синагоги, а вот эти свечки – это, типа, не считается? Ах, ведь это подаяние… Понятно. Все с вами понятно. Ничего, что этот самый Моисей был, вероятно, многоженец? Короче, вот, чтоб вы понимали, насколько мне тягостен этот даже воображаемый спор с попами – представьте, что каждый раз я вижу этого иеговиста, разговаривающего сплошными цитатами из «Сторожевой башни», между которыми он то и дело просит поделиться колбасой. И мне совершенно не хочется с ними спорить – просто хочется, чтобы они не лезли в мою жизнь. Вот у них есть такое понятие о непрощаемом грехе, типа хула на святого духа, в котором они стопудово обвинили б и меня, так вот – все их речи для меня такой же смертный грех, что-то вроде хулы на образ божий в человеке, это чтобы им было максимально понятно.
И тогда, на этой типа исповеди, я, помню, чистосердечно сказал, что грешил, потому что я действительно грешил. Я грешил, когда орал на Владу и довел ее до слез, грешил, когда не мог вдолбить Илье, что он не виноват в смерти его родителей, грешил, когда ленился приготовить ужин или мало двигался, грешил, когда капризничал, грешил, когда не мог сформулировать Владе, что моя любовь к Илье и к ней и есть моя религия, грешил, когда кончал раньше нее или дразнил ее, приставая к Илье, а ее игнорируя, ну… я не знаю, что мне еще здесь сказать? Я в этом раскаиваюсь. И самое главное – я раскаиваюсь в том, что прыгнул вниз почти что десять лет назад. Потому что если существует этот бог, то он уже самостоятельно меня посрамил, посрамил тем, что показал, чего бы я лишился, если бы случилось все, чего я так тогда хотел. А если бы это случилось, то я не встретил бы Илью и Владу. И, думая об этом, я искренне раскаиваюсь в том, что тогда прыгнул. И так я и сказал тогда попу.
***
Смутно помню это каннибальское причастие, лишь почему-то четко помню Владу со сложенными на груди руками, и как она подходит, открывает рот. Возможно, именно тогда эта недооформленная мысль пришла ко мне. Я просто вспомнил, что на иврите Святой Дух женского рода. И в этот миг, как у меня часто бывает, на меня посыпались фантазии и образы, и размышления, в один лишь миг – они как будто бы сложились в моем сердце в этот миг. Я вдруг сформулировал для себя то, что и так знал, но, может быть, не понимал – что красота Влады, от которой я схожу с ума, – это, без сомнения, красота Бога. Но Бог – он разный и един во всех обличьях, и я могу влюбляться в него всякого. Вот Влада – это Бог, который дух. Я вспомнил его функции, так вот – ведь он же вдохновитель! Я вспомнил, что всегда, глядя на Владу, я испытывал даже не столько похоть, это было, но чувство было сложное, и определяющим здесь было вдохновение. Великое, ВЕЛИКОЕ Вдохновение! Так что же получается – вот это могущественнейшее из чувств, которое я испытывал, которое дарила мне Влада, всякий раз было чем-то вроде благословения? Ведь каждый раз я будто зажигался изнутри. И что же получается – вот это невозможное желание читать стихи, готовить кофе, подарить сережки, успокоить и обнять, и приголубить, заплести ей косу, целовать, заставить надеть шапку в слякоть и мороз, ходить на цыпочках, когда она заснет, переводить с русского на украинский, и даже желание взять ее сонную и невозможно прекрасную – это все, страшно подумать, может быть далеким отголоском того чувства, которое Творец испытывал, решив создать весь этот мир и нас? Я тут же представил Илью, склонившегося над разобранным паленым монитором, и Владу, тихонько подносящую ему кофе и целующею его в небритую щеку. И взгляд его медово-карих глаз в этот великий миг. О Господи, я не могу вам передать, что я испытывал! После этого поцелуя я во взгляде Ильи видел готовность починить до идеального состояния все паленые мониторы в мире… Так что же получается? Что это наше с ним общее желание всякий раз, видя ее невозможную красоту, изменять мир вокруг, чтобы ей было в нем хорошо – это что-то вроде духовного дара, а возможно, и того творческого импульса, который положил всему начало? Я думал об Илье, таком красивом в этом сосредоточении. Я думал о ней – нашей Музе… Но музе ли? Или… На иврите это пишется вот так : רוח הקודש. Руах. Она.
***
И тут все как посыпалось – она, Она!.. Зачем весь этот мир без красоты ее? Но это не какая-то смешная Белая богиня Грейвса, не великая мать палеолита, не Кибела, не Иштар, не Гея, не земля древних славян и не викка – это все такие же глупости, как вот эти унылые песнопения, как созданный в больных мозгах фантом Шуб-Ниггурата, – отчего же создан этот страх? А помните те мои размышления про песнь? Что Илья помог мне как бы отыскать Владу, вернее, помог вспомнить, что мы оба ее всегда искали, но забыли об этом. Помните тогдашний этот страх мой? Вот из него и вылез этот Молох. Его на самом деле не было, ведь грех – это не провинность, а ошибка, заблуждение. И из него рождаются несуществующие майнеры, съедающие душу. Но если ты все вспоминаешь и отпускаешь себя, то эти демоны рассеиваются, как утренний туман. Она. Она. Она и Он. И Он влюблен в Нее. И Она влюблена в Него. И, наслаждаясь друг другом, они создают этот мир и Дитя. Я вдруг вспомнил, что Исус был зачат Святым Духом, но если все было не так, и это просто перифразы перифразов? А если имеется в виду, что Она, то есть Дух, родила Ему в своей любви Дитя? Причем сейчас не важен пол ребенка: Дитя – это Плод Их Любви, это символ любви и их великого соединения в любви, это символ дальнейшей жизни и преодоления смерти. Я вдруг подумал, как все просто и понятно, как все не напрасно, как все здорово. Ну, неужели эти олухи не понимают, что чудеса – они, как в детстве, существуют? Вот ты влюбляешься, как я в Илью и Владу, и это никакая не похоть, не прелюбодеяние, не разврат, не блуд, а Дар Святого Духа? Зачем же они мучают себя фантомами в ночи? Ведь этот их Денница тоже ведь думал, что лучше Бога (или все-таки Богов, ну, то есть – Троицы) понимает его замысел, а что из этого случилось, а? Вот у тебя есть половые органы, гормоны, овуляция, эрекция, а ты выстраиваешь вокруг этого какую-то шизу и сам в ней задыхаешься. В моей фантазии сейчас же рисовалась эта правильная церковь, из которой я бы не вылазил, – с Ним, Ею и их Ребенком. Подумайте, какая потрясающая могла бы получиться икона с Отцом, обнимающим Мать, и Матерью, держащей на руках Ребенка! А представьте себе проповеди о мужской и женской привлекательности? Можете смеяться, но я сейчас же себе вообразил эти иконы, вообще эту церковь, ее священников (язык не поворачивается называть их попами), которые бы воспевали любовь и эстетику, нежность, телесность, но ничего из этого бы не противоречило учению Христа, ведь, как я и говорил вам раньше, всякий деструктив – он либо от недостатка любви, либо от неумения любить. От тех же заблуждений или боли. Вот как у нас троих: мы любим друг друга, и этого достаточно, чтобы никто из нас не силовал другого, не желал излишеств, и священники как раз должны такое объяснять – как угасить и превзойти насилие и как воспеть и утвердить любовь. Вы можете смеяться, но я это очень явственно увидел и возрадовался. И был благодарен Владе за то, что она привела меня сюда, и этим вновь таки мне показала, что она есть образ Духа. И даже (будете таки смеяться) я успел подумать о том, что, конечно же, у этих священников будут изысканные стильные облачения. А как иначе, если они будут проповедовать эстетику, любовь, телесность? Мне живо представились красивые парни и девушки в этих стильных облачениях – почему-то первым делом я подумал, что вот эти их подрясники, возможно, и неплохие, если по фигуре (во всяком случае, священникам и священницам придется посещать спортивный зал, а может быть, наука к тому времени всех сделает стройными просто?), хотелось бы чего-то стильного и аскетичного, такой подрясник, как у семинаристов, и мне нравятся такие, знаете, украинские широкие пояса из казачьих времен, парни будут бриться, но, возможно, им будет позволительна щетина (я просто не люблю бород ни у себя, ни у Ильи, а щетину – да), насчет причесок – сложно сказать, возможно, кому как идет, но все-таки не длинные (я не люблю, опять же), но, может, не слишком короткие, а у девушек, наоборот, длинные (ну, это вкусовщина, ну, простите, дайте помечтать), и почему-то представляется такая коса, как у Влады, которую она иногда любит заплетать и которую теперь я тоже заплетаю ей – пускай это будет форменная коса для священниц, можно? Ну, а остальное… в целом пусть будет как есть – христианство, православие (хотелось бы с нотой барочности, как в старые времена, опять же эта немного гетманская эстетика). По поводу молодости, кстати, тоже не пугайтесь – там будут и старшие, и, наверное, возглавлять будут люди в летах, как и щас, даже, наоборот, будет объяснена эстетика взросления и старости, но просто я хочу побольше юности, скажем, в приходах, приток молодости, потому что кажется, что сейчас молодость отрицается или стигматизируется, как и женственность – а это недопустимо. Напоследок мне представились как раз семинаристы – юноши и девушки в этих подрясниках и поясах, идущие по улице толпой и весело смеющиеся.
***
Ну, в общем, вот такой я фантазер – хотя, конечно, моим фантазиям и не сравниться с фантазиями Влады, но я ведь не гений в отличие от. В любом случае, я был так одухотворен этими фантазиями, что всю дальнейшую службу запомнил совсем слабо. Что говорить, если я уже видел ее совершенно в другом как бы измерении – измерении моей только что придуманной церкви. Я уже продумывал какие-то каноны и многотомные богословские трактаты о единстве и различиях моей Троицы, я видел ученые диспуты о том, кто же все-таки главнее (спойлер: никто) и кто первее (спойлер: все), и как красивые юноши и девушки в семинариях упражняются в спорах на эту тему, я видел целые монастыри и ордены, посвященные Духу, Отцу и Ребенку, я видел женские монастыри, посвященные Отцу (почему нет?), и мужские – Духу (ну а почему, собственно, нет, если даже есть таковые у Богоматери?). В конце концов, возможно, образ Богоматери в значительной степени тогда бы слился с образом Духа, о, Вы только представьте красоту такой религии! Стихи Отца к своей Любимой, ради которой он и сотворил весь этот мир! Такие новые молитвы. Вы лишь представьте эти новые псалмы, где восхищение своей Возлюбленной считались бы своего рода величайшим благом! Я ведь говорил уже, что в этой церкви воспевалась бы телесность, но эта телесность была бы такой, которую я предпочитаю (ну, уж простите, раз это мои фантазии), – то есть не агрессивной, боже упаси, без всякого насилия, а какое-либо доминирование, скажем, считалось бы благом лишь по обоюдному желанию. Я не думаю, что в моей церкви был бы целибат. С другой стороны, я не люблю в сексе излишней демонстрации, какой-то сенсационности, избыточности, фронды и всего такого. У меня есть теория, что восприятие секса как чего то опасного и даже вот адского, что ли, – это как раз пережиток времен, когда это все подавлялось, ну, есть такое мнение, что вообще огрехи фрейдистского психоанализа зиждятся на том, что, по сути, он описывает душевный климат Европы викторианских времен, ну, слушайте, у него где-то в том же введении в какой-то лекции говорится, что вот-де, девочка из аристократической семьи приобрела на всю жизнь невроз в связи с тем, что в детстве мастурбировала с дочерью своей кухарки, или типа того. А эта дочь – ровесница этой аристократки – в этой связи никакого невроза не приобрела и была вполне реализована в половом смысле. Фрейд выводит из этого, что воспитание и вообще табуированность многих тем очень определяющие в этом деле. Ну, так и тут – вся эта взрывоопасность секса во многом, возможно, зиждется на вытеснении, а если людям будут с детства объяснять все правильно, то это не будет восприниматься как нечто запретное и, следовательно, станет чем-то, ну, как бы обыденным? Ну, это как, я не знаю, о – рок-музыка в СССР! Ну, знаете, все это помешательство на всяком роке, вот этих косухах кожаных и патлах, ну, я читал об этом, это протянулось даже в девяностые, довольно надолго, особенно в провинции. Это фактически стало то ли религией, то ли сектой какой-то, а это ж просто нахер музыка такая! Ну, просто людям разрешали слушать только Окуджаву (да и то с трудом), и когда немного приоткрыли – все как помешались. А потом все вроде пришло в норму, ну, со временем. Вот тебе рок, вот куча других жанров – слушай что угодно, только, пожалуйста, не считай необходимым принимать наркотики, ебаться без презерватива, пить в три горла, бить кого-то или резать себе вены только потому, что любишь рок. Ну, так и в сексе – я дико не люблю вот этот флер какой-то провокативности в сексе или типа того, ну, знаете, когда о сексе даже говорят как будто об участии в террористической организации. Особенно я в этом смысле не люблю БДСМ-щиков с их «темами» и прочей духотой, ну, это ладно, а то набазарю сейчас… В целом, я хочу сказать, что если секс станет обыденностью, то и сам по себе может лишиться всей этой зловещей ауры и в моей воображаемой церкви можно будет заниматься сексом (ну, в конце-то концов, уже сейчас контрацептивы есть на любой вкус, а в будущем, возможно, станет больше и гораздо более совершенных), но мне кажется, что будет некая особая культура телесности, которая будет преподаваться в этих семинариях – там во главу угла будет ставиться, например, уважение к партнеру и людям вокруг, будет объясняться, как можно наслаждаться друг другом и собой в любви без эгоизма, принуждения и всего прочего, которое на самом деле лишь мешает наслаждению. Но, возможно, будет и какое-то воздержание, но только не целибат, а вот именно… Ну, что-то типа этого нашего маленького поста с Владой, ну, это было по-своему прикольно, или, например, как я воздерживаюсь иногда от секса с Владой, чтобы именно специально сублимировать (и ее дразнить) – и в этом тоже есть какой-то кайф. Но в остальном секс будет считаться нормой, ну, а как, если Творец с Руах ебутся и даже зачали ребенка? Будет объясняться, что всякое соитие – это что-то типа отголоска великого акта творения, и это тоже таинство своего рода. Будет объясняться, что половая любовь – это именно та Любовь, о которой говорится, и всякая любовь – она идет от этого (ну, ведь так, кажется, и говорится в антропологии, что половой инстинкт, по сути, основа социального, или что-то в этом роде). Но при этом будет воспеваться богословие, ученость, поиск смысла бытия и все такое, ведь это так сексуально – говорить с Владой о литературе или философии! Я думаю, здесь должно быть что-то подобное тоже.
Хоть верьте, а хоть нет – я это подумал за какое-то мгновение, а дальше, кажется, представил, как бы выглядела эта церковь в таком будущем (почему-то мне представлялось, что это именно будущее). Ну, для начала, интерьер бы был гораздо стильней. Иконы бы были – вот важно, иконы бы были даже круче Рафаэля, потому что воспевалась бы именно романтическая любовь как основа всего, я уже говорил об иконе «Троица-Семья» (так я ее назвал), еще бы была, например, икона такой задумчивой мечтательной Руах с каким-нибудь цветком, например, – это было в стилистике «фото влюбленной девушки», Святой Дух или Святая Госпожа, а может, это называлось бы по типу «Первый миг творения», в том смысле, что, глядя на невыносимую красоту своей Возлюбленной, Бог впервые задумал наш мир как подарок для нее. Икона, где Руах идет босая по воде («Создаваемый мир» – ну, знаете, из того места, где Дух Божий носился над водой), богословски это объяснялось бы так, что потрясенная Руах гуляет по просторам только лишь создаваемого ее Возлюбленным мира. Была бы икона «Супруги», где Творец, стоя за спиной Руах, обнимает ее за плечи, а она как бы еще сильнее укутывается в его объятья. Я знаю, что это все выглядит подозрительно гетеронормативно, но вы же понимаете, откуда это у меня – фотки Влады и Ильи. Ну, мне же нравится на такое смотреть и постоянно их фоткать, да, не скрою, там, в церкви, краем глаза следя за тем, не поднимает ли Влада руку, чтобы перекреститься, я постоянно как бы видел Владу и Илью, и Творец и Руах на этих воображаемых иконах были похожи на них. Но ведь может быть много икон. Я даже думаю, что в моей церкви были бы апокрифы, где в виде Творца и Руах изображались бы два парня или две девушки. Но это именно что ПЕРЕТЕКАНИЕ ликов троицы из одного в другое – вот что это, и в какой-то момент творец захотел прийти к любимой в виде девушки – почему нет? А в другой момент Руах пришла к творцу красивым парнем – что такого? Это так прекрасно. Надеюсь, что будет и апокриф или что-то в этом духе, где, например, Творец будет любить Руах в обличии двоих парней, хах. Возможно, я вас этим загрузил уже, но поймите, что мне так живо представилась эта церковь Любви, церковь воспевания мужской и женской привлекательности, церковь красоты мужчины, женщины и в целом Человека, что я был как будто бы не здесь, я думал об этом и думал даже о том, что, возможно, и все эти траблы с Грехом на самом деле пошли от желания контроля, от испуга от своих великих чувств и мелочного нежелания принять их во всей полноте. Ну, короче, я стоял и фантазировал, а служба между тем заканчивалась – помню короткую и весьма протокольную проповедь попа по поводу каких-то святок, я уже не вспомню точно – можно было бы высчитать, что это был за день и праздник, но мне даже неохота спрашивать у Влады, суть не в этом. Помню, что в конце нас поздравили с причастием, и я был почему-то благодарен, возможно, из-за этих вот фантазий, типа, я и правда что-то здесь обрел.
Помню, мы ждали Владу в притворе – она говорила с попом там, недолго. Помню, Илья спросил:
- Ну… как ты себя чувствуешь?
- Хочу тебя поцеловать, – ответил я.
- Не надо здесь, – он улыбнулся.
Я улыбнулся в ответ.
Мы вышли на ступеньки за Владой и попом, а когда она с ним распрощалась и подошла к нам с трогательной улыбкой на устах, я спросил ее:
- Можно уже?
Она еще шире улыбнулась, и я быстро чмокнул ее в щеку.
***
Я уже говорил, что потом мы разговаривали о Киевской митрополии, но теперь скажу подробней, что мы сразу не пошли домой, а в нашу любимую бургерную. Но сначала мы долго гуляли по Миру, разговаривая, мы просто, короче, ходили вдоль проспекта туда и сюда – намотали несколько кругов. Нам с Ильей вновь захотелось купить Владе цветы, это было практически экстрасенсорно, я взглянул на него через голову Влады в этом уже практически сбитом на затылок платке с жар-птицами, он поймал мой взгляд и одновременно со мной притормозил свой шаг, пока Влада произносила какую-то длинную реплику, споря со мной. Я показал пальцем на Владу за ее спиной и изобразил жест вручения букета в ее сторону, Илья кивнул и, прикоснувшись к ее предплечью, сказал:
- Щас вернусь.
Слава его тренированным ногам – он быстро сбегал в цветочный, так, что Влада даже не заметила, продолжая спорить. Она почему-то довольно остро восприняла мои рассуждения о душности РПЦ. Не потому, что ей нравилась РПЦ, а, как я теперь понимаю, потому что у нее внутри шла какая-то борьба, и мои тезисы, вероятно, отзывались в одной из сторон этой борьбы. Помню, она все налегала на эту метафизику, и что мирское не важно, я в какой-то момент даже сказал, что нельзя, черт возьми, все сводить к посмертию, ведь даже в их религии это не приветствуется. И где-то после этого я вновь заговорил об украинстве в целом. Я почему-то очень хотел ее переубедить, наверное, мне подсознательно казалась опасной сторона, в которую она клонила – опасной в первую очередь для нее самой, конечно же.
- Знаешь, что такое вообще для меня украинскость? – сказал я. – Вот ты спросила, почему я стесняюсь, и все такое. А я действительно стесняюсь, не знаю, возможно, потому что боюсь показаться наивным. Знаешь, когда я очнулся в реанимации подростком, то вдруг как бы проснулся ото сна, в том смысле, что перед этим вокруг меня сгущались какие-то тучи… ну, бессмысленности существования.
Я поджег сигарету, мы остановились. И когда я затянулся, Влада протянула руку, тоже затянулась, отдала сигарету назад. Это был между нами такой жест доверия, почти что механический.
- А очнувшись, я понял… Я понимаю, что это было измененное сознание из-за черепно-мозговой травмы и кровопотери, но я четко помню, что вот как ты сказала об игре – я как бы заигрался в игру и забыл, зачем я здесь, а тут как будто вспомнил, и весь мир налился красками, я говорил покойной матери: «Мам, я не хочу умирать». Да я попросту был еще пьян и нахапан. Помню, что шел такой дождь за окном, я никогда еще не видел таких сильных ливней. И знаешь, я отчетливо понимал, что жизнь не только не бессмысленна, но и полна счастья. И что я останусь в этой жизни, потому что я здесь не напрасно. Мне как бы хотели показать – ты заигрался, ну, окей, ебнись с кресла и проснись уже, пускай з дамагом, но проснись. И я проснулся.
- Ты не рассказывал об этом раньше, – она взяла меня за руку, и я сжал ее руку в своей.
- Да. И знаешь, что самое паскудное в жизни? Не давать себе чувствовать. Не давать себе чувствовать, плакать, кричать, наслаждаться. Не давать, потому что… Ну, выглядит глупо, наивно. Из-за вас я это понял окончательно – влюбившись в вас. Но ты боишься показаться глупым, облачаешься в цинизм или сарказм, ну, знаешь, ты тогда сказала. И знаешь, что мне сейчас кажется, – что это отрицание естественности, искренности – и есть зло. Вот это все давно известно, уже было, да, конечно, мы вам говорили. И зло в своей сути – это неумение чувствовать. Ну, эта суеверная боязнь – «не смейся – плакать будешь». Всезнайки, боящиеся собственных чувств. Может быть, этот страх стоит и за моим вот этим отрицанием себя. Ты рассказала мне о Берлине, и я так проникся этим, потому что знаешь, что такое Украина? Украина – это жизнь. Для меня Украина – это вот это оголенное чувствование всего мира и жизнь как отрицание смерти. Представь себе границу этого Дикого Поля после монгольского нашествия на Русь, представь, как этот край был поруган, осквернен, забыт, и что же… вдруг из какой-то Венгрии и Польши, из Литвы, Татарии, Балкан, короче – отовсюду приходят какие-то злыдни, и мешаются с остатками прячущихся в чащобах русов, и ЖИВУТ. Ты понимаешь? Сколько тоски вот в этих запорожских думах, да? Но сколько счастья и веселья – это ведь и есть барокко, как у тебя в книжках, это степь до горизонта через всю Евразию, и ты один в ней посреди безвременья, травы и истлевающих костей, вот этот твой перинатальный страх, прикинь, что ты одна среди степи, и над тобою небеса, но знаешь что – в этой степи грохочет твое сердце. Понимаешь? Вот что такое Украина – грохот сердца, отрицающий саму идею смерти. Но это больше чем какая-то идея-отрицание, ведь сердце не отрицает идиомами, оно стучит и гонит кровь с гормонами и кислородом, значит – Украина вездесуща. Она стоит и смотрит на меня даже сейчас, и страшно представить, сколько народов и сословий переплелось и смешалось, чтобы породить ее невыносимую красоту. И вот она стоит, и волнует меня, и смеется над тем, что я все свожу к эросу… а я буду сводить, потому что эрос и есть мой ответ смерти, как и моя влюбленность в ее ведьмины глаза
- Они же были изотропными? – спросила Влада.
- Мне сейчас захотелось так.
- Я так люблю тебя.
- Смотри, Илья!
Этот придурок опять же запорол все на корню. Короче это был ТАКОЙ момент, чтоб вручить ей цветы, что лучше не придумаешь. И он как бы вручил, желтые розы, все дела, они даже поцеловались… И тут этот придурок из-за спины протягивает мне бледно-розовый тюльпан в красивой упаковке.
***
- Какой ты идиот!
- Бери тюльпан и не стартуй, а то прямо тут поцелую.
- Придумал бы что-то пооригинальнее.
- Поцеловать?
Я пиздец смутился. И тут он сказал Владе:
- Я как-то подарил ему на 23 февраля.
- Не вздумай ей рассказывать!
- Заткнись! – это мне Влада.
- Ну, че я буду..?
- Дай!
Она забрала у меня тюльпан и присовокупила к своим. Короче, ей очень понравилась эта история, но проблема состояла в том, что теперь она меня точно этими тюльпанами заебет. Я, набычившись, шел рядом с ними, засунув руки в карманы, но мы шли не спеша, так что я не особо и заметно хромал. Влада взяла меня под руку, в другой держала букеты.
- Илья, – сказал я ему, когда они наконец заткнулись. – Спасибо.
Илья взглянул на меня таким обжигающим взглядом, что меня даже немного передернуло. От удовольствия. Затем он наклонился к Владе и, что-то шепнув, поцеловал ее. Она довольно улыбнулась и с точностью передала мне этот поцелуй.
XII
Я так переживал из-за того, что смысл цветов был в том, чтобы красотка Влада так красиво шла по Миру в окружении нас с красивым букетом в руках. Но так как она взяла и мой тюльпан, то все в принципе и получилось, как я хотел. И в этом было даже что-то сексуальное, признаюсь – никто, кроме нас, не знал, что этот тюльпан на самом деле предназначался мне – ну, может, просто девушке преподнесли цветы два парня, но я-то знал, и меня почему-то согрела мысль о том, что, может быть, где-то очень глубоко я и не хромой урод, а бледно-розовый тюльпан по типу этого. Что Влада – это роза, величественная, пахучая, чудесная, но ведь тюльпан тоже по-своему красив и привлекателен… Она, как будто читая мои мысли, нюхала розы и как-то особенно жадно отдельно вдыхала запах этого тюльпана. Я представил, что несу этот тюльпан и время от времени вдыхаю его запах, как она. Боже, я так люблю Илью. Но, возможно, – это я тогда подумал, – мне стыдно проявлять эту любовь к нему на людях не потому, что мы оба мальчики, а потому, что я хотел бы быть красивым рядом с ним, но я такой, как есть. Когда я падал, то по ходу уебался головой о бетонный навес подъезда – возможно, это и спасло меня, но сделало уродом. Моя голова раскололась, как орех, перелом основания черепа был не открытым, но со смещением, от этого голова вообще не особо пропорциональна, хотя это, возможно, и не так заметно. Забавно, что когда я, например, краснею, то по носу и под глазами теперь образуется такая багровая линия – именно по разлому (хотя он, конечно, сросся). Но хуже всего челюсти и лицевой нерв. Челюсти я раздробил в нескольких местах и поначалу вообще не мог открыть рот, но постепенно разработался. В клинике челюстно-лицевой хирургии в Киеве (прикольно, что это именно та клиника, из пьесы Подервянского) мне и родителям сказали, что лучше мою челюсть вообще типа не трогать, потому что можно попытаться ее по новой срастить, но это будет длиться долго, еще неизвестно с каким результатом, а организм идет по пути наименьшего сопротивления, поэтому, если работает, то лучше и не трогать. Меня совсем не улыбало ходить в гипсе и хавать через трубочку еще полгода, так что я не особо расстроился. Траблы с челюстью были заметны, по сути, только мне, да и то в виде характерных пощелкиваний при зевоте и пережевывании чего-то крупного, скажу, как есть – я не особо ощущал этот множественный осколочный перелом. Да вообще тебе многое кажется диким, пока не попробуешь – например, я все детство почему-то считал, что разрыв барабанной перепонки ведет к пожизненной глухоте, а оказалось, что она зарастает сама, и даже пока разорвана – все чудесно слышно. Или вот, например, черепно-мозговая травма. Казалось бы – кошмар, а если через ухо в жидком виде вытекает оболочка мозга, то вообще. Но оказалось, что если сама кора не задета, то ты, конечно, головы не поднимешь особо, но соображаешь, как и до этого. Я лишь один раз видел галлюцинации, да и то потому, что врачи-убийцы что-то до такой степени налечили, введя мне какую-то не ту хуйню, что у меня резко поднялась температура, и я помню, говорил дежурившему возле меня отцу:
- Пап, вот так скучно лежать, а если смотреть на штукатурку, то из этих разводов можно нарисовать какой угодно мультик и смотреть его.
Это была даже не вполне галлюцинация – просто я смотрел на эту штукатурку и с удивлением обнаружил, что я как бы могу что-то рисовать этими разводами – они сливаются в какую я захочу картинку. Вот и все, не бог весть какая галлюцинация. Температуру мне сбили капельницей, и все прошло.
Но перелом челюсти имел для меня другое неприятное последствие – лице сделалось еще более уебищным, в смысле, асимметричным. На самом деле самым проблемным оставался паралич, который мы как только ни лечили тогда, но сам я понимал, что челюсть у меня теперь сделалась еще более иницельской, чем до этого. Я не считал себя красавцем до этого, но в принципе моя внешность мне нравилась – даже лицо, хотя я и не считал его своим главным козырем. Как я уже говорил – мне нравилось мое тело. Ну, за некоторыми исключениями, конечно. Я и сейчас широкоплечий, почти как и Илья, и, несмотря на малые физические нагрузки, все еще довольно подтянут. Росту я метр восемьдесят шесть, в школе с двенадцати лет активно занимался физкультурой и даже был вратарем школьной команды на паре матчей (вообще-то я был запасным вратарем – обычно на раме стоял старший парень, но пару раз я его заменял там по разным причинам). Возможно, вы удивитесь, зачем мне это было нужно при моей совсем не маскулинной натуре, но я и сам удивляюсь. Я, например, ненавижу футбольных болельщиков, совсем не понимаю в этом смысла и никогда не болел, по сути, даже за свою команду. Когда я был на замене, то просто смотрел и прикидывал, как лучше действовать против того или другого вражеского форварда, как они разыгрывают мяч перед штрафной площадкой, кто из них самый меткий по пробитию штрафных и т. д. Короче, это были чисто утилитарные мысли, и мне как бы даже было насрать, проигрываем мы или нет, меня в этом волновал только настрой противника, его возможная большая активность или, наоборот, расслабленность при сильном разрыве в счете. Ну, такое. Я думал о том, как в случае замены придется выстраивать взаимодействие с защитой – это было сложнее всего, почему-то очень часто в школьных командах все, мечтая быть форвардами, при первом перелете мяча на другую половину срываются с мест и бегут в никуда, в том числе защита. И потому я, не особо надеясь на тренера, старался выстроить взаимодействие с защитниками таким образом, чтобы они отходили от штрафной только при какой-то уж совсем беспроигрышной ситуации. Ну, знаете, – когда гол в чужие ворота, то забила вся команда, а когда в ваши – виноват один воротник. Но я думал об этих вещах, наблюдая за матчем – если на защите стояли пацаны моего возраста плюс-минус год, то я мог их застроить, если старше, приходилось как-то мягче им внушать – ну, все такое… Но я не болел. Вот вообще. Но мне было действительно интересно именно играть. На первую игру меня как-то привел тот одноклассник Витя, о котором я рассказывал. Я помню, это просто была тренировка, в одной команде был некомплект, и меня уломали, я побегал в полузащите и… мне понравилось. Знаете, о чем я думаю сейчас, – в футболе и вообще физкультуре меня привлекала телесность. Вот это ощущение после игры, когда ноют мускулы и сухожилья, когда сужаются сосуды и ты как-то ровно и размеренно дышишь, когда ты становишься потом под освежающий душ, когда он как будто обжигает вспотевшую кожу. Понимаете? Я просто ходил с одноклассником на тренировки и играл, потом я типа ради прикола стал по чуть-чуть заниматься на турнике и бегать, где-то там меня поставили на ворота и всем неожиданно зашла моя игра. Не знаю, мне казалось, что никто просто не хотел стоять на раме, и поэтому они меня хвалили, но когда меня взяли запасным в школьную команду, то я совсем немножечко в этом засомневался. Но мне нравилось быть голкипером. Меня в основном тренировал даже не наш физрук-алкаш, а основной воротник – старший на два года парень. Он научил меня всему, что я знаю: как угадывать направление удара еще до самого удара, чтобы прыгнуть раньше и успеть долететь-дотянуться до мяча, я особенно гордился умением вытягивать мячи, как у нас говорили «в-у-падении», и пару раз на важных играх вытягивал девяточки, которые, по общему мнению, вообще «не берутся», и когда меня пару раз называли после такого «вратарь-кошка», мне было безумно приятно. Вы понимаете, футбол — это тоже телесность. Вот когда ты прыгаешь и ловишь этот мяч. Это такой полет, контроль над своим телом, и даже самое неприятное – падение на землю, но когда ты вытащил и падаешь с мячом, то сам этот удар и это микросотрясение тоже по-своему приятны, потому что ты чувствуешь свое тело и чувствуешь себя живым. Именно поэтому я так пристрастился к пробежкам, турнику и брусьям. И эта энергия в теле после занятий спортом мне безумно нравилась – и то, что плечи расправляются, и то, что ты пружинишь при ходьбе, как этот мяч или кошка, и то, что дышишь ровно и спокойно. Дома я делал растяжку, шпагат, отжимание и скручивание – с прессом почему-то особенно удавалось, и у меня даже были заметные кубики, хотя и не особо ровные. Мне нравилось ощущение в теле и, признаюсь, нравилось само тело. Не знаю, будете смеяться, ну и смейтесь, но где-то в четырнадцать лет я впервые понял, что мне приятно смотреть на свое тело в зеркале, и не просто смотреть, а возбуждаться, глядя на себя. Тут сложно вообще, ну, окей, я попытаюсь объяснить. Мое половое развитие было ну не то чтобы особо странным, но таким, ну, скажем, я нахожу его своеобразным. Я помню, что меня с какого-то раннего детства безумно привлекали девушки, но в этом влечении как бы было что-то очень платоническое, или, я даже не знаю, скорее, может, что-то потаенное. Мне вообще нравилась красота, и мне казалось, что красота девочек — это квинтэссенция всей красоты вселенной, ну, бля, как в этом дас парфюм, но только не запах, а все сразу. И удивительно, что это меня совсем не ранило, а только вдохновляло. Я часто еще в младших классах фантазировал, что встречаюсь с прекрасной девочкой, и мне было так приятно признаваться ей в любви, и удивительно, что я ничего не требовал взамен, приятно было именно, что я ее люблю. Потом, когда к нам в класс перевелась Катя, я влюбился в нее с первого взгляда, и мне было просто приятно от того, что я ее люблю. Я даже не хотел ей признаваться в этом поначалу. Она просто казалась мне очень красивой, и это было классно, ну, один раз, ладно, была ситуация, когда я чуть не признался ей, но это было еще классе в третьем, знаете, бывает период в младших классах, когда девочки враждуют с мальчиками и даже как бы воюют, мальчики против девочек, устраивают всякие пакости и все такое. Так вот, помню, я с другими мальчиками тоже включился в эту войну, но мне было это внутренне не особо приятно, и как-то в разгар такого конфликта я на перемене подошел к Кате и сказал: «Можно с тобой поговорить?». Там были и другие одноклассницы, и она, помню, как-то воинственно сказала: «Что такое? Говори». Ну, типа она, вероятно, предполагала еще какую-то пакость с нашей стороны и воспринимала меня как представителя команды мальчиков – было на то похоже. Я сказал: «Давай поговорим наедине», – и она чуть было не пошла со мной, но что-то помешало, я не помню что, кажется, нас позвал учитель, что-то в таком духе. Знаете, что я хотел сказать? «Давай дружить». Я почему-то это четко помню, хотя это такая банальность, но я помню, что это значило для меня – типа «какой фигней мы занимаемся, зачем мы пакостим друг другу, я ведь не ненавижу девочек, наоборот, они мне очень нравятся, а больше всего Катя, я сейчас скажу Кате «давай дружить», и все это закончится» – ну, понимаете? Но когда мне помешал случай, я не подошел больше к ней. Я сначала заметил в себе какой-то стыд по поводу этой попытки. Я еще не понимал его, но в этом было что-то «а вдруг она будет смеяться с этого». И мне в каком-то смысле было легче от того, что нас прервали. Я не особо долго об этом думал тогда, ну, ребенок, мне именно что нравилось вдохновляться девочками, совсем их даже не трогая, мне нравилось думать о них, в этом была великая сладость, но я даже не думал о взрослом тогда, забавно, что в детстве я даже не мастурбировал, и желания особо не было. Я, конечно, видел обнаженку по телеку там, в журналах, в этих еще примитивных гифках на телефонах, знаете, и обнаженные женщины меня возбуждали, но что-то в этом было… Мне иногда казалось, что в этом тоже содержалась нотка того чувства от несостоявшегося разговора с Катей, типа… Типа мне не нравилась безраздельная власть этой женской привлекательности надо мной (если бы я только знал тогда, что захочу быть этой Властью, то есть Владой, изнасилованным, ну, щас не об этом). И одним из самых ярких ощущений моего переходного возраста было именно то, что чувство дискомфорта вот это детское вылезло как бы на первый план. Это все я описываю так подробно сейчас, а тогда даже, по сути, не осознавал, но это было внутри. Типа вот я хочу женщину, да, но от этого больно, потому что… Блин, короче говоря, когда я смотрел на себя в зеркале и чувствовал возбуждение от своего тела, мне казалось, эта боль уходит. Я этого стыдился, но, когда я представлял себе, что какая-нибудь девушка смотрит на меня с тем же вожделением, что и я на нее, я, казалось, улетал в небеса. Блин, это смешно, но по ходу меня больше всего возбуждала наша РАВНОПРАВНОСТЬ в этот миг. Когда в подростковом возрасте идут эти гормоны, знаете, и вот эти детские игры становятся немного недетскими – ну, знаете, мальчики не просто дергают девочек за косички, а лапают или даже зажимают где-то в коридоре. Мне это было дико неприятно, я никогда никого не лапал так, и надо мной посмеивались по этому поводу. Мне не казалось прикольно лапать или зажимать девчонок, которые этого не хотят, и даже если представить, что они «ломаются», а на самом деле хотят – то это тем более какая-то хуета, ну, так мне казалось. Посмеиваясь, мне говорили, что я сам как девчонка. Я внутренне этому удивлялся, потому что они произносили это как оскорбление, но мне не казалось, что быть как девчонка – это плохо. Почему, когда девочка лазает по деревьям, дерется или ругается матом, то она как мальчик, и это звучит почти как похвала, а когда «как девочка» – это должно быть оскорбительно? Возможно, я хотел быть «как девчонка», в смысле – быть красивым, романтичным, привлекательным. Да, это стопудово было, но я сам этого стыдился какой-то своей частью, понимаете? Ну а как ты не будешь стыдиться, если тебя стыдят за то, что ты аккуратный, или послушный, или стеснительный, краснеешь, «как девчонка», и сочиняешь стихи? Если ты не хочешь никого зажимать в коридоре и лапать, а когда две старшеклассницы, по ходу подражая пацанам, зажимают в коридоре и лапают тебя, ты вырываешься и краснеешь, но, вырвавшись, ты ощущаешь какую-то сладость от собственного смущения и всей этой ситуации. Думал ли я, что со мной что-то не так? С одной стороны – нет, мне хотелось быть таким, каким я есть, потому что в противном случае – зачем вообще БЫТЬ? А с другой стороны, это общество давило на меня, и я не знал, что с этим давлением делать. Возможно, какая-то часть меня взращена этим обществом или еще родителями, и это она давила на меня? Знаете, вспомню, пожалуй, один случай, как я первый раз пришел на школьную дискотеку, не помню, это было лет в тринадцать или даже в двенадцать, ну, где-то там, рядом с тем, когда я стал играть в школьной команде. Я помню, что оделся как-то так старательно, ничего такого, кажется, даже что-то максимально спортивное, но, я помню, долго подбирал прикид и расчесывался, надушился дезодорантом и пошел. Помню, мне там дико понравилось, и я с таким удовольствием танцевал – я не занимался танцами до этого, но любил слушать музыку и танцевать у себя в комнате, ну и плюс я занимался физкультурой. Кажется, меня даже хвалили какие-то девчонки, и вообще я был вдохновлен. А когда я вышел на улицу подышать – меня в коридоре толкнул старший парень, я его почти не знал и, блин, не то что испугался, а как-то удивился – какого хуя он вообще ко мне пристал? Как раз в коридоре никого не было, а он стоял и угрожающе смотрел на меня, я спросил:
- Что такое?
И он, помню, понес что-то невообразимое, но очень ядовитое. Типа: «Че, натанцевался?» – я говорю: «Что не так?» – а он… Ну, я уже не помню дословно, но там было в духе «ты думаешь, первый раз пришел на дискотеку и такой весь из себя, чего ты нарядился?» Я помню, он дернул меня за олимпийку, хотя ничего особенно нарядного в ней не было, кроме того, что, может быть, она мне шла. Короче, он не бил меня, и, кроме этого, даже ко мне не прикасался, но он именно вербально оскорблял, хотя не в этом даже дело. Дело в этой злобе, от которой я опешил, я просто не понимал, почему он так зол на меня, ведь я его почти не знаю, он, казалось, был зол просто на то, что я стильно оделся, и красиво танцевал, и был центром внимания. В конце, я помню, он как-то очень ядовито заключил, по типу: «Не выебывайся, понял?» – и даже по ходу не требуя от меня прямого ответа, пошел назад в школу. А я был так этим шокирован, что пошел на улицу – мне рили стало очень душно. И знаете что – под дверями курил наш физрук-забулдыга. Я помню, даже поздоровался с ним, уходя, и не сразу понял, что он, скорее всего, слышал, как меня оскорбляет тот парень, но даже не посчитал нужным хоть как-то защитить меня. Идя домой, я думал об этом в том числе – ну почему он не вмешался? Я вытащил для него вот совсем недавно несколько неберущихся мячей, а он не посчитал нужным даже осадить того придурка, а тот придурок, между прочим, даже не играл в футбол. Но еще я думал над причиной этой злобы. Я вспомнил об этой ситуации сейчас, потому что думаю, что, может быть, из этой горечи когда-то и родился Собеседник? Возможно, страх того, что Катя не захочет быть мне другом, и потенциальный стыд от того, что над этой моей попыткой посмеются, смешались с болью от ощущения власти женской привлекательности надо мной и горечи от ощущения злости этого парня по поводу моей привлекательности, перетасовались и родили в моей голове какую-то злобную сущность? Не знаю точно, но я слышал из психоанализа о том, что всякая чепуха, к которой постоянно возвращается пациент, на самом деле вовсе не чепуха, а нечто очень важное. А для меня вот этот образ танцев почему-то важен. Хотя бы потому, что после этого случая я танцевал лишь единожды. Уже в пятнадцать лет и сильно пьяный, до такой степени, что слабо себя контролировал, это было даже не в школе, а в близлежащем клубе, где, впрочем, собирались все наши, и это был то ли чей-то выпускной, то ли уже не помню. Я был в той стадии опьянения, когда еще эйфория, но уже начинает чрезмерно шатать и подташнивать, я очень много выпил перед тем и даже не помнил, как очутился в том клубе, но танцевал самозабвенно, почти как тогда ребенком, в каком-то угаре, помню, что буквально швырнул через голову свитер и бросил его куда-то нахуй, оставшись с голым торсом и так и дергаясь под какой-то ебучий грайм – помню многоголосый визг девчонок, на который было поебать, я танцевал сам в себе, танцевал. Помню, в какой-то момент меня тащат за руку, и я вижу перед собой знакомую из другой школы, очень мутно вижу, и она меня тащит, и я помню злость на ее лице, она что-то мне орет, что-то пустое, типа:
- Что ты творишь? Ты думаешь, бухой, так море по колено?!
Что-то такое, я ебу, я молча оттолкнул ее и дальше танцевал. Не помню через сколько времени я вышел покурить и сидел на бетонных ступеньках один, в одних джинсах, вспотевший, непричесанный, меня тошнило и с каждой затяжкой тошнило все сильнее. Я затянулся и услышал над собой:
- Богдан…
Я с трудом поднял голову – то была та знакомая из другой школы, она стояла и как-то странно смотрела на меня, а затем сказала:
- Ты классно танцевал.
Меня затошнило – я встал и пошел блевануть. Это было вообще последний раз в жизни, когда я полноценно танцевал. А, и еще забавная деталь. Уже после школы я узнал от одноклассника, что тот парень, который меня в детстве обругал на школьной дискотеке, возможно, был геем.
***
Я опять рассказываю вам какую-то ебучую хуету вместо того, чтобы наконец перейти к сути истории, ну, потерпите уже, тут немного осталось, я просто хочу сказать, что мне это также кажется важным в связи с тем нашим разговором об оправдании зла. И еще я хочу пояснить, что, идя тогда по проспекту Мира в конце февраля, я чувствовал себя вот этим бледно-розовым тюльпаном рядом з желтой бесподобной розой, и эта мысль вернула меня в детство, когда мне казалось, что я тоже могу быть красив, и любим, и желанен, как этот тюльпан, ведь он не хуже розы, он просто другой. И мне казалось, что по-настоящему любить вот эту розу я способен только полюбив себя, не отвергая, не стыдясь себя, какой бы я ни был. Это причастие так на меня влияло? Я не знаю. Но знаю, что оба этих идущих рядом человека преподнесли мне какие-то величайшие дары, и пусть я еще не во всем был готов их принять, но даже толику этих даров вкушая, я блаженствовал. Илья принес мне дар принятия себя, наверное, так будет максимально точно, потому что его страсть ко мне меня как будто возродила. Ведь я ненавидел себя после своего падения. Только сейчас я понимаю, что у меня было что-то вроде очень длинного ПТСР – я когда-то с удивлением осознал, что года два после травмы не случалось дня, когда бы я не думал о смерти. Выпадать из общественной жизни в пятнадцать лет на самом деле совсем не прикольно – все кажется бессмысленным и обреченным, поначалу очень остро, а потом ты просто привыкаешь. В то время я лишился большинства приятелей, это на самом деле происходит очень быстро – вот ты играл в футбол и даже имел какие-то успехи, тебе казалось, что с тобой общается полгорода, да плюс, конечно, собутыльники, какие-то шалавы, а тут раз – и ты становишься лежачим или на костылях и вмиг делаешься совсем никому не нужным. Это было одно из первых серьезных открытий инвалидности. А самым первым и, возможно, самым главным было то, что твое тело – пластилин. Это довольно трудно тоже объяснить, но мне кажется, с детства большинство из нас воспринимает свое тело как синоним своей личности, ну, собственно, себя, и оно кажется нам чем-то неизменным, неделимым и т. д. А уже в реанимации меня шокировало то, что на самом деле мое тело – пластилин. Его можно смять, погнуть и даже оторвать кусок, оно не неделимо, и от этого ощущения собственное тело для меня лишилось некой святости, оно как будто перестало мне принадлежать. С того момента я стал относиться к своему телу с некой отстраненностью, и это в каком-то смысле не изжито до сих пор – отсюда гораздо более наплевательское отношение к своему внешнему виду, чем в юности. Я даже помню какую-то тихую грусть от подтверждений этого, вот именно что не злость, не протест, а какую-то тихую, вполне себе соглашательскую грусть. Бывало, в больничках старшие мужики, сопалатники, например, обсуждали свои любовные похождения, помню, был один такой особо феерический пиздун в Сумах, такой классический альфа-самец, у него была молодая жена и дочь, а он поебывал одну сиделку старой бабки тут, в больнице, и постоянно разглагольствовал об этом. Один раз он особо разошелся вечером, до такой степени, что даже в какой-то момент осадил себя, типа:
- Ну, мужики, ну, вы же все понимаете, да? Ну, может, кроме Боди, но ему щас вообще не до этого.
Я даже не стал спорить, потому что понимал, что мне теперь никогда не будет до этого, а если и будет, то… Знаете, что забавно? Он как-то ебал эту свою сиделку прямо там, в палате – я лежал довольно далеко от его койки и даже не сразу вдуплил, что происходит, между мной и его койкой лежали и мирно дрыхли еще два человека. Я просто проснулся среди ночи и отдаленно различил какую-то возню, не сразу и обратил внимание, потому что в палате были лежачие – ну, наподобие, как будто кто-то возится с судном, обычная херня. Потом я, правда, услышал женский шепот. Короче, смейтесь или нет, но я не выдумываю – этот феерический акт буквально длился не больше минуты (по-моему, даже меньше) – как в тех анекдотах. Этот альфач попыхтел, а она повздыхала, а потом, вот это не ролф, он ее спросил:
- Ты кончила?
Ну, то есть серьезно. Как вы думаете, что она ответила? «Да». Таким невыразимым тоном. Я чуть не заржал, но вообще ситуация мне была неприятна вот почему. Они потом лежали и разговаривали шепотом довольно долго. И выглядело так, что этот альфач типа уже спустил и хочет спать, а эта дура продолжает ему что-то заливать про свою жизнь с мамкой и бабкой. Этой самой, у которой сломано бедро и с которой она щас сидит. Совсем молодая телка, и она чесала ему, как на приеме у психолога, – мне не то что было ее жалко, но это было как-то антиэстетично, что ли. Типа вот эта открытость мне казалась слаще этого смешного типа-секса в полминуты, но я не понимал – чтобы прийти к этой открытости между тобой и телкой, надо быть таким вот уебанским Опанасом? Ну, серьезно? Блин. Меня так заебали эти мысли, что я было решил назло им встать и с покерфейсом выйти на парашу в коридор, но потом вспомнил, что в темноте пока найду те костыли (они стояли под окном, и по утрам я прыгал к ним на одной ноге, опираясь на соседнюю кровать с перекладиной), то вполне могу ебнуться на пол, еще не хватало. И я просто повернулся набок. А на второй день еще тот уебан у меня спрашивал, не разбудил ли он меня. Оказалось, что он специально ебал эту телку в палате, чтобы посмотрел его сосед по койке (лежачий), а когда она запалила, что тот смотрит, то он сказал ей, что у него такая травма, что глаза не закрываются, когда спит.
- А потом еще ты заворочался, короче она чуть не спалила, – разглагольствовал ебака-терорист.
- Понятно, – кивнул я и попрыгал за костылями.
Но в принципе мне действительно было похуй, потому что я не мог рассчитывать теперь даже на такой перепихон, ведь этот Опанас хотя бы был всего лишь с трещиной в одном-единственном позвонке, а не переломан вкось и вширь, и в принципе он был прав, когда говорил, что мне щас не до этого.
Второй памятный раз был, когда я поругался с матерью, не помню, кажется, я тогда тоже ходил на костылях, но уже дома. Начать стоит с того, что моя мать была красавицей и жуткой модницей. И, забегая наперед, возможно, отец в чем-то прав, когда говорит, что именно ее влияние и сделало из меня «вонючего пидара», хотя по поводу вонючего ему бы помолчать, я очень чистоплотный и гигиеничный – всегда был. Впрочем, это ведь тоже пидарская черта, наверное, по его мнению. Так вот, я действительно всегда больше общался с матерью. Знаете, я очень на нее похож внешне – не только глаза, но и лицо, цвет волос, и даже врожденная склонность к варикозу в виде сосудистых звездочек на коже ног с раннего возраста. Мне нравилось общаться с матерью, но степень нашей близости отец преувеличивает. Нельзя сказать, что мы были особенно близки. Сейчас мне кажется, что она была мужененавистницей. Это вот что-то тоже подростковое у нее или даже детское, ну, там свои траблы – она росла с отчимом, я сейчас не хочу углубляться. Но она всегда с такой гордостью рассказывала, как любила драться с пацанами в этом детском возрасте, и что она была предводителем девчонок в этих войнах… Это выглядело на самом деле очень глупо, но я слушал и кивал, еще ребенком. Мой пол мешал ей сблизиться со мной? Не знаю, может быть. Я помню, что она очень негативно воспринимала мои подростковые изменения – когда у меня начал ломаться голос, расти волосы на теле, раздавалась грудь и расправлялись плечи. Она говорила все время одно: «Ты стал такой грубый!» Грубый. Это всякий раз произносилось с явственной брезгливостью. Мне было обидно и больно, но я НЕ БЫЛ грубым – вот в чем дело. Моя грубость заключалась в том, что я мог подтянуться восемнадцать раз на турнике, пробежать норматив армейского марш-броска, вытащить мяч из девятки и подать его на середину поля точно в ноги форварду – это была грубость? Ну, если это была грубость, то она мне нравилась. Я не могу сказать, что я логически там как-то это обосновывал, но мне физиологически казалось классным и красивым сосредоточенно наблюдать за игрой, ожидая замены. Да, мне не казался привлекательным неудержимый ор пьяных болельщиков на трибуне или в баре перед телеком, но ведь не обязательно сводить всю маскулинность к этому. Что отталкивающего в моем взрослении, в моем высоком росте и расправленных плечах, в моем потрясном низком голосе, в моих сильных руках, моей колючей постоянно растущей щетине? Что такое вообще привлекательность парня? Для меня она была в пружинной сосредоточенности перед прыжком на мяч, в приятной ломоте в уставших мышцах, даже в любовании своим телом в зеркале. Почему привлекательность парня — это обязательно грубость? Почему это обязательно ассоциируется с агрессией, или хамством, или насилием, или конкуренцией? Почему надо видеть футбол в агрессивной игре (которая вообще-то не приветствуется), видеть столкновения в штрафной, а не видеть того, как, умываясь после игры возле какой-то колонки, парни из другой команды трогают тебя за плечо и так красиво говорят: «А ты классно тащил, прямо кошка!» Почему привлекательность парня — это какие-то драки, конфликты, бравада, а, например, не искренний самозабвенный танец на дискотеке, после которого девчонки говорят: «Ты классно танцевал». А что если привлекательность парня – это зачитывание или написание стихов любимой девушке? Почему привлекательность парня — это не восторг от собственного полового возбуждения, робкое прикосновение к своему телу в душе или под тяжелым одеялом, или одинокий плач навзрыд от огромного неразделенного чувства? А что если привлекательность парня – это в том числе искренне влюбиться в другого парня, и пойти с ним на свидание в кафе, и получить от него букет красивых бледно-розовых тюльпанов на 23 февраля? Что если привлекательность парня – это секс с другим парнем в самоупоенном восхищении от того факта, что вы оба парни? Илья такой красивый, что я просто задыхаюсь иногда от этого, но в нем нет ни капли того, что принято считать этой дурно пахнущей, орущей, маслянистой маскулинностью, но при этом он для меня сосредоточение маскулинности – но той, которая мне очень нравится.
Что же до матери, то она была тоже красивой. У нее был вкус, и если у меня есть вкус, то признаю, что это от нее. Она не была верна отцу. Я знал это с самого детства, хотя тогда и не понимал до конца. Но это уже было привычным. Иногда я думаю о том, что холодность отца ко мне была вызвана какой-то его ревностью даже не ко мне, а к моему более близкому общению с матерью, чем с ним. Было такое ощущение, что от ее измен и безразличия отец как будто прячется за этой нарочитой и орущей маскулинностью, но всякий раз я видел за этой всей картонной громкой «мужественностью» некую очень детскую растерянность и плач от неприятия и отвержения. Может быть, поэтому в моем взаимодействии с миром я выбрал не его паттерн, а материнский, знаете, ее ответом на его доебы было это «быть красивой», и мне тоже хотелось быть красивым, но как парень. И даже в юности как будто получалось иногда, но потом…
Короче, как-то мы поссорились, я говорю, что был дома, но передвигался на костылях, мы вообще часто ссорились, и мне иногда казалось, что в этих ссорах ее ненависть ко мне была большей, чем таковая к отцу, мне сложно сказать, почему – может быть, потому что я был похож на нее? Я иногда думаю об этой ее ревнивой зависти к парням в детстве и юности, и не вполне серьезно предполагаю – а что если она так злилась на меня потому, что видела во мне ту версию себя, которой ей хотелось быть тогда? Знаете, меня нередко бил отец, и даже я однажды дрался с ним, всего лишь раз, но было, но почему-то несколько избиений со стороны матери я, кажется, лучше всего запомнил. Особенно одно – лет в тринадцать, когда я принципиально с ней не соглашался, уже не помню из-за чего на самом деле, но это был подростковый возраст, мне именно что важно было отстоять свою точку зрения, и это ее так взбесило, что она повалила меня на пол. Вы знаете, мне кажется, я мог бы ей сопротивляться, я был тогда уже достаточно сильным и выносливым, но я считал себя ребенком в том смысле, что спорить я как бы уже имел право, а сопротивляться избиению еще нет. Так вот – она заголила мне спину и била ремнем по спине. Но предварительно она прижала коленом мою шею к полу, наверное, я мог бы вырваться, но я окаменел и молча сносил удары, главное – я не хотел кричать и не кричал. Ни разу не вскрикнул, как та девочка из «Бесов» Достоевского (не знаю даже, нахуя я это вспомнил щас) – и мать бесилась от того, что я молчал, и била, била. Не помню, как она угомонилась – я молча встал и пошел к себе. Мне было стыдно, больно и обидно. Но также мне было как-то приятно от осознания ее бессильной ярости тогда. Возможно, мне казалось, что я был красив в этом своем молчании. Но это было давно, а тогда, после очередной больнички, мы опять сильно поругались, уже не помню почему, и в какой-то момент она мне выдала… Короче, кажется, я мимоходом взглянул в зеркало во время спора – у меня была эта ее привычка поглядывать на себя в зеркало краем глаза постоянно, как бы то ли любуясь, то ли сверяясь, хорошо ли выгляжу в моменте, вообще автоматически, и она вдруг сказала со злостью:
- Что, неприятно видеть себя в зеркале?
- В смысле? – сказал я, сразу не поняв.
Это были очень пиздецовые времена, она сама время от времени лечилась, отец почти ушел из дома, началась война, все рушилось… И мы часто сорились, иной раз почти постоянно. Я не мог уйти, как отец, и приходилось ссориться, хотя, мне кажется, я, как мог, избегал.
- А помнишь, что ты говорил своим собутыльникам тогда? Не помнишь? «Скажите моим старикам, что я сожалею». Старикам? Это я-то старуха? Мне тридцать три года!
- К чему ты это, нахуй?
- А погляди на себя в зеркало – кто теперь из нас выглядит старше?
Возможно, вам эта перепалка выглядит странной, но мне нет – поверьте. Это именно такого рода хуета между нами происходила с моего подросткового возраста, почти не прекращаясь. Но тогда мне, признаться, нечем было крыть, и мне показалось, что она победила в этом споре, потому что «ты не красив, а я красивая» значило – я победила, и с этим ничего нельзя было сделать, потому что это было правдой. Я ненавидел свою внешность, и единственным спасением, чтобы не довершить ненароком начатое, было – закрыться от себя и от людей или закрыться в себе, ну, короче, «убрать зеркала». Ведь другие люди в сути – тоже зеркала, да? С того времени я начал закрываться в себе, в интернете, в компе. Там я мог быть анонимен и НЕ ВИДЕТЬ себя в глазах других людей. Тем более, когда я остался один и отец окончательно переселился в рашку; я был инвалидом – нахуй мне вообще из дома выходить, по сути, кроме как за хавкой, да и то тут рядом? Я все чаще бодрствовал ночами, спал почти до вечера, что-то читал, смотрел, играл, сочинял фанфики и обсуждал чужие – анонимно, офкорс. Иногда Витя с женой вытаскивали меня в какой-то общепит, по праздникам и так. Кроме них, я почти уже ни с кем не общался. Та история со сватаньем была болезненной, но что-то не особо, как-то глухо – не сравнить с той историей с Катей, из-за которой я и стал калекой. И тут Илья… Почти случайно. Что было бы, если бы мы не встретились? Знаете, что он говорил мне, кроме того, что любит меня? Он где-то вычитал и говорил, что человек привыкает к внешности близкого человека очень быстро, за какую-то неделю-две, и после этого в его голове существует не реальная внешность близкого, а некий усредненный образ, ну, как в мультике или рисунок карандашом. Вы знаете, возможно, что-то в этом есть, потому что когда после ухода матери прошли годы, то я заметил, что помню ее именно какой-то усредненной, хотя по идее должен помнить ее разной, и двадцати, и тридцатилетней. Но Илья вот так мне говорил, а я ныл, а он когда-то сказал мне, что ему нравится моя «захлебывающаяся речь» – я не понял, а он объяснил, что когда я увлеченно говорю, то как будто захлебываюсь, и это почему-то дико привлекательно. Может, это что-то в духе того, как я люблю Владину шепелявость? Ну, короче, я много ныл, а он именно что как будто бы это сносил терпеливо, с улыбкой. Иногда он говорил, что влюблен в мой член или задницу, и тогда я бесился, а его это очень веселило. Не поверите, но я с ним вновь стал заниматься физкультурой. Спорадически, конечно, и не как в юности, на турники с ним ходил только за компанию, так, поболтать, стоя рядом и жуя травинку, пока он кувыркается. Ну да, полюбоваться им на этих турниках и помечтать, как эта красота меня дома отлюбит, или же сама отдастся мне – по настроению. Но вот дома по утрам мы вместе отжимались и качали пресс, не то чтобы всегда (он-то всегда, а я ленился), я почему-то запомнил, что я как-то с ним поспорил, смогу ли сделать сходу триста скручиваний, и, блядь, не поверите, сделал. Привстал и сел отдышаться, чтобы сердце нахуй не стало, и победно улыбнувшись, говорю ему:
- Чем будешь… хух… расплачиваться?
А он, подонок, повалил меня на голую спину и поцеловал взасос.
- Я потный, – попытался оттолкнуть его, но он опять поцеловал, обняв одной рукой за обнаженные потные плечи, а второй уже нахально стягивая с меня спортивки.
- Перестань, – еще беспомощно вывел я на вдохе, но, когда он жадно скользнул рукой по моей обнажившийся ягодице, я окончательно сдался и обмяк, лишь ощущая при этом, как член стремительно наливается возбуждением.
***
Я почему-то мельком вспомнил об этом, когда размышлял о том тюльпане. И, как у меня в последнее время частенько бывает, вспоминая, как Илья меня засасывал и лапал – я дико захотел Владу. Но с Владой в том-то и был прикол, что, желая ее, можно было с наслаждением себе в этом отказывать, и чем сильнее жаждешь, тем приятнее себе в этом отказывать. Ну, до определенного предела, конечно, (щас эта дура прочитает и поймет, что и в этом она побеждает меня – ну и пусть). Это резкое желание тогда удовлетворилось лицезрением того, как она вновь понюхала тюльпан – по мне в этот момент прошло эхо того чувства, что я испытывал, купаясь с ней вдвоем в том сне, чувства глубокого с ней единения. И, наслаждаясь этим чувством, я сказал ей:
- Владиславка, а спой песенку!
- Что? Какую?
- Ну, ту, немецкую, про цвета, Илья…
Я щелкнул пальцами – это уже набрался у Влады.
- А, эту, да… – он даже пропел немного. - Грюн, грюн, грюн зинд алле майне Клайдер.
- Блин, ну, неудобно… – Влада залилась стыдливым смехом и оглянулась, мы как раз шагали по аллейке возле кинотеатра на Миру.
- Ну, негромко, – прыснул Илья, – давай я запою, давай… Грюн, грюн, грюн зинд алле майне Клайдер…
- Грюн, грюн, грюн ишт аллеш ваш их хаб! – прошепелявила Влада.
Вообще вот эта шепелявость особенно потрясна, когда она говорит или поет на немецком, она делается какой-то такой… фаустианской – ну, я не могу подобрать другого слова! Да и у меня небольшой бэкграунд на немецком, но Владе удивительно идут все эти германские коннотации, я иногда, глядя на нее, размышляю о том, насколько вообще балто-славянские народы близки к германцам, потому что, ну, вот что-то такое прослеживается, вот как Влада, она вся такая барочная, малороссийская – в смысле «гетманская», но есть такая нотка, что когда она говорит или поет на немецком, то не то чтобы меняется, а как бы из нее самой проступает немного более готический оттенок, при этом оставляя остальное на местах. Как будто Влада – это казачьи дозоры в степи, ветви верб над Днепром, деревянные церквушки, хутора с их пыльными шляхами, летний зной, тополя и ковыль, чертополох и перекати-поле… А когда она говорит или поет на немецком, то это все остается на месте, но как бы при этом окрашивается в цвета ветряного кровянистого заката перед бурей. Вот что я хочу сказать. Но мне так хотелось, чтобы она пропела эту песенку, и они пели негромко с Ильей и смеялись, идя под ручку, и, я помню, какая-то маленькая девочка, шедшая с мамой от фонтанов, лет, может быть, трех-четырех, смотрела на них поющих и так как-то радостно улыбалась, смотря на них.
***
В бургерной мы даже заказали «львенку» ребрышки. У нее была вот эта девчачья особенность стесняться при нас обжираться мясным, но, к счастью, ее легко было соблазнить, и уж если она соблазнялась, то была такой забавно-кровожадной в этом деле – нам с Ильей это безумно нравилось. Она говорила, что мы ее раскармливаем, и в прошлый приезд, помню, начала ныть, что поправилась с нами, на что Илья невозмутимо предложил с ним делать упражнения, они и правда некоторое время занимались вместе, Влада тянула меня тоже, но я ленился, зато любил на них смотреть, как они такие оба в спортивных костюмах бегают по пустырю под домом или Влада делает растяжку, а Илья рядом отжимается. Как-то даже тут сошлось, что он сначала подбивал к физкультуре меня, а потом ее, такая милота. Ну и, конечно, мы оба любили к Владе время от времени приставать во время упражнений на предмет потрахаться, нам это дико нравилось, причем зачастую именно вдвоем. Вообще же, как я и говорю – никогда б не мог подумать, какая это сладость – третировать девочку. Ну, почему вот это сосредоточение любви и обожания так сладко постоянно донимать? В диапазоне от каких-то пошлых шуточек до домогательств? Но это, повторюсь, ценно именно в комплексе, вот мы вместе типа делаем зарядку все втроем и все нормально, но тут же мы напоминаем ей, что она вообще-то здесь нужна лишь исключительно для удовлетворения нашей с Ильей похоти (да, это так!), но тут же, пока она в душе, я разогреваю ей котлетку, а Илья заваривает кофе в кружке со Зверинецким крестом, и мы оба понимаем, что ничего ценнее и важнее этого плескающегося в душе существа во всей вселенной нет. Боже, я так счастлив быть влюбленным в нее, я так ей благодарен за это немыслимое чувство! И я не вру, когда говорю, что не представлял, что с девочкой это возможно…. Я же объяснял, что в детстве я чего-то там фантазировал, но это именно что были фантазии, а когда я попробовал взаимодействовать с девчонками в реале – я в принципе, можно сказать, разочаровался. Это все было не то, и я, казалось, понимал где-то внутри, что ничего особенного в них нет, а вся эта великая любовь – внутри меня, а они всего лишь лампочки собаки Павлова – у них телосложение, движения и голос, запах самки – это-то и включает у меня в мозгу и всем прочем великую музыку, но в них-то самих этой музыки нет. Это было на самом деле довольно грустно. С этими размышлениями я в основном сидел в своей берлоге после больниц, и когда встретил Илью и поразился музыке ИСХОДЯЩЕЙ от него – я решил, что я все-таки гей. Немного было странно, что чисто физиологически женщины не перестали меня возбуждать (впрочем, как и Илья, но, может, несколько по-другому, ну, я объяснял). Короче, было проще решить, что я гей, и, признаюсь, когда я так решил, то стало легче. Это многое объяснило мне в самом себе и как бы разложило по полочкам. Ну, гей — это лучше, чем ебнутый, чем извращенец, не знаю – чем сам без понятия, что я такое, короче, урод. И, блин, я не знаю, мне было прикольно считать себя геем, я очень был влюблен в Илью, и многое в моей натуре радостно отзывалось этой однополой любви. И тут… Ну, нахуя? Ну, я просто не знаю. Но вы поймите – это сингулярность, сжавшаяся в крошечный комочек под весом собственной красоты и привлекательности – вот что такое эта гребаная Влада. И она, блин, ИГРАЕТ МУЗЫКУ. Не во всем такую, как Илья, но ровно так же сводящую с ума. И оба эти потрясающие чудовища убеждают меня, что моя музыка их тоже с ума сводит… Ну, короче, не удивляйтесь, что я много и странно об этом говорю, я до сих пор считаю, что с ними двумя я не вполне адекватный сделался, и не уверен, что вылечусь в будущем, вот.
Но Владу – я думаю, вы уже поняли, что мы любим кормить ее любимым мясом, впрочем, я и сам тогда заказал ростбиф, а Илья мясной суп с фрикадельками. Помню, что за едой наш с Владой и до того уже вялый спор совсем утих, мы молча хавали и были абсолютно счастливы. Даже сейчас отлично помню, как мы сидели у окна недалеко от кассы, я с Владюшей рядом, Илья напротив нас, и, покушав, мы с Владой одновременно, как это часто бывает, погрузились в свои смартфоны, причем я даже, кажется, воткнул беспроводные наушники, найдя какой-то забавный видос – я очень не любил слушать звук с телефона публично через динамик, полагал это дурным тоном. Илья встал заказать нам кофе и, кажется, взять минералки, я сидел вполоборота к окну, поглядывая в него время от времени. Кажется, я слушал что-то о тасманских дьяволах. Вы в курсе, что тасманские дьяволы – это самые крупные сумчатые хищники? Вообще меня почему-то очень интересует вся эта реликтовая фауна Австралии и Тасмании – я постоянно мониторю сеть на тему этих идиотских сообщений о людях, которые якобы видели сумчатого волка. Каждый раз они оказываются ужасной журналисткой уткой, и каждый раз я надеюсь, что следующее будет больше похоже на правду. Умом я понимаю, что талацины окончательно вымерли еще в прошлом веке, а сердцем, видно, не могу с этим согласиться. А тут еще напасть – лицевая опухоль у сумчатых дьяволов выкосила половину популяции! И вот я, несмотря на ковид и все остальное, жутко переживаю за этих дьяволов. И я так увлекся видосом, что не сразу и понял, почему поверх него выплыло окошко с сообщением от Ильи. Он же типа где-то рядом был… какого хрена? Я глянул на него возле стойки с бутылочкой минералки в руке и, поймав его встревоженный медовый взгляд, посмотрел на само сообщение. «Бог, шото происходит». Это довольно редкое и очень для меня забавное сокращение от Ильи – не помню, когда он впервые применил его ко мне, но где-то точно в переписке. Тогда я не обратил на это особого внимания, хотя, кажется, улыбнулся про себя. Подумал, что он просто не дописал в спешке, но потом еще увидел пару раз – это пошло уже, когда мы стали вместе жить и сильно обзнакомились с привычками друг друга. И вот как-то он, именно что в какой-то бытовой спешке, так ко мне обратился вслух, ну, типа, «Бог, подай там это…» – в таком духе. Я, помню, засмеялся и в привычной для себя ядовитой манере поинтересовался, понимать ли мне это обращение как гендерно видоизмененное «Богинями мы были и остались» – ну, что-то в таком духе, я уже точно не помню. Он не сразу и допер, серьезно говорю, а потом сам усмехнулся и объяснил, что даже в эту сторону не думал, кажется, ну, ему показалось уместно, типа «Саш, Вить, Кость», а я «Бог», он вообще-то обычно говорил «Бодя» (Богдаша – это Владина привилегия, я вообще не очень любил раньше это обращение, мне оно казалось похожим на какого-то «барашку», но от Влады почему-то приятно, может, от этого ее чисто женского вайба говорить, как будто гладить словами: «Богд-а-аша», – у нее как-то так получается). А у Ильи вот это «Бодя» получается как «братик». Тоже объяснял уже – мне так приятно. И вот он говорит обычно Бодя, а это Бог объяснил как типа – знаешь, ну, например, иногда тот же Костя, а иногда Кот. Ну, вот ему было прикольно говорить Бодя, а иногда особенно в какой-то спешке-суете вот это Бог – ну, просто сокращение. Ну, правда, он тогда смеялся, он тоже иногда умеет меня обезоружить и обезвредить мою ядовитость, тогда он, кажется, сказал по типу «не без этого» – по поводу богинь-богов. И я, помню, даже покраснел немного. Ну, короче, в тот февральский день я обратил внимание не столько на обращение ко мне, сколько на содержание сообщения. Что-то происходит. И тут же взглянул на Владу. Она сосредоточенно смотрела в экран, и я сразу все понял. Сам этот очень редкий и очень страшный для меня потусторонний «взгляд на поезда». Я очень живо всякий раз при этом взгляде представляю холодный вечер, и платформы в Дарнице, и легко одетую девочку, глядящую на пролетающие поезда. И всякий раз в этом видении я бегу – я не бегал почти десять лет, но я бегу вдоль путей настолько быстро, насколько могу, как не бегал ни за одним вражеским форвардом с мячом, как не бегал ни одну пробежку или кросс, ну, словом, как не бегал никогда в своей вонючей жизни, впрочем, может быть, в этой реальности видения я никакой не инвалид, и я могу бежать, и я бегу к этой сидящей на платформе девочке. И как на этот мяч, я налетаю на нее и обнимаю, что есть сил. И всю целиком прижимаю к себе, заслоняя от холода и говоря: «Я больше никогда тебя не отпущу, ты слышишь? Больше никогда не отпущу». Ведь эта милиция, эти родители и весь этот огромный бесполезный мир вокруг не знали, что с ней делать, а я ЗНАЮ. Нужно всего лишь крепко обнимать ее.
XIII
- Владиславка, что случилось? – спросил я в феврале в этом кафе.
Она не ответила, но бегло взглянула на меня, как будто видя меня в первый раз, и это был ужасный взгляд, потому что он был ЧУЖИМ, а так не должно быть, этот взгляд – он мой, мой, мой, он должен быть только МОИМ (ну, разве что еще Ильи, но это для меня практически одно и то же) /@ruah: Богдаш, он ТВОЙ, он только ТВОЙ! //@givenbygod: Влада, не лезь! Ну, ты же обещала… @ruah: Хорошо ? /
В тот миг я сказал ей еще:
- Владиславка?
И она опять бегло на меня взглянула – я понял, что она сейчас не здесь, и немедленно представил, как тот мусор орет на нее на платформе, даже, блядь, не понимая, насколько это несовершеннолетнее и ни с чем не сравнимое существо в этот миг далеко от него, не имея даже возможности вообразить себе эти космологические горизонты с их бесконечным багровым смещением. Она любила делать яркий разноцветный маникюр, и мне это нравилось, мне нравилось, как ее ноготки привлекают мой взгляд, мы это обсуждали, и именно она впервые предложила мне рисунки, о которых я говорил, которые я не против попробовать ради особого случая, но тогда я отмахнулся, помню, хотя мне было приятно от того, что она мне это предложила, помню, я тогда впервые ей признался, что с юности хотел покрасить волосы в аспидно-черный цвет. Она сказала, что ей нравится мой цвет, в том числе потому, что у нас с ней похожий оттенок (у нее чуть темнее), но если я хочу, то почему нет, мы говорили об этом и ушли от темы моего маникюра, но в другой раз, когда она избавилась от накладных ногтей, я захотел как бы поукрашать ее – я же говорил, что мне очень нравится заплетать ей косу, а тут мне захотелось покрасить ей ногти, ну и что, что это пошло, как в «Лолите», мне похуй, я действительно ей красил ногти на руках и на ногах, сначала ее лаком, а потом я сам подобрал лак-гель в магазине, тот который мне хотелось – багровый, как закат над Малороссией. В тот день она была с багрово-красными ногтями, она уже в Киеве, когда была с Ильей, красила им сама, именно моим оттенком, и мне это было безумно приятно. И, глядя на этот выбранный мной оттенок на ее ногтях, я воодушевился – схватил ее ручку, сжал в своей и сказал:
- Любимая, пожалуйста, ответь мне, потому что если не ответишь… мир закончится.
Я не знаю, почему я сказал это, но она взглянула мне в глаза, и я воочию увидел нуклеарный синтез новорожденной вселенной – ядра гелия и лития сливались, конденсируясь в слезы в серой изотропной плазме. Я говорю это сейчас и понимаю, что никогда не смогу вам описать, до какой степени она прекрасна. Потому что невозможность этого описания заключается, по сути, в самом языке. Вы понимаете, что невозможно описать самые ранние эпохи наблюдаемой вселенной в привычных нам физических законах не только потому, что действовали другие законы, а и потому, что сами привычные нам законы содержались как элемент в той планковской вселенной, и объективно описать эту систему, находясь внутри нее, по сути, невозможно, так вот – являясь по сути ничтожным рабом ее красоты, я не в силах никак описать красоту эту. Я часть ее, а не целое (я не верю, что я это говорю, но пусть), я ее часть, я хочу, чтобы единственной моей характеристикой было «парень, влюбленный в нее», я хочу быть Влюбленным В Нее, я хочу, чтобы это было моим именем, фамилией и позывным, но, может быть, если бы дело было в языке (хотя это не так), то я хотел бы быть Закоханим У Неї, потому что в русском языке нет понятия «Кохання», а в украинском есть, и если максимально сжато, то в русском Любовь – это как бы и эрос, и агапе, и филия, и строге, и все сразу, а Кохання в украинском – это тоже может быть и агапе, и филия, и строге, но ПОД ЗНАКОМ Эроса, вы понимаете, вот я КОХАЮ Владу, то есть я люблю ее как человека, как сестру, как друга, но при этом я всегда ХОЧУ ее как женщину, и это так прекрасно, это не то что ни малейшим образом не умаляет предыдущие виды любви, а только экспоненциально усиливает их до невозможных величин, вы понимаете? Она Моя Кохана – это ее имя, это значит и Владычица, и Ценность, и Любимый человек, и много других слов, невыразимо много, а я Закоханий У Неї, то есть посвященный ей, и ее раб, и ее рыцарь, и любовник, и все что угодно. Ну, вы же понимаете, что это касается и Ильи – Я закоханий у Нього, я Закоханий у Них, он мой Коханый, а она Моя Кохана, а они мои Кохани, но Илья никогда не будет против этих песнопений, потому что мы оба любим вот именно воспевать ее, мы любим вместе ее славословить, смущать, приставать к ней, Кохатися з нею, и даже КОХАТИСЬ друг с другом для нее и во имя нее.
Короче – она плакала. Слезы так стремительно наполняли изотропные глаза, что я замер, но моя рука, наверное, все сделала, я ощутил, как она ее сжала в ответ, и притянул ее затем к себе и обнял за плечи, и она рыдала на моих руках, я обнимал ее и нежно, едва ощутимо целовал в темень, вдыхая самый восхитительный во всей вселенной запах. Потом я быстро глянул в сторону, желая взглядом подозвать Илью, но он уже шел к нам. Он сел с ней рядом и взял за левую руку – правую я так и держал в своей, он поднял ее руку и поцеловал, и глянул на меня, я подмигнул ему, она как раз взглянула на него заплаканно, немного приподняв голову, и после моего подмигивания мы синхронно поцеловали ее во влажные от слез щеки. Она как бы против воли неловко улыбнулась.
- Смотрят ведь…
Мы поцеловали еще раз.
- Ну, мальчики…
- Ты знаешь, что ты самая красивая? – спросил я у нее.
Она вновь всхлипнула.
- Ответь Богдану, – сказал Илья так назидательно, как маленькой.
Он такой классный – он вот с ней умеет быть таким приятно назидательным, таким вот именно что Парнем, впрочем, признаюсь, что мне нравится, когда он и со мной такой бывает, мы с Владой вот без всякой мистики все же довольно рефлексивные, и наши рефлексии иногда надо тормозить серьезным волевым усилием, и Илья с этим справляется отлично. Я ему когда-то говорил об этом, кстати, даже с некоторым сожалением, а он сказал, что ему наши рефлексии как раз и нравятся. Он любит слушать, как мы разговариваем, как мы ноем иногда или капризничаем – он так и сказал, а я ответил, что мне, может быть, и хочется быть иногда таким, как он, уверенным и покровительственным с Владой… и с ним тоже. А он ответил мне буквально:
- Ты… бываешь разным. В разных ситуациях. За это я тебя люблю, – хихикнул он в конце, и мы упали на диван и целовались, помню, после этого.
Но что в нас обоих было одинаково сильно – желание лелеять и оберегать нашу любимую девочку.
- Влада, если ты сейчас не ответишь Богдану, я закажу это табло на час, и там будет написано, что Владислава Абрамова – самая красивая девчонка на Земле? Согласна?
Боже, как же я его люблю. Он самый лучший.
- Перестань.
- Не перестану.
- Просто скажи, что любишь нас, – вмешался я.
- Я вас люблю. Больше всего на свете.
Она опять зарыдала, но это уже был иного рода плач – более легкий, очистительный. Мы обнимали ее оба. Может, кто из посетителей поглядывал на нас, но нам было плевать. Экран транслировал процесс готовки бургеров. Влада вздохнула и решительно освободила свою руку из моей, взяла телефон со стола и тыкнула в дисплей большим пальцем пару раз.
- Я тебе переслала, – сказала мне. – Пойду умоюсь.
Илья прошел с ней к уборным и, когда вернулся к столику, я быстро пробежал по статье в общих чертах, поняв, с чем мы имеем дело, но подробно еще не вчитавшись.
- Плохо? – спросил Илья, сев рядом.
Он не спросил, в чем дело, он не знал, что это за статья, и вообще статья ли это, но мы понимали друг друга с полуслова. А Владу по ходу с полувзгляда.
- Плохо, – кивнул я. – Огромная разгромная статья от корифея.
- Я дотянусь его отпиздить? Хоть теоретически.
Он, задумавшись жевал соломинку для чистки зубов и был безумно сексуальным. Я был уверен, что он сейчас бросился бы бить кого угодно, лишь только на него укажет Влада, и я не знаю, почему у Ильи эта решительность выглядела так привлекательно и эстетично, хотя обычно меня подобные вещи пугали и отвращали. Хотя, может быть, знаю – во-первых, в этом было что-то рыцарское. Илья был молчаливым пареньком из Горловки, родителей которого истязали и убили в здании заброшенной шахты много лет назад, он жил в чужом и незнакомом городе, ни с кем за эти годы близко не сходясь, и зарабатывал руками, даже не закончив школу по-нормальному. Единственной его по-настоящему большой любовью стал парень-инвалид с парализованным лицом, за связь с которым большинство его так называемых приятелей и приятельниц тупо презирали бы его. И вот он со своим возлюбленным – таким же одиноким и «нереализованным» (во всяком случае, по меркам гегемонной маскулинности) вдвоем безнадежно влюбляются в абсолютно потрясающую девушку – мажорку, гения, почти что иностранку. И сейчас этот парень из Горловки решительно готов разбить ебало каждому виновнику самой крошечной слезинки этой девочки, хоть бы тот виновник спрятался за спинами многомилионных частных армий. Это во-первых, ну а во-вторых, – Илья красив. И это извиняет многое, хаха.
- Он живет за границей, забей.
- Короче, давай так, я пока что пойду за машиной…
- Зачем?
- Погуляете вдвоем, поговорите… – он растерянно пожал плечами.
- Гуляй с нами.
- Богдан, ты ей нужен сейчас – мне кажется, что я не вывезу.
- Ты прекрасно справился сейчас.
- Перестань, ты знаешь, о чем я. Это с ходу, а ее сейчас накроет, ты же знаешь…
- Ладно, ты ведь понимаешь, что мне тоже страшно?
- Ты можешь. Ты колдун. Как и она.
Тут я не выдержал и быстро чмокнул его в губы, так быстро, что он даже не понял, потом растерянно оглянулся, а я тут же толкнул его в плечо:
- Иди!
Он, так же растерянно оглядываясь, встал и я, не выдержав, шлепнул его.
- Богдан!
- Иди!
Это меня подбодрило. Подойдя к двери, он еще оглянулся, и я послал ему воздушный поцелуй.
***
И сейчас я нахожусь в некотором затруднении. Дело в том, что я предполагаю, что некоторая часть читателей даже в курсе, о какой статье идет речь. Конечно, шумиха вокруг этого была довольно локальной, но все же люди, на постоянке читающие художку, часто за такими вещами следят. Поэтому для этой части аудитории можно было бы ничего вообще не объяснять и в дальнейшем говорить об этой статье так, как будто мы все понимаем, о чем речь. Но, с другой стороны, я понимаю, что людей, которые уже догадались, в процентном отношении не так много. И для другой части аудитории можно было бы просто указать название статьи и имя ее автора – пусть гуглят. Но я этого делать не буду, потому что не хочу пиарить этого уебка, ну вот не хочу. Даже прямых цитат он от меня не дождется. Поэтому давайте сделаем так – я попытаюсь вам кратко не то чтобы даже пересказать, но скорее описать эту публикацию, с развернутыми комментариями. Начнем, собственно, с личности писавшего. Тут как и со статьей – он довольно известный, но я не буду его называть… о, я придумал, давайте мы все – особенно те, кто уже понял, о чем речь, сделаем вид, что мы не знаем этого гондона и я вам описываю то, что вычитал в интернете, ну, как-то так.
Итак, начнем вообще с основ, как будто в первый день творения. Я вам попытаюсь объяснить, что из себя вообще представляет, по моему мнению, современная украинская литература, потому что без этого контекст будет вовсе непонятен, сразу говорю, что я дичайше субъективен, и та же Влада в этом вопросе со мной не вполне согласна, если что. Но подумайте вот о чем. Вот я недавно рассказывал, как мы с Сашей обсуждали наших соотечественников из списка Форбс, помните? Мне будет чрезвычайно трудно объяснить свою мысль, потому что я над этими вопросами мало думал, но вы все же попытайтесь уловить, к чему я клоню, возможно, у нас получится вместе. Вот вы не думали, как так получилось, что, по сути, нашими жизнями распоряжаются какие-то очень богатые и влиятельные, но крайне непонятные люди? Вы не задумывались над тем, откуда вообще эти люди взялись и почему они находятся там, где находятся? Это касается не только олигархов, но очень многих сфер жизни, и я понимаю, что это дико попсовая аналогия, но мы можем с вами примерно понять, почему какая-то Нинтендо – это Нинтендо хотя бы потому, что большинство бумеров, которых я знаю, в детстве играли в тайванские или китайские клоны NES, и все в мире в курсе, кто такой водопроводчик Марио. Есть хороший пример из сферы, которую я знаю – ПАБГ. Вот был чувак по имени Брендан Грин, под псевдонимом PlayerUnknown, который сделал модификацию для DayZ (которая была модификацией ArmA 2 от другого чувака, но не суть). И вот концепция этой модификации понравилась куче людей, и со временем Грина пригласили на работу в одну контору, он там сделал отдельный режим для другой зомби-выживалки, а потом китайцы наняли его к себе, дав деньги для собственной игры, и он сделал ПАБГ – одну из самых известных и прибыльных игр в мире. Вот правда же, в этой истории все как-то логично, да? У меня не вызовет споров, почему Грин известный и богатый. Понятно, что основные сливки сняли его наниматели китайцы, но это частности и в конце концов понятно, что китайцы тоже рисковали и тоже на что-то ставили. Ну, или взять ту же Доту… перед нами есть ПРЕДМЕТ обсуждения, понимаете? Эти люди имеют деньги и хайп, потому что предложенные ими решения понравились огромной куче людей. Так вот – у вас не возникало чувства, что когда мы говорим о постсоветских небожителях, то мы не видим этого предмета или он какой-то неочевидный либо вообще мутный? По сути говоря, хоть это и набило уже оскомину, но мы видим перед собой людей, тупо расхитивших советскую экономику и паразитирующих на ее выдыхающихся мощностях все эти тридцать лет. Вы понимаете, что как вселенная в данный момент во многом повторяет там планковскую эпоху ту же с ее квантовыми взаимодействиями, но уже на макроуровне, так и наша постсоветская современность, видимо, во многом основана на процессах, происходивших на закате перестройки. Условно говоря, вот существует некая неэффективная, почти сгнившая экономика, которую поддерживают нефтедоларовыми инъекциями, тут падает цена на углеводороды, этих денег резко не хватает и все рушится. Вот есть общественный строй, об который вытирают хуй уже все, от доярки в колхозе до кандидата в члены политбюро. И когда вот это все рушится, то ведь, как в том романе Пелевина, людям все равно надо что-то есть и носить, и какие-то другие люди начинают занимать освободившиеся экологические ниши. Скажем, вы в курсе, почему такая древняя херня, как клоачные, сохранились в Австралии? Слушайте прикол – сумчатые не могут жить в воде. Такая хуйня, как утконос, не сохранилась вообще нигде в мире, потому что она бы тупо не выдержала конкуренции с условной ондатрой, или бобром, или чем-то по типу – это очень архаичная срань, но она существует в одном месте на планете, потому что ее тупо некем оттуда вытеснить, ведь плацентарные из-за изоляции континента туда попали только с людьми, очень поздно, а сумчатые не могут жить в воде из-за СУМКИ, понимаете? Так вот, мне иногда кажется, что прикол наших олигархов и прочих подобных даже и не в том, что они там, по известному выражению, крысы, занявшие места львов и тигров, а в том, что они клоачные, понимаете? К чему же эта длинная прелюдия – спросите вы. А вот к чему. Мне кажется, в двадцатом веке украинская литература в целом насколько была интегрирована в советскую, что по сути и существовала уже только украинская советская литература. Да, была эмиграция, которую я тоже люблю, не всю, но многую, типа Маланюка, были мощные диссиденты типа Стуса, которого я вообще считаю чуть ли не пророком, Мельничука, были внутренние диссиденты типа Кордуна, но, как в той книжке Солженицына – из них не складывалась литература, вот что. Я думаю, что, может, даже и сложилась бы, но они были очень фрики для тогдашнего совкового социума, понимаете? Что-то типа Черновола, Хмары или там Лукьяненко. Подумайте – вот есть люди типа этих, положившие жизнь на служения украинству, и что – появляется независимая Украина, а эти люди не сдались в ней никому, а какой-то партийный хуй уже напялил вышиванку и учит их быть украинцами. Ну и так далее. Так вот – по моему мнению, когда украинская советская литература сдохла вместе с совком, то в каком-то смысле и вообще украинская литература прервалась, сколь бы кощунственно это ни звучало. Потому как, я считаю, у нас была довольно мощная литература в XIX веке. Реально не хуже других. И даже в эпоху УНР там – тот же Тычина, на мой взгляд, великий модернист, ну, мирового уровня, а там был Довженко, Сосюра, да тот же Хвильовий, ну, Маланюк там вышеупомянутый. Но потом оно все настолько срослось с совком после красной навалы этой, что… Да хотя бы по судьбе этих людей судите сами – Тычина показатель. И остальные тоже. Условно говоря – какая-то Польша сумела отбиться и, несмотря на дальнейшие трагедии, сумела устоять и сохранила самость, ну а мы… Повторюсь – возможно, если бы наше общество было готово, то мы могли бы слепить литературу с пантеона, типа диссиденты, эмиграция и внутренние диссиденты, ну, и там внизу какие-то советские образцы… но получилось то, что получилось. И клоачные заполонили и литературу. Понятно, что она была никому особо не нужна, и кому не хватило латиноамериканского мыла условного, тот переключился на российские бестселлеры по типу «Пиздорез Братвы: Месть Васи» или в тяжелых случаях на «Сторожевую Башню», но вы же понимаете, что и какая-то тяжелая металлургия или угольные шахты тоже нерентабельны и никому не сдались вне нашей Австралии, но они есть. Вы же понимаете, что и политическое украинство 1990-х тоже, по большему счету, было эрзацем советской политэкономии или марксизма-ленинизма, нет, я на самом деле люблю то время, особенно ранние 1990-е, не только у нас, кстати, но и в той же Беларуси с их робким, но очень красивым ренессансом, но, мне кажется, эти светлые ростки не выдержали бурьяна вокруг и зачахли. А остались одни экологические ниши, понимаете, ведь люди не могут за год перестроиться от смены флага и гимна, да? И вот был Союз советских писателей Украины, а стал Национальный союз писателей Украины? Он никому не всрался в Украине? Так он и в советской Украине никому не всрался, кроме самих этих писателей, и существовал на госдотации даже не потому, что условный пролетарий предпочитал Загребельному Пикуля (как утверждают идейные малороссы), а потому, что он предпочитал Загребельному и Пикулю Колин Макклоу и Эмануель Арсан, так понятно? Но институция же существует, потому что чисто не ясно, чем теперь забивать детям головы в средней школе, если не Загребельным – не Арсан же? Ну, вот и надо притянуть какого-то клоачного на место Загребельного. И вся эта хуйня плодится год от года, только что дотации поменьше, но что ж, если у нас нефти и газа нет или их мало? Там появились какие-то люди, не то чтобы новые или в чем-то отличные от прежних, но такое впечатление, что еще более неинтересные, чем прежние, просто ж надо было кого-то поставить, а прежние уже типа ну совсем совки и нельзя. И ставили каких-то третьеразрядных и семиразрядных – таких же, между прочим, комсомольцев и выпускников московского литинститута, только из тех, кто никак раньше в первый ряд не годился и не отсвечивал. Эти в основном начали громить совков, неуклюже косплея модернистов столетней давности (почему-то при этом называя себя постмодернистами), но все оно было как-то уж вовсе не талантливо и скучно. Но вы же понимаете, что утконос получает все водоемы Австралии, насколько они бы ни были скудны – просто потому, что плацентарных нет, а сумчатые в воду не суются. Вот и все. И эти получали какие-то публикации и издания за границей, какую-то известность. Большинство из них, кстати говоря, к концу 2000-х примерно превратились совсем уж в хрестоматийных совков (которыми по сути и являлись). Ну, то есть забавно было наблюдать за их метаморфозами – в поздних 1980-х и ранних 1990-х особо расторопные советские классики обвешались тризубами и рунами, вещая про московскую оккупацию, а эти их высмеивали только затем, чтобы в новом тысячелетии самим обвешаться тризубами и рунами, лол. Более интересными казались те, что уже росли при независимой Украине, но в них была интересна именно эта условная суперпозиция фотона, еще не пролетевшего сквозь измерительную щель – в них как бы содержалось очень многое, но еще сильно неопределенное. Был очень заметен их каргокультизм с обязательным отставанием – как их предшественники дрочили в застойном совке на латиноамериканский магический реализм двадцатилетней давности, так и эти угорали по какой-то гик-культуре, когда на Западе уже вовсю начали отменять Кэмбелла-младшего и Криса Авелона. Война обрушилась на это поколение, заставив его раскорячиться над пропастью между культурным марксизмом и украинским буржуазным национализмом – выражаясь очень образно. Но в любом случае это было, имхо, зрелище не для слабонервных. Впрочем, по моему мнению, так называемая украинская русскоязычная литература чувствовала себя еще хуже – являясь жутко провинциальной по отношению к Москве, она все годы независимости пребывала в удивительном манямирке, где провинциалами считались украиноязычные коллеги, а она со своей нафталиновой булгаковщиной и архаичным русским из конца восьмидесятых мнила себя старосветской помещицей. На это все было довольно жалко смотреть, и вот за что я обожаю Владу (в том числе) – за то, что ее внутренний манямирок был для нее во сто крат важнее любых общественных манямирков, и она могла себе позволить придавать космическое значение своим шизоидным рефлексиям, как будто вовсе наплевав на все вокруг. Я люблю ее тексты за этот надлом, за то, что, кажется, только она способна в них вложить не боль от национального угнетения, как в украинской литературе, и не пиздострадания по поводу неразделенной любви к очередному самодержцу, как в русской, а вот это ее всепоглощающее и мучительное «Кто я? Кто я?? КТО ЯААА?!!!!!!!!» Она настолько сомневается в себе, в своих произведениях, что я не сомневаюсь в ее гениальности, она настолько раздувает своих смешных головных тараканов, что они мне кажутся главными опасностями человечества, и она настолько не любит себя в своих текстах, что я без остатка влюбляюсь в нее.
****
Но я не зря, как и сказал, затеял это предисловие к рассказу о статье. Я попытаюсь быстро объяснить, как Влада вообще пришла в литературу. Она мне сама рассказывала, и потом после статьи мы это многажды обсуждали – это вышло почти что случайно. Ее подруга как-то привела ее на литературный кружок, который сама посещала, им обеим было лет по двенадцать. Эта подруга не так давно познакомилась с Владой на сессии по Вахе – я не большой спец в настолках, сразу говорю, но Влада играла в Ваху, и они там где-то собирались целым клубом, и эта малая пришла и немного подружилась с Владой, и Влада показала ей свою поэму. К сожалению, Влада впоследствии уничтожила эту поэму, она мне только по памяти какие-то куски читала, но, на мой взгляд, это было восхитительно, я не шучу. Там за основу была взята лорная ситуация из Вахи, где женский монашеский орден в высокотехнологической броне зачищает от демонов планету-храм, которая перед этим на какое-то время была поглощена Варпом – жутким потусторонним измерением. Знаете, в чем еще прикол? Эти стихи по размеру и вообще по стилистике подражали песне о Нибелунгах, только что на украинском языке. И даже Влада говорила, что распечатала их с одной стороны со шрифтами из Вахи, а с другой – как средневековый рукописный список, ну, короче, она такая любимая, прямо не знаю. И вот этой малой тоже понравились стихи, она ей читала что-то свое там про калину-украину, и потянула на этот кружок. Влада один раз просто посидела в сторонке (очень на нее похоже), а потом этот кружок посетила приглашенная знаменитость – вот этот наш корифей и автор обзора. И маленькой Владе он очень понравился, он как бы зажег ее – он так интересно рассказывал о книжках и вообще о литературе, что она даже подошла к нему после всех, уже когда все расходились, и предложила почитать свою поэму. Она говорила, что было очень неудобно, она мялась и шепелявила больше прежнего, но все-таки ей очень хотелось открыться этому человеку. Я, кстати, понимаю ее – он в молодости был весьма харизматичным, судя по тем немногочисленным видео, что есть в интернете. Он сам был из Тернополя, и при той встрече с Владой ему было слегка за тридцать. Из хорошей какой-то университетской семьи, но в девяностых ненадолго попал в тюрьму, то ли за наркотики, то ли за какую-то драку, потом мотался по Европе, то ли машины какие-то перегоняя, то ли еще что-то. Объявился он в конце двухтысячных с книгой стихов, в которых было много такого неоклассицизма и вообще грусти, в основном про восточную Европу, я читал эту книгу потом – там действительно были хорошие стихи, такие длинные, сюжетные, и часто в них встречался образ скитальческих этих ночных восточноевропейских дорог с обязательным мотивом какой-то горькой любви, от которых лирический герой то ли убегает по этим дорогам, то ли пытается ею согреться в холодном безмолвии этих дорог. Мне кажется, что этот сборник лучшее, что написал этот мудак – он небольшой совсем, там всего несколько этих длинных стихов, почти что поэм таких. Потом он издал практически автобиографическую книгу о бунте заключенных в лагере – не знаю, был ли он участником этого бунта сам, я ж говорю, там с его заключением темная история. На мой взгляд, эта книга сильно хуже сборника – поэты редко могут в прозу, но там хотя бы были какие-то интересные подробности арестантского житья – мне, например, запомнился сильный, почти шаламовский кусок о погрузке заключенных в железнодорожный вагон, как под покровом ночи специальный вагон подгоняют к обыкновенному гражданскому составу, а зеки на платформе сидят на корточках под надзором автоматчиков и собак, я уже не помню точно подробностей, но мне запомнилась вот эта атмосфера параллельной жизни, что там в остальных вагонах люди пьют чай и веселятся, а здесь вот какое-то эхо ГУЛАГа, да плюс эта ночь, одинокая, почти как в тех стихах про ночные дороги восточной Европы… Да, пожалуй что эта какая-то отрешенность, одинокость и брошенность была самой сильной стороной его творчества, в этом угадывалось что-то большее, чем давняя несчастная любовь, тюрьма и эмиграция. Но эта книга про тюрьму получила, по нашим меркам, довольно большую известность, и на пике этой известности его и приглашали всюду. Влада говорила, что он был тогда похож на вправду новое лицо в нашей литературе, в нем не было этой тусовочности, что ли, вообще он был довольно искренний и настоящий. Но после начала войны с ним как будто бы что-то случилось. Поначалу была история, что он был на майдане, и потом какое-то время в каком-то добробате на Донбассе, потом типа его то ли комиссовали из-за судимости, то ли ранили, то ли он сам ушел, не знаю, там довольно мутно, но вообще считалось, что из-за судимости по типу – официально, а неофицально – типа он что-то нарушил там или ослушался, там раздували легенду, что чуть ли не была какая-то перестрелка у них с «мусорами», и считалось, что он, такой типа дохуя патриот, противостоял продажным мусорам в зоне АТО. Ну, короче, не буду, оно вообще все довольно мутное, и еще, наверно, скажу, что он в целом как человек склонен как будто бы создавать вокруг себя какой-то туман мистификаций, домыслов и версий, ну, знаете, может быть, среди ваших знакомых тоже есть такие люди, о которых все говорят какие-то небылицы, и с таким придыханием типа «он – непростой человек». Ну, вот это. Это я расписал к тому, что после начала войны вместе с этой своей военной службой он как будто бы начал сближаться с тусовкой, и особенно после службы, стал писать там в один интернет-журнал, известный, но по мне так запомоенный, и писал хотя бы б путное, а то всякие мраки про идею нации. Серьезно – даже дико было. Но вот при поддержке тусовки он громко издал книгу этих статей, а потом типа книгу про АТО, и это вообще был аут – он получил премию, которую впоследствии за мой перевод получила Влада, потом еще охапку премий, потом многократно выступал за границей и даже публично набросился на русского писателишку чуть ли не с кулаками, был скандал, который только укрепил его, но я впоследствии увидел одну неприятную херню – мне показалось, что этот чел сознательно работал на две аудитории, нашу и заграничную, и умело лавировал между вот этой вот идеей нации и западной политкорректностью, короче, мне это показалось гниловатым, но на западе он тоже имел аудиторию, вошел в этот пул мастодонтов из комсомола и московского литинститута, а после 2019 года как бы демонстративно уехал во Францию жить. Мне это тоже показалось представлением, признаться. Вот это рисование вообще было хуже всего в нем позднем, как по мне, причем его было довольно трудно верифицировать, ну, вот чувствуешь, что есть оно, и все. Но я понимаю, насколько для Влады это было ударом под дых. Она не общалась с этим человеком еще с довоенных времен, да, по сути, после той встречи на кружке она с ним не виделась, лишь пару раз они списывались, тогда еще в контакте. Тогда ему понравились ее стихи, и он ее очень вдохновил на дальнейшее творчество. Она на всю жизнь запомнила, что он ей тогда сказал типа: «То, что это все из игры, не имеет значения, в творчестве имеет значение, насколько ты сама в это веришь и насколько это для тебя реально. Только это». А еще он сказал ей: «У тебя феноменальное воображение, мне бы хотелось, чтобы ты не забрасывала письмо». И потом, когда она добавилась к нему в друзья в Контакте, он еще ей написал несколько теплых слов о том, что она талантливая. Она говорила, что потом еще ему писала несколько раз по разным там отвлеченным вопросам, сама удивлялась своей общительности, но в какой-то момент почувствовала не то что, может, холодность, но такую вежливую отрешенность, на которую совсем не обиделась, кстати, а просто восприняла как личные границы, ну, типа, и она же была очень интровертивная, и сама часто так делала, немного отрешалась. Она говорила, что честно не может сказать, была ли это детская влюбленность, но возможно, потому что она помнит, что у нее не было чувства собственничества (как к вам с Ильей – помню, заметила она, показав язык), а было вот просто детское чувство, что есть вот такой красивый и хороший человек в мире, и как это классно. Понимаю ее хорошо – у меня такое к Кате было, долгое время. Ну, в общем, она ему больше не писала, в том числе из-за этого чувства и желания его не беспокоить, потом она запомнила, как он поздравил ее в ленте с днем рождения в общем потоке, и она его очень благодарила в комментарии. После этого они больше не общались, потом он удалил страницу, где-то там во время службы. Тогда Влада уже сама писала, и вообще оно как-то забылось, отдалилось.
И вот теперь именно он написал про ее книги. Причем он начал с той истории про поэму по Вахе.
***
Тут надо сказать, что он, по моему мнению, все-таки был в своем роде талантлив, но эта статья для меня сама по себе пример того, что делается с изобразительным талантом, если его пытаться превратить в оружие. Возможно, выразился я щас как-то излишне претенциозно, но в целом близко к сути того, что хочу сказать. Он начал с поэмы о Вахе, и он не мог не знать, как Владу это ранит, он писал это, чтобы она прочитала, и он бил по ней так сильно, как только мог. Понимал ли он, что причаровал ее тогда ребенком? Думаю, да, и в это он и бил. Впрочем, тут есть и другое, о чем я Владе сказал потом, впрочем, я тороплю события, давайте по порядку, да? Статья начиналась с этого рассказа, как он был в туре, и его пригласили на кружок, и там к нему подошла девочка со своими стихами. Вот это вступление было КАК БЫ абсолютно в положительном ключе, но он всего своего внутреннего стилиста вложил в этот непередаваемый тон не то чтобы надменности, нет, но как бы такой подсюсюкивающей благосклонности, он был очень и очень ядовитым в этом тексте, но должен признать, и достаточно тонким. Когда я читал это вступление, то сразу же подумал, что буду выстраивать при разговоре с Владой линию ее защиты именно по этой тонкости, летучести его яда… Типа он очень пытался его скрыть, но я этот яд ощущаю. Он там описывал внешний вид Влады в том духе, что он запомнил эту девочку, но тут же он и выводил из этого порцию яда. Типа он описывал, что она была одета по-домашнему, и у нее была куча браслетиков по типу самодельных, типа шнурочков на запястье, а рюкзачок весь был в крупных звякающих значках, ему типа запомнились эти значки, но дальше он писал очень мягко, что было в ее прикиде и аксессуарах что-то как бы нарочито небрежное, но при этом как бы целиком откуда-то скопированное, он не называл это хипстотой или как-то еще, но давал вот этот намек о нокомфорности стиля, которая в сути своей конформна до крайности, ну, там было в деликатных выражениях, еще совсем не зловеще, как бы даже с юморком, как бы он такой старик тут, и вообще что-то кряхтит, не разбираясь в молодежных увлечениях. Но он все же очень акцентировал на этой поэме по Вахе, что стихи были интересные, но девочка настолько вцепилась в эту франшизу, что как будто думает не столько о складности стихов, сколько о соответствии лору, он это типа запомнил, ничего толком не зная о Вахе. Это было вступление. А дальше пошел разбор книжек, и это вступление, наверное, как вы уже поняли, выстрелило в этом разборе, и не раз. Он начал, понятное дело, с «Туманов». Мне паскуднее всего было от этого его подсюсюкивания – вот зацените, он прекрасно знал, что такое мэшап, но говорил так, будто только что вычитал это определение в википедии. Но он на этом акцентировал, он писал, что это жанровое упрямство Влады было подобно тому следованию лору Вахи, короче, типа, двенадцатилетняя девочка верит в лор коммерческой настолки, будто бы в какую-то религию, и вот мэшап… Он похвалил военную тематику «Туманов», видел эти параллели с АТО, но тут же говорил, что его раздражала эта жанровость, как будто Влада очень хочет быть какой-то стильной, не похожей на других, а не искренней и честной, и это желание, эта гордыня в ней (он так и написал – гордыня) таит в себе огромную опасность, потому что нет искусства без идеологии, и если автору кажется, что он не идеологичен или аполитичен, то это что-то типа пустоты, в которую приходят бесы пострашнее тех, которые как будто бы оттуда были изгнаны. И он нашел этих бесов в «Господнем лете». Его вообще очень взбесила эта книжка, и мне кажется, я знаю почему. При всей как бы большей удобочитаемости и внешней увлекательности «Туманы» были действительно пробой пера и жанровой книжкой, классной, восхитительной, но еще очень стилизацией, в то время как «Лето» – это зрелая и страшная в своей красоте Влада. «Лето» не похоже ни на что по жанру, это близко к такому казачьему вестерну, но только, по сути, в начале, а дальше это просто восхитительно, как я и говорил – этот роман лучше всего мной читанного передает процесс гниения, распада, деконструкции, если хотите. Влада крушит-крушит-крушит все какие можно философии, религии, идеи, она крушит их, обличая как вонь, и распад, и гниение, безусловно, в этой книге есть свет, но этот свет в какой-то подразумеваемой изначальности, я бы сказал, пользуясь своим любимым образом – это как в жару носить какую-то кучу одежды, чтобы у тебя уже язвы появились, а ты не раздеваешься, потому что ты эту одежду уже воспринимаешь как часть себя или что-то гораздо важнее себя. Я обожаю Владу, и мне дико нравится вот этот чистый ЖЕНСКИЙ взгляд в ее литературе, не тот женский, который тупопездный или феминистический (и то, и то – идеология, в первом случае, образно говоря, гордость за то, что у тебя нет члена, а во втором – попытки таковой себе пришить, хотя б на уровне идеи, но оба эти взгляды – традиционный и мужской контекст, по сути). Так вот, у Влады это какой-то ЖЕНСКИЙ и ЖИВОТВОРЯЩИЙ взгляд, вот этот вайб какого-то уюта, жизни, секса, удовольствия, вот этого «Ну, мааальчики», способного по щелчку пальцев нас с Ильей наполнить смыслом, силой и надеждой. Это прекрасный взгляд, способный нас ЗАЖЕЧЬ в любых условиях и ситуациях, это тепло, способное как будто даже воскресить нас, если надо. И вот правдой этого струятся ее книжки, я люблю ее за то, что она мне открыла эту женственность, которой я теперь готов всего себя отдать и посвятить. Но этот дурень этого как будто бы не видел, вы не поверите, но он интерпретировал «Лето» как руснявую агитку – ну где он это прочитал?! Он проводил какие-то дикие параллели с тем, что молодые люди пропадали в казавшимся им современным интернете, не понимая, что этот интернет стремительно захватывал Газпром(!). И типа так и Влада пропадала в фантомах западной культуры потребления, не видя ее деградации и отворачиваясь от реальной жизни в виде российско-украинской войны (!). И как тучных западных лидеров мнений перекупает тот же Газпром, так и Владу типа купил русский фашизм с его потешной Малороссией (как он не видел гниения именно этой Малороссии в «Лете господнем»??) и непременным обвинением хохлов в антисемитизме… Да, именно. Вы не поверите, но этот дурень упоминание начала гайдаматчины в конце интерпретировал как обвинение в антисемитизме! То, что Влада, украинская еврейка, христианка, этой парой строчек, может быть, лучше всех украинских писателей отобразила эту тему, он в упор не видел, как не видел украинскости Влады и что Влада со своим еврейским происхождением казалась больше украинкой, примерно как великоросс-малоросс Шолохов казался больше донцем, чем иные донцы. Он этого всего не видел, я вообще не понимал, откуда взялась эта тема с обвинением в антисемитизме – он как будто отвечал каким-то своим внутренним собственным голосам и спорил сам с собой. К «Ведьме» он подошел холоднее, усмотрев там какой-то тот же феминизм (опять же – знал бы он, что эти лесбы писались с парней-бишек, ладно…) и какое-то феминистическое же презрение к войне и иерархии (зачем-то он приплел туда какие-то то цитаты из покойной Зборовской, только непонятно, нахуя и к чему), но это все у него ложилось в идею, что молодежь типа Влады отравлена миазмами обреченного запада, который типа их первых же не примет и продаст за первый нефтедоллар, а настоящая жизнь и настоящее искусство сейчас рождается на Донбассе в крови и боли. Заканчивал он это излияние тем, что ему типа обидно, что такой талант, как Влада, нами утерян в пользу кровожадного противника. Блин, это все был такой сюр, что я поначалу даже и не знал, с чего начать при разговоре с Владой. Когда Илья ушел, она вскорости подошла к нашему столику, умытая, но с воспаленными до сих пор глазами – я первым делом ей налил воды.
- А где Илья? – спросила она как-то растерянно.
- Поехал за машиной. Погуляем?
Она растерянно, задумчиво молчала.
- Погуляй со мной, – молитвенно сложил ладошки я.
Она кивнула и легонько улыбнулась (эта задумчивость – плохой симптом, надо ее немедленно расшевелить).
- Надевай платок.
- Зачем?
- Потому что там сыро, и потому что ты мне нравишься в платке. Пойдем?
***
Мы, помню, вначале спустились к перекрестку с бюстом Выговского возле роддома, а потом пошли назад в парк на Миру и оттуда потом дошли до техникума. Ее разговорили мои размышления о яде, но по ее дальнейшим речам я понял, что статья не главное – она послужила триггером.
- Почему они меня не принимают? – чуть ли не с ходу выдала она.
Плохой-плохой знак, это очень болезненно для ее психотипа – быть отвергнутым.
- Кто это они? – терпеливо вопрошал я. – Этот урод? Он помнит, во что ты была одета, слышь? Могу представить, как ты его поразила… Сидеть в тюрьме, объездить пол-Европы, воевать и вымучить три с половиной книжки, для того чтобы тебя в сухую обыграла какая-то шепелявая девчушка с коллекцией фигурок из Вархаммера? Прикинь, как у него бомбит!
Она улыбнулась на фигурки и свою шепелявость.
- И даже этот его бомбеж по поводу женского… Вот вспомни, да, я очень влюбился в тебя, я негодовал из-за твоей потрясности, но я не отрицал того, что ты потрясная, во всяком случае серьезно. Вспомни, что я говорил – я влюбился в тебя, потому что ты гений. Но гений-то тут первично, влюбился или нет, а отрицать твою гениальность бессмысленно. Зачем он это делает, вместо того чтобы гордиться тем, что настолько гениальная девчонка оказывала ему когда-то детские знаки внимания… забей, я просто ревную.
Я правда слегка ревновал, но все-таки больше ломал комедию, чтобы ее развеселить. И тут она вдруг сказала:
- Зря, ты в миллион раз привлекательней его.
Я даже удивился, но это был повеселее разговор, чем об отвержении.
- Чем это? Я не писатель, не сидел в тюрьме, не ездил за границу и не был в АТО…
- Ты талантливей его.
- Чем это? Я ведь даже не пишу…
- Ты пишешь.
- Перевожу! Пошла ты нахуй…
- Ты гораздо привлекательней как парень.
- Вот это в правильное русло разговор.
Я приобнял ее.
- И бесподобно трахаешься.
Я поцеловал ее в этот платок.
- Вообще-то я тебя должен успокаивать, а не наоборот, но разговор мне нравится все больше.
- Я не понимаю, почему они меня не принимают.
- Кто ОНИ? Тебе дали премию…
- И воняли наперебой, что книжка русская!
- Они всегда будут вонять, ведь всем ты премию не дашь. И думай вот о чем – обсуждают кого-то действительно интересного. Графоман не будоражит ничьих чувств, максимум рукой махнут и все…
- Когда я была маленькой, то в школе были люди, которые смеялись над моими украинскими стихами… а теперь рассказывают у себя в блогах о вреде русификации. И вот хотя бы он – ведь он же был совсем другим. В вот этой его книжке о тюрьме – там никакому интегральному национализму места не было бы, а теперь…
- Это ПТСР.
- Что?
- ПТСР. Из-за войны.
- Ты думаешь?
- Да. И я говорю о социальном и культурном явлении. Как у тебя вот это православие, но в кои-то веки скажу, что твое православие мне больше импонирует, чем это – в нем хотя бы есть какая-то выдержка, как в вине… И какое-то все же… Достоинство, что ли. А это… Ну, можно понять этих людей, врубись. Не извинить, но все же понять, объяснить.
- Оправдать.
- Что?
- Был такой русский православный философ Франк, он говорил: объяснить зло значило бы обосновать и, тем самым, оправдать зло.
- Не понял.
- Зло нельзя объяснять, потому что зла не должно быть. Зло надо только отвергать, объяснение зла – это оправдание зла.
- Я не согласен с этим. Знаешь, мне не нравится вот этот твой интерес не столько к православию, сколько к этим россиянским богословам, потому что, на мой взгляд, это именно что богословы, а никакие не философы, а по сути даже не богословы, а какие-то пропагандоны, извини.
- Ты вновь об РПЦ?
- Возможно. Но что значить нельзя объяснять зло? Ковид – это зло или нет?
- Это вульгарное сравнение…
- Послушай! Ковида не должно быть, никто из нас не хочет, чтобы ковид был, но если его не объяснять, то сам он никуда не денется. К чему это вообще – нельзя объяснять зло… Это мне напоминает те тейки, что нельзя рисовать Сикстинскую мадонну, потому что это прельщение.
- Да.
- Что да? Ты опять начинаешь?
- А что если они все правы, и я православная, а через это россиянская.
- Какая чушь…
- А что если православие и есть Россия?
- Глупости.
- Что если это наднациональное и главное во мне, и это может вместить украинство, еврейство, и русский язык, и что хочешь… и сделать меня цельной.
- Ты хоть раз была в России?
- В какой из?
Воистину вот это был какой-то сатанинский взгляд и улыбка. Это была злая ведьма, а не добрая, даже почти не Влада, я очень редко видел этот взгляд, и единственное, что успокаивало – он всякий раз был мутным, не сконцентрированным, как будто бы нетрезвым, задурманенным.
- Что ты несешь?
- Ты можешь объяснить, почему здесь ничего не получается?
- В смысле?
- А ты сам не видишь?
- Что именно не получается, почему ты говоришь какими-то обобщениями постоянно?
- Ну все! Сколько миллионов людей здесь останется еще через двадцать, тридцать, пятьдесят лет?
- А ты хочешь сидеть без паспорта в колхозе или крепостничестве, плодиться от безысходности?
- Я не об этом.
- А о чем?
- Где вся эта великая культура?
- Какая? В которой человека выкупают из рабства, проводя аукцион среди царской семьи? Или культура черт оседлости? Сословий или классиков в миллионных тиражах, которых никто не читает? Культура отсутствия прокладок и туалетной бумаги? ИГИЛ с ракетами – это культура? Илья как-то рассказывал, как совковые инженеры годами бились над разгадкой какого-то древнего интеловского микропроцессора, это умора, прикинь, они не могли отгадать, для чего нужен там какой-то мутный сектор, а оказалось, что он и не нужен, это был, по сути, брак, нефункциональный рудимент какого-то более старого процессора, ну, ты прикинь?
- Я не о том.
- А о ЧЕМ? Там ничего нет, понимаешь? Это все голимая пропаганда для людей, которые никогда в жизни супермаркета не видели.
- А все дело в супермаркете?
- Да, все деле в том числе в супермаркете. Я так считаю. Мы живые биологические существа, не питающиеся божьим духом, а значит, нам нужны супермаркеты. Во всяком случае, разговаривать о какой-то культуре, никогда в глаза не видев супермаркета, – это, по моему мнению, абсурд.
- Так может быть, он прав и нам нужна идеология? Я помню, ты говорил, что охотники-собиратели были субъективно счастливей земледельцев…
- Это гипотеза, которую практически невозможно проверить, и если бы это в конце концов было так, то земледелие бы не распространилось на всю планету, ведь живое идет по пути наименьшего сопротивления.
- Теперь ты это все оправдываешь.
- Что это ВСЕ? Ну, Владочка!
- Ты сам говорил, что даже после начала войны людям на все плевать и они не понимают, что происходит вокруг. Так, может быть, это потому, что все ошибка?
- Влада, ты видела их? Где их взрывная демография или великая культура? Ты их видела?
- А если это потому, что православные народы разделены и находятся под властью Антихриста?
- Остановись.
- Что?
- Остановись, посмотри мне в глаза и повтори, что ты сейчас сказала.
- Ну, Богдан…
- Ну, вот. Я понимаю, что ты злишься, ты имеешь право. В конце концов, ты слишком талантливая и неординарная, чтобы быть кем-то близко принятой, ну, кроме нас с Ильей, конечно, но это ведь сугубо ради секса.
Я прикоснулся к ее носику, и она опять улыбнулась.
- Но для тебя опасно бросаться из крайности в крайность. Ты сама это знаешь.
- Я хотела бы найти для себя почву, чтобы быть уверенной хоть в чем-то, – она вздохнула.
- Ищи, но тебе не нужны готовые модели. Ты алхимик. Ты колдунья, понимаешь? Ты ищешь, постоянно ищешь, и в этом весь кайф.
- Но ты не думаешь, что украинская история в составе России была самым плодотворным периодом?
- Нет.
- Почему?
- Ну, посмотри на Беларусь. Да, у них по типу нет войны и какая-никакая, но стабильность. Можно радоваться, да? Или нет? А где там Беларусь? Хотела бы и здесь такое? Хотела пятьдесят миллионов россиян? Зачем?
- То есть все дело не в супермаркете? И даже не в людях?
- В людях, но жизнь – она в моменте, понимаешь? А вот эта вся чушь, о которой ты говоришь… Типа все чтобы можно было вписать в какое-то учение или религию. Нет, нельзя. Можно вписать его в книги, как ты, но и в книгах все оно в моменте, ведь это просто запечатленный миг, не так ли? Вот ты запечатлела нас с Ильей в виде ведьмы и ее любовницы, и мы теперь там есть. Запечатлела мое имя на титульной странице в посвящении. В этом и суть – ты запечатлела наши живые чувства, и в первую очередь свои собственные чувства, но ты их запечатлеваешь, а не выстраиваешь, понимаешь? А выстраивать бесполезно, этот дурак еще это поймет, а не поймет, так пусть. Никакие описательные системы никуда не годятся, названное дао не есть постоянное дао, хах.
- Почему ты все время шутишь?
- Потому что ты мне нравишься. Идем, Илья сигналит.
***
Но это был не весь разговор, к сожалению – вторая часть произошла уже в квартире. Причем все начиналось мило, мы сели пить кофе, я курил на балконе перед этим, а когда зашел на кухню, Влада сидела на коленях у Ильи и они красиво целовались, у меня ни с кем из них так долго обычно не получается, я или прекращаю, или перехожу к сексу почти неизбежно, а они вот могут долго сидеть вот так и целоваться. Ну, да я не в накладе – мне нравится смотреть. Ну или даже просто ощущать, что вот они рядом целуются. Я присел на подоконник и пригубил из своей кружки, задумчиво глядя на них. Влада почти спиной ко мне сидела, и тем не менее, целуясь, выбросила руку назад, чтобы меня погладить, я подвинулся, не дав ей дотронуться, а когда она взглянула на меня вполоборота из объятий Ильи, я капризно буркнул ей:
- Соситесь молча.
И Илья прижал ее к себе.
Я смотрел на них, отхлебывая кофе, и думал о том нашем разговоре, почему-то он меня тронул. Влада вообще была какая-то очень НЕПОНЯТНАЯ, и мне порой было до дрожи интересно пробовать ее разгадывать, но, естественно, никогда не получалось до конца, не хватало способностей, видимо. Но тогда я подумал о животворящести этих иллюзий. Отхлебывая кофе и глядя, как они целуются, я думал о тех людях, для которых существует некий морфий или опиум в виде великой российской империи, СССР или, скажем государства-церкви Достоевского. Возможно, эти люди счастливы в этом своем опьянении. Мне не понять их, и мне удобно думать, что они просто тупые или ограниченные, но что если мы с ними отличаемся на каком-то физиологическом уровне – и какие-то центры удовольствия у нас в мозгу по-разному устроены, а может… я даже не знаю. Почему я могу получать божественное наслаждение от созерцания поцелуев и объятий моего любимого парня и моей любимой девушки? Почему мне, кроме этого, как будто вовсе ничего не нужно? Почему секс с ними я, не задумываясь, предпочту любым религиям, учениям и философским школам? Почему я, если бы мог выбирать для себя рай, то я выбрал бы не что иное как бесконечный, вечный секс с ними двумя. Я представил себе коллапсирующую и вновь экспоненциально расширяющуюся вселенную, в условном центре которой среди галактических нитей, квазаров, пульсаров и реликтового излучения мы втроем нескончаемо любим друг друга. Big Bang! – оргазм Ильи, пульсация, нуклеосинтез и аннигиляции адронов, оргазм Влады, бариогенезис, темные века, рефракторный период, водород и гелий, плато, реоинизация, спиральные ветви галактик, мой оргазм, формирование звезд из газопылевых туманностей, эпоха вечной тьмы, распад протона, планковский предел, Big Bang!.. и наши крики в этом танце жизни.
***
Влада сидела на коленях Ильи почти совсем спиной ко мне и жадно целовала его в губы, обнимая за шею. Ее прекрасные распущенные волосы спадали по спине, по вязаному свитеру ее, и сильные руки Ильи то и дело прикасались к ним, нежно лаская ее спину. Я вдруг вообразил, что каждый ее темно-русый волосок — это галактическая нить длиной в сотни миллионов световых лет. И смугловатые жадные руки Ильи, на самом деле состоящие из паутины сетевидных нитей темной притягательной материи, лаская эти нити-волосы, методически выстраивают облик наблюдаемой вселенной. Мое сердце билось, все сильнее, нагнетая возбуждение во мне, и я подумал вдруг, что это возбуждение рождают те же приливные силы, что тысячи миллионов лет назад упрямо расширяли во все стороны метагалактику. И мне хотелось думать, что целующиеся перед моим взором невыразимо прекрасные существа являются отцом и матерью этих великих сил, и мне хотелось поклоняться этим существам, молиться к ним и до остатка раствориться в них. Я отрывчато вспомнил об алхимическом понятии великого делания. Первой стадией его было нигредо, или опус в черном, который кратко и буквально типа означал растворения ртути (Меркурий) и серы (Сульфур). Если что, то, очень примитивно говоря, Меркурий – это женское, Сульфур – мужское и нигредо изначально – это растворение, выражаемое через образ ворона (а может – голубя?), а также черного солнца sol niger, а может, черной сингулярности звезды Шварцшильда, в которой содержится наша вселенная, или же космологической и изначальной сингулярности, из которой все и началось, а может, будущей, которая сожмется и расширится опять в грядущий новый мир. Вот это растворение – это Меркурий, очень женская субстанция, сие есть погружение во смерть, небытие и хаос, но только лишь затем, чтобы опять родиться и воскреснуть в этом хаосе из ничего, ведь в этой черноте черной дыры содержится вся, даже еще не начавшаяся метагалактика, во всем ее взаимодействии и красоте. И этот воплощенный Меркурий-Ртуть рождает мой порыв и ток моей крови, мой красный сульфур и себя, это белое-белое вечное, вот он – опус в белом, или же альбедо, это очищение, мужской процесс, горение, вот он ласкает ее волосы-нити-галактик, формируя лик моего мира, разделяя свет и тьму. Он так прекрасен в этом делании, потому что суть его в Любви К Ней. Знаю, это, пожалуй, выглядит глупо, но мне почему-то врезалась в голову именно эта мысль – что главный секрет алхимических деланий именно в этом, в том, что мы не превращаем олово в медь или серебро в золото, а что всякое Великое делание имеет в своей сути безграничную Любовь. Что Она растворяет Его не потому, что хочет им владеть или возвыситься над Ним, а потому, что суть Ее – Любовь к Нему и больше ничего, также Он очищает ее, Освещает и дарит ей душу не потому, что недоволен ею или покровительствует ей, а потому, что суть Его – Любовь к Ней, и оба они существуют для того, чтобы Любить друг друга. Это опять же эта ускользающая суть, мысль, которая меня не отпускает, будто мы, увлекшись ритуалами и схемами, как будто бы забыли цель и суть всего, и эти церемониалы и иллюзии уже нас душат или даже разрушают. Да, нет ничего банальней этой вот любви как главной компоненты сущего, но что я мог поделать на той кухне в феврале двадцать второго года, если видел пред собою Ребис. После альбедо следует рубедо, опус в красном, или же объединение, где ртуть сливается с сульфуром. Это великое объединение рождает Ребис, он же философский камень, который на средневековых гравюрах часто изображали как андрогинную фигуру – слияние мужчины и женщины, царя и царицы, Меркурия с Серой. Я видел великую стену ее волос, сплетенную из нитевидных скоплений галактик, и видел темную материю его сильных рук, сливающуюся с этими галактиками, и понимал, что «я их люблю» – это все, что я хочу прокричать всему миру, как «аз есмь», как великую истину и завещание. Я помню, что поставил кружку на подоконник и наклонился к ним, положив одну руку на плечо ей, а вторую на его плечо, как будто приобняв их, ощущая их тепло и запах, пребывая в некоем забвении невыносимой и невыразимой нежной страсти. Помню обжигающий Владин поцелуй на моей щеке, наступивший моментально после моего прикосновения, потом еще один, возможно, все бы обернулось как-то по-другому, этот мой порыв бы разрешился иным образом, но этот поцелуй испепелял все, чем я был, и сердце разрывала одна мысль: «Ну почему ты настолько прекрасна?!..» Мои губы соединились с губами Ильи, и я был настолько благодарен ему просто за тот факт, что он есть, потому что только он способен был сейчас остановить мою аннигиляцию, я, помню, прошептал ему тогда:
- Возьми ее ради меня.
Я помню, в этом моем шепоте заключалось сколько дрожи и боли, что он ответил мне одним всепонимающим взглядом и как будто в следующий же миг легко поднял Владу, я видел распустившееся нити галактик-волос и сделал шаг назад, как будто заслоняясь от волокнисто-барионного пожара в сих галактиках. Галактики опали и легли на гладь стола, а серый изотропный взгляд смотрел в меня. Я помню, что Илья наклонился над ней и целовал ее щеки и волосы, и я был рад тому, что он заслонил от меня этот взгляд. Рука темной материи прошла по темно-русым нитям галактических скоплений, вновь расправив их, а потом обе руки темной материи скользнули под вязаный свитер. Этот ее свитер не имел застежки и снимался через голову, к тому же ворот был высоким и довольно плотным, я помню, как, лапая ее под свитером, Илья бессильно уткнулся в ее грудь лицом и начал целовать сам этот свитер, не имея возможности быстро его снять с нее, ведь Влада лежала навзничь на кухонном столике, и чтобы его снять, пришлось бы вновь ее поднять. Но она опять смотрела на меня, а потом жалобно выдохнула:
- Богдан…
Я молчал и смотрел на нее, думая, насколько я все же понимаю Илью, я говорил, что, может, больше люблю ее округлые бедра обычно, но тогда я вдруг подумал о ее грудях как о некоем аналоге мужского члена, я представил, как к ее соскам приливает кровь и они уплотняются – мне показалось это безумно прекрасным, да, я понимаю Илью и не меньше люблю ее грудь, мне показалось также восхитительным то, что и у нас, парней, есть неразвитая грудь, как будто знак или отметина родства или же единения с девчонками, в моем мозгу быстро пронесся известный факт, что человек эволюционирует в сторону уменьшения полового диморфизма, и это тоже показалось мне прекрасным, да, я это все подумал, глядя, как Илья ненасытно целует ее грудь сквозь теплый вязаный свитер.
- Богдан… – почти что простонала она вновь.
- Молчи, – сказал я безэмоционально.
Ее глаза были прекрасны, просто невозможны, ничего более потрясающего в метагалактике не существует.
- Илья!.. – выдохнула она, даже чуть приподнявшись. – Пусть Богдан подойдет… – произнесла почти что задыхаясь.
Но как он все сделал все по красоте – я так люблю его.
Он наклонился над ней и зацеловал ее в губы, она страстно отвечала на поцелуи, так страстно, что я даже улыбнулся – мне так хотелось победить ее сейчас. Он взял в ладони ее лицо и, глядя в широко раскрытые глаза, сказал ей тихо:
- Я люблю тебя.
Она скривилась, будто бы вот-вот заплачет, а Илья уже освобождал ее от длинной клетчатой юбки, в которой она была в церкви, она была на поясе, и Илья, быстро его расстегнув, уже стаскивал юбку, он делал это быстро, но нежно, скажем так – я же говорил вам, что иногда мы раздеваем ее быстро и страстно, а иногда медленно, но нежно, так вот – можно быстро и нежно, потому что в целом у нас богатая практика, и могу сказать, что мы наощупь уже знаем практически все ее шмотки, и знаем, как с каждой из них управляться. Ее любимые стройные ножки в одном черном термобелье меня, правда, возбудили еще сильнее – ну, бедра и ягодицы, да, мое слабое место, у меня даже мелькнула шальная мысль и вправду вмешаться, возможно, даже вместо Ильи овладеть ею, знаю, что он точно не был бы против, даже скорее наоборот, я же говорил вам, что он любит с Владой наедине, а когда мы втроем, то ему больше нравится, когда все участвуют, ну и вообще, мы с Владой больше ведем в сексе – я знал, что сейчас он делает это ради меня, не в том смысле, что он меньше меня хочет Владу, оно видно невооруженным взглядом, насколько хочет, но в том смысле, что он был бы совсем не против, скажем, ласкать Владу, пока я ее беру – мы много раз так делали, заметно даже, что его заводят какие-то наши с Владой неистовства, и он потом включается, тоже чуток взбешенный. Но хотя он был не против, это не значит, что он против – я знаю, что это для него тоже такое зеркало – он хочет ее и меня, а я хочу его и ее, но сейчас хочу, чтобы он брал ее на моих глазах… Черная ткань ее термобелья сменилась молочной белизной ее прекрасных ног, а мой взор устилал красноватый туман. Илья знал, как я хочу – интенсивно. Он тренированный, и он умеет. Я с наслаждением слушал ее нарастающие стоны, глядя на Илью, чтобы не встречаться с нею взглядом, но когда он схватил ее за руки, двигаясь в ней, я понял, что не выдерживаю, и, взяв кружку с недопитым кофе, пошел к коридору, проходя, я наклонился и шепнул ей на ухо:
- Ты самая красивая.
Затем быстро поцеловал во взмокшие галактические нити волос и ушел.
- Богдан!..
Услышал я в коридоре ее горький вскрик, затем несколько животных вскриков и уже в комнате с балконом знакомый «зойк». Я улыбнулся и глотнул остывшего кофе. Помню, через некоторое время, ища в курточке на антресоли сигареты, я слышал из кухни привычное умиротворяющее воркование: «– Владиславка… – Ильюшаа…», – и все в таком роде. Потом я пошел на балкон покурить.
***
На дворе стояла совсем уже провесень. Я, сказать откровенно, не очень люблю все это межсезонье, раньше я любил зиму больше лета, а особенно – осень. Как-то Влада сказала, что моя подспудная тяга к смерти как бы оттеняет мою страсть, и мне понравилось это ее определение. Действительно, все это осеннее умирание прекрасно тем, что как бы содержит в себе законченные образы навсегда уходящего лета. Но еще Влада говорила, что если в ней действительно, как я считаю, содержится некая великая сила, то она хочет применить ее всю, чтобы вырвать меня у этого притяжения смерти, и должен сказать – у нее получается. Не то чтобы Илья этого не хотел и не делал, но он как бы был менее настойчив в этом векторе, я чувствовал, что он любит меня всякого и позволяет наслаждаться пусть бы даже умиранием, лишь бы мне было от этого хорошо и лишь бы я разделял все это с ним. И с ним я как бы, ну, по-новому прочувствовал все то, что я любил. Вот эта прекрасная осень, когда мы с ним ездили в Сумы на киносеансы, ходили ужинать в кафе или просто гуляли по городу после того, как я встречал его с работы или на выходные. Мы просто ходили, разговаривая, или даже молчали – мне было столь же хорошо с ним молчать, как и говорить, и мне было хорошо рядом с ним идти по городу, и как-то, я помню, мы вот так молчали и, наверное, единственный раз я прочитал ему стихотворение, даже не знаю почему, мы шли по тому же Миру возле техникума, все было так осеннее желто, почему-то я подумал – так медово-желто, будто этот мир содержится в ЕГО глазах. И как-то весь вспыхнув от этого чувства, я проговорил ему негромко:
- Были сжаты и смяты листы,
За огнем отгоревшего лета.
- Что? – переспросил он.
И я, улыбнувшись, прочитал ему «Улялюм», именно в этом пожалуй что любимом бальмонтовском переводе. «Близ туманного озера Обер, Там, где сходятся ведьмы на пир», – и вот это вот все…
«Ты не знал? Улялюм — Улялюм…
— Здесь могила твоей Улялюм»
Знаете, как он отреагировал? Он, кажется, не в первый раз, но в один из первых точно, признался мне в любви, но он не сказал тогда «я люблю тебя», это как с букетом – я, пожалуй, не был к этому готов, но он сказал:
- Ай лав ю.
Вы понимаете, как и с букетом, – ОН СДЕЛАЛ ЭТО НЕЖНО. Но это было так невыразимо к месту, что мне захотелось его поцеловать. Но вдоль проспекта шли люди, был пятничный или субботний вечер, кажется, даже прямо на нас шли какие-то мамочки с колясками, и я в который раз подумал, что это ужасно несправедливо – ведь даже эти молодые мамочки могли поцеловать друг друга, и никто б не обратил внимания, а я… И знаете, что в этот миг сделал Илья? Он как будто прочитал в моих глазах всю эту бурю чувств и так, ну, очень по-мальчишески легко толкнул меня плечом в плечо. Господи, с ним так легко. Я безумно влюблен в него, но вместе с тем мне с ним очень ЛЕГКО. Я по-новому полюбил с ним осень, потому что раньше я, как в том стихотворении, блуждал по этим осеням один наедине со своей душой, а теперь я познал другого и шел сквозь эту осень вместе с ним. Мне кажется, я знаю, почему он не пытался вырвать меня вон из этой осени – потому что он мог меня защитить от ее духа умирания. Я видел в нем себя, и он видел во мне себя, и, глядя в эти зеркала, мы любили друг друга, пренебрегая смертью, а когда пришла Влада, то она увидела в каждом из нас в первую очередь своих любимых и принялась прогонять от нас смерть. Мой влюбленный в смерть давнишний собеседник побаивался Илью, потому вероятно, что знал – ему с Ильей не совладать. А Влада ему нравилась, потому что она сама была похожа на смерть, и иногда он говорил, что она и есть смерть. Но теперь я иногда думаю, что мой собеседник был так и не выросшим пятнадцатилетним мальчиком, навсегда застывшим за секунду до прыжка на том балконе десять лет назад. Он весь был желанием прыгнуть вниз и ничего не мыслил вне контекста этого «прыгнуть». Всю мою последующую жизнь он воплощал собой как бы живую фразу «этот прыжок не был твоей ошибкой». Но если был? Тогда, в церкви, я подумал, что был. Мне приходит на ум странная вещь – смерть боится Илью, а Владу она слушается. А что если смерть – это что-то вроде неправильно понятой Влады, как бы неверного ее описания? Потому что у меня такое чувство, что Влада обладает некими как бы чертами смерти, но эти черты составляют смерть, но не составляют Владу. Это как если, описывая Владу, сказать, что она хрупкая девчонка с серыми глазами – и все. Да, она девчонка с серыми глазами, но мы с Ильей влюбились не в девчонку с серыми глазами, а в невозможное, невыразимое, невыносимое в своей красоте существо, которое можно описать как хрупкую девчонку с серыми глазами, но это описание, как вы понимаете, хотя и не будет формально неверным – совершенно недостаточно. Это как сказать, что смерть имеет над нами власть и Влада имеет над нами власть, как я уже объяснял, но это не говорит о том, что Влада – это смерть. У меня такое ощущение, что смерть – это вообще некий фантом, собранный из неверных описаний Влады, и Илья не боится этого фантома, потому что знает, что Влада – не он, он знает, как она выглядит на самом деле (и он ведь действительно знал это раньше меня), а Влада прогоняет этот фантом, потому что ей не нравится, что о ней сложилось превратное представление. Она как бы говорит – я не ЭТО, я – вот я. И в этом «вот я» содержится как бы одна главная сентенция: «Да я ЛЮБЛЮ вас, дураки!» – и как бы вам это ни показалось смешно, меня этот ее возглас наполняет светом. Илья вел меня сквозь осень мира, защищая, а зимой мы вместе покупали в супермаркете говядину для шницеля и согревали друг друга под тяжелым одеялом, а потом он подарил мне тюльпаны в конце февраля, а потом нас как будто окликнула Влада:
- Хватит где попало шляться, быстро возвращайтесь в лето! Я соскучилась!
И я полюбил лето. После того господнего нашего лета я полюбил жару и прохладу реки, гул комаров над камышами и рассветные росистые туманы. Господи, она ведь нас ждала, чего же мы так долго где-то пропадали? Но теперь мы дома. И эта провесень, хотя и меньше мной любима, чем весна и лето, все же – вестник чего-то любимого и долгожданного. А главное в том, что теперь лето вовсе не уходит никогда, оно теперь с нами всегда, изотропное ведьмино лето. Об этом я думал, стоя на балконе и вглядываясь в эту провесень.
XIV
Двери балкона за моей спиной скрипнули, и я почувствовал терпкий травяной запах шампуня-ополаскивателя на натуральной основе – она всегда пользовалась натуральными средствами для ухода, и мне это в ней импонировало, во всяком случае, ее волосы были восхитительными, хотя я и больше любил их запах без всяких примесей, я смеялся над тем, как Илья украдкой нюхал ее кенгурушку, но, пожалуй, только потому, что сам был даже более чувствителен к ее запаху – я вдыхал запах ее волос всегда таким коротким резким вдохом и сразу же останавливал дыхание, как бы боясь захмелеть… Она прервала мои мысли, резко обняв со спины и прижавшись ко мне, я чувствовал, как она буквально прижимается щекой к моей спине.
- Влада, тут сыро, простынешь, – сказал я негромко.
Я хотел здесь стоять и думать, вспоминая, как Илья ею владел, я хотел бы отстраниться от нее, но… Господи, вот поэтому она – смерть. Ведь что еще способно до остатка растворить меня в себе? Но вместе с тем, как я и говорил, по-видимому, смерть – лишь одна из ее черт, причем не главная, это нечто наподобие этого аромата шампуня-бальзама – он Владин, потому что она им пользуется, но все же он всего лишь некая функция, что ли, в то время как за ним проступает что-то воистину великолепное и внеземное – ее истинный пьянящий запах.
- Почему ты такой? – спросила она, прижимаясь ко мне всем своим невыносимым телом.
Я не хотел слышать ее голоса, я хотел быть далеко в холодной непреодолимой осени, чтобы меня в ней согревало лишь воспоминание об этих темно-русых локонах, сплетенных из нанизанных на гравитацию галактик.
- Почему… Ты… Такой?
Она правой рукой вдруг приподняла мою рубашку – я ощутил обжигающее прикосновение ее миниатюрной ладошки на своей пояснице, и вдруг эта рука скользнула мне под пояс и двинулась ниже по бедру, решительно и дерзко.
- Какой? – выдохнул я от неожиданности.
- Любимый.
Ее левая рука обогнула мой торс и, быстро расстегнув защелку на поясе, тоже скользнула вниз, совсем уже бесстыдно и определенно, и я с ужасом ощутил, как мое тело быстро откликается на эти своевольные прикосновения.
- Влада, перестань, – сказал я как мог строго.
- Нет!
Вот это «Нет!» было насколько повелительным, властным и самодостаточным, что я поник и сдался. Я понимал, что она победит, восторжествует, что она не позволит мне выиграть даже единожды – я все это понимал, но я опять хотел ей проиграть. Почему я разрываюсь между этими состояниями? Вернее не так – разрывался… Это мое раздвоение все-таки эхо былого. Влада, послушай – я должен сказать тебе, что я испытываю к тебе то же, что и к Илье. После того счастья, которое я пережил с Ильей, я не думал, что смогу сказать это девчонке, но (я не знаю, как еще сказать) ты как Илья, только другого пола, вот и все. Влюбившись в Илью, я думал, что восторг, который я испытываю, связан с тем, что он того же пола, что и я, и мы способны искренне по-настоящему любить друг друга, испытывая это воистину великое родство. Я говорю об Илье «братик», подразумевая именно вот это ваше религиозное значение, но дело в том, что я хочу и о тебе сказать «сестричка». Для меня удивительно то, что ваш пол – это, оказывается, не ваша суть, а что-то вроде вашей огранки (ты же наш брилиантик, помнишь?), а сутью вашей является что-то общее между вами, и мне кажется, это общее – это образ и подобие бога в вас. Вы так красивы, господи. Я начинаю понимать, что вместо того чтобы наслаждаться вашей красотой, я, как и многие до меня, выстраивал эти дурацкие контрапозиции по типу инь и янь, Меркурий и Сульфур, романтика и похоть, день и ночь, добро и зло, но только глядя на то, как мой любимый парень и моя любимая девушка страстно занимаются любовью на нашей кухне, я смог прочувствовать, что этой грани нет, вернее, она есть, но она нужна не для того чтобы разделять нас, а наоборот – для того чтобы соединять. Влада, я хочу сказать, что наши с тобой различия я склонен был воспринимать как образ конфронтации и смерти, а на самом деле они нужны для того, чтобы нам было легче друг друга любить. И понимание этого увязывает во мне эту двойственность – не хотеть выиграть и хотеть проиграть, а между ними смерть, не хотеть твое тело и твою душу, а между этим смерть, а хотеть твое тело и твою душу, а между этим любовь. Не я парень, а ты девушка, и между нами есть различия, а мы два человека, в которых уже на уровне физиологии заложена возможность будущей любви. И мне кажется таким прекрасным, что в нас с тобой уже заложена физиологией эта возможность огромного чувства, что мысли о гибельности твоих чар мне кажутся не такими трагичными. Помнишь, я говорил тебе, что, скажем, в сексе с Ильей меня иногда возбуждают некоторые вещи, которые даже при твоем отсутствии (а может, особенно при твоем отсутствии) как бы ПОДРАЗУМЕВАЮТ тебя? Также как и то в нашем с тобой сексе, что подразумевает Илью, и, возвращаясь на балкон нашей девятиэтажки в том феврале, я первым делом отмечаю это – ты знала, что меня обезоружит пред тобой. Твои своевольные жадные ласки тогда меня совершенно растворяли в твоей ртути, как тогда, на том нашем с тобой свидании, тут знаешь какой механизм, как мне кажется – когда ты так своевольна, и так открыто хочешь меня, и так свободно и не спрашивая берешь все, что ты хочешь, то между нами включается это взаимное зеркало, которое есть между мной и Ильей постоянно, образно говоря, мое подсознание приходит в замешательство, типа: «Погоди, это что – Илья? Нет, это девочка, но что она делает, погоди, ведь она не должна, погоди, а почему она так невозможно прекрасна? Почему я так хочу ее – потому что она хочет меня? Но я хочу больше! Нет, она хочет больше!» Понимаешь – зеркала на миг включаются, но как бы сразу все на один миг, и от веса отражений лопаются, и я стою в этой вьюге мельчайших осколков зеркал, в каждом из которых похотливо и надменно улыбается самая прекрасная в мире жаждущая МЕНЯ ТЫ, и я, абсолютно дезориентированный, начинаю кричать в эту зеркальную вьюгу: «Я люблю тебя, львенок, сестричка, Руах, поглоти меня, ну же, давай!» – а ты смеешься в этих зеркалах и говоришь: «Я пришла делать тебя счастливым, а не убивать, дурак!.. хаха… иди ко мне!» – и вся эта зеркальная вьюга с ее космологически сингулярной абсолютной красотой вдруг налетает на меня, и я обращаюсь в сплошную любовь.
***
Так произошло и в тот раз. Знаете, Илья не раз мне говорил, что ни с одной женщиной у него не было ничего подобного тому, что было с Владой. Поначалу, конечно, он говорил, что ни с одной женщиной у него не было ничего подобного тому, что было со мной. Я же рассказывал, что он поначалу тоже с немалым удивлением полагал себя геем – ну, эти чувства у нас были похожи. Ну, он говорил, что ему не особо хотелось даже рефлексировать на эту тему, просто – он влюбился в парня, значит, он, по-видимому, гей. А то, что он по-настоящему в меня влюбился, он не сомневался. Мне не очень комфортно это писать сейчас, но он не раз говорил, что только со мной понял, что значит по-настоящему влюбиться. Он немногословен, и, пытаясь это объяснить, он в конце концов сводил все к формулировке, что настоящая любовь – это «что-то самое хорошее и важное в жизни». Понимаете, мне мучительно, потому что мне и сладко, и как-то очень стыдно, неловко, не знаю даже, как сказать… Сладко и МУЧИТЕЛЬНО неловко, вплоть до какого-то самоуничижения от того, что этот прекрасный, так любимый мною парень говорит, что я «свожу его с ума», что у него «как будто крылья вырастают» всякий раз, когда он меня видит, когда слышит мой голос, что ему «очень тепло» слушать мои многословные монологи, а моя «захлебывающаяся» речь при этом может сходу вызвать в нем взрывную похоть. Я сейчас подумал о том, что Илья научил меня любить и быть любимым. До встречи с ним я полагал себя несчастным и лишенным любви даже самых близких – родителей, а теперь я думаю о том, умел ли я вообще-то принимать любовь до встречи с Ильей и Владой. Даже сейчас, вы же видите, мне иногда нелегко это дается, но все же они, и первым именно Илья, зародили во мне трудноописуемое ощущение того, что я на самом деле достоин любви, восхищения, страсти. Я пишу это сейчас, и даже сейчас во мне что-то шевелится, какая-то тень, возможно, собеседника, противится этому, но, окруженная со всех сторон любовью Влады и Ильи, эта тень истощается, медленно, но истощается. Я думаю, что я не ошибусь в себе, если скажу, что во многом это чувство, чувство того, что я заслуживаю любви, Илье удалось мне привить через постель. Дело в том, что иногда мне кажется, что я, суицидник, инвалид не только физически, но и морально. Я как бы многие годы ношу этот некроз не только тазобедренного сустава, но и части души. После больниц, я помню, что несколько лет не проживал ни дня без мыслей о смерти, которые успокаивали меня. Успокаивали, потому что всякий раз я фоном думал: что бы ни происходило, плохое ли, хорошее или никакое, я думал – я всегда смогу повторить тот шаг в бездну, рано или поздно. Я всегда смогу повторить. И это почему-то меня успокаивало. Это было подобно аутоиммунной болезни – некая часть меня, которая жаждала любви и принятия самого себя, вызывала ярость другой части, желающей испепелить если не весь мир, то хотя бы самого себя. Сейчас мне сложно определить, моя ли это часть на самом деле или фантом матери, прижавшей меня коленом к полу и избивающей ремнем. Или пьяного отца, унижающего меня, плачущего, семилетнего, и отвешивающего мне пощечины. Может быть, это фантом их ненависти ко мне или я уж не знаю к чему. Но этот фантом жил со мной многие годы, и где-то на периферии между ним и частью меня, тянущейся к свету принятия самого себя, возникла как бы некая серая зона смерти с ежеминутной канонадой и мертвящими туманами, и в этой зоне, погребенной под руинами, брошенными окопами и минными полями, осталась уже значительная часть, ответственная за принятие себя. Наверное, там была погребена зона «полюби себя за то, что ты хороший», «полюби себя за то, что ты старательный», «полюби себя просто за то, что ты есть». И я уже не мог любить себя за эти вещи – они больше во мне не отзывались, более того, стоило моему внутреннему свету принятия себя попытаться пробраться в эту серую зону, как собеседник контратаковал и пробирался еще дальше… Но у зоны принятия еще оставались прочные позиции, типа, знаете, крепости в Доте. И чуть ли не главной такой крепостью, как ни странно, была страсть. Я бы не сказал, что только лишь плотская, но в значительной степени. Знаете, мне почему-то в связи с этим приходит на ум одно забавное воспоминание – уже живя с Ильей, я все же не изжил этой привычки не нравиться себе в зеркале, ну, помните, я рассказывал, как не хотел из-за этого ехать на свидание с Владой, и как долго причесывался, и даже как бомбил на Владу, когда она исподтишка сфотографировала меня обнаженного, читающего книгу на диване? Ну, так вот, я помню, это было в начале карантина, мне почему-то мерещится, что, возможно, даже не нашего еще, а той вспышки в Китае только, точно уже не помню. Вообще отрывисто помню, помню, что мы долго занимались любовью с Ильей, а потом он меня оставил, кажется, я даже заснул, наверное, может быть, слегка задремал, наверное, это было утром, потому что помню, его рядом не было, когда я проснулся, он ушел на работу, или вероятно, все-таки в магаз за чем-то, я, зевая, пошел в ванную и увидел, что он на стиралке забыл свою маску, вот этот ковидный намордник, у него она была черная такая, довольно стильная, с логотипом какой-то медицинской залупы, не помню, разноцветным таким, им на работе выдали. И я такой, помню: «Вот идиот, забыл свою маску, ото ще…» – и помню, взял ее в руки рассмотреть, а потом совершенно от нечего делать мне захотелось примерить ее; вы, возможно, будете смеяться, но у парней, во всяком случае у нас с Ильей, тоже есть эта тема – таскать вещи друг друга, в этом деле, правда, больше я замечен, я ему скорее что-то подбираю и иногда отдаю что-то свое, что, как мне кажется, ему больше идет, а вот тащить у него вещи – это моя тема: вот эта рубашка, ношенная-переношенная, клетчатая, из секонда, прям как из фильма о реднеках, в которой я тогда в церковь ходил – она вообще изначально Ильи, я ее у него потянул, он пару раз молча забирал, а потом сам оставил ее мне, также я потянул у него очень классический адидасовский черный спортивный костюм с белыми полосами, например, а так не помню, еще по мелочи, что-то типа шапки… Короче говоря – я абсолютно машинально примерил эту его маску, чисто по приколу, даже не задумываясь. Ну и взглянул на себя в зеркало. И просто застыл на месте перед этим зеркалом в ванной. Я же говорил вам, что я, в принципе, был доволен своим телом, несмотря на шрамы от швов, но особо крупный шрам на бедре – он сбоку, и его было не видно, а так я был подтянут, строен, кажется, я даже тогда занимался с Ильей, и, может, кубиков на животе и не было, но довольно четко обозначалась продольная линия пресса, плечи у меня были что надо, развитая грудная клетка… Короче, в зеркале был обнаженный стройный и подтянутый парень в черной маске. Мои русые волосы были взлохмачены и опадали на полуприкрытые глаза. Эти глаза… Это вроде было после того, как Илья вслух любовался моими глазами, и вдруг мое лицо, прикрытое этой маской, без этого паралича и сломанной челюсти, показалось мне неожиданно красивым. Центром этого лица были как раз большие и зеленые глаза, их сонный и усталый взгляд только подчеркивал какую-то таинственность – мне показалось, парень в зеркале обладает какой-то волнующей тайной. Почему-то так показалось. Зеленый таинственный взгляд из-под русых волос, это стройное истомленное тело. Это было что-то очень странное и волнующее, мне трудно описать, потому что это вложилось в какие-то мгновения, но мне как будто резко вспомнилось то, как Илья меня любил, и, глядя на этого парня в зеркале, я вдруг подумал, что это не удивительно, ведь в этого прекрасного парня действительно можно влюбиться. И вдруг я на короткий миг испытал то забытое чувство, когда подростком смотрел на себя в зеркало и нравился себе. Мне вдруг на миг стало так хорошо, уютно и свободно. Но, как будто испугавшись этого чувства или не веря ему, я потянулся рукой к маске и снял ее. И чудо рассеялось, и от этого мне стало еще горше. Впрочем, все-таки что-то во мне шевельнулось, безусловно, это пошевелил Илья еще раньше, и этот взгляд в зеркало не мог бы получиться без предварительной подготовки. Понимаете, где-то внутри меня Принятие уже вклинивалось в серую зону, расширяя свой контроль над участком «ты достоин любви»… Я забрал у Ильи эту маску и носил ее некоторое время, но Илье это резко не нравилось. Он сказал: «Я хочу видеть твое лицо», – а когда я в очередной раз сверился ему о параличе и всем таком, он просто назвал это чушью и повторил: «Я хочу видеть твое лицо». И когда я уже стал надевать эту маску не только на улице, но и дома (точнее, не снимать, приходя с улицы), он отнял ее у меня и выбросил. Он не сделал это грубо, но настойчиво, кажется, он поцеловал меня после того как забрал маску, но я все равно надулся. Впрочем, не очень серьезно, потому что внутри меня выстроилась какая-то конструкция, типа… Ну, типа, знаете, женщины носят туфли на каблуках или еще какую-то неудобную срань не потому, что им это на самом деле нравится, а потому, что это нравится их мужчинам и через это как бы нравится и им. Вот я построил что-то вроде «это нравится моему любовнику, так пусть». А потом Илья расшевелил меня, как-то так по-детски упрашивая поиграть в какую-то игру на плойке вдвоем, а когда я начал ломаться, он сообщил, что уже купил под это дело ведерко сливочного мороженого и один его все равно не съест – я сдался.
***
Но к чему это я – вы понимаете – Принятию удавалось отвоевывать позиции, опираясь на крепость по имени Страсть. И я учился любить себя и Илью, и, главное, – принимать любовь Ильи именно через секс, через плоть, я это чувствовал, понимаете, я сколько угодно мог бичевать и обесценивать себя внутренне, но я не мог не видеть возбуждения Ильи. И мне было хорошо в сексе с ним, мне было очень хорошо, и эта часть моей натуры была в крепости, потому что собеседник ничего не мог сделать ни с моим возбуждением, ни с моей эрекцией, ни с учащенным дыханием, ни с пятнами на шее и спине, ни с покраснением лица, ни со взрывом оргазма и толчками семяизвержения. Его мантры о том, что мир умрет, тут не конали – мои центры удовольствия знали, что жизнь прекрасна и что все имеет смысл, когда лежишь в объятьях любимого парня. Я учился принимать любовь Ильи и принимать себя. Потому что если я его люблю (а мой член, сука, знает, что люблю, что б ни говорили никакие собеседники!), то мне не может не доставлять удовольствия его любовь ко мне, а если любовь другого ко мне уже начинает доставлять мне удовольствие, то тут уже совсем рядом и до любви к самому себе. Ну, так вот, объяснившись с этим, я попытаюсь далее поведать, что у него было больше опыта, чем у меня, и он всегда говорил, что со мной в постели несравнимо круче, чем с женщинами, которые у него были до меня, а когда мы повстречали Владу, то Илья говорил, что она чем-то похожа на меня. Он говорил, что полагал себя геем (как и я, но я уже говорил), но Влада внесла сумятицу в этот вопрос, потому что, как говорит Илья, она необычная, в том числе в смысле постели. Я уже говорил, что она была опытнее нас, но дело не только в этом. Например, объясняя нашу с Владой похожесть в сексе, Илья говорил, что, в частности, занимаясь любовью, мы оба как бы, сказал он, «танцуете, что ли». Он не мог толком объяснить, что это значит, но в конце концов он сказал:
- Ну, типа, знаешь, на дискотеке или там на празднике люди че танцуют… По большому счету, чтобы кого-то склеить, или повыебываться, или там наваленные и на месте не стоится… А кто-то танцует, типа, знаешь, потому что нравится процесс. И на такого человека обращаешь внимание, он, типа, очень красиво танцует, но ему на все похуй, и это тоже притягивает…
Ну, в общих чертах он как-то так выразился, помню, меня удивила эта аналогия с танцами, но, может, он и у меня ее взял, наверное, потому что я рассказывал ему те истории про танцы в юности, хотя и вскользь, да и Влада же занималась танцами, и на этой почве у них было немало разговоров, касающихся физкультуры. Но сама аналогия неплоха, и я, помню, живо представил себе танцующую Владу, у меня было из чего, потому что она, естественно, танцевала неоднократно для нас, и одетой, и полуодетой, и голой, и как угодно, и пластика у нее была реально восхитительной, а особенно мне нравились ее волосы в танце, вот волосы – это отдельная тема, отдельный как бы элемент перформанса, как много способен передать вот этот как бы простой ход – в нужный момент распустить волосы, или правильно управляться с уже распущенными, когда они как бы танцуют свою важную партию, ну, я вообще люблю ее волосы, люблю, что они длинные, я как-то читал, что манера отпускать длинные волосы у самок – это демонстрация здоровья, ну, пусть так – люблю ее волосы, потому что они здоровые и длинные, люблю ее, потому что она самка, потому что красиво танцует и потому что она Влада… Ну, так вот, я люблю ее танцующей и, в частности, люблю вот эти полуприкрытые глаза и чувство, что она «напохуях», вот именно в том смысле, что она красива, сексапильна и при этом самоуглубленная какая-то. Ну, короче – схватить за волосы и трахнуть, а потом лежать, обняв, и клясться ей в вечной любви, и воспевать ее, и поклоняться ей. Сука, я не понимаю, почему мне с ней так нравится моя самцовость…
Ну, так вот, короче, Илья говорит, что и Влада «танцор», и это выражается не только в большей опытности и раскрепощенности, но и как бы в «интересе к предмету». Вот помните эту историю с моей чувствительностью и массажем? Илья пользовался этим скорее стихийно, хотя у него и страстно получалось, но вот Влада раскрыла эту тему полностью, она настойчиво меня изучала, и иногда казалось, что я тем сильнее ее хочу, чем более самоуглубленно она изучает меня. Это замечал и Илья. Например, она была ласкова, но ей настойчиво хотелось научиться управляться с нашей половой физиологией так же искусно, как и мы, и впоследствии доставлять нам то же удовольствие, что и мы доставляем друг другу. Это приятно удивляло именно Илью. Он как-то говорил, что типа именно не беря во внимания хрестоматийные бревна (какой была его вторая девушка, ну, та, влюбленная в него – он так не сказал прям, это уже я интерпретирую), все равно ему непонятно… Ну, скажем, та его третья девушка была раскрепощена, и ему это нравилось, но все же, он говорил, оно было как-то… он выразился, «как в порнухе» – в том смысле, что, как и в танце, какая-то телка знает дохуя движений и тренирована, но оно, по сути, для того, чтоб только выебнуться, какая она танцорша – так и там. Чтобы выебнуться. Не то чтобы ей было насрать на то, что чувствует Илья, но вот… Вот, говорил он, Владе не просто не, но есть еще какой-то совсем дикий уровень у нее, когда… знаете, как он выразился? Вот он мастер точных выражений. «Она тебя как будто книжку пишет», – он сказал. И я поразился, насколько он точен. Я бы это, может быть, интерпретировал, что она колдунья, которая одновременно использует тебя, но при этом и любит тебя. Вот, например, вот этот танец, когда она сводит с ума, и ты хватаешь, и входишь в нее, а потом, обнимая, клянешься в любви, чуть не плача. Вот, казалось бы, она ничего не делает, хотя на самом деле зачаровывает тебя, а зачаровывает потому, что любит искусство зачарования, но при этом и любит тебя. И она (опять эти зеркала) изучает на тебе зачарования, но зачарования изучает потому, что ты ее на это вдохновляешь. И Илья не раз говорил мне (почему-то чаще мне, чем Владе, кстати), что мы оба сводим его с ума как любовники.
И в тот февральский вечер на балконе, помню, первое, на что я обратил внимание – то, как она умело прикасается к моему члену, обнимая меня. Я хотел быть ее материалом, хотел ей сказать: «Раствори меня, ртуть», – но меня и раздражало то, что, оказывается, этой ведьме достаточно всего лишь ухватить меня за член, и вся моя триумфальная недавняя победа ничего не стоит, и она опять возвысилась надо мной. Я хотел, чтобы она надо мной возвышалась, но не так же просто. Правая рука обжигала мой копчик, бедро, потом вновь поясницу, левая ласкала твердеющий член и промежность, горячее дыхание обжигало мне спину, я чувствовал прикосновение ее теплой груди к моей спине. Войти в нее прямо сейчас? Да, войти в нее прямо сейчас – это важнее всего в блядском мире, но ведь тогда она тотально победит. Я знал, что, тая в ее объятьях, я буду несказанно рад ее победе, но сейчас мне не хотелось так просто… Вдруг опять пришло сожаление от того, что я не могу схватить ее на руки и понести.
- Почему тебе так нравится сжигать меня? – вдруг спросила она, очень нежно сжимая мой член.
Сульфур разгорался во мне. Но если она зажигает во мне этот огонь, и если ее руки, как огонь, и она дышит мне в спину огнем, и ее груди наливаются огнем, то не она ли сульфур, а я – ртуть?
- В смысле – сжигать? – выдохнул я, глядя на тающий в ртути предвесенний захолустный город.
- А что, ты думаешь, я чувствовала, когда Илья входил в меня, а ты смотрел?
- Не притворяйся, что тебе не нравилось то, что Илья с тобой делал.
- Мне нравилось! А ты стоял такой прекрасный и смотрел, пренебрегая мной, а потом поцеловал и ушел, когда я вся была охвачена огнем, мне казалось, я после этого сгорела и остался пепел, ты жесток, и ты бесчеловечен…
- Я влюблен в тебя.
- И потому тебе так нравится сжигать?
Она сказала это с болью. При этом не переставая меня ласкать. У меня часто бывает чувство, которое я называю предоргазм, не вполне уверен, что знаю, как оно по-научному, но если долго не кончать или всякий раз перед пиком немного тормозить себя, то можно приноровиться, мне это нравится на самом деле, это как оргазм без спермы, послабее, и эрекция не уходит, но дыхание немного выравнивается, а чувство разной интенсивности от легкого удовлетворения до почти что оргазма, дрожь, все дела, насыщение, слабость, но как бы еще не конец, и через какую-то минуту ты уже готов кончить по-настоящему, но за акт я многажды могу такое испытать, это как вот в этом тексте подглавы, понимаете, типа не конец главы, но какое-то завершение, потом опять начало, завершение, а потом уже конец. И если эти циклы правильно настроить, то финальный оргазм будет очень глубоким и сильным – опустошающим и в то же время привносящим высший смысл в существование. И когда она спросила: «Тебе нравиться сжигать?» – я испытал вот это, даже член в ее руке пару раз дернулся, еще не разрешаясь семенем. Она, безусловно, это почувствовала – она отлично знала все эти мои циклы и, в сущности, мне это дико нравилось, потому что я счастлив думать, что создан для ее удовлетворения. В мозгу промелькнул забавный факт о том, что половой орган человеческих самцов в процентном отношении к телу – самый большой среди всех млекопитающих. Мне приятно иногда думать, что это потому, что мы эволюционировали в сторону все большего удовлетворения своих самок. В то же время только наши самки почти все время готовы к оплодотворению, только они способны хотеть и кончать вне зависимости от цикла и даже будучи беременными, только наши самки могут хотеть и кончать вообще вне зависимости от репродукции, и этим они прекрасны. Человек – самое развратное в мире существо, и мне нравится об этом думать, как и о том, что секс – самое главное в человеке, и все на этом зиждется, если задуматься, – он есть основа нашей социальности вообще. Ну, рили – какая близость могла быть между мной и Ильей, если бы между нами не было секса? А между мной и Владой? Да, секс не главное, но не главное как механическое действие – вот что. Он главное как принцип, понимаете? Мне нравится перефразировать выражения Джеки Чана из римейка Karate Kid, в моем исполнении это звучит так: «Секс – это все, что мы делаем. Это то, как мы снимаем куртку с любимого человека. И то, как мы надеваем куртку на любимого человека. И то, как мы к любимому человеку относимся».
***
Я отношусь к Владе как к источнику моего удовольствия и счастья. И в то же время я счастлив быть для нее источником удовольствия. Как вы понимаете, я уже сдавался, и мне нравилось чувствовать себя трепещущим в ее ласковых, но всевластных руках, абсолютно принадлежащим ей мужчиной. Вопреки распространенному мнению, человек вполне моногамен, только с той поправкой, что может менять партнеров, но пары он формирует, и весьма прочные – так работала эволюция. Думаю, бишке вроде меня простительно сформировать не пару, а тройку, но смысл отсеяться тот же – у меня в мозгу специальные конструкции сформированы таким образом, чтобы испытывать глубокие сильные чувства к этим двоим прекрасным сволочам, и мне нравится думать, что у меня в мозгу есть специальные зоны, в которых, условно, написано: «Вот эта девочка – твое счастье» и «Вот этот мальчик – тоже твое счастье». Примерно такой вихрь хуеты пронесся у меня в мозгу тогда, но он, как понимаете, был нужен для одной цели – тормознуть эякуляцию. Причем тормознуть (это важно) не как когда думаешь о чем-то неприятном, чтобы совсем погасить возбуждение, а когда тормозишь как бы наоборот, чем-то приятным, но не резким – как будто медленнее и нежнее двигаешься в партнере, легче ласкаешь себя или бережно отводишь руку партнера, когда он ласкает тебя. Я же приятными и сексуальными мыслями отвадил тогда пик.
Но она, безусловно, все чувствовала, и я это понимал, и мне было похуй или скорее даже хорошо – это уже была моя бессловесная капитуляция. И все же каким-то остатком воли и разлитого во мне сейчас сульфура я собрался и пролился на нее быстрым откровением. Я, так и находясь в ее руках, рассказал все, что я чувствовал – о том, что ее волосы – это галактические нити, о том, что она ртуть, меня в себе растворяющая, о том, что я чувствовал, глядя на их секс, и о том, что я так ее любил в тот миг, что хотел убежать в бесконечную вечною осень, где меня бы согревало и спасало только это воспоминание о прикосновении моих губ к ее волосам.
- Любимая?
Она всхлипнула за моей спиной. Я обернулся, поддержав рукой ремень джинсов – ее руки освободили меня. В ее прекрасных ведьминых глазах стояли слезы, она всхлипывала. Я онемел от страха, от того, что, может, ненароком причинил ей боль, от неожиданности и от ее красоты в этот миг.
- Что… такое? Влад?
- Богдан… ты так мне нравишься.
- Сейчас ты мне отдашься, только пошли внутрь, а то простынешь тут.
***
Помните, я рассказывал, что ревную Владу к ее бывшей девушке со времен ее учебы в Берлине? Так вот, я подумал, что это надо немного прояснить. Когда мы с Владой это обсуждали, я со временем пришел к выводу, что эта моя ревность в принципе вызвана социальными причинами, скажем. Я меньше ревную Илью к его бывшим девушкам, и это не потому что Илья сейчас убеждает меня, что я несравнимо лучше их (хотя мне это и приятно – не скрою, немного стыдно, но приятно). Я же объяснял вам, что, как это ни странно может прозвучать, но в романе с Ильей я неиронично почувствовал себя живым, возможно, впервые в жизни, и в том числе (я это четко ощущал) в этом романе я раскрыл свою мужественность, и мне впервые стало нравиться то, что я мужчина. Да, позже, с Владой, я почувствовал и то, что мне также нравится быть мужчиной, влюбленным в женщину, но это отдельный разговор. Это был как бы еще один уровень познания – и познания другого человека, и, что, возможно, и более важно – познания себя. Но вот эта влюбленность в другого парня была самым первым великим открытием, она мне была так дорога, что я в каком-то смысле, внутренне, конечно, нес ее над головой, как знамя. И в этом смысле факт, что я нравлюсь Илье больше, чем его предыдущие девушки, вдохновлял меня подымать это знамя еще выше в своем воображении. Если же представить, что у Ильи до меня были парни, то это не то чтобы бросило тень на это мое великое открытие и знамя, но как бы… Ну, в общем, считайте это чувством собственности, если хотите, я его таковым не считаю, но мне бы хотелось разделять это сокровенное счастье именно с Ильей и больше ни с кем, тем более что в реальности и я был у него первый, и тоже ему многое открыл, в том числе в нем самом. Ну, так вот, я думаю, вы поняли примерно, почему я не так сильно ревную Илью к его бывшим девушкам, но, думаю, сильней бы ревновал его к парням, если бы у него до меня они были. Как-то так. Относительно же Влады было сложнее. Я думаю, что я ревную Владу к ее бывшим парням, может быть, немножечко сильнее, чем Илью к его девчонкам… Хотя, может, и одинаково – мне вот что сложно вербализировать – возможно, дело в моих внутренних загонах (да, конечно, в них, по большому счету), но, скажем так (я попытаюсь все же объяснить) – мне было очень дорогим мое пережитое с Ильей открытие, и видя, как общество в целом относится к такой любви, как у нас с Ильей, и в значительной степени именно женщины, как я выше описывал, мне с утроенной силой хотелось нести это воображаемое знамя, насколько я мог себе это позволить, живя здесь и сейчас, ну, потому что у меня вообще есть такое свойство – чем сильнее на меня давят, тем я иногда сильней сопротивляюсь, как бы вопреки и на зло, да, скорее на зло, я довольно зловредный вообще-то. Ну, вы же не думаете, что ненависть к себе, которая толкала меня на суицид, всегда касалась только меня и никогда не выливалась наружу, на окружающий мир и людей, и не была при этом черна, как сверхмассивный радиоисточник в центре Млечного Пути или хотя бы как субстанция из вертикальных углеродных нанотрубок. Так вот – она выливалась и была черна. И, в том числе злясь и ненавидя, я, как бы гордо запрокинув голову, любил Илью. Не говоря уже о том, что, по моему мнению, агрессивная общественная гомофобия – частный случай мужененавистничества, как я и объяснял раньше, а так как роман с Ильей помог мне почувствовать себя мужчиной, то я ненавидел этих гомофобов, и в частности гомофобок, еще сильнее. В частности, потому что… я это дальше объясню. Сейчас же о Владиных парнях. Прикол в том, что Влада тоже, как и Илья, убеждала меня не раз, что ничего подобного тому, что было со мной (со мной и Ильей, но и с нами по отдельности, и со мной, в частности, тоже) с ними не испытывала. Но все же, вероятно, мои предыдущие комплексы заставляли меня ревновать чуть сильнее, ведь внутренне я, может быть, до сих пор сомневался, что девчонка вообще способна меня полюбить – то ли дело других парней, которые во всем лучше меня. С девушками Ильи этого почему-то не было, или это было меньше выражено – все-таки для нас обоих это все было впервые, и нам не с чем было сравнивать, и все такое. Мне даже иногда нравилось обсуждать с ним его девушек. В этом было что-то такое шаловливое для меня – то изобразить тонкую ревность, немного покапризничав, то колючесть, ядовито пошутив над какой-то из его бывших пассий, то в минуту его особой откровенности при этих разговорах лукаво стрельнуть в него взглядом (он называет мой этот взгляд «колдовским» и, признаюсь, меня это дико заводит) и заставить на меня наброситься в любовной страсти, а потом лежать с ним рядом удовлетворенным, зацелованным, залапанным и уже как-то спокойно и расслабленно договорить об этих его телках. Да, я не знаю, что со мной такое, блин, но это мне в каком-то смысле нравится. Надеюсь, вы меня простите за этот небольшой сексизм, мне кажется, я его заслуживаю, учитывая, что нас с Ильей общество ненавидело бы (если бы знало о нашей любви) все-таки несравнимо более сильно, чем любую пару девчонок. Ну, пускай это будет такая моя небольшая месть, которая все равно никого не коснется, ведь вы же никому об этом не расскажете, правда? Но я не зря заговорил тут о сексизме, ведь как раз собираюсь перейти к главному. К парням Влады я ревновал, может быть, немножко больше из-за комплекса неполноценности, но в общем-то я затрудняюсь – может, и не больше. На самом деле с Владей это было тоже в некотором смысле интересно обсуждать. Чуть меньше, наверное, из-за тех же моих комплексов, но все же там было по-другому – иногда мы с ней настолько увлекались обсуждением каких-то подробностей, что мне становилось очень хорошо от опять же этого единения с Владой, этой откровенности, например, когда я, увлеченный разговором, начинал вслух сравнивать опыт Влады с моим опытом с Ильей (ну, других-то у меня не было – это еще причина для большей ревности, чем в случае с Ильей – она-то была популярна) //@ruah: а ты ОХУЕННЫЙ// //@givenbygod: ВЛАДАААААААААААА // @ruah: Ушла (сердечко)// //@givenbygod: ПС: Она в городе, а я здесь, специально дразнится, а я ее хочу. Ну, пусть// Ну, так вот, это было очень тепло как-то – разговаривать с ней в таком духе и, например, мельком осознать, что мы с моей любимой девушкой увлеченно обсуждаем наших парней. Это было тоже как-то очень приятно. Но вот с ее той девушкой… Они не повстречались с ней и полных три месяца, и несмотря на то, что Влада говорила об этом реально, как о каком то, ну, я не знаю, типа «да, было модно носить клеши, и я немного носила, сейчас вспоминаю – кринж какой-то ебаный…» – без всякого энтузиазма, короче, но я немедленно себе нагонял, например, что та девушка была немкой, ну и типа «конечно же – не слав-шит унтер, типа нас с Ильей» //@ruah: ржу// //@givenbygod: съеби// Ну и вообще типа… Ну да, короче, вы поняли – мои загоны с матерью, моя сексуальность да плюс общественное мнение… Ну да – мне внутренне казалось где-то очень глубоко, что Влада врет, и ей было с той девушкой лучше, чем со мной, и, может, лучше, чем с Ильей, но это и неважно, потому что Илья, наверное, по этому поводу и не грузился, а вот я… На самом деле, вовсе глубинный я, наверное, сам бы по новой попытался свести Владу с той немкой, если бы знал, что ей было с ней действительно хорошо /@ruah: Богдан, ну, ты реально нагонял себе какой-то несуразицы сугубой! Я уже просто не могу это читать (прости). Ну, как тебе еще вдолбить, насколько я теку от твоего члена, твоих плеч, твоего кадыка и щетины! Как ты меня ЗАЕБАААААЛ/ //@givenbygod: ВЛАДА! Почему-то очень про кадык. Я тебе говорил, что ты живое воплощение всей красоты метагалактики?/ Я, наверное, сам бы по новой попытался свести Владу с той немкой, если бы знал, что ей было с ней действительно хорошо. Но менее глубинный я был пареньком, которому с юности или, пожалуй, даже с детства было неприятно ассоциировать себя с так называемой нормативной маскулинностью, она была чужда мне в целом, и я хотел чего-то другого, но девочки-то меня к себе не принимали (ведь я НЕ КРАСИВ, правда, мам?). И да, я завидовал девочкам, потому что они могли быть и женственны, и мужественны, и какие захотят – ну, так мне казалось в юности, они могли быть и красивы, и сильны, а если мне действительно не хотелось быть сильным (во всяком случае, в том смысле, общепринятом, скажем), то где я мог реализовать свое желание быть красивым? Я говорю не буквально, понятно, но даже если бы буквально, скажем, – давно вы видели, как фотки парня комментируют: «Ты красив, ты сексуален, ты прекрасен, ты невероятен»? Ну, в общем и целом – какой бы он ни был. Ну, в общем, думаю, вы поняли – привел бы еще кучу подобных примеров, если надо. А хуже всего то, что все как-то сошлось, ну, я и сам его свел, безусловно… Да, мать никогда не говорила мне, что я красив. Она даже о том, что любит меня, говорила только в реанимации, рыдая надо мной, пока врачи-убийцы ждали моей скорой смерти. Впрочем, я не умер. Вылез, как Гренуй (и почему опять Гренуй, не знаю…), но зато теперь мать, да и весь мир, да и я сам в конце концов могли сказать – теперь я точно не красив. Моя робкая симпатия к себе на излете подросткового возраста оборвалась, казалось, навсегда. И безусловно, почти подсознательно я завидовал девочкам, знаете, я очень редко в своей жизни завидовал парням. Причем это серьезно не какой-то копиум – мне просто было это все неинтересно. Вот эти собачьи бои, вот эти какие-то меряние не пойми чем, вот эти… да короче – не хочу перечислять. А вот девочки могли быть КРАСИВЫМИ, вы понимаете? И мне внутренне все равно этого хотелось, несмотря на то что физически я уже никак не мог стать хотя бы симпатичным, не то что красивым. И те немногочисленные мужчины в моей жизни, которым я, возможно, завидовал – они в том или ином смысле были красивыми. Это не обязательно были там фотомодели, или геи, или я не знаю даже… Это могли быть просто внешне красивые привлекательные парни, от которых, знаете, дух захватывает, и хотя я не считал себя геем тогда, но у меня захватывало дух от таких парней (очень редко, но все же), или это могли быть поэты, от стихов которых перехватывало дух. Я помню, как в школе прочитал впервые в хрестоматии для старших классов, учителя не было и мы слонялись по аудитории, и я от нечего делать листал книжку, и вдруг прочел: «На Лисій горі догоряє багаття нічне».
Я был шокирован. Эти стихи были прекрасны. Меня вдруг передернуло, потому что я представил эти губы и ладони, и их запах, и я вдруг понял, что меня ведь не трогали особо те стихи Стуса, которые мы изучали наизусть, вот эти – о терпении и о самопожертвовании во имя мертвых идеалов – ну, так нам объясняли в школе эти стихи, но они ведь были НЕ об этом – так думал я, четырнадцатилетний. Они были об этих соленых и горьких губах, которые ты вспоминаешь в завываниях колымских вьюг. Возможно, тогда я впервые ощутил, что можно быть влюбленным не в безжизненную и безразличную родину абстракций, а в родину, которая пахнет, губы которой горьки до солености, губы которой целуют тебя. И ты так хочешь быть красив для этой родины. И чтобы она надела красивое платье и соблазнила тебя. Потому что только ради этого и стоит жить. Стус немедленно представился мне не мучеником и не политзаключенным, а влюбленным парнем. И он был красив таким, вы понимаете, в данном случае дело даже не в его исхудавшем измученном лике на фотографиях под рушниками или флагами, дело было вот в этом влюбленном парне, который жил и продолжает жить в его стихах. Этот парень был красив и романтичен, и этим всесилен, потому я это чувствовал – Родина была ответно влюблена в него. Потому что в такого НЕЛЬЗЯ не влюбиться!
То есть это могло во многом выражаться – внешности, стихах, характере, это довольно трудно объяснить, просто я мог завидовать таким парням, и это в сущности была даже не зависть, или зависть, но не злая, а скорее восхищенная, просто чувство даже какого-то облегчения типа: «Господи, какой красивый парень», – и как бы какой-то баланс в моей душе частично обретен, типа «нет, парни могут быть красивыми, и пусть я не красив, но если существуют красивые парни, которые даже меня способны вдохновить своей красотой, то мир еще не обречен». Потому что… понимаю, что, возможно, странно щас скажу, но если парни не могут быть так же красивы, как и девочки, то я не знаю, для чего мне вообще жить. Я знаю, что это мои собственные загоны преимущественно, но раньше я не раз ловил себя на мысли, что каждый раз, когда я видел, что парням отказывают в возможности быть красивыми, то меня почти всякий раз опять посещали суицидальные мысли – в той или иной мере. А когда я думаю о том (и тем более вижу подтверждение этому в реальности), что парни так же красивы, как и девочки – меня, наоборот, наполняет что-то вроде религиозного экстаза, и я думаю о том, как мир прекрасен, он не может быть не прекрасен, ведь в нем столько прекрасных женщин и мужчин! Ну, как-то так. Вы помните мой рассказ о нашей первой встрече с Ильей? Вы помните, что я ему позавидовал? Это был как раз такой случай теплой, даже сладкой зависти. Воодушевляющей зависти, я бы сказал. И вообразите мое чувство, когда это воплощенное подтверждение красоты мира вдруг поцеловало мои губы там, на балконе хрущобы? Может, вам теперь лучше станет понятно, почему я рыдал тогда в душе. Но также вы должны понять еще одну вещь обо мне (если вы дочитали аж досюда, значит, вам я все-таки уже небезразличен как рассказчик, и вам эта вся хуета хоть сколько-то интересна). Видите ли, мне кажется, что по-настоящему влюбляться в девчонок я научился лишь после того, как влюбился в прекрасного парня, скажем, это бывало и в частностях, когда я видел подтверждения красоты парней, то я вдохновлялся этими парнями и наслаждался их красотой какое-то время, как вдруг на волне этого вдохновения я, скажем, переводил взгляд на девочек и думал: «Господи! Да я ведь даже не понимал, НАСКОЛЬКО они на самом деле прекрасны!» Причем теперь, на волне этого залюбования парнями, красота этих девочек казалась гораздо ярче, чем была до этого, но и какой-то не злой, не глумливой, не мертвящей, а оживляющей к жизни и какой-то всемогущей, ну, я не знаю, как сказать, – я видел этих девочек абсолютно другими глазами, и теперь, больше не завидуя им, а искренне восхищаясь ими, я готов был ноги целовать им… впрочем, и прекрасным парням тоже. Да и чего уж там – не только ноги.
***
Ну, короче, это примерно то, что произошло между мной и Владой. Не буквально про ноги, хотя и об этом тоже, но сейчас не о том. Скажем, я влюбился в прекрасного парня, и, о ужас, он тоже влюбился в меня (до сих пор не понимаю, как это последнее могло произойти, но ладно). И этот парень не просто влюбился в меня, но как-то возродил во мне, казалось, навсегда угасшее чувство если не любви еще, то хотя бы робкой симпатии к самому себе. И тут на этой волне взаимного вдохновения мы вдруг оба влюбляемся в невозможно прекрасную девчонку. Причем эта девчонка реально самая красивая во всей метагалактике. И выясняется, что наши к ней чувства взаимны с ее стороны. Я же говорил – взрыв. Большой бенг!.. Я понимаю, что я подобными аналогиями уже заебал, но реально такое ощущение, что мы с Ильей заряжались и наполнялись любовью друг к другу, а потом появилось это прекрасное чудовище и вот так щелкнуло миниатюрными пальчиками с разноцветным маникюром – и мы с Ильей пролились этой любовью на него, утопив все это бесподобно симпотное чудище в нашей любви, а оно не только лишь не утонуло, но еще и довольно мурлыкало (или что делают львы?), и поглотило всю нашу любовь, и подошло к нам, иссякшим, и такое:
- Вы мои самые любимые.
И, блин, вернуло нам эту любовь в тысячекратно увеличенных объемах, трансмутируя эту любовь в сплошное счастье. И мы теперь могли только служить этому льву, выполнять все его капризы, поклоняться красоте его, заботиться о нем, преподносить ему различные дары и бережно расчесывать его великолепную темно-русую гривку, каждый волосок которой на самом деле галактическая нить длиной в более ста мегапарсек. Короче говоря – мы оба стали рабами галактического льва, и нам обоим это очень нравится!
@ruah: Вы не рабы, а мои любимые парни (сердечко)
//@givenbygod: Вот видите, какое оно бесячее?..
XV
Так к чему это я? А к тому, что один раз, когда мы с Владой обсуждали ее гомосексуальный опыт (да, мы это тоже обсуждали, несмотря на все наши общие загоны и т. д.), то я сказал ей… блин, не помню, почему-то кажется, что в тот раз я, может быть, был немного захмелевший от вина, я же рассказывал, что иногда мы выпивали, Владе нравилось белое вино, и она меня тоже подсадила, Илья совсем немного всегда пригубливал, а мы с Владой могли выпить по бокалу или даже чуть больше, причем я был всегда гораздо менее резистентный, ну, чисто физиологически, это я с юности за собой помню, и меня вело всегда сильнее даже с этих одного-двух бокалов. Короче, я сказал тогда ей, что хотел бы быть с ней как та девушка, вообще как девушка, а не в смысле ролевых игр, в сексе-то мы к тому времени уже разное пробовали, и я бывал с ней как девушка, а она бывала со мной как парень, в разных смыслах, ну, короче, мне, например, нравилось, когда она была со мной как парень в разных смыслах, но в общем – активной, в общем, хотела меня и брала, что хотела, как я и объяснял. Но вот ей эти игры были интересны, мне все-таки казалось, как игры, в общем, мне сложно объяснить, но, короче, об этом и был тот наш разговор под вином. Короче, я ей сказал, что мне хотелось бы испытать с ней то же единение, которое я так легко испытываю с Ильей. Я понес что-то типа того, что я думал об этом еще с юности и, пожалуй, я не хотел бы быть другого пола, потому что мой пол – это часть моей личности, но типа я так люблю ее, Владу, что мне хотелось бы быть с ней каким-то глубинно родным.
- Но ты же родной! – как-то смешно экзальтированно, помню, выкрикнула она, ну, тоже немного хмельная, хоть и меньше меня.
И дальше она процитировала тот кусок из Матвея, о единой плоти, что типа мы с ней предначертаны друг другу, и мы, короче, как пазлы, она так и сказала – как пазлы, подходим друг другу, и мы едины, мы должны быть едины. И хотя мне это показалось смешным, и я даже засмеялся, помню, но все же даже в моем хмельном мозгу возникла мысль, что мои половые отличия как бы с рождения являлись знаком моей предначертанности какой-то девочке, или вообще девочкам, и мне это показалось приятным, это была мысль типа «я создан для девочек», и это было красиво, ну, мне так казалось. Я поделился с ней этой мыслью, и она с ней согласилась и сказала, что и она создана для мальчишек, и даже сказала – она, возможно, для двух конкретных. Забавно, что я, вспоминая это, отмечаю, что мы вновь ведем эти длинные диалоги вдвоем, Илья был где-то рядом, но не вмешивался, мне кажется очень милым то, как он любит наблюдать за этими нашими диспутами со стороны, он мне не раз это прямо говорил, типа там говорю ему:
- Я думал, ты спал.
- Та не, вас слушал.
Это о том, как нам с Владой не спалось и мы разговаривали на кухне.
- Почему к нам не пришел?
- Та просто слушал, а потом заснул.
Я люблю его. Но тогда мы с Владой вернулись опять к ее гомоопыту, и она вдруг сказала, что ей нравится, когда ее трахает парень, буквально.
- В смысле? – спросил я захмелевшим голосом.
- Не знаю… – ее тоже немного вело. – В смысле парень, в смысле ощущать его силу, его…
Она задумалась и захмелело улыбнулась.
- Его волю.
Я вдруг решил, что это очень точно. И признался, что мне это нравится с Ильей, вот это, что он парень, что он хочет тебя и что он кажется таким прекрасным в этом желании… Тут я сам задумался и сказал:
- То есть я сейчас подумал: когда я тебя хочу, то не кажусь тебе каким-то просителем?
И тут она, как у нас часто бывает, заговорила о том, о чем я и сам как бы долго думал, ну, вот это и называется «понимать с полуслова»:
- Ты кажешься мне тем, кто хочет наполнить меня собой, твоими колдовскими глазами, твоим суицидальным хаосом, твоей тьмой…
- Я кажусь тебе тьмой? – я даже удивился.
- Нет, Богдан… Я не знаю, как это выразить, но твоя непохожесть меня дико влечет. Я попытаюсь – я выстраиваю внутри себя свой мир, где я в безопасности, но ты… Ты входишь в этот мир, такой своевольный, и говоришь, что пришел меня забрать, и я почему-то влюбляюсь в тебя. Твоя тьма — это твоя таинственность, твоя непонятность для меня, но вдруг ты берешь меня за руку, и я понимаю, что эта непонятность – она нужна не для того чтобы свести меня с ума, а для того чтобы вести меня сквозь непонятный мир и защищать меня. Эта твоя тьма – это внешний непонятный мир внутри тебя, и ты говоришь мне: «Я покажу тебе этот мир и научу смотреть в него, не бойся, я держу тебя за руку». И я люблю тебя больше всего, что когда-либо любила, и я чувствую себя безопасно в непонятном этом, и я наконец-то чувствую себя свободной. Понимаешь, помнишь эту зиму в «Ведьме»? Ведь у меня раньше не было этих образов, но это именно ты меня вывел в эту вьюжную зимнюю степь, которой я всегда боялась, и ты учил меня смотреть на нее, чтобы не бояться, ты наделил меня собой, чтобы я не боялась, и научил меня смотреть во тьму, у тебя и у Ильи, у каждого из вас есть собственный неповторимый взгляд на эту тьму, и вы оба обнимаете меня, чтобы я не боялась, и учите смотреть, и я учусь, и вижу не тьму, а два прекрасных мира, и каждый из этих миров – он как бы внутри вас с Ильей, но в то же время, глядя на тьму, вы как бы рассеиваете ее, рождая эти миры, и говорите, что я могу теперь быть здесь как дома, потому что вы оба в меня влюблены…
Я, помню, обнял ее, и она обняла мои руки. И тогда я рассказал ей про Улялюм, и ту осень, и как Илья вел меня сквозь осень, говоря мне, что любит меня, и она сказала в моих объятьях:
- Вот это меня и сводит в вас с ума больше всего… что происходит, когда эти два всемогущих взгляда на мир смотрят друг на друга.
Я понял, о чем она. И понял, что, возможно, самым волнующим в нашей взаимной страсти с Ильей для меня это и было, как она сказала, взгляды на мир и возможность наполнять ими другого. Да, получается взгляд в зеркало, переходящий в вечность.
Она смотрела на меня своими серыми и изотропными. И невозможными.
- Мне бы хотелось это испытать, но я не могу, – сказала.
А я ответил:
- Во-первых, можешь. Если я могу принимать любовь Ильи и держать его за руку, идя сквозь стужу, то значит, и ты можешь вести сквозь стужу. Это не я писал «Ведьму», и «Лето», и «Туманы». И ты знаешь, как я влюблен в твой мир и твой взгляд. Да, он у тебя есть. Но у тебя есть еще нечто, чего нет у нас, вернее, наверное, все же есть, но в том же смысле, что у тебя есть взгляд на мир, где-то более глубоко, не внешне.
- Что ты имеешь в виду?
- Тот факт, что мы смотрим на мир и проявляем его только для тебя. Что ты наша высшая ценность и без тебя все не имеет смысла. И без тебя бы ничего и не было.
Знаете, к чему я это? К тому, что я люблю Владу, но это, полагаю, давно понятно. В целом же я к тому, что она очень точно сказала об этом разгоняющем тьму взгляде, и это выражается во всем, во всей нашей с Ильей любви. Конечно, мы многократно потом говорили, что что-то подобное, по-своему красивое может быть между девочками, и, разговорившись на эту тему, я даже стал подначивать Владу в эту сторону, ну, дразнить.
Надо сказать, что, разговорившись, я меньше ревновал, и даже признаюсь уж честно… Короче, где-то я прочитал, что, дескать, мужчины больше ревнуют к сексу, а не к влюбленности, а женщины – наоборот. Не знаю, опять же – это из-за моей ориентации, но я вот ощущаю по-другому, как женщина. Я думаю, я бы меньше ревновал, если бы Влада переспала с парнем или девушкой, чем если бы она в кого-то из них влюбилась, то же применительно к Илье. Но пока мы не проверили эту херню на практике и опыт взгляда на мир между девочками я мог реконструировать только из скупых воспоминаний Влады… Зато на практике я мог проверять, если хотите, самцовость Влады, ну, я сто раз сказал уже, что мне нравится иногда то брать ее как девочку, то высвобождать ее этого внутреннего парня и отдаваться ему. И мне кажется, со временем это нравится Владе все больше и больше. В конце концов, в этом и прикол, я об этом и говорю. В конце концов, это тоже зеркала в зеркалах, и это так красиво – вот есть Илья, прекрасный парень, внутри которого, как отражение, живет кареглазая девочка, смущающаяся, когда я своевольно беру ее в душе во время поста. А внутри этой девочки, как отражение – другой Илья, возможно, не вовсе такой, как тот, которого я знаю, но этого я тоже безумно люблю, этот уже со своей кареглазой, а может, уже темноглазой, как гречишный или вересковый мед. Вот есть девочка Влада, такая вся из себя девочка, хрупкая и милая, красивая, слегка застенчивая и самоуглубленная, а внутри нее, как отражение – красивый сероглазый мальчик с выдающимся воображением, который занимался сексом лишь с одной девчонкой – немкой, но ему это не очень понравилось, потому что он любит парней. А внутри него девчонка Влада, вовсе лесбиянка, а внутри нее – красивый сероглазый Влад с гаремом из влюбленных в него девушек. А если разогнать все это как протон в коллайдере, то эти отражение сольются, и знаете что мы увидим в моменте… Их улыбки. Да, улыбки Влады и Ильи. Все то, ради чего я существую.
***
Дверь в комнате с балконом была закрыта, но я не обратил внимания, может, Илья прилег в спальне, и Влада прикрыла, я не обратил тогда. Куда там, если этот травяной запах шампуня содержал в себе величайший аромат, которым я сейчас буду обладать. Но обладать ли? Или отдаваться ему?
Там, на балконе, я был уверен, что, поддавшись ее чарам, проиграю. И когда она сказала о горении, я уже знал, что проиграл, и излил на нее откровение о галактических нитях ее волос и том поцелуе, который я намерен был нести сквозь осень, убегая от нее навеки – я излил это искрящимся сульфуром на нее, как некий свой предсмертный вопль во тьму глухонемой вселенной с серыми огромными глазами, и тут, как это часто с ней бывает, наступила трансмутация Меркурия – она, заплакав, мне призналась в своих чувствах, есть такое украинское слово «освідчилась» – это было б гораздо точнее, но, к сожалению, в русском языке нет этого слова… Короче, когда я увидел слезы в этой серости, эту сжигаемую мной ртуть, я уже проиграл окончательно. Но этот проигрыш был растворением меня в ней, то есть проигрыш, которого я жаждал, может быть, не проигрыш совсем, откуда я мог знать, ведь я же растворялся до остатка. Я удивляюсь тому, как она умеет выигрывать, даже проиграв, вернее, попросту стирая, растворяя проигрыш как смысл. Я сейчас подумал, что, возможно, это ее отличительная черта. Ее притягивает в нас Ильей умение смотреть во тьму, одновременно как бы придавая своим осмысленным взглядом очертания этой огромной белой стуже во степи, а знаете, что умеет она? Греть нас. Мы с Ильей идем сквозь стужу, сохраняя ее образ в своих бьющихся сердцах, и этот жар в наших сердцах родила, безусловно, она, ведь даже поцелуй ее на губах наших будет тлеть, не остыв, бесконечные годы и годы. Мы бы не прошли сквозь осень и сквозь вьюгу без любви к ней, но знаете что я сейчас подумал? Как-то в детстве мне безумно нравился рассказ Гансовского «Человек, который сделал Балтийское море» – там была очень наивная и антропологически, кстати, недостоверная история о первобытной паре, которая путешествует севером Европы в ледниковый период. Но вот к чему я это вспомнил. Возможно, моя ошибка опять была в этих контрпозициях. То Влада, ждущая нас в лете, то мы с Ильей, бредущие сквозь зиму. Но ведь все не так. Все дело в том, что мы идем втроем. Помните этот славянский космогонический миф об оке, летящем из старых миров и создавшим этот? Но ведь, может быть, там было три пары глаз, а именно серые, зеленые и карие. И вот мы выходим в осень втроем – в осень, как пожар отгоревшего лета и мира, вокруг нас дым этого потерянного мира, и мы идем, мы взяли с собой пожитки и тепло оделись, и мы с Ильей закрываем от стужи любимую, которая несет с собой тепло нашего давно отгоревшего лета. И нам не надо греть себя воспоминаниями, нам просто достаточно взглянуть на эти локоны-галактики, на эти серые глаза, чтобы наши сердца согревались, разгоняя тепло лета по нашим сосудам, и мы шли, защищали ее от ветров и могильных туманов, прорезали свой путь для нас троих. И если Илья уставал – я его подменял, уставал я – подменял он, а когда мы обессиливались, войдя в зиму, то она нам помогала, а когда мы иссякали, то она под каким-то утесом устраивала нам маленький дом и маленькое лето, отогревая нас поцелуями, и мы вновь верили, что путь не напрасен, и вновь прокладывали этот путь. И вот – мне почему-то хочется так думать – в весну мы вносили Владу на руках. И она радовалась весне, и мы дарили ей цветы, сплели ей веночек, потому что нам хотелось ее украсить, благодаря ее за то, что она есть. И в этой радости мы провалились в лето. Почему-то мне вновь хочется думать, что мы прыгнули втроем в некую реку. Мне хочется думать, что это была купель из моего сна, в которой мы плавали с Владой, обсуждая Илью, только теперь мы втроем, мы плаваем, целуемся и безумно любим друг друга в нежных и грустных вечерних туманах, а потом после заката мы сидим втроем нагие у костра на некоем холме, так хорошо, мы греемся у этого костра и смотрим на галактики над нами, и Влада, нежась в наших с Ильей объятьях, говорит нам:
- Расскажите мне истории про зиму.
- Но ты же боишься зимы? – удивляемся мы.
- А я хочу немного побояться, – говорит она, улыбаясь.
И мы, конечно же, рассказываем, ведь она так прекрасна, что мы будем делать все, что она скажет, только, рассказывая, мы обнимем ее чуть сильнее, чтобы она не пугалась чрез меру. А когда она засыпает на наших руках, я тихонько говорю Илье:
- Ты же понимаешь, что лето это – ее любовь?
Он кивает и наклоняется ко мне над спящей Владой, мы тихонько целуемся в губы, а потом еще нежнее мы целуем ее волосы и засыпаем, к ней прижавшись.
***
Да, вот как-то так все это происходит, но это мне сейчас так представляется, тогда же я просто лихорадочно отметил про себя, что, заплакав и отдавшись мне на милость, она, как бы проиграв, вновь победила, и я поразился этому ее свойству вот так вот во что бы то ни было побеждать. Да, она Победительница, мне хочется ее так называть. Покидая балкон, я хотел ее взять как самец, ненасытно, и в общем раствориться в ней, но мой сульфур не погас, и ведь вы помните, что альбедо, вторая стадия делания, связана с неким очищением, а именно приданием черт. Я просто в комнате взглянул на нее, уже не плачущую, но с воспаленными глазами, она так СМОТРИТ, когда возбуждена, вот этот взгляд из полуприкрытых век делается совсем каким-то бездонным, блин. Она была такая маленькая, хрупкая и беззащитная в сравнении со мной. И, думая об этом и держа ее нежную руку, я в очередной раз понял, что она нечто величайшее и могущественнейшее во вселенной. И тогда я опустился пред ней на колени. В некоем настолько мистическом экстазе, что она молча смотрела на меня немного удивленно изотропными глазами, она была в теплом длинном халате Ильи, шлепках-зверюшках и вязаных носочках, которые мы как-то ей купили – я начал целовать ее колени, неспешно подымаясь выше.
***
Я помню, что в тот раз у меня наконец получилось, пожалуй что, лучше всего. Влада говорила, что у меня получилось так, будто я был частью ее, и мне это было особенно приятно, но проблема в том, что я не вовсе помню, блин. Это воспоминание так мне дорого, но столь же нечетко по своей природе – у меня и получилось-то, наверно, потому, что все вокруг было в этом красноватом тумане моем, как тот пьяный танец в юности, а может… я не знаю. Помню только всеобъемлющее желание именно что поклониться этой женщине. Именно что поклониться. Помню какие-то детали, вот, помню, обнимаю ее ноги, и целую, и лижу, вдруг ее резкое волевое усилие – она тянет меня за рубашку, вверх, я это без слов понимаю мгновенно, мой абсолют желает, чтобы я разделся, быстро швыряю через голову рубашку и футболку вместе, немедленно опять прильнув к ее ногам. Помню долго, помню ее постанывания и свою расплывчатую красно-туманную мысль «как долго я могу так облизывать ее», моим губам было невозможно сладко, хотя я целовал еще бедро, впрочем, мои руки уже достигли ее ягодиц. Помню, что лизал ее, пока она лежала на диване, практически на боку, и мне было приятно, что я немного зажат этими ногами, мои руки все ласкали эти ноги, бедра, ягодицы, очень нежно и неспешно, раньше так не получалось, мои губы и язык как бы подстраивались под ее реакции, даже предвосхищая их, я помню, что мне не хотелось ею владеть, а именно что ей принадлежать, как будто я ее рука, которой она ласкает саму себя, когда она постанывала громче, я тормозил ласки, выравнивая, потом опять. Возможно, я преувеличиваю, долго ли это было, я не знаю, но я помню, особенно сладко было, что когда она кончила, то сжала меня между своих красивых ног, еще и прижав к себе рукой мою голову, да я этого и хотел – «тебе больше нравится, когда я тебя беру, а не лижу тебе, да? Ну, так вот – получай!» – эта рука на моем затылке была лучшим признанием, лучше, чем сто «да, я хочу этого – лижи!»
***
Забавно вот что – Илья немного растерянный, когда кончает, зачастую он как будто не вовсе понимает, что с ним происходит, и некоторое время приходит в себя еще, а вот с Владой мы похожи тем, что как бы, ну, умеем смаковать оргазм. Я, например, стараюсь ее не трогать, чтобы не наламывать в этот момент, ну, оно по-разному, скорее, скажем, не обращаться к ней, что ли, нам часто нравится прижиматься друг к другу или хватать друг друга за руки, иногда мы крепко обнимаемся, и мне нравится ощущать ее дрожь или толчки в своих объятьях, если я готов, то могу кончить, просто ощущая это, а когда я кончаю, то могу иногда, тоже хватая или обнимая ее, нести какую то хуйню по типу «ты вселенная», ну, обычная моя вот эта хуета. Наверное, все зависит от физиологии – я как-то прочитал, что у многих парней бывает опустошение или даже угнетение после оргазма. Почему у меня нет? Ну, вот правда, всякий раз я, наоборот, как бы полон сил, ну да, мне надо отдохнуть, но это именно что сладкий отдых, мне так хорошо, и вот эта еще хуета, что самка становится неинтересной – вот Влада мне всегда после оргазма нужна, мне надо полежать с ней, поощущать ее возле себя. Илью тоже, но с Ильей разница немного в том, как мне кажется, что мы с ним легко подстраиваем эту нашу амплитуду, ну, проще говоря, когда у нас бывает ночь любви, то вот мы кончили быстро и перед следующим циклом че-то говорим или лежим, хоть и вместе, и даже обнявшись, но это какие-то, вот ну сложно объяснить, «объятия парней», ну, типа, вот – мы обсуждаем что-то, Илья, например, приобнимет меня за плечи, а я, повернувшись на бок, его за живот, но мы… вот это просто жест такой взаимной ласки, а мы оба целиком В РАЗГОВОРЕ. Вот есть какой-то такой оттенок. А с Владой вот это мимими, которое Илья так любит, у меня тоже очень выражено после оргазма, что нужно вот с девочкой поваляться, пообниматься, понежиться. Ну, я же говорю – с Ильей это всегда в том или ином смысле СЕКС, а с Владой есть еще оттенок вот этой «подушечки», о, пришло в голову – у нас с Ильей как-то более структурировано, вот мы хотим друг друга, вот мы говорим о важном, варим кофе, курим (он за компанию), и снова говорим, и вновь хотим. А с Владой оно как-то все нахуй смешано, что ли, но, во всяком случае, могу сказать, что когда мы втроем, то особенно как-то равновесно – она наш центр притяжения обычно, и мы часто просто валяемся в окружении ее неизвестно зачем – разговор не разговор, ласки не ласки, секс не секс, я же говорю – состояние. Которое нам очень нравится. Ну, блин, все оно краш – мы нравимся друг другу, но она наш брилиантик, как-то так.
И вот тогда, помню, когда она кончила, сжимая меня в себе, я просто сжимал в своих ладонях ее бедра и пребывал на какой-то границе сна и яви, на самом деле очень круто получилось, я тупо разомлел, долго желая и не кончая, сердце билось медленно, ее запах и вкус дико нравился, бедра были шелковисты, вот так лежать и гладить. Она, отдышавшись, высвободила меня и сразу полезла целоваться, поцеловала в плечо, потом в ухо.
- Отстань, – вяло улыбнулся я.
Ну, да – дразнился. Мне нравилось, что я наконец проломал ее на этот куни, что она насладилась им. Нравилось, что я ей поклонился. В этом было нечто очень религиозное, я подумал в этой полудреме, что пускай она будет Афродита, которая трахнула смертного. Да, как-то так. Но она ведь не должна лезть целоваться к смертному, она должна им просто воспользоваться, типа «отлизал и пошел нахуй», я хотел пойти нахуй (ну, не буквально – к Илье, хотя мало ли), вот серьезно – несмотря на то, что у меня стоял, как столб творения в туманности Орел на знаменитых фотографиях. Она должна была оставить меня в покое, вернее… нет, конечно, она должна была обнять меня и дальше вечно-вечно обнимать меня.
- Съеби. Я очень тебя люблю, – сказал я.
Она молчала и целовала, потом полезла ладонью по спине опять под ремень…
- Сверху! – чуть ли не крикнул я.
Да, мне вот эти ласки щас не были нужны уж точно. Пусть отымеет меня просто, она ж Афродита, олимпийка как-никак, а не какая-то шалава. Но она супер, конечно, просто. Она вдруг резко, как бы поняв меня с полуслова, вскочила на пол в этих своих носочках вязаных и полураскрытом халате Ильи, одним, кажется, рывком стянула с меня джинсы… Какой-то миг я видел свой готовый взорваться член на фоне того, как она сбрасывает с себя халат, ну, бля, пиздец. Тут я не совру, потому что туман рассеивался, и я довольно четко помню, что оседлала она меня ненадолго, ну, хули – я уже готов был. Я лежал как бревно все это время, но когда увидел, что она входит во вкус, схватил ее за живот, сбросил с себя на диван и сам стал над ней, лежащей, на колени. Она пыталась схватить меня за член, но я отбросил ее руку и эти несколько последних секунд наслаждался собственными ласками. Мне нравится вот так обрызгивать ее спермой – это для меня выражения безграничной любви и восхищения ею. Возможно, высшее выражение, я даже не знаю. Знаю, что она прекрасна в моей сперме, да, прекрасна, и я бываю абсолютно счастлив, видя ее такой. В тот раз я тоже был счастливым, и взор мой помутился – она лежала практически недвижимо, только тяжело дышала, и я быстро наклонился над нею и слизал сперму с ее груди и шеи, и наклонился над ее лицом, она все поняла, открыла рот, я сплюнул и затем поцеловал ее, мы целовались долго, целовались, целовались… Мне так смешно, когда она говорит о каких-то богах, россиянах, стране, человечестве. Не понимая, как может быть, что мне нужна только она одна. И эти наши с нею поцелуи.
***
Я помню, что лежал на ней и целовал ее, когда услышал стук. Я это запомнил потому, что был безгранично счастлив в этот миг, этот миг единения с Владой, мне было так хорошо-хорошо, как будто я наконец-то обрел себя, и все обрело смысл, я не знаю, почему я обретаю смысл и самость только в качестве любовника любимой девушки или любимого парня, не знаю, не знаю, как-то в юности я прочитал в одной полужелтой газетке в больнице глупую теорию о том, что помешанные на сексе люди, вроде меня, в прошлой жизни принадлежали к какой-то касте, или вроде того, каких-то жриц какого-то божества любви. Очень глупая статья, но мне врезалась в память, потому что мне приятно было думать, что, возможно, это правда, и в прошлой жизни я служил культу любви, пускай я был девушкой, какая разница, это даже будоражит, а главное, что я принадлежал к культу любви. Я знаю, что это выглядит глупо и пошло, особенно для такого искалеченного урода, как я, но это же мои воспоминания, пускай и о прошлой жизни, которой не было. Я ведь не раз сверялся Владе и Илье, что быть их любовником – это и есть мое я. И я ни разу не лукавил в этом. Влада может быть в первую очередь писателем, творцом, художником, алхимиком – я люблю ее в каждом из этих амплуа и она цельная в них, Илья может быть мастером по электронике и разнообразному программному обеспечению, может быть парнем, умеющим говорить или вести себя дерзко и в то же время привлекательно, может быть, пожалуй, в большем смысле таким нормативным мужчиной, чем я (хотя он с этим последним не согласен), но вот я идентифицирую себя как их любовника, это, если хотите, и есть мое призвание – соблазнять их, будоражить их, ебаться с ними – это единственное, в чем я на самом деле хочу реализоваться. И для меня это – моя алхимия, вы думаете, так просто вот создавать и поддерживать для живущих вместе троих людей вот эту воздушную атмосферу страсти, желания, романтики? Но для меня это не просто легко, я этим дышу, это нравится мне потому, что я люблю их. Ну разве я виноват в том, что нет такой профессии, и уж точно нет ее для парня, особенно уродливого искалеченного парня? Я, может быть, больше всего хотел бы быть таким жрецом нашего дома-храма, быть красивым, привлекательным и романтичным, чтобы постоянно их электризовать тончайшей комбинацией прикосновений, фраз, стихов, красивых жестов, поцелуев, взглядов, постоянно насыщать этой любовью быт, досуг, направлять в общее русло наши устремления, держать нас вместе, плавить серой страсти неурядицы, конфликты, ссоры. Ну, посвящать всего себя нашей любви. Я не понимаю, зачем Владе, чтобы я хотел быть еще чем-то. Она говорит какую-то чушь о каких-то способностях, уме и прочей мути. Ну вот как она не может понять, что это все для меня – всего лишь обрамление для этих поцелуев. А поцелуи — это смысл всего.
Я целовал ее тогда, и помню этот стук Ильи, и помню, не ответил и не прекратил целовать. Не то чтобы он никогда не стучал. Иногда у него неизвестно откуда бралась эта ебанутая деликатность, как вот щас, типа мы трахаемся или нет, и он стучит… Возможно, это тоже своего рода игра, но все же, думаю, это что-то типа этой его молчаливости, вот он так точно формулирует и при этом молчалив – ну, блин, такой характер. Но я, конечно же, услышал этот стук, хотя он был тихим. Более того – я обрадовался ему, потому что опять возгорался сульфуром, знаете, бывает такая херня, что ты вот только кончил и типа рефракторный период только начался, ну, понятно, что минут десять ты точно не кончишь – это у меня примерно такой самый меньший был срок периода, обычно что-то около двадцати, но когда очень возбужден, то, может быть, немного больше десяти, такое у меня бывало, хоть и не особо часто, да. Ну, так вот – вот ты только что кончил, тебе охуенно, и ты… понимаешь, что хочешь опять. Понимаешь, что это не конец, и, несмотря на неготовность кончить вновь в ближайшие десять-двадцать минут, ты опять возбужден, и пусть и слабоватая, но есть эрекция, и ты весь наливаешься желанием, желанием… Желанием ЕЕ, ЕГО, вот эта буря вновь в тебе клокочет, ты хочешь орать и лишаться рассудка, хочешь наслаждаться кем-то или чтоб наслаждались тобой… И, услышав этот стук, в этом великом желании я уже представил себе, как он войдет и захочет нас взять или отдаться нам, или со мной взять Владу, или просто смешаться с нами в эту единую жаждущую плоть, которая целует, гладит и кусает все вокруг, как будто не зная, что делать с этой окружающей ее невыносимой красотой. Знаете, забавная вещь… Дело в том, что у меня есть какие-то образы-символы для них двоих, под названием Секс или, может, Хочу Их, не знаю, забавно, что у них они немного разные. То есть, скажем так, есть по два глубинно ключевых образа у каждого из них. Я бы, пожалуй, так назвал… первый из них я бы именовал как «Мое Сумасшествие» Это самый великий и глобальный образ, образ-абсолют. В случае Влады это ряд изображений, ну, давайте возьмем фотки. Это может показаться странным, но это могут быть фотки, кажется, без намека на секс. Например, есть фотка Влады у фонтана на Миру, прошлогодняя, осенняя, кажется, да, там пожелтевшие деревья вдалеке. Кажется, ее фоткал Илья. Вы знаете, она сидит там, в этом теплом свитерке и бесформенных джинсиках, она немножко располнела в тот период (только ей не говорите), и она сидит такая на границе этого фонтана (он давно уже не работающий), сложив ручки, сжав ножки и смотрит в объектив, она почти что совсем не накрашена, немного подведены глаза, она еще сильнее, чем обычно, сонная, я помню это утро, мы гуляем в городе, потому что Влада проснулась и не может заснуть, и это уже какой-то дубль, и Илья ее фоткает, она сонным взглядом огромных изотропных глаз смотрит в объектив, пытаясь изобразить не то чтобы улыбку, но такое приветливо-сонное выражение лица, оно получается сонным и милым, и у нее такие чуть более пухлые, чем обычно, щечки (вообще она очень зря боится полнеть, она так мила полненькая, такая сдобная какая-то, мне иногда даже хочется, чтобы она располнела немного), а тут еще эта сонливость, припухлость со сна, ее волосы собраны в очень растрепанное подобие низкого пучка с узлом (я чето пытался соорудить дома на ней сонной, но она крутилась, и я забил на полпути, едва соединив, даже не вовсе расчесав ее), и вот она сидит, сонливая, но приветливая, там, на ободочке неработающего фонтана на Миру, началась осень, Илья ее фоткает, и мы оба в восхищении от нее, недавно закончившей «Ведьму». Я не буду вставлять сюда эту фотку, это очень личное, но вы просто представьте ее себе и запомните, что она называется «Мое Сумасшествие». Вот эта фотка – как бы концентрация той неимоверной силы, которой Влада могла бы убить меня, если б хотела. Аналогичная фотка Ильи – это, пожалуй, почему-то та, где он курит. Он не курит, я же говорил, но пару раз со мной он курил, и с нами двумя, меня очень греет воспоминание, когда, например, еще до нашего знакомства с Владой, в начале наших отношений, после секса он стоял со мной на балконе, помню, он был в одних спортивках, до пояса голый, а я в костюме кутался в олимпийку, я помню, был закат какой-то красный над микрорайоном, у нас был классный секс, и я расслабленно курил, и ради ролфа начал задвигать что-то о «Закате Европы» Шпенглера, я помню, начал с этимологии этого слова – der Untergang, что это закат и падение, потом вот этот Шпенглер, ну, сугубо ради ролфа, тыры-пыры. Я увлекся, а потом, затягиваясь, глянул на него, он вот ТАК смотрел тем странным взглядом, который тогда меня очень удивлял. Я удивленно взглянул в ответ, а он быстро сказал:
- Дай сигарету, потому что я хуею от тебя.
Блядь, я просто не нашелся, что ответить, и молча дал ему сигарету. Он не очень умело курил, но получалось красиво, ну, хули – с его красотой… Потом я позже сделал с ним фотосессию на балконе специально, где он типа курит. На одной фотке он в такой темной тенниске с раскрытым воротом, затягивается и как-то так ожесточенно смотрит на микрорайон, я думаю, что это он и есть – тот взгляд на мир, о котором говорила Влада. Этот образ – тоже мое сумасшествие, но несколько другое, в частностях, я бы сказал, что если эта фотка Влады при желании способна меня убить, то это сумасшествие я бы назвал «признаться в любви парню», «отдаться парню», «разрыдаться перед парнем» – как-то так. Это самый высший-высший общий секс, а есть частный приземленный секс. Тут тоже есть различия, я бы назвал эти изображения-образы «готовность к сексу», пусть будет «ready to fuck», мне нравится этот тег, так что похуй. Так вот, эта готовность к сексу Влады – это скорее почему-то бедра, ну, ок – ну, задница. Мне нравятся эти ее округлые бедра, этот ее половой признак. Меня почему-то возбуждает их функциональное предназначение для деторождения, вы знаете, что сложность человеческих родов вызвана не только прямохождением, но и тем, что у детенышей большая голова. Я не знаю, почему это для меня так мило – что у наших женщин округлые бедра, для того чтобы рожать большеголовых умненьких младенцев. Вот что такое красота человека! Ну, короче, люблю ее бедра, и на этом образе (такие фотки тоже есть, но в данном случае имеет место некий собирательный образ в моей голове) она почти всегда спиной вполоборота, она может лежать или стоять наклонившись, стоять на коленях, но всегда центр композиции – ее прекрасный зад (ну, Влад, прости, я знаю, что ты кринжуешь с этого))) и очень хорошо видны ее стройные голые ноги (она тут голая, конечно же) – забавный факт, что почему-то для меня во Владе наиболее притягательная… Ну, то есть скорее – фокус смещен на ее нижнюю часть тела, ноги, бедра, а в случае с Ильей на верхнюю – торс, плечи… Ну, короче, зад, окей? Иногда я не вижу лица, иногда вполоборота, с этим сладким взглядом «оттрахай меня» и полуулыбкой, волосы зачастую распущенны или растрепаны. А в случае с Ильей – это зачастую почему-то анфас, ну, я не знаю почему, мне очень нравится его задница, не подумайте (ну, как и груди Влады, например), но центром образа «готовы к сексу» в случае его будет всегда торчащий возбужденный член (если что, то он у него внушительный, хотя мы и не мерялись, но главное – мне нравится, что толстый), ну, член и дальше торс к плечам, а лицо тоже вот не полностью, то ли глаза прикрыты волосами, то ли тень залегла, во всяком случае, пусть он не смотрит на меня – я почему-то очень стесняюсь, короче, вот Владин взгляд в этом образе жадно ловлю, а от Ильи стесняюсь и конфужусь. Но если Влада призывает, оттопырив задницу (@ruah: Убью, дурак! //@givenbygod: Хаха), то Илья идет ко мне такой весь стройный, сильный, с возбужденным членом… Короче, к чему я это. Я после стука захотел, чтобы он сейчас вошел такой, ну, типа, после душа, они ж мылись) или зашел и разделся, короче – я его хотел сейчас, а она пускай смотрит, а может, ее с ним вдвоем, или чтобы он увидел, как она теперь мне принадлежит, а может, мы вдвоем с ней схватим этот милый член…
***
Он сказал:
- Можно войти?
И я перепугался. Теперь перепугался. Это не бывало просто так, я вообще не помню, чтобы он спрашивал, стучал – да, но спрашивал… Что-то случилось.
Я обернулся на дверь и спросил как бы буднично, но мой голос слегка дрогнул:
- Илья?
Влада тоже как-то вскинулась на мой этот дрогнувший голос. Он вошел, и он был озадаченный, я видел это по тому, что он на нас и не взглянул, помню свитер его растянутый, влажные волосы, брюки-спецовки. Он как-то неестественно крутнулся по комнате и сказал:
- Там типа пыня признал ОРДЛО.
Блядь, почему я очень помню этот образ? Возможно, от этого своего чувства, что я хочу их обоих и все остальное неважно, а тут какая-то вот эта хуета нас прерывает – почему?
- В каких границах? – спросил я первое, что пришло в голову, как какой-то чат-бот.
- Во всех.
- Блядь.
Я, помню, потянулся за влажной салфеткой. Я это очень четко, нахуй, помню, и вот почему. Возбуждение настолько резко сменилось вот этой моей дотошной чистоплотностью, что я бы сам охуел от этого, если бы не охуевал тогда от другого. Вообще я был чистоплотный, но не брезгливый. Я просто обожал душ. Часто мыл руки, менял по десять раз нательное белье, особенно в жару, дотошно полоскал одежду, убирал за собой и все в таком духе, короче. Но в этом не было ожесточенности вот этой, что ли, не говоря уже, что к следам секса никакой брезгливости у меня не было, блин, ну как вам объяснить, если я даже Владе читал, нахуй, целые ЛЕКЦИИ по поводу восхитительности ее репродуктивного месячного цикла и всего с ним связанного, потому что мне как раз не нравилась какая-то легкая ее брезгливость к собственной физиологии – ну, это какая-то вовсе херня… Ну, короче, я о том, что помню, как схватил салфетку и начал, даже, наверное, ожесточенно вытираться ею, вытер губы, руки, а потом взял вторую и как бы умылся ею.
- А что ты видел? Где? – растерянно, но вместе с тем сосредоточенно спросила Влада у Ильи.
И тут я помню свое это движение во-первых. Я взял еще одну салфетку и вытер каплю над бровью Влады. Она, слегка моргнув, в остальном не обратила на это внимания, сосредоточенно глядя на Илью.
- Там был типа ихний совбез, – ответил он. – Я смотрел только что.
Она взяла у меня салфетку, так и глядя на него, и вытерла губы. Знаете что еще я отчетливо помню? Свое, может быть, впервые осознанное чувство, которое потом многажды повторялось. Очень внутреннее и физиологичное. Его, наверное, возможно описать примерно так: «Пускай она щас не встряет и не несет хуйни, мы с Ильей сами щас обсудим, ведь сейчас всего важнее – защитить ее». Может, даже и более емко: «Пусть эта баба помолчит, потому что ничего важнее нее в мире нет». Вы понимаете – во мне это как бы включилось, и я с этим ничего не мог поделать. Потом я взглянул на нее, и вот щас будет сложно… Я вдруг как бы ощутил несколько важных вещей. Я понял, что люблю ее, как и любил до этого, и что эта любовь, как и раньше, важнее всего в моей жизни. А вот это мое новое состояние – оно не противоречит этой любви, но оно просто какой-то мой вторичный половой признак. Я вдруг подумал, что это как моя физическая сила, которая нужна в основе только для того, чтобы помогать ЕЙ и защищать ЕЕ. Это меня успокоило, потому что я понял, что так же един с ней, как и был вот минуту назад, и это наше единство у нас никто не заберет просто потому, что оно вшито в нас, в нашей природе. Просто есть разные оттенки этого единства.
Я задумчиво пошевелил свои волосы, как бы просыпаясь, и сказал Илье:
- Щас, погоди, щас мы помоемся… Идем? – взглянул на Владу.
И она с готовностью кивнула, будто этого ждала – это было для меня каким-то сигналом, будто она понимала то, что понимал и я, что мы едины.
Я на этот ее кивок протянул ей руку, и она взяла меня за эту руку, и я, первым встав, приподнял ее, потянув за эту руку, и мы пошли в коридор, так и держась за руки, и помню, что она сжимала мою руку, и я хотел сказать, что я люблю ее, но не сказал, потому что это не было нужно – вот то, как мы шли, ее сосредоточенность, распатланные волосы, нагое тело, это сжимание моей руки и то, как она в ванной, опершись о дверной косяк, снимала эти вязаные носочки, пока я регулировал душевую струю – это и было нашим взаимным признанием в любви друг другу.
***
Еще я помню то чувство, что вот страсть между нами резко схлынула, но она не то чтобы схлынула, она как будто бы в сути своей просто изменилась. В вот этом нашем сосредоточении, в тихости Влады, в моем «защитить ее» была заключена та же страсть соединения сульфура с ртутью, что и раньше, просто теперь она была какого-то другого оттенка или формы, я это помню, например, по тому, как мы мыли спины друг другу, разговаривая о российском вторжении.
Понимаете – мы были сконцентрированы на разговоре полностью, но в этой сконцентрированности как раз особенно ярко оттенялись наши прикосновения – мы прикасались к друг другу привычно нежно, но механистично, и в этой механистичности как бы содержалось наше желание обращаться друг с другом, как всегда, как будто эта помощь друг другу не только непоколебима никакими вторжениями, но и не менее важна, типа мы должны заботиться друг о друге, как и раньше, даже не потому, что это наше осознанное кредо, а потому, что это как раз уже рефлекс, въевшийся в нас, ставший основой нашей физиологии, что ли, тем более что он зиждился на ней.
- Мне кажется, – помню, говорил я, перекрикивая плеск воды, – они будут пытаться в первую очередь окружить и перехуярить наши войска в зоне ООС. Здесь могут наноситься воздушные удары по военной инфраструктуре.
- Почему?
Влада как-то забавно развернула меня спиной к себе, забрав у меня мочалку.
- Потому что так делают всегда, не знаю. Потому что так делали в Ираке и Афганистане.
- Ты думаешь, они нас победят?
- Да.
Она натирала мне спину вот этими привычными движениями.
- Почему?
- Потому что их много, и у них много самолетов, танков и ракет, – я повернулся к ней. – Ты поедешь со мной в Берлин? Если я поеду с тобой, как ты хотела, – ты поедешь?
- Почему вам так хочется меня вытолкать отсюда?
- Потому что за тобой придут, понимаешь ты или нет? Дело не в том, что они будут бомбить Конотоп, дело в том, что когда они займут Конотоп – они рано или поздно придут за разными людьми, и в том числе за тобой.
Я помню, что почувствовал облегчение от того, что наконец-то высказал это.
- Почему? – спросила она, также как-то механистично повернувшись ко мне спиной.
- Потому что ты украинский писатель.
- Здесь меня таковой не считают.
- Можешь об этом забыть, это будет не важно.
Я, помолчав, намыливал ей спину мочалкой.
- Мне кажется, ты немного не понимаешь, с чем ты имеешь дело.
- С чем же?
- С русским фашизмом.
- Ты думаешь?
- Ты просто… Мне кажется, ты не настолько сильно погружена в их дискурс, чем, может быть, я… Вот это все, о чем ты говоришь – даже вот это православие, русский язык, даже вот этот твой малороссийский фантом – это все НАШЕ видение их, понимаешь, нет? А они – это что-то совершенно другое. И в сравнении с этим другим вот эти наши местечковые развалы, сколь бы драматичными тебе они ни казались, в моменте всего лишь милые забавы.
- Ты думаешь?
Мне опять не понравилась ее задумчивость.
- Думаю.
Она выключила воду и принялась вытирать меня полотенцем. Мне это тоже не понравилось, то есть не так – мне нравилось, что она стала меня вытирать, вообще мы так часто делали, и в этом тоже было нечто потаенное и дико приятное для меня, вот как она вытирает меня, просто и привычно, не задумываясь, как будто я часть ее собственного тела. А я хотел быть ее частью, и чтобы она была частью меня. Но в тот раз в этих ее движениях тоже сквозила сплошная задумчивость, ну, когда, знаете, человек делает какое-то привычное бытовое дело, так даже несколько утрированно, что ли, сам погружаясь в размышления.
- Владислава, о чем ты думаешь? – спросил я, стоя к ней спиной.
Она меня все так же механистично вытирала.
- О том, что, может быть, они правы?
- Правы… в чем?
- В том, что это все нежизнеспособно.
- Что все это?
- Украинство.
- Повернись.
Я принялся аккуратно отжимать ее длинные волосы.
- Я понимаю, что тебя взбесила эта статья, ты имеешь право злиться… Но поверь, что то, о чем ты сейчас говоришь – это вовсе не альтернатива, это иная система координат.
Забавно, что именно я приучил ее к нескольким полезным привычкам относительно волос – например, не намыливать их скопом, а от луковиц к кончикам, аккуратно вот так отжимать, не вытирать полотенцем, как мальчик, а завязывать в тюрбан, не пользоваться феном сразу после душа… Это при том, что я сам всегда носил довольно короткие, разве что челку иногда отпускал, чтобы немного прикрывать ебало, да и то… Вот об этих всех премудростях относительно ухода за длинными волосами я узнавал из своих любимых пабликов о моде и стиле, но мне почему-то так нравилось ухаживать именно за Владиными волосами, давать ей вот эти всякие советы, расчесывать и делать разные причесочки, да ну и просто играть с ее волосами.
***
Тот наш разговор в душе постепенно заглох – Влада была задумчива и немногословна. Мы втроем бегло просмотрели новости об этом совбезе – меня вообще тошнило от этих рож, и я пошел покурить, через несколько минут ко мне вышел Илья, сказал, что Влада до сих пор смотрит, а он типа хочет съездить в супермаркет и затариться продуктами, ну, так, на всякий случай.
- Давай я с тобой?
- Та побудь с Владой.
- Хочешь проветриться?
- Да.
- Все нормально, коханый?
Я спросил чисто чтобы озвучить, забавная деталь – вот в этой тревоге мы с Ильей стали понимать друг друга будто не с полувзгляда, а с одного как бы намека на этот взгляд. Сейчас, когда я вспоминаю ту минуту на нашем балконе, мне почему-то представляются те древние первобытные вьюги ледовитой Европы, сквозь которые я иду со своим другом, своим братом и своим любовником. И я влюблен в его вот этот сосредоточенный, жесткий, но в то же время беззащитно-детский взгляд, вот в эту ледяную вьюгу, и я уверен, что всякая вьюга покоряется вот этому взгляду, потому что этот взгляд прекрасен. И, когда я думаю о красоте этого взгляда, мне почему-то представляется один довольно странный образ. Мне почему-то представляется, как Влада неким образом как бы создает Илью из себя, когда входит во вьюгу. Что как бы существует некий вьюжный Молох энтропии, говорящий Владе, что убьет и съест ее детей, а в ответ на эти угрозы и на этот вьюжный вой Влада вдруг превращается в высокого, сильного, широкоплечего и прекрасного парня, прекрасного, потому что он все так же остается той же сущностью, только теперь это Красота, облеченная в Силу, да, вот в чем дело, вот что это за взгляд, – у этого красивого сильного парня девичий взгляд. Ведь это та же сущность, но парень. А что такое парень? Парень – это девушка, не боящаяся вьюги. И вот этот всесильный парень своим взглядом выжигает вьюгу, превращая ее в дождь, и воды, и печальные туманы над водой. И умиротворенный этот прекрасный обнаженный парень входит в воды, и плывет в этой воде, и наслаждаясь ласками воды, он обращается в девушку, он так же как бы создает из себя девушку, чтобы вода ласкала его и чтобы наслаждаться ласками воды. И, наслаждаясь ласками воды, этот парень, вернее, уже девушка, опять побеждает всю эту истому воды, потому что у этой девушки взгляд юноши, вы понимаете? Она плывет в воде и принимает ее ласки, но воде не убаюкать, не приспать ее, потому что у этой девушки озорной и сильный юношеский взгляд. Это Сила, облеченная в Красоту, это сульфур, облеченный в ртуть, это ребис, соединяющий все сущее, – так что же он такое. Он Любовь?
Мой любимый взглянул на меня взглядом юноши, сутью которого была девичья нежность, облеченная в силу парня, или, ртуть, покрытая сульфуром-серой. И я поплыл под этим взглядом, как вода.
- Ты правда классный, когда мокрый, – сказал он и впился в мои губы. И тогда, как в первые миллисекунды существования вселенной, квантовые состояния во мне преобладали разом – я хотел взять Илью и отдаться ему, я хотел целоваться и быть зацелованным, плакать, кричать и смеяться, любить, признаваться в любви, быть любимым, принимать от него бледно-розовые тюльпаны, читать ему стихи об отгоревшем лете и держать его за руку, почувствовать вкус его спермы и заснуть в его крепких объятьях. Я наливался возбуждением так быстро, что в который раз представил всего себя одним единым возбужденным членом, или, скорее, всю свою сущность я представил как базис для своего члена – вся моя кровеносная система была нужна лишь для того, чтобы питать и наполнять кровью этот член, вся моя нервная система и органы чувств нужны были лишь для того, чтобы стимулировать и стимулировать этот член, вся моя личность с ее способностями, комплексами, болями, страстями нужна лишь для того, чтобы найти или привлечь к себе объект моему члену, и весь я нужен только для того, чтобы разрешиться спермой. В такие прекрасные минуты я чувствую себя цельным, обретшим себя. Ведь я действительно хочу быть этим членом, я действительно хочу ощущать этот член чем-то главным в себе и действительно хочу стремиться только к разрешению от семени. Я действительно так жажду быть любовником, и это моя суть, но когда я любовник прекрасного парня, то это, извини, Влад (@ruah: пиши!) – это нечто вовсе невозможное, перед тобою существо, так же, как ты, жаждущее во что бы то ни стало разрешиться от семени, разрешиться от семени в тебя, и ты хочешь разрешиться от семени в него, и это, как я и говорил, далеко не только лишь в физиологичном смысле, это во всех каких только возможно смыслах… Знаете, мы с Ильей далеко не всегда практикуем проникновение, даже я бы сказал, не так уж часто, тому есть ряд причин, и, кроме чисто организационных неудобств, я, например, отношусь к этому неоднозначно, меня прикалывает чисто психологический момент, что вот меня имеют, я вам скажу, это что-то божественное, когда тобой владеет, наслаждается любимый человек, когда тебя ебет, блядь, твой любимый человек, но суть тут в том, что этого можно добиться по-разному, а чисто физиологически мне, например, довольно трудно достичь этого пресловутого чисто мужского оргазма, и, если уж на то пошло, то скажу, что, как это ни странно, меня ему в каком-то смысле обучила Влада с помощью массажа, это было гораздо менее дискомфортно физиологически и к тому же, как это ни странно, живой интерес Влады к доставлению мне такого удовольствия как-то больше раскрепостил, ну, расслабил меня, потому что до этого мы с Ильей между собой подобные ласки больше обсуждали, ну, или иногда скорее, скажем, имитировали, чем предавались им. Вот Влада нас как-то в этом отношении раскрепостила, типа, если это нравится девочке, то, наверное, это и вправду классно… Но вдвоем с Ильей, да и втроем с Владой проникновение мы не так уж чтобы часто практиковали, Владе кстати, нравилось смотреть или помогать, но она к именно таким ласкам по отношению к ней тоже вот была подобна мне, типа нравится психологически, но чисто по ощущениям не особо. Короче – понимала. Тем более что добиться этого ощущения «ебли» можно ведь по-разному. Мне нравится от Влады это ощущать не меньше, чем от Ильи, и, например, она ведь может «иметь» меня сверху, как амазонка, или, например, наверно, будете смеяться, но меня способны довести от нее обычные как бы «толкания», имитирующие фрикции, например, она может лежать на мне, когда я лежу лицом вниз, и толкать, как мужчина, лаская, хватая за шею и волосы, трогая зад, и я могу кончить, лишь немного себе помогая или даже совсем не помогая, чисто от этих толчков и сопутного трения члена о постель, или, например, если стоя и она сзади толкает меня вот так же, или рукой ласкает меня там, то может сама меня трогать и спереди, или лежа на боку, опять же, или стоя на коленях ничком, или на четвереньках, ну, по-разному. Но тем не менее мне иногда хватает этого, чтобы чувствовать себя отъебанным ею. Меня почему-то не в малой степени очень возбуждает именно то, что вот девочка пытается меня выебать, хотя и не может этого сделать в прямом физиологическом смысле, но ей очень хочется тем не менее. Или вот тот же массаж, как бы тоже – она ж меня выебла, сделав его. С Ильей же у нас что-то похожее, кстати. Нам нравится трогать друг друга и целоваться, как бы восхищаясь телами друг друга. Влада восхищается нашему умению обращаться с членами друг друга, и мы действительно любим друг друга по-разному руками, а вот что касается губ, то тут есть немного разницы, я, например, это люблю, как уже выше упоминалось, но мне нравится ублажать Илью тонко, сводить его с ума нежнейшими и выверенными прикосновениями и поцелуями, чтобы он долго оставался на грани взрыва, мне нравятся тактильные ощущения от его члена в своих руках. Нравится часто прикасаться не только губами, но и щекой или носом, ощущать его жар. Целовать ОЧЕНЬ нравится. Но вот прям глубоко – скорее нет. А вот Илье нравится глубоко, я, как и с Владой, этого не очень понимаю, но мне нравится, когда он удовлетворен. Но так же, как я и говорил – нам нравится когда наши члены соприкасаются, причем нам нравится это без рук, когда мы ласкаем, целуем тела друг друга, мы можем, как вот я с Владой, имитировать половой акт, ласкаясь и соприкасаясь членами, мне, например, еще нравится ощущать его член между своих ягодиц, вот не проникновение, а именно такие ласки, я это тоже называю массажем, Илье я тоже делал, но он все-таки больше терпит для меня, как кажется, у меня задница – более эрогенная зона, но мне нравится и с ним это делать, тоже вот так толкаться, имитируя, почти как с Владой, но с той разницей, что у Влады нет члена, а она тем не менее пытается трахнуть меня, а у меня нет вагины, а член Ильи стоит на меня… Мне кажется, тут возбуждает как раз вот эта не то чтобы неправильность, а как раз внутренняя правильность ситуации, вот я же говорил – меня возбуждает то, что Влада хоть и ртуть, а я сульфур, но когда она пытается трахнуть меня, ее внутренний сульфур стремиться сжечь мою внутреннюю ртуть. Или напротив – ее внутренний сульфур стремится соединиться с моим, чтобы сжечь весь ебаный мир вокруг, как когда мы ебемся с Ильей, и тогда она превращается как бы в Илью, только другого пола, но это и сладко. Так же и с Ильей – иногда наши сульфуры соприкасаются, и мы смеемся, поджигая мир, а иногда его сульфур сжигает мою внутреннюю ртуть. А иногда мой сулльфур жжет его, когда я им владею, а иногда, когда я восхищаюсь его красотой, и ласкаю его, и читаю ему Улялюм, держа за руку, то наша с ним ртуть растворяет саму себя, как бы превращая нас где-то глубоко внутри во влюбленных друг в друга девочек, и с Владой, кстати, я часто пытаюсь достичь того же, например, когда нами наслаждается Илья, и мы целуемся, держа друг друга за руки, или когда я заплетаю ей косу. А наиболее классно, когда оно все вместе, когда мы втроем, и когда мы едины, и любимы, и возбуждены.
***
Там, на балконе, в миг, когда Илья поцеловал меня, я ощутил всю эту бурю сразу, в том числе и то, что мы втроем, что он повторил эту сентенцию за Владой и что мы целуемся вот здесь, а Влада там зачем-то смотрит этот ужас с тем совбезом, ну, и не хочет – пусть как хочет, мы с моим любимым здесь полижемся, и типа ей же хуже, и то, что я ебался с Владой только что, и он ведь тоже перед этим, а теперь мы будем делать это вместе, я обожаю его красоту, его член, его сперму, и сам я сейчас возбужден и влюблен, полон спермы-сульфура и даже, возможно, красив… И вместе с тем мы оба влюблены во Владу, в ее волосы-галактики, в ее ведьмачьи изотропные глаза и ее ртуть, и, наслаждаясь друг другом, мы этим самым Владе клянемся в великой и вечной любви…
Илья отпрянул от меня и, улыбнувшись, восхитительно сказал:
- Погуляй с Владой, я недолго.
И быстро поцеловал меня в щеку, причем я расцепил губы для поцелуя, но его губы не коснулись моих, а коснулись щеки и исчезли за дверью, я так его возненавидел, а потом подумал: «О господи, так это же была ртуть Ильи». Он поиздевался надо мной, как девочка, зажег и обломав. И это было классно.
XVI
Наполненный этим великим чувством, я вернулся на кухню к прекрасной изотропной вселенной. Она сидела за столом в халате, с распущенными мокрыми волосами – галактическими нитями, и задумчиво рассматривала свою кружку.
- Влад? – обратился к ней я.
Она бросила на меня серый изотропный взгляд, которому я ужаснулся. Мне бы хотелось сейчас хоть в какой-то мере описать вам, что такое взгляд на поезда. Проще всего, наверное, будет вот как – однажды в одном психологическом журнале я прочитал статью об особенностях шизоидного характера с точки зрения юнгианского психоанализа. В общем и целом, там говорилось о том, что шизоидная личность с ранних лет склонна убегать внутрь себя от травмирующих межличностных контактов. Но там сказано, что этот как бы спасительный внутренний мир такой личности на самом деле опасен. Он весь наполнен нечеловеческими архетипическими образами, которые можно было бы назвать трансцендентными, метафорически же выражаясь, это нечто вроде мира богов и демонов, в котором живому человеку находиться опасно. Это условное пространство там часто называется некой безжизненной ледяной пустотой, где ничто не имеет значения и ничто не имеет смысла. Знаете, у того же Георгия Иванова много таких обреченных образов, с этой чернотой, и ледяными звездами, и бесконечной ночью, в которой никогда не растают снега. Я, бывало, раньше много думал об этой воющей тьме на месте России в поэзии Иванова, и всякий раз приходил к мысли о том, насколько же чужда мне вся подобная образность. И, когда я думал об образности Влады, мне всякий раз казалось, что она иная. И не только потому, что я люблю ее. Хотя и поэтому тоже, конечно. Но дело еще в том, что какая бы заверуха не лютовала в той степи Дикого Поля из «Ведьмы», на краю этой степи в светлице хуторского домика под соломенной стрехой черноглазая ведьма будет любить жену сотенного есаула. И я, узнавая в их обреченных ласках наши с Ильей ласки, буду только поражаться, с какой нескрываемой страстью Влада наблюдает за этими ласками. Вы помните ту сцену, после шабаша, где они трахаются в этом домике – это не домик даже, а пристройка, где когда-то жила травница, и там вот эти пучки засушенной калины, зверобой, евшан-зелье, чабрец, череда и душистая рута… Вы помните вот это описание, как пахли эти травы, там, в потаенной каморке глинобитного домика на краю нескончаемой вьюжной степи? Я очень люблю этот кусок, который, по моему мнению, лучший гимн жизни из когда-либо читанных мной. Я помню, как мы не раз спорили с Владой по этому поводу, и она все напирала, что вот де – это же трагедия, ведь все так страшно кончится, а я говорил ей, что абсолютно не важно, как оно кончится, ведь эта страсть и эта жизнь была у этих девушек, и никакая последующая смерть не уничтожит эту страсть и этот секс, потому что она уже не сможет его отменить. Меня пугает эта тяга Влады к абсолютам, но я не считаю ее каким-то духовным и психическим инвалидом, которые описаны в той юнгианской статье, потому что это и безумно сексуально в ней, Владе, что вот в этот страшный мир богов и демонов она способна поместить двух занимающихся любовью девушек и смотреть, СМОТРЕТЬ на эту их любовь, пренебрегая судьбами Гетманщины, Европы, мира, человечества, рая и ада. Я столько раз ей объяснял, что вот этот запах глины, дыма из печи и связок евшан-зелья, мешающийся с запахом девичьих тел в той каморке в заметаемом вьюгой хуторе – важнее всего на свете, как запах ее волос, смешанный с шампунем-бальзамом из трав для меня – символ веры моей. Нет, она не инвалид – она для меня что-то вроде лика Троицы, возвещающего: «я жена, я мать, я дочь», и я почему-то иногда, читая тот отрывок, представляю, как невесомая она идет сквозь снежное море степи к тому хутору в окружении стаи волков. Волки мчатся вслед за ней и бегают вокруг нее, скуля, как собачонки, а когда она их гладит, то они любовно лижут ее руки. И вот собаки прячутся по конурам, и дым из дымарей едва виднеется, и вьюга не кончается тысячелетия, и ты, Руах, в том теплом свитерке и джинсиках, с заплетенной моими руками косой мечтательно вглядываешься в это оконце, смотришь на страстные ласки девчат в окружении сушеных трав, еще пахнущих летом. Ты улыбаешься. Ты отпиваешь кофе из кружки со Зверинецким крестом и, наклонившись, ставишь эту кружку в снег. Самый крупный волк, вожак стаи нежно трется о твое колено, а ты, присев, рисуешь на снегу слово КОХАННЯ.
Такой я тебя вижу, но ты, как будто бы самой себе не веря, продолжаешь иногда многозначительно молчать и провожать глазами поезда. Тогда ты посмотрела на меня таким же взглядом и заставила застыть на месте. Помнишь, ты сказала:
- Я боюсь исчезнуть.
***
- Я боюсь исчезнуть, – негромко сказала Влада.
- Но ты не можешь исчезнуть, – столь же негромко, улыбнувшись, ответил я.
- В смысле?
- В смысле то, что я и говорил. Вспомни, ощущала ли ты когда-либо границу между сном и бодрствованием. Ощущала ли ты остановку своего сознания.
- Но я…
- Ты строишь какие-то умозрительные конструкции беспамятства или мучения за границей жизни, которых не существует. И ты слишком много думаешь об этих умозрительных границах.
- Но я всегда хотела найти что-то незыблемое, на что можно опереться и не потерять себя.
- Но ты не можешь потерять себя. Все, что существует в мире – это ты и есть, и ничего другого просто нет. Ты понимаешь? Это сигналы твоих органов чувств, обрабатываемые и соединяемые твоим мозгом. Ничего вне этого просто не существует. И вот эти умозрительные границы – просто вирусы, съедающие твою душу.
- Это не так.
- Это так.
- Мне хотелось верить… Я не знаю – мне хотелось верить в родителей, в искусство, Украину. Все бессмысленно. Во что мне верить?
- Верь в себя.
- В себя?
- В себя.
- Но я беспомощна.
- Это не так.
- Это так.
- Так верь в себя беспомощную. Какой бы ты ни была – это ты. И это самое главное, понимаешь? Тебе не нужны эти фантомы, эти костыли.
- То есть я должна просто… Что?
- Просто жить.
- А если жизнь закончится?
- Знаешь, какой самый тупой вопрос, задаваемый астрофизикам? Я читал. Это «Что было до большого взрыва?» Самый тупой вопрос, потому что до большого взрыва попросту не существовало понятия «до». Понимаешь? Так и после конца жизни не будет понятия «после». Как, собственно, и до – эти все колыбели, качающиеся над бездной, – миф. А мифы – это мифы. Понимаешь?
- Как у тебя все просто.
- Вовсе нет. Я влюблен в девушку, которую боюсь больше всего на свете. И вот эта любовь одновременно самое красивое и в то же время самое страшное из всего, что со мной случалось – это очень не просто.
Она наконец улыбнулась.
- Меня ужасно возмущает этот твой страх по отношению ко мне.
- А зря. Это все грани восхищения тобой. И как бы там ни было – я люблю тебя всю, и даже эти твои бессмысленные поиски себя. Я же не возмущаюсь тем, что ты сидишь передо мной, такая цельная и привлекательная, и непонятно, нахуя тебе себя искать.
- Ты видишь этот крест? Знаешь его историю?
- Гуглил.
Я присел напротив нее.
- Я теперь думаю – в этом есть незыблемое, то, во что я хочу верить.
- В наклейку на машине?
- Знаешь, что здесь написано?
- Исус Христос – победитель.
- Господь победил смерть и диавола.
- Ой ли?
- А как же иначе? Представь вот эти века и века. Больше тысячи лет. Была древняя Русь, Золотая Орда, Польско-Литовская Уния, Московщина, Гетманщина, Российская империя, СССР, Россия, Украина, Беларусь. А это есть, понимаешь? Осталось вот это.
Она стучала разукрашенным ноготочком по кресту.
- Возможно, это то, чем я должна быть? Православной. Возможно, это моя самоидентификация. И возможно… если суждено случиться страшному, то в этом и заключен промысел, которого я в близорукости своей не понимаю.
- Я где-то уже это слышал.
- Что? Где?
Она не поняла. Была слишком в себе. Смотрела вслед летящим поездам на той открытой всем ветрам платформе в Дарнице.
- Батый пришел как мщение за распри и Купаловы ночи.
- Нет, не так.
- Нет, так.
- А если даже так. Это урок смирения, после которого и укрепилась церковь.
- Ты уверена, что это была та же церковь?
- То есть?
- Почему этот монастырь и эту церковь откопали?
- Почему?
- Подумай. Потому что все было разрушено. Ты повторяешь вслед за этими попами о прельщении и о великом инквизиторе, как будто постоянно от чего-то отгораживаясь. Знаешь, я не большой специалист по посттравматическим расстройствам, но, кажется, вся основная терапия их основана на принятии мучительного опыта. Принятии, а не смирении, тут это важно. Если меня изнасиловали, а я говорю, что заслужил это, потому что носил слишком обтягивающие джинсы или легкомысленно флиртовал с подозрительным незнакомцем, то это уход от травмы, а не принятие ее. Возможно, я действительно вел себя неразумно, и это на каком-то этапе придется принять, но мне придется принять свою боль, омерзение, страх и беспомощность, все свои чувства. Вот именно – все. Не выстраивать защиты в виде искупления, судьбы, мистического предопределения и прочего, а в том числе плакать, кричать, ненавидеть весь и мир и себя, чтобы это пройти, понимаешь? Пройти и прочувствовать – это здесь важно. Знаешь, я много раз тебе говорил, что я и близко не такой выдающийся человек, как ты, и, возможно, я не должен рассуждать о подобных вещах, но ты постарайся это услышать, окей? Вот давай на минуту представим, что случилось все, чего я боюсь, и нас с тобой вдвоем ведут расстреливать. Я говорю – нас с тобой, потому что я хочу максимально близко представить эту ситуацию. И нас ведут, и нас ведут расстреливать из-за тебя, тебя по делу, потому что ты уже в их списках, ты опасна для них, и тебя решено ликвидировать. А меня за компанию, потому что я просто дурак и я верил тебе, потому что, в конце концов, я очарован тобой, и, черт побери, я влюблен в тебя, да, я влюблен в тебя, пусть даже тайно, чтоб правдоподобней, но ты это знаешь и так, просто в этой реальности я прямо об этом еще не сказал тебе, и вот… И вот я напуган, через несколько минут я обращусь в ничто. И рядом со мной существо, в которое я влюблен до умопомрачения, из-за которого, по сути, я сейчас умру и перестану быть, и мне страшно, одиноко, больно, и в этой буре чувств я говорю своему любимому существу, я говорю – неважно, что, я просто хочу услышать этот голос, чтобы глаза твои еще раз посмотрели на меня, потому что ты была для меня всем, а через несколько минут меня убьют за то, что ты была для меня всем, и я говорю тебе любую чушь, почерпнутую из детства, книжек, где-то слышанную чушь, я говорю тебе, допустим: «Мы будем с Христом», – потому что я, черт побери, ну, хочу в это верить, потому что на самом деле я хочу быть с тобой, я хочу, чтобы, когда это наконец закончится, очнуться в лучшей жизни, а другой я попросту не знаю, главное, чтобы в этой лучшей жизни я был вместе с тобой, понимаешь? И я с надеждой в голосе произношу к тебе это: «Мы будем с Христом», – и я хочу, чтобы ты обязательно ответила, неважно что, на самом деле я хочу, чтобы ты мне сказала: «Да, я тебя тоже люблю», – но я не смею в это даже верить, впрочем, это все неважно, потому что любая твоя фраза, пусть даже бессловесная улыбка, будет для меня сейчас почти что «да, я тоже», а ты таким надменным тоном, будто «отвяжись», мне говоришь на это – «горстью праха». Понимаешь? Горстью праха. И вот что я после этого обязан делать? Мне жить осталось несколько минут. Что я должен делать? Вдолбить себе, что я все это заслужил? Считать своих насильников и палачей, наших с тобой насильников и палачей, апостолами мщения? Сказать себе, что все было не зря, и хотя бы этим как бы воображаемо возвыситься над тобой, над этим твоим «горстью праха», брошенном с пренебрежением ко мне? Так вот знаешь что – в этой реальности мы прожили с тобой уже около двух лет, и за это время я понял вот что: мои чувства к тебе – это в первую очередь мои чувства. И мне незачем их прятать, или стыдиться их, или бояться, или пытаться как-то возвыситься над тобой, чтобы компенсировать свою зависимость от тебя, потому что этой моей зависимости как унижения перед тобой не существует. И исходя из этого я думаю, что перед смертью я позволил бы себе не прятать свои чувства, чтобы выглядеть по типу лучше или что-то контролировать. Влада, знаешь, что бы я на самом деле сделал? Я бы, наверное, заорал тебе там, прямо перед всей расстрельной командой: «Та дура ебучая – я влюблен в тебя, разве тебе не видно? Я щас сдохну из-за тебя, и мне похуй, но ты хотя бы в эти последние минуты можешь не выебываться своей исключительностью, а помолчать, если тебе на меня похуй, или в конце концов поцеловать, если вдруг нет, – попробуй дотянуться». И думаю, – вне зависимости от исхода никакого «огня с небеси» и прочей срани не последовало бы, да оно и к лучшему.
Да, я рили нес вот эту хрень, не останавливаясь, может быть, минуты три, как там Илья обычно говорит, «захлебывающаяся речь»? Очнувшись, я взглянул на нее. И не увидел больше взгляда на поезда, а только ведьмин взгляд моей любовницы, моей жены, моей подруги и моей сестры.
- Да, я тоже, – сказала она. – Пусть стреляют.
И потянулась через стол, чтобы меня поцеловать. И, наслаждаясь ее сладкими устами, я уже не в первый раз подумал, что зачем вообще нужна вся эта чушь, если во всех прокламациях, уставах и политических памфлетах мира можно просто и понятно написать: «Я влюблен!». Ну или типа того.
***
Илья приехал где-то через полтора часа. Он загрузил Владин джип буквально чем только можно, а не только продуктами. В том числе там была штука, которой я раньше не видел – большая зарядная станция в виде такого чемоданчика с ручкой, какими-то розетками и небольшим дисплеем. Илья сказал, что вообще-то она собрана из разных комплектующих – он типа сделал ее на работе сам, вдруг пригодится. Ну, вот такой он у нас. Еще была куча консервов, какие-то брикеты типа быстрорастворимого супа, и даже что-то типа военных сухпайков (Илья сказал, что они туристические).
- А на какие шиши? – спросил я его в подъезде, когда увидел это добро.
- Была заначка, – улыбнулся он мило.
- Подлец! – фыркнул я. – Забыл, куда зарплату приносить? Все, я надулся.
- Виноват.
- Нет, я надулся!
Забавно, что подобные сценки всегда очень веселили нас обоих, и я не раз думал о том, что вот в разнополых парах такие вещи обычно вызывают скандалы, а нас именно что веселят. С другой стороны – мы же тоже разнополое, только трио. Но нас и троих это все веселит, не знаю почему. Короче, запасов была такая ебаная куча, что, посоветовавшись втроем, мы решили вообще не переть их в квартиру, а отвезти в Ведьмин дом. Илья с Владой только отнесли в квартиру кое-какие продукты, а затем мы уселись втроем в машину и поехали в деревню. Предварительно, правда, заехали в центр и купили четыре пиццы на вынос, одну с сыром, одну с грибами и две мясные – для Влады. Да, мы, безусловно, издевались, и она всю дорогу ныла на эту тему, и в коттедже ныла и, забегая наперед, конечно же, была самым бессовестным образом соблазнена, и съела обе эти мясные пиццы почти в одно рыло, и потом ныла пуще прежнего, чуть не до слез, и даже уже ночью дважды становилась на электронные весы, и чуть ли не ревела, на них стоя, а я мечтательно сверялся Илье, какая она бывает хорошенькая, полненькая, сдобненькая, он живо соглашался, а она вообще чуть не орала в ночь, потом Илья забрал и спрятал те ебучие весы – она устроила истерику, и нам все это надоело, мы схватили и оттрахали ее вдвоем, причем мы были очень маскулинные и ненасытные, знаете, я уже говорил, что невыразимо благодарен Владе за то, что она столько мне открыла в самом себе… И, в частности, она открыла мне, как классно быть мальчиком. Как классно, видя это странное существо с этими его разноцветными ноготочками, шампунями-бальзамами, косметикой, сережками, цветочками, капризами и истериками, в какой-то момент просто взять и овладеть им, потому что я мальчик, и потому что я могу. И самое сладкое тут – как раз быть и волной, и частицей, понимаете? Когда все вышеописанное не отменяет того, что это существо твое родное, плоть от плоти, собственно, в каком-то смысле ты и есть, а также – цель и смыл твоего бытия, и вы просто перетекаете в друг друга в вечном танце, смысл которого – ваша абсолютная любовь к друг другу. И просто в каком-то пируэте танца ты ведешь и трахаешь ее, и ей это безумно нравится. Но есть еще один момент, когда вы троица. Это вот как тогда, брать с твоим любимым парнем вашу обожаемую девочку, неистово и доминантно обращаясь целиком в свой отвердевший детородный орган, устремляясь лишь в нее всем естеством своим, лишь иногда целуя и лаская своего возлюбленного, причем эти ласки и поцелуи тоже как бы в своей сути предназначены для нее, для нашей жертвы, как бы говоря ей: «Вот видишь, мы любим друг друга, а тебя просто трахаем, трахаем, трахаем, трахаем!..» – и видеть на ее измученном, истомленном лице «я больше не могу», а в горящих блестящих глазах прочитать в тот же миг «еще, еще, еще, пожалуйста, пожалуйста, еще – я так в вас влюблена!..» Я обожаю доводить ее до изнеможения. Я обожаю эту нашу власть над ней, когда мы вдвоем затрахиваем до глубокого сна и потери сознания, до ее бессилия, о как велико и красиво ее это бессилие, когда она, не понимая, где она и кто она, и что она ворочает глазами, не имея уже возможности сконцентрировать взгляд своих мутных прекрасных очей, окончательно сдается, отключившись, провалившись и распавшись в изотоп железа, мы же, возвышаясь над ней, так любовно целуемся и обнимаемся, мы победили ее, мы прекрасные парни над поверженной и аннигилированной любимой, и знаете что самое прекрасное в этот момент? Наше немое понимание того, насколько мы оба влюблены в это прекрасное спящее чудо. С его сережками, истериками, нежностью и ноготочками, цветами и запахом шампуня на основе натуральных трав.
***
В тот раз, помню, мы укрыли ее, голую и мокрую, тяжелым одеялом и поцеловали ее спящую. Я подошел к окну, такой же голый, весь в испарине, и чего уж там, удовлетворенно обессиленный, безусловно, я бы этого без Ильи не выдержал. Я приоткрыл окно и закурил, рассеянно вглядываясь в блеклый предрассветный лес. Вы знаете, после безумного секса бывает чувство, когда ты вроде бы исчерпан и наполнен в то же время, ты уже не можешь, но (я обожаю это чувство) ты все равно на каком-то самом общем фоне сильно возбужден и сам весь как бы означаешь этот воплощенный секс, Влада говорила мне, что я будто бы очень привлекателен в таком вот состоянии, а я ей сверялся, что в этом состоянии я почему-то больше становлюсь объектом, вся моя наслажденная теплая плоть будто светится просьбой «возьмите меня, поцелуйте, меня, обнимите, ласкайте меня, удовлетворитесь мной и сотрите меня нахуй, просто, блядь, сотрите, ради бога…».
Я стоял и курил в этом прекрасном состоянии, смотрел на предвесенний предрассветный лес и чувствовал почему-то, как часто бывает в такие минуты, какое-то единение с этими вечнозелеными соснами в стылом и слякотном воздухе, мне почему-то думалось: «Я – лес. Ну как она не понимает, что я лес, и это главное. Ну, как она не понимает, что мы жизнь, мы эти сосны под февральским ветром, мы зима, весна, закат-рассвет, мы сами жизнь, мы сами по себе и смысл, и истина, мы сами по себе».
- О чем ты думаешь? – спросил Илья.
Он прикоснулся ко мне своим смуглым голым телом со спины, как бы не то чтобы наваливаясь и не вполне обнимая, а как-то вот ласково прислоняясь, его правая рука коснулась моей ягодицы, а губы поцеловали левое плечо.
- О лесе, – сказал я и взглянул на него, относя подальше сигарету.
Его правая рука умело разжигала нервный жар в моей спине, лаская разомлевшее бедро, мне захотелось выгнуться назад, подобно кошке, выгнуться назад, напрячь весь позвоночник, его губы и щека так и касались моего плеча.
- О лесе?
- Да.
Я поймал его медовый взгляд, и это было бесподобно. Это был вот этот самый упомянутый девичий взгляд от парня. Илья, пожалуй, не так часто таким бывает, но тем и слаще, тем сильнее я люблю его таким. Дело в том, что этот девичий взгляд не только не умаляет его мужественности, а как бы даже подчеркивает ее, собственно, не сам лишь взгляд, вот его поза, как он прижимается ко мне, он такой грациозный, какая-то нега изнутри освещает его, и он так влюбленно, довольно так смотрит на меня сквозь сладкий вересковый мед.
- Ты красавец, – говорит от мне, влюбленно улыбаясь. – Так классно разрулил рецензию.
- Да, я старался.
Я поднес к его губам сигарету, и он легонько затянулся.
- Слушай, – сказал я после паузы.
И когда он выдохнул дым, даже не вполне поцеловал, а просто прикоснулся губами к его губам.
- Что?
- Она захочет завтра нас поздравить с 23 февраля.
- Та я уже понял.
- Ты сам виноват.
- Виноват.
- Ты дурак.
Мы вновь поцеловались. Обожаю это с Ильей, когда нам даже не надо говорить, понимаете? Вот этот лес, а что если вот этот лес – это реликтовый лес первобытной Европы? И я иду сквозь этот лес со своим братом, своим другом и своим любовником. И нам не надо говорить, чтоб обнаружить в нем опасность или чтобы окружить, загнать и схватить в нем добычу, чтобы накормить этой добычей наше спящее в пещере темно-русое счастье? Нам не надо говорить, вы понимаете? Эволюция создала нас, понимающих друг друга с полувзгляда, и этого полувзгляда достаточно и чтобы сказать друг другу «не двигайся», и чтобы сказать друг другу «я дурак, потому что влюбился в тебя – да, я знаю, и я в тебя». Одним лишь полувзглядом все это сказать. И поцелуем. Я понял, что меня возбуждает тепло его тела. А еще его крепкие плечи. Я в который раз подумал, что тот факт, что у него, как и у меня, широкие крепкие плечи, почему-то безумно меня возбуждает.
- Я думаю, она захочет подарить нам по букету и за этим поедет с тобой.
Он будто обволакивал меня, он вереск, произрастающий сквозь мой сосновый лес. И я хочу его.
- Знаешь, что сделай…
Он обнял меня со спины – его голое тело прижалось ко мне, и спина моя вспыхнула сонмом чрезвычайно мощных нервных импульсов. Я почувствовал, как его твердеющий наливающийся жаром член упирается в мое бедро. И мне захотелось кричать.
***
Я помню, что 23 февраля проснулся один где-то около полудня. Спросонья отблагодарив судьбу за то, что у меня есть инвалидская пенсия, трудолюбивый любовник и богатая любовница и, следовательно – возможность просыпаться не по будильнику, я, еще лежа в постели, бегло пролистал ленту и в принципе не нашел там ничего нового. Ну, в принципе, ввод войск РФ на и так им подконтрольные территории Донбасса казался ожидаемым. Забегая наперед – успокаивал ли я себя? Не знаю. Думаю, что, смирившись с тем, что мы втроем будем вместе и здесь, я включил свой обычный фатализм. Знаете, в больницах и особенно во всяких травматологиях, реанимациях и прочем подобном очень распространена одна поговорка, иногда в разных вариациях, но смысл тот же, типа «если суждено под машину попасть, то от горилки никогда не умрешь», как-то так. Я это очень хорошо логически понимаю – представьте себе палату с десятью-двадцатью взрослыми мужиками с переломанными костями и жизнями. Их судьба зависит, по сути, от такого нечеловеческого рандома, что ни на что другое, кроме как на фатализм, рассчитывать и не приходится. И вот я, вернувшись домой, уже с оформленной инвалидностью, в принципе так и жил все эти годы – одним днем, смирившись с тем, что жизнь моя взята взаймы и не принадлежит мне в полной мере. И, исходя из этого, я полагался на судьбу, по типу «будь что будет», и чтобы как-то облегчить это тягостное ожидание, я все-таки оставлял себе робкую надежду на то, что, может, не в смысле ничего не случится, но случится, как это довольно часто бывает, какая-то хуйня. Пусть кровавая, но, может быть, не вовсе адская, унылая, тягучая и очень в сути своей мелочная. Ну, что-то вроде того, что вместо русской весны на нас свалился Минск, всякие обмены, перемирия и прочее ебаное говно. Не то чтобы оно было хорошим, конечно, но не ядерный Армагеддон и даже, в принципе, не операция «Висла», так ведь? Ну, или тот же ковид, который, вопреки многим заверениям, все же не выкосил половину земного шара, а как-то устаканился, даже родив абсурдные ШУЕ-мемы типа чипирования Гейтса и вышек пять-джи. Человечество в своем репертуаре – проще говоря. Так и здесь – не скажу, что мне не было страшно. Было. Особенно меня испугали за несколько дней до этого пара стримов российских патриотов. Очень мне не понравилось то, что там неслось. Но я, опять же, себя успокоил тем, что, возможно, это просто повышение ставок, типа обещаем дойти до Ужгорода, а потом просто признаем и аннексируем подконтрольные нам территории, например. Не то чтобы я этому радовался, конечно, но никаких реальных шансов что-то нормальное с этими территориями сделать я не видел. Дата вторжения уже и так несколько раз переносилась. И поймите вот еще что – я прекрасно понимал Владу. О нас с Ильей и говорить-то нечего – я со своего Конотопа в жизни выезжал дальше всего в пятнадцать лет на лечение в Киев. Илья оставил дом в пятнадцать лет и лучше нас с Владой знал, что это такое. И для него и для меня сам по себе выезд за границу тоже был крушением жизни – меньшим ли, большим, чем при вторжении, сложно сказать, но это все равно крушение. Илья это отлично понимал, и я понимал его вот это «не хочется больше убегать». Но даже Влада – пусть она свободно владеет немецким и жила в Берлине раньше… Что она будет там делать без своих заброшенных, обросших мхом церквей в лесных чащобах? Без дотлевающих ночных костров на Лысых горах, без платформы в Дарнице, без Ведьминого дома? Да, предположим, мы втроем приехали туда… Но одно дело приехать туда погулять, и сходить в ресторан, и потрахаться в модном отеле, а другое… Другое – ехать, убегая, может, навсегда, оставив здесь какую-то немалую часть своей души на поругание нелюдям. А смерть… Не знаю, мы часто с Владой бываем так близки, что как бы наполняемся единым состоянием, вот как с Ильей я могу бессловесно разговаривать, то с Владой я могу бессловесно чувствовать, что ли, и мы с ней чувствовали тогда одно, и это можно образно изобразить как ту попытку поцеловаться перед расстрелом. Я понимаю, насколько это, может быть, пафосно и глупо звучит в данном контексте, но нам обоим казалось тогда, что этой умозрительной попыткой поцеловаться мы возвышаемся над нашими палачами и утверждаем в вечности нашу любовь. Ведь ну бывают же ситуации, когда тебе приходится принять смерть, как, например, мне приходится принять свои увечья, но вопрос в том, что нельзя позволять самой вот этой тени предполагаемой смерти выжигать твою еще не завершившуюся жизнь. И забегая наперед – я доказывал Владе, что ее любовь всесильна тем, что как же она не всесильна, если вот я даже по прошествии такого времени ни о чем не могу думать, кроме нашей с ней любви, нашей с Ильей любви, о нас троих. Но это посторонние рассуждения, в целом я могу сказать, что мы с Владой хотели еще успеть поцеловаться перед смертью, скажем так. И, успокоенный этим, я написал Илье:
- Что?
Он ответил быстро, почти сразу.
- Орхидеи, представляешь? Белые. Сказала мне, что я похож на орхидею и сама не знает почему. Но между нами говоря – я тронут (имейдж).
Букет был реально отпадным. Вот что такое гений – мне это в голову не пришло, а ведь реально Илья – нежно-белая орхидея. Как точно и круто.
- Подписан? – спросил я.
- Да.
- Как?
- Чи біля тебе душу відморожу,
Чи біля тебе полум'ям згорю.
- Блядь, ну почему она такая??
- Я не знаю (сердечко)
- Ненавижу ее за то, что она такая красивая.
- А я очень люблю)
- Я тоже. Можешь ее поцеловать?
- Уже. Она уехала на квартиру. Думаю, тебе будут тюльпаны – очень подробно расспрашивала про то, как я впервые тебе подарил
- И что ты рассказал?
- Про то, как ты смотрел.
- Дурак.
- Как ты угадываешь, что она будет делать?
- Колдую
- (сердечко)
- Ты все сделал?
- Да, довольна. Наверное, захочет вечером отметить в городе.
- Посмотрим.
- Ну, давай, пока.
- Давай.
Короче, не бог весть что – я, безусловно, предугадал, что Влада захочет нас поздравить, и дал инструкцию Илье купить и ей букет с подписанной открыткой:
«Домикъ за храмомъ, далекій отъ людной дороги,
Мы освятили цвѣтами, любовью и счастьемъ».
Но тогда я не знал, что он, дурак, еще и попросил подписать моим именем (как будто она и так бы не догадалась, что это я придумал – по цитате). Они, получается, обменялись этими букетами, но пусть. Эффектней было бы тут ее встретить с букетом, но где я его тут возьму?
Они приехали со своими букетами рано, часов в четыре вечера. Влада подарила мне тюльпаны с подписью:
«Любовью и гнѣвомъ къ тебѣ говорила я прежде,
Желая тебя».
***
Вечером мы не поехали в город, было лень, и я как-то совсем спонтанно написал Саше, но он ответил, что сейчас в Киеве.
- Паники нет? – спросил я у него.
- Не, все нормально, – отписался он.
- Ну, ладно, может, встретимся на выходных.
- А может, вытяните Виту? – написал вдруг он. – Она с малой в селе сидит.
- Удобно будет?
- А чего? Удобно.
Я действительно позвонил Вите и предложил выпить пива тут в генделике. Я бывал там пару раз, но пива не пил – так, скупался изредка. И оно неплохо получилось, рили – мы пошли втроем улочкой в село, и Вита встретила нас возле Неизвестного солдата, она вот реально такая располагающая телка, знаете, она выбралась в село, немного по-городскому прикинутая, типа и в повседневное, а все же модное, и накрасилась, типа не сильно заметно (но оно, наоборот, заметно), как на гульки, короче, но в этом почему-то не было быдлячества, а какая-то милота, наоборот. Я познакомил ее с Ильей и Владой, и она предложила провести небольшую экскурсию селом. Оказалось, что генделык уже закрыт, хотя было еще светло (с другой стороны – кто туда ходит?), я, заходя, там больше одного-двух пенсов и не видел никогда, и это около обеда или утром. Но у Виты было все схвачено, она подвела нас к довольно жлобовато обставленному сельскому дому под пышными разросшимися вербами и, заглянув за забор, бойко крикнула:
- Теть Оль!
А потом еще и четко свистнула в два пальца. Она вообще вот этим отличалась – такая, знаете, внешне райцентровская инстателка со всеми наворотами, вплоть до пошловатого маникюра, вот этого бросающегося в глаза «ненавязчивого» макияжа, трендовых шмоток даже для сельского околотка, но в то же время с каким-то очень простым и, главное, располагающим к себе поведением, вот она вся для меня этот зазор, с самого начала, впрочем, и Саша тоже – вот обычный колхозный штемп, не могущий изъясняться вне суржика, и при этом совершенно от балды цитирующий если не Napalm Death, то какую-то совершенно мне неведомую срань прямиком из подвалов Аризоны или Южной Калифорнии. И рубящий на своей электрухе, как ебаный бог. И я часто потом позже думал, сколько таких вот зазоров в наших людях…
Волосы у Виты были, очевидно, недавно покрашены в такой не то что рыжий, а даже красноватый оттенок, причем отдельные пряди, а под ними черные и тоже явно крашенные – все по трендам, так сказать. Она забавно струснула этими красными прядями, когда свистела, и собаки во дворе залаяли. Тетя Оля – хозяйка и одновременно продавщица генделыка – вскоре вышла, и Вита купила у нее с рук несколько баночек пива, чипсов и сушеного кальмара… Вот знаете – это звучит тупо и уебански, но вы не представляете, какой это был ламповый вечер, причем сам вайб какой-то школьной тусы за гаражами как раз таки и делал его ламповым, мы шлялись по селу с этим пивом, слушали всякие стори Виты, потом разместились возле самодельных столиков у Сейма, оказывается, тут был по типу сельский пляж, жевали этого кальмара и выпили еще по баночке безалкогольного с фруктовым наполнителем… Было довольно серо и уныло, быстро вечерело, но в этом тоже был какой-то кайф, вы понимаете? Был какой-то, нахуй, уют, что ли, вот огоньки в селе, фонари на столбах, эти собаки вдалеке, какой-то гомон во дворах, тихий плеск Сейма, вербы эти крючковатые и камыши в воде, хмурые тучи, вечер, Вита с Владой говорят о маникюре и, прожевывая, выковыривают из зубов этого кальмара, мы с Ильей иной раз многозначительно бросаем взгляды друг на друга. Мы еще провели Виту домой, ее свекры жили, оказывается, недалеко от коттеджа, особенно если тропинкой вдоль реки, а не по улице. У свекра было довольно большое хозяйство, я заметил трактор и какие-то сеялки, два амбара. Он был не то чтобы большой фермер, но землю арендовал и понемногу обрабатывал, что-то там сеял. Вита пригласила нас в дом, но мы отмахнулись, типа уже поздно. Помню, что напоследок обсудили тот подорванный в оккупированном Донецке УАЗик – Вита где-то прочитала, что на него предварительно навесили номера от какого-то майбаха, что ли – его подрывать пожалели. На этом, кажется, и разошлись, пожелав друг другу спокойной ночи – ну, она пожелала нам, а мы ей.
Илье с Владой Вита понравилась, и они согласились со мной, что она действительно какая-то «хорошая». Вот черт его знает, как еще сказать… Я им рассказал, что от Саши похожий вайб, и мы решили, что как-то, может, соберемся вместе еще. Типа с такими нормальными челами можно и завести знакомство в селе – даже полезно, че.
***
Помню, что проснулся часов в семь, чего-то недоспав. Снилась какая-то довольно странная хуйня. Знаете, у меня есть несколько повторяющихся сновидений еще с юности. Основных сюжетов у них два – один приятный, а один практически кошмар. Приятный о том, что я почему-то опять возвращаюсь в школу. Я же говорил, что я недоучился один год, сначала был в больницах лежачим, потом дома ходил на костылях. И сдал экзамены экстерном весной, да по сути и не сдавал – тупо за взятку поставили отметки. И вот мне иногда снится, что после всех вот этих лет я почему-то опять возвращаюсь в школу доучиться вот этот последний год, и мне почему-то, даже не знаю почему, это приятно, как будто все вот эти годы были дурным сном, и я опять возвращаюсь в школу, и жизнь в каком-то смысле начинается по новой. К слову сказать, после знакомства с Ильей этот сон больше не повторялся. Второй же изредка, кажется, бывал – в этом сне я опять надолго ложусь в больницу, причем эта больница непонятная, напоминающая скорее тюрьму, и особенно это больно было сейчас, типа, меня отрывают от Ильи и Влады, и дальше будет снова что-то очень неприятное, опять лежать или на костылях, опять бесчисленные операции, ублюдки-эскулапы, боль, тоска, бессмысленность, и снова боль и боль. Но в ту ночь, я помню, мне снился как бы реверс этого кошмара – впервые в жизни. Мне снилось, что я возвращаюсь из больницы домой, причем почему-то сюда, в коттедж, причем меня встречают Влада и Илья, но не только они, вообще много людей, кажется, одноклассники, возможно, Вита и Саша, но, может, я додумываю щас, но помню, что знаю, что отец тоже где-то рядом, а матери не видно. И помню это чувство, что «вот так нормально», типа столько лет мне снилась жуткая хуйня про эти все больницы, а теперь все правильно. Помню, что проснулся с этим приятным недоумением в объятьях Влады. Вообще не так уж часто, но иногда мы во сне обнимали друг друга, да я уже, впрочем, и говорил. Помню вот это чувство: «Жарко. А я прислоняюсь к Владе». Тепло их с Ильей тел для меня – чувство дома. Но у Влады есть какая-то особенная нота этого уюта, умиротворения, типа «все нормально, обнимаки, тихо-тихо, спи» – она вот это источает даже поневоле. Как же волшебно то, что она женщина. Ильи не было, и за окном серело. Я понял, что сейчас не засну, и в этом сонном состоянии осторожно выбрался из объятий Влады, чтобы ее не разбудить, и даже, кажется, положил вместо себя свою подушку, ну, я так иногда делаю. Она иногда шарит руками, ища меня – вот у меня с Ильей этого нет. Как будто. Опять же – машинально подумал. Приоткрыл окно и закурил, глядя на лес. Небо светлело, день по идее мог быть ясным. Ветви сосен еле-еле покачивались, на трасе слышался отдаленный гул машин. «Илья уже уехал», – подумалось. Затушив окурок, я подумал: «Больше не засну, помыться». По привычке, не одеваясь, я спустился вниз и, не зажигая света, прошел в душевую, там включил горячую воду и стал под струю, мне сильно полегчало. Я, помню, выдавил в ладонь жидкое мыло и тоже сонно вяло растирал его по своему телу, не выключая воду вовсе, а лишь немного сбавив напор. И уже смывая это мыло мочалкой, повернулся немного к дверям и протер глаза – защипало. В дверях стоял Илья в спортивном костюме, опираясь рукой о косяк, и когда он увидел меня, то как-то несмело сказал:
- Богдан…
- А?
Я не мог врубиться, почему он здесь, если в спальне его не было, но реакция моя была вялой, сонливой – даже это удивление.
- Богдан, война началась, – сказал он.
Я помню, что тут же задал ему вопрос тем же сонливым тоном. Возможно, этот вопрос покажется вам странным, но исходил он из логики наших предыдущих разговоров и в частности – того разговора с Владой в душе, в квартире Ильи.
Я спросил:
- Что бомбят?
И выключил воду.
- Пишут, что Киев, Харьков, Львов. И Сумы. И десант в Одессе.
Какое было мое первое чувство? Признаюсь – облегчение. Не от того, что я был этому рад, конечно. Но я как бы только сейчас понял, насколько ситуация была накалена последний… месяц? Год? С четырнадцатого года? И вот теперь у меня было чувство, что она наконец разрешилась куда-то, неважно куда. Следующая моя мысль была сумбурной, смятой, я сейчас попытаюсь ее восстановить, ну, скажем, я думал о том, что делать, смутно пульсировало в голове, что сейчас пронесется сметающий огненный вал, а потом наступит самое вонючее. Что Владу надо как-то уберечь от этого вонючего, сидеть и ждать, а что еще поделать, она будет орать, что мир закончился и воцарилось зло, а я скажу, что все это не важно, главное, что ты жива… Но это было очень еще сумбурно, но помню, что где-то там у меня зародилась формула по типу «эти книжки на русском, господа, это почти что как Гоголь». Эта дурацкая форма о том, что я должен говорить, когда придут. И чтобы она стояла и молчала, потому что она стопудово скажет лишнее. Но это, повторяю – сумбурно, еще очень неоформленно, а следующей моей мыслью, верней, эмоцией был почему-то стыд.
Я же говорил, что мне неприятно обнажаться перед чужими. Я даже шорты, например, вовсе не ношу никогда, впрочем, они мне не идут, по-моему, впрочем, по-моему, они вообще мало кому идут, дурацкая залупа. Майки тоже как-то не особо, мне немного нравились в юности, когда занимался спортом, такие, знаете, иксообразные, с отрытыми плечами, но сейчас я майки не ношу, футболки летом, чаще тенниски, рубашки. Мне, кажется, идет этот воротник, какая-то мужественность в этом есть. У меня много брюк разных фасонов, как и говорил, я люблю посвободнее, в быту люблю карго и спортивки, джинсы, кстати, не сильно люблю любые, спортивки поудобнее, причем спортивки я люблю как раз классические такие, не люблю зауженные вовсе, глупо выглядят имхо, причем забавно, что при этом даже мужские лосины мне кажутся более эстетичными, у меня есть пара, но я их не особо ношу, пожалуй, по той же причине, что и скинни, плюс – они менее удобные, чем классические спортивки, как по мне (кстати, кто придумал поверх них надевать еще и ШОРТЫ?). Я вполне нормально хожу в коттедже босиком, и в городе недалеко от дома – в шлепках на босу ногу, но вот на выход босоножки я никогда не надевал, люблю кроссовки, удобно, мне вообще полагается ортопедическая подошва, но я пока обхожусь, в холодную пору, кстати, мои любимые военные ботинки, вот эти реально армейские таланы, мне как-то Илья подогнал, и я в них несколько лет уже хожу, хотя есть и другие. Но суть в том, что вот вы поняли – одежда у меня закрытая обычно. Не говоря, что ходить с голым торсом по городу, как многие мужчины тут, – для меня немыслимо. Но при Владе и Илье то я легко обнажаюсь, я же говорю, что я при них дома. И вот помню свое странное чувство в то утро, что мне стыдно стоять голым перед Ильей, не потому что я стыжусь Ильи, а потому что эта моя нагота как-то не приличествует ситуации и теме разговора. Это первый раз такое со мной было, и я сказал Илье:
- Принеси мне одежду, пожалуйста.
- Да, хорошо.
Он с такой готовностью кивнул, что я прямо удивился. Он кивнул и метнулся в комнату, как бы с каким-то облегчением, и вдруг резко понял, что это облегчение было вызвано тем, что я как бы дал ему какое-то четкое поручение, что ли. Я, помню, удивился этому, может быть, даже больше, чем своему стыду и стеснению. Потом я, помню, подошел к раковине и умылся холодной водой. Протер зеркало и посмотрел на себя. И видит бог, в какой-то миг мне показалось, что на меня смотрит в этом в зеркале мое же лицо, но без паралича и сломанной челюги. Смотрит и едва заметно улыбается одними большими зелеными глазами.
***
Илья принес мне одежду, но сам не ушел и продолжил говорить о том, что читал в интернете. Мне почему-то хотелось, чтобы он ушел, но я, опять же, говоря, стыдился не его, а ситуации и поэтому побыстрее одевался, а он все говорил об обращении хуйла к российскому народу.
XVII
Мы постепенно переместились на кухню, и помню, как мне дико захотелось жрать. Я четко помню, что достал из холодильника палку ветчины и тупо отрезал ножом тонкие ломти и хавал. Знаете, что мне запомнилось еще? Какое-то резкое усиление вкусовых ощущений, я помню, как смаковал оттенки крахмала и сахара в мясе, пока Илья рассказывал, что конотопская механизированная бригада с раннего утра по трассе движется куда-то в нашу сторону и дальше.
- Я проснулся около шести и, вижу, куча звонков, сообщений… Не хотел вас будить, вышел на улицу, ходил. По трассе едет техника, не прекращаясь, из леса немного видно даже. Вернулся, хотел тебя разбудить, потом передумал. Потом зашел попозже – услышал, ты в душе.
Он посмотрел на меня так, знаете, не то чтобы растерянно – скорее озадаченно. А я впервые ощутил в себе чувство, которое не схлынуло с меня где-то до поздней весны. Сразу скажу – оно мне искренне не нравилось, не нравится и сейчас, даже ретроспективно, но я ничего не мог с ним поделать, и оно то присутствовало подспудно, как зуд, то прорывалось иногда наружу. Это чувство можно, наверное, описать, как абсолютно безрассудную пацанячью веселость. Как-то так ты себя чувствуешь, когда, движимый дурным подростковым ражем, рвешься с мячом к половине противника, как какой-то сраный Нойер, слыша крики тренера: «Вернись нахуй в штрафную, Бодя!», – или когда на танцполе рывком срываешь с себя свитер под визги девочек, или когда ты прыгаешь с балкона вниз – куда-то за пределы бытия. Знаете, это чувство мне напоминает одну ситуацию. Как-то мы ездили играть товарищеский матч в близлежащее село, на самом деле селом оно считалось формально – было в черте города, я сейчас не стану конкретизировать из-за описанной дальше истории, она была известной по городу, и кто знает, тот поймет, а кто не знает – и не надо. Короче, игра была такая – никакая, просто чтобы тренера побухали вместе, и чтобы мы прогуляли учебный день, и чтобы школы поставили себе отметки о спортивном мероприятии. Исходя из этого, я простоял на раме всю игру – основной воротник, старший парень и мой наставник, пробегал первый тайм в полузащите, потому что ему захотелось, а потом вообще поменялся и чилил на трибуне с местными девахами, а я типа и остался на раме, как бы в качестве тренировки. Но, к слову говоря, местные были лохи – мы им наклепали, уж не помню, шесть–один реально, что ли, помню, что один всего я не взял – довольно пакостно разыгранный угловой. И то там была, как нередко случалось, ошибка защиты. Мне, честно говоря, льстило то, что я был самый меньший на поле и что чужие старшаки хвалили меня как вратаря, они так и называли меня – «малой». «Малой зверюга, хули говорить – где вы его такого взяли?» – это было очень трогательно, и было вот это чувство, социализации, или не знаю, ну, до футбола в школе я обычно был не очень общительный, ну, знаете, из той части класса, которые и не на галерке совсем, и не сильно близко к доске, своего рода эпсилоны, типа «отъебитесь от меня, не замечайте» – я учился на четверки в основном, прилежно, но звезд с неба не хватал, в классные развалы не лез, а тут… Это было реально приятно, что-то во мне шевелилось, не скрою. Но вместе с тем я замечал в себе что-то еще, трудно сказать, всегда ли это было, но дремало или появлялось вместе с социализацией. Я думаю, где-то было. Короче, помню, что мы курили у них за школой, и там в кустах был электрический трансформатор, ну, обычный трансформатор, каких сотни – кирпичная будка с проводами и лесенкой с одной стороны, но прикол был, что такая металлическая решетка сбоку была снята – ее на метал кто-то украл хуй знает еще когда, и новую не поставили, и мы все, ихние и наши, залезли в эту будку трансформатора через этот проем, потому что, кажется, нас уже искали, а нам хотелось покурить, а в будке нас бы не нашли. Короче, мы стояли и курили там, а там, в этой будке, была вот эта металлическая гудящая приблуда, я не знаю, что оно, но типа собственно трансформатор, какая-то его часть. И один ихний старшак стал рассказывать, что недавно тут погиб парень, черметщик, двое цыган типа залезли ночью в этот трансформатор воровать метал и, дуры, были даже без понятия, где можно прикасаться, а где нет. Цыгане, кстати, потому, что в том селе и правда большая цыганская община, до сих пор есть. И вот типа один из этих парней буквально обуглился – уж не знаю, правда или нет, что обуглился, но сама история не выдуманная, об этом даже в интернете писалось, и вообще много кто обсуждал, и я сам ее слышал до этого, но еще без подробностей. И вот, помню, ихний старшак травит эту стори, мы курим, а кто-то из наших говорит типа:
- А прикинь, может, вот эта хуйня тоже под напряжением?
И показывает на это одоробло гудящее. Слово за слово, и кто-то еще сказал типа:
- Если сильный ток в ней, то она может даже притянуть тебя к себе и ебнуть. Ну, с какого-то расстояния.
И, помню, этот парень даже с придурковатой лыбой отошел, типа в прикол подальше, и спросил у всех:
- Реально, не под напряжением оно?
И знаете что я сделал? Уебал по этой хуите ногой. Типа проверить, не под напряжением ли. Я вот до сих пор не отдупляю, нахера я на самом деле это сделал. Вы должны понять – да, среди нас не было электриков, но, конечно, вероятно, эта хуита должна была быть чем-то типа экранирована, да? Ну, по логике. Но прикол в том, что мы этого ТОЧНО не знали, и атмосфера стояла такая, что «ну его нахер» потипу – а вдруг? И я не был уверен, что оно не под напряжением. И даже по реакции пацанов я это понял – они, конечно, не то чтобы там испугались, скорее даже отшутились, типа «не гони, малой – еще тебя в пакетик собирать», но после этого моего поступка воцарилась какая-то легкая неловкость, понимаете? И мы очень вскорости оттуда вовсе вылезли на улицу. И я вот часто вспоминаю этот свой удар ногой по трансформатору. Я пытаюсь анализировать, что меня к этому подтолкнуло. Появилось ли это поведение у меня в связи с половым созреванием? Иногда мне казалось, что да, иногда – что, может быть, лишь четче проявилось, а было всегда. Например, в связи с половым созреванием, я четко помню, что разучился плакать, причем это было не связано с тем, что так надо или типа того, да? Это просто как ломка голоса, ну, в какой-то момент просто плакать уже не получалось, даже если хотелось. И я мог уже заплакать только при сильном эмоциональном потрясении, скорее даже когда внутренняя какая-то пружина не выдерживала и разжималась, как в тот раз, когда я приехал домой после больниц и зашел в свою комнату – и зарыдал, фактически первый раз за время всего… Пружина именно разжалась в спокойной безопасной обстановке, а кроме того, осознав дистанцию меж тем, кем я был раньше, и тем, чем я теперь буду уже до конца своих дней. Так же было тогда, после первого секса с Ильей, но только это было как-то освобождающе приятно, это было даже более сильное потрясение, потрясение от того, что меня любят, что я нужен и желанен… Ну, я уже объяснял. Кстати, с Ильей я стал плакать все-таки чаще и как-то здоровее, что ли – он как бы меня высвободил в каком-то смысле, но тем не менее, как у нас говорят, «тонкослезым» я все равно не стал. Но вот этот-то удар по трансформатору – зачем? Если попытаться просто объяснить – «ну, по приколу». Но ведь я теоретически мог погибнуть?.. «Так это и прикольно», – я бы, наверно, ответил. В принципе это рискованное, по сути суицидальное поведение. Но, вспоминая об этом, я думаю, что также всякий раз мне как бы хотелось преодолевать какие-то границы, постоянно преодолевать. И в этом была всегда какая-то дурная, но вместе с тем пьянящая веселость. И вот она опять во мне оживала как бы, я еще не до конца это осознавал, но уже чувствовал какой-то драйв этого.
***
Еще, вспоминая это, я почему-то думаю вот о чем (мне кажется, важно сделать эту ремарку) – мои рыдания после секса с Ильей были очистительными и какими-то естественными, в отличие от тех безысходных в юности. И если уж проводить какие-то параллели, то вообще мой роман с Ильей был для меня более естественным, в нем было больше меня, чем в том условном романе с опасностью и смертью. Но общей чертой этих романов было то, что все мои чувства как будто обострялись. Иногда я думаю, что (странная штука на самом деле) мое эго, то есть грубо – чувство самосохранения, оккупировано условным Собеседником в большей степени, чем либидо, вероятно, там идут наиболее тяжелые бои, в то время как в либидо прочно занял оборону настоящий я. В любом случае в то февральское утро я ощутил подзабытое обострение чувств. Оно было более рваным и холодным, вообще в целом менее комфортным, чем обострение чувств от любви, романтики, секса и всего с этим связанного, но в чем-то эти явления тогда казались мне сопряженными. Во всяком случае, я помню это звериное чувство насыщения ветчиной. Этот вкус крахмала, мяса, сахара и следующий за этим взгляд на Илью. И боже – это было что-то подобное тому первому впечатлению при нашем знакомстве: «Я влюбляюсь в парня, Господи, да что же с этим делать?» И сладкая тотальная капитуляция перед самим собою: «Ничего. Влюбиться и поцеловать его. И переспать с ним. Боже, он такой красивый».
- Что мы будем делать? – промолвил Илья еле слышно.
Не то чтобы растерянно, но как-то озадаченно.
И я, помню, ответил:
- Умирать.
И жадно поцеловал его в губы. И помню, как он весь обмяк в моих объятьях. А потом почти без перехода он обнял меня в ответ, и эти объятья были не только лишь крепкими, но какими-то жутко родными.
***
Мы долго смотрели друг другу в глаза и потом он сказал:
- Будем будить Владу?
Я понял, о чем он, мгновенно. Мы зачастую спали с выключенными телефонами. Лишь Илья иногда ставил тихий режим у себя, мы же с Владой ненавидели, когда нас будят, и вообще предпочитали переписку. Но как бы то ни было – Владе звонят и звонят в это время, пока она спит. Мне-то звонить по сути и некому. Отец, друзья, издатели Влады, возможно, ей сейчас звонят, чтобы сообщить что-то крайне важное, а потом будет поздно… Но я все-таки в моменте решил, что нет смысла сейчас загружать телеграф, и что бы ей ни пытались сказать, это все сейчас почти совсем не важно, а может быть, даже вредно. Какой смысл выстраивать логику в огненном вале? Какая срочность может быть безотлагательной внутри огня? Люди, обладающие властью и информацией, сейчас решают судьбы мира – или им так кажется. Должны ли мы сейчас уподобляться им – я не уверен. Во всяком случае, из того, что мне бегло обрисовал Илья, я делал вывод, что огненный вал уже окружает нас практически со всех сторон, и, на мой взгляд, сейчас рассудительнее всего было пригнуться, а не бегать безголовой курицей. Сейчас мне кажутся смешными те мои умозаключения, но я пытаюсь воспроизвести свой ход мыслей тогда. И немаловажное значение тогда имела еще и мысль о том, что Владе надо выспаться, потому что, возможно, нам всем сегодня понадобятся силы. Но при том разговоре о Владе я тоже как-то слегка озадачился и сказал Илье:
- Надо посидеть с ней тихонечко… Я пойду, ладно? Покурю там в окно.
- Да, правильно.
- Илья… ты же не вздумаешь сегодня никуда ехать, да?
- Та куда?
- Куда угодно, в город… Сейчас нам лучше посидеть на месте, как мне кажется.
- Согласен.
- Я люблю тебя.
- И я тебя.
***
Я пошел наверх потому, что кто-то должен быть с Владой, когда она проснется. И Илья это, к слову, отлично понимал. Кто-то должен был быть с Владой, потому что она не должна была спросонья взять смартфон и прочитать то, что там будет написано. Она должна была узнать от кого-то из нас, и я взял на себя эту миссию, как и миссию разговора с ней о той рецензии – я не думал тогда об этом настолько подробно, как сейчас в ретроспективе, но я так чувствовал. Я не знал, что ей скажу и как буду себя вести, но я пошел наверх с решительностью. В мансарде стоял утренний полумрак, и она спала, обнимая подложенную мной подушку. Ее распущенные темно-русые волосы как будто текли по плечу и постели. Ее темно-русые волосы, составленные из нанизанных на гравитацию галактик. Войдя, я сразу ощутил в мансарде ее замешанный на травах невозможный запах. И со мной происходило что-то подобное тому, как я внизу смотрел на Илью, как будто в первый раз. Передо мной в затемненной мансарде лежала на постели и спала моя желанная, незаменимая, единственная во вселенной самка. Она была прекрасной, она была сама красота, и мой главный в быстротечной жизни выбор состоял в том, чтобы в будущем иметь именно с ней общее потомство. Этот выбор был всем мной, был моим выкриком в мир и вселенную, который должен теперь разнестись нашими смешанными генами по всем грядущим поколениям людей. Главным предназначением моим как индивида было – трахать ее, пока меня не покинут силы. А потом очнуться и вновь трахать, а в промежутках между этими великими деланиями я должен был заботиться о ней и защищать ее, потому что это было столь же важно, как и трахать, это было неразделимо с траханьем, это было то же самое, что целовать, лизать и трогать, венцом всего был сумасшедший трах, но эти ласки были столь же важны, как и он, как цветок невозможен без стебля, как спиральные галактики без сверхмассивных черных дыр у оснований и как летний град без удушающей жары. Заботиться о ней беременной и трахать даже в этом состоянии, потому что – что может быть важнее, кроме трахать, испытывать чувство восторга от того, что это я такое с нею сотворил. И снова приставать и трахать, потому что она самка, предназначенная к этому, и потому что я влюблен в нее без памяти, я одержим ею и прикован к ней навеки, намертво ее неимоверной сексуальной силой. И я рад отдаться этой силе до конца. Потому что когда я наконец увижу в наших детях наши общие черты, то познаю величайшую во всей вселенной правду. Я не то чтобы думал именно так в ту минуту, войдя в мансарду – это было чувство, спрессованное в миллисекунды, тоже ужасно животное, как мое резко обострившееся обоняние. Но я это чувствовал, глядя на это сопящее и обнимающее подушку существо – этот комочек абсолютной красоты. Мне хотелось вслух сказать, что я люблю ее, но я боялся разбудить ее.
***
Идя к окну, я видел, что ее телефон на комоде мигает, но я, естественно, не попытался рассмотреть, кто звонит, наоборот, отвел взгляд. У нас был широкий комод, который мы использовали как прикроватный столик – он стоял за спинкой кровати, чтобы каждый мог протянуть руку и взять свои вещи, или выключить светильник, или еще что-то в этом роде, было удобно, потому что при нашей конфигурации сна среднему всегда было неудобно – средним чаще всего оказывалась Влада, но, к слову, не всегда. И вот мы придумали такое решение, но, признаюсь, немаловажным также было зеркало – не только для того, чтобы смотреться в него утром, нам нравилось иногда смотреть в него, трахаясь, особенно нам с Владой, знаете, как в «Сто лет одиночества» эти уебки повесили зеркало на потолок – мы до этого не дошли, но нам хватало и зеркала за спинкой кровати. Вообще, конечно, Влада меня приучила получать удовольствие от зеркала, я-то своей внешности стремался изначально, но все же… Я почему-то помню, как один раз, трахая ее, любовался на себя в зеркало, почти как в юности, ну, не совсем, центром-то была она, но она стояла на локтях и на коленях, я имел ее, держа за плечи, и от переизбытка чувств наклонился и быстро поцеловал ее в щеку, и немедленно, как бы устыдившись этого, грубо схватил ее за волосы, она взглянула в зеркало, я проследил за ее взглядом и, поразившись ее страшной красоте в этом зеркале, я увидел свою руку, сжимающую ее прекрасные волосы, и эта рука мне показалась такой властной, крепкой, и я поднял взгляд выше. Сложно объяснить, может, все дело в том, что свет вечерний падал от окна таким образом, что мое парализованное лицо было несколько затемнено. Но, короче – я был стройный, сильный и Ею ВЛАДЕЛ. И она, столь прекрасная, искренне наслаждалась тем, что я ею владел. И я на миг подумал, что я тоже красив, потому что у меня крепкие руки, широкие сильные плечи, стройный торс и в конце концов – член, двигающийся в ней. Потом, когда мы попеременно сосали в кровати этот дурацкий вейп (мы с Владой оба его не особо любили, но иногда баловались), я ей все рассказал, а она, паскуда, ответила, что для того и поставила зеркало – я так взбесился, что отлупил ее подушкой, ну, точнее, мы подрались подушками, сложно сказать, кто кого отлупил. А еще почему-то помню с Ильей по поводу этого зеркала – мы оба стояли на кровати на коленях и целовались, и он был спиной к зеркалу, а я обнимал его и гладил рукой, и смотрел в зеркало, половину моей рожи за его головой было не видно, только этот мой зеленый таинственный взгляд, и я следил, как моя рука спускается вниз по его влажной сверкающей спине и ниже, и я почему-то по-новому поразился тому, как две наши юношеские красоты сливаются подобно сталкивающимся молодым галактикам. И я помню, что это мое впечатление усилилось той мыслю, что и Влада как-то так щас видит нас – она лежала рядом, трогая себя, и я буквально кожей ощущал ее пристальный и изотропный взгляд. И это был тоже миг обожаемого мной единения, когда я чувствовал, что мы втроем едины, мы одно в этом чудесном и взаимном неразрывном перетекании друг в друга, мы прекрасны в этом танце жизни, мы возбуждены, влюблены и любимы, желанны и направлены друг в друга, обожаю это чувство, когда я неистово хочу и жажду Владу, и Илью, и себя самого. Когда мне хочется кричать от этого восторга. Когда я как бы разом понимаю все и чувствую себя свершившимся. Я помню, что когда мы валялись потом на кровати, я рассказал об этом Владе, играя с ее волосами, Илья больше потаенно молчал, но, кажется, гладил мне спину, я как раз лежал по центру между ними, и Влада сказала, что ее сводят с ума наши с Ильей ласки и что она очень хочет сочинять после такого, и тогда она спросила впервые полушутливо, что не против ли Илья быть молодой, красивой и чуть-чуть беременной женой сотенного есаула, а я – смуглой сексапильной ведьмой, соблазняющей ее. Да, тогда она впервые прямо сказала о прототипах, и я ощутил сладость от поражения – я лежал уже опустошенный и бессильный, а она поразила меня в самое сердце. Я уже что-то подобное говорил, но пусть, повторю, что, возможно, больше всего меня возбуждает во Владе ее способность творить. Помните, она говорила о наших с Ильей взглядах как о творческой силе, так вот – меня поражает, что у нее тоже есть вот этот взгляд и такое могущество, пусть прозвучит смешно, но что она Демиург. Блядь, понимаете, вот эти локоны-галактики, прекрасные глаза, вот эти ручки, пальчики, грудь и округлые бедра для рождения детей, ее пахучая и влажная промежность, ее хрупкость, нежный голос – и при этом всем умение творить, нахуй, миры, направленным усилием создавать сущее из ничего – когда я об этом думаю, то просто разрываюсь изнутри, желая одного – войти в нее немедленно, блин, отыметь ее, соединиться с ней, быть ее парнем, быть ее рабом, и ее другом, и ее любимым, Господи, пожалуйста, только она, только она одна… И она знает это, и порою издевается, как в тот раз – я был опустошен и сломлен, а она это сказала, и я немедленно захотел трахать, но не мог сейчас, и я просто бессильно приклонился к ней, нырнул лицом в ее растрепанные волосы, а она, бессердечная, после этого меня поцеловала, ненавижу, ненавижу, ненавижу и хочу весь до остатка ей принадлежать. Хорошо, что ласки Ильи в этот момент становились все настойчивее, и я решил, что отомщу ей, отдавшись ему.
***
Забавно, что я сейчас вспомнил те две истории об этом зеркале, думаю, что, войдя тогда в мансарду и увидев мерцающий дисплей Владиной трубы, я вряд ли вспоминал их – я прошел к окну и, тихонечко его открыв, закурил, взял свой телефон из тумбочки, случайно свалив оттуда Владиного плюшевого миньйона. Этот миньйон был большим, почти как подушка, его Владе подарил Илья, потому что у нее был похожий миньйон-брелок на рюкзаке, он ему запомнился еще с презентации в Сумах, и он заказал в интернете эту дуру, теперь она жила здесь, в основном на тумбочке. Влада вообще была довольно равнодушна к мягким игрушкам, ей могли понравится вот именно такие приколюхи, как этот миньйон, но все равно больше как часть интерьера. Но миньйон был рили прикольным, кажется, его звали Боб, но Влада называла его Тепоцтекатль в честь мексиканского бога пива и плодородия. А Илья – Антистресс, потому что так оно называлось в магазине, и он, помню, долго меня спрашивал, что такое игрушка-антистресс. Я короче, называл его просто миньйон и часто случайно сваливал с тумбочки, потому что он был для нее великоват, а на подоконнике, где он изначально базировался, он мешал, потому что мы постоянно открывали окно и, открывая, переставляли его на тумбочку, откуда он все время падал, короче…
Короче, я водрузил назад этого миньйона и разблокировал телефон, усевшись на подоконник. Как ни странно, мне звонил отец. Я даже забыл, когда с ним разговаривал – кажется, он поздравлял меня с Новым годом в контакте, и это все. Я решил, что перезвоню ему попозже, типа уж с ним-то в Ленинградской области ничего не должно случиться, пусть подождет. Потом я просмотрел сообщения от однокашника – Вити. Он писал «Они поперли, Бодя. Ты щас в городе?»
- В селе, – ответил я. – А ты?
Он был онлайн, ответил быстро.
- В городе.
- Не хоч в село? Ко мне, если хоч.
- Та не пока, спасибо. Света лежит, ковид ебаный.
- Тяжело?
- Та так, сатурация 95, но было хуже. Температура небольшая (после паузы). Как думаешь, что будет?
- Хз. Война.
- Та да.
- Ты слышал что-то? Правда, они везде?
- Знакомые вояки говорят, пиздеж. Вброс.
- А в Киеве?
- Под Киевом вроде есть.
- Много?
- Хуй их знает, говорят, ебашатся сейчас.
- Ну, ты будь дома, наверное, раз остался.
- Та это я понял. Ну, ты там тоже береги себя.
- Будем на связи.
- Да.
Я зашел в браузер и посмотрел новости, чтобы оценить по возможности ситуацию. Да, судя по всему, много пиздежа, но отделить зерна от плевел было сложно, тем более мне, гражданскому. Я смутно вспомнил наши разговоры с тем парнем-военным в конотопской травматологии восемь лет назад. Он, помню, объяснял мне, что мы не вывезем рамс с россиянами, даже если армия у нас будет по типу польской. Он говорил, что прикол в самом принципе наших армий – типа, какой бы разворованной кацапская ни была, она предназначена для зарубы со всем миром, как советская, и таких вот армий в мире типа всего две – советская (теперь кацапская) и американская. Ну, может, еще китайская – говорил он, – но и та скорее из-за численности. Он говорил, что полноценные стратегические средства войны есть только у кацапов и американцев, и поэтому типа задача нашей армии, хоть и сто раз модернизированной – не тотальное опиздюливание кацапов, а нанесение им ощутимого дамага, чтобы они тридцать раз подумали перед тем, как сунуться. Я, впрочем, сам теперь так считал. Но что же теперь, когда сунулись? Бог его знает, все было сумбурно – какие-то сообщения вроде бы вселяли робкую надежду, но это тут же представлялось лютым копиумом. А удивительней всего для меня было ощущение того, что я почти совсем не хочу рефлексировать – животное существо, которое целовало Илью на кухне и сейчас жадно вдыхало разлитый по мансарде запах спящей Влады, совершенно не любило думать и пространно рассуждать, оно хотело жить, а если надо – умирать, но эта мысль об умирании странным образом не то чтобы не пугала это существо во мне, а пугая, как бы каким-то образом только подстегивала его активней жить. Я единственный раз ощущал это на своем веку, и тогда оно тоже поражало меня. Это было в реанимации, когда я полноценно пришел в себя на второй или третий день, похмелье развеялось с какими-то немыслимыми литрами донорской крови, влитой в меня. И я помню, что как будто во мне выделилась какая-то очень глубоко до того зарытая часть меня. Выделилась и на период больниц, реабилитации стала во мне главной, потом в обычной жизни вновь уйдя глубоко-глубоко внутрь меня. А тогда в реанимации знаете, что она сказала мне, по сути, единственный раз заговорив со мной (она вообще не любила разговаривать)? Она сказала:
- Ты будешь ходить, понял? И не просто ходить, но жить полноценной жизнью. Это все.
Я до сих пор не знаю, что это было. Я никогда больше так не верил в себя и не верил, что эта вера на что-то способна. Но только это была даже не вера, а какая-то абсолютная убежденность. Убежденность, которая подняла меня на ноги и вытолкнула в жизнь. Так вот – эта хуйня просыпалась во мне. Где-то за ней стоял Собеседник, как бы произносящий: «Вот видишь, я же всегда говорил тебе, что зло придет и победит. Ну, ничего, я с тобой, я твой друг». Но вот эта принюхивающаяся ко всему хуйня совершенно не воспринимала его слова, не игнорировала, понимаете, а вообще как бы не слышала его, не потому что не слушала демонстративно, а потому что не понимала его слов. Как какой-то волк, выходящий во вьюгу к железнодорожному переезду, смутно различает в завывании этой вьюги голос громкоговорителя на одинокой станции в степи, но не понимает его слов, ему насрать на то, что какой-то состав прибывает к какой-то платформе, это просто отдаленный треск, его по сути не касающийся. Так вот эта принюхивающаяся хуйня воспринимала собеседника. И собеседник не имел над ней сейчас никакой власти, он был вообще частью какого-то другого дискурса, потому что вот эта принюхивающаяся хуйня во мне взаимодействовала лишь с одним-единственным агентом – даже не со мной, я был со всеми своими Собеседниками сейчас всего лишь подчиненной ее частью, она глобально противостояла одному великому агенту и, как тот волк на вьюжном переезде в степи, постоянно страшным волчьим взглядом смотрела в глаза вот этого великого агента – своей смерти. Причем для этого волка смерть была не какой-то философской максимой как для Собеседника, она была его партнером в неком вечном танце, они как будто оба танцевали в этой вьюге и каждый из них ненавидел друг друга и желал победить, и при этом каждый из них понимал, что невозможен без другого. И вот этот волк внутри сейчас как будто говорил мне – я танцую, повторяй за мной.
***
Повторять за ним значило безумно страстно целовать Илью, хотеть выебать Владу, жадно жевать ветчину, ощущая в ней крахмал и сахар, широко раскрыв глаза, смотреть на сосны в утреннем лесу, курить, дышать, существовать. В общем и целом, повторять за ним значило – быть. В моей груди как будто прорастало какое-то новое всезнающее и все понимающее сердце. Которое на это гамлетовское «to be, or not to be?» отвечало «dance!».
- Это не та подушка, где моя подушка? – сонно простонала Влада. – Почему моя подушка на подоконнике… Иди сюда, подушка!
Она, растрепанная, утренняя, рассмеялась и бросила в меня подушкой-подменой, та не долетела. Я помню еще одну вещь, еще одну перемену в себе. Знаете, после больниц я чувствовал себя немного скованным. Вот то чувство, которое я испытывал, занимаясь спортом в юности, вот ту легкость, гибкость, какое-то, я не нахожу другого слова – чувство цветения тела в некотором роде притупилось при инвалидности, да, это объяснялось вполне естественными причинами, как тот же паралич, переломы и так далее, но все же было чувство, как будто я весь остался пришибленным, не вполне контролирующим и чувствующим свое тело. Меня в какой-то мере высвободил Илья, как я и говорил, конечно, через телесную страсть в первую очередь, да, через секс, но и не только это, и эти тренировки с ним, просто ничего не значащие прикосновения и так далее. Потом меня высвобождала Влада, это был какой-то другой уровень, но я бы описал это как – Илья помог мне почувствовать себя и быть с собой, что ли, а Влада учила меня быть с другим, это довольно сложно объяснить, понятно, что и Илья был другим, но с ним это было как, ну, я не знаю, может, странно прозвучит, но как мыться в мужской бане сначала, а потом в общей, знаете, вот эти общие бани в Германии, или где там, которыми пугают русских патриотов. Ну, и вот такая разница ощущений, может быть, немного непонятно, но я пока не знаю, как объяснить. Владе было, прямо скажу, тяжелее, потому что с Ильей я изначально был более открытым из-за того, что мы оба были мальчики, но Влада тоже делала успехи. И вот что – в то утро я помню, что спрыгнул с подоконника и рухнул к ней в постель, просто как кошка. Понимаете – вот это странное животное во мне, вот этот волк на вьюжном переезде в степи, вот это бьющееся во мне второе сердце снова как бы делало меня прыгучим, гибким и пластичным, будто в юности на поле. Я чувствовал свой каждый мускул и радостно владел, и наслаждался своим телом. Я кошка или волк, я жив, и я танцую. И вот я рухнул на постель к своей желанной самке. Ничего этого я тогда, конечно же, не осознавал – лишь где-то ощущал на фоне.
Я поцеловал ее в бледные губы, но не как Илью, жадно, а нежно, по-утреннему, потому что она была сонной. Она сонно ответила на этот поцелуй и опять улыбнулась. Ее губы вкусные – подумало мое второе сердце. И еще оно подумало – все правильно, она ведь моя самка.
- С добрым утром, солнышко. Ты выспалась? – спросил я, и она кивнула.
- Короче, россияне вторглись, позвони отцу.
Знаете, что она мне говорила потом, через несколько месяцев? Мне тяжело это писать, но она благодарила меня за то, каким я был в эти минуты и, пожалуй, дни. Я ей не верю. Я был жалким и закомплексованным парнем-инвалидом. Я был беспомощным и ни к чему не пригодным. И ни на что не способным. Но она мне говорила, что я был красивым и сильным. Я не знаю, зачем она это говорит, и не знаю, для чего, но мне во-первых, стыдно, когда она это говорит, а во-вторых, какой-то части меня хочется, чтобы это было правдой. И от этого мне становится еще сильнее стыдно. Сейчас мне кажется, что я был жалким, как и большинство людей, наверное. Но тогда… Короче, она говорит, что не выдержала бы без этого, но даже в то утро, когда я ей это сказал, она говорит, я был каким-то… Она говорит, что у меня был какой-то, по ее мнению, красивый мерцающий взгляд.
@ruah: Я сейчас сама напишу.
//@givenbygod: Нет!!
@ruah: Ты будешь писать или МНЕ САМОЙ НАПИСАТЬ??
//@givenbygod: Уйди!
Она говорит, что обожает мой колдовской взгляд. Это она так говорит. Но в то утро, сказала она, в моем взгляде буквально мерцало зеленое пламя. И еще она постоянно вспоминает мои плечи, что они были расправлены, вообще тело какое-то налитое силой, блин, я не знаю, я всего лишь жалкий инвалид, я не знаю, зачем она все это говорит… Но если ей хочется так думать – пусть она так думает. В отместку я скажу и о ней. Вы знаете, в этом даосском делении инь и янь изображается как бы в виде двух капель, причем в центре инь содержится еще и капля янь, и наоборот. Я в последнее время часто думаю, что что-то в этом есть, и мне иногда нравится что-то девичье как бы глубоко внутри в центре Ильи и в то же время что-то мальчиковое в центре Влады. Так вот, мне кажется, в эти дни вот этот внутренний мальчик-Влада тоже в ней немного выдвинулся вперед, весь, конечно, густо обрамленный ее женственностью, но в этом-то и был прикол, не знаю, как лучше объяснить. Почему-то мне приходит в голову, что она немного напомнила мне тогда богиню Диану, но точнее, может, вот как можно объяснить. Вот я иду с Ильей вдоль осеннего проспекта Мира, почти держась за руки, и читаю ему стихи, а он в ответ говорит мне «ай лав ю». И в это время как бы наши внутренние девочки высвобождаются и соединяются с друг другом, эти девочки как бы четко обрамлены нашей мужественностью, и эта мужественность никуда не девается, но мы так любим друг друга и наши капли инь соединяются через соединение тел янь. Ну, как-то так. А что же происходило тогда с Владой? А вот что – вы знаете, что, несмотря на стереотипы, во времена палеолита охотой, скорее всего, занималась вся община, и в том числе женщины, это было коллективное занятие. Мне нравится об этом думать в том смысле, что, может быть, мужчины и выполняли какую-то работу, требующую физической силы и реакции, но и женщины им помогали, и это способствовало единению этой человеческой стаи, я думаю, это было красиво. Так вот – мне представляется, что мы идем втроем сквозь тот реликтовый европейский лес. И Влада говорит нам с Ильей, весело подмигивая: «Я сейчас побуду с вами мальчиком, чтобы помочь охотиться». И вдруг резко происходит метаморфоза. Перед нами то же темноволосое счастье, но теперь оно чем-то неуловимо очень похоже на нас и понимает с полувзгляда нас, как мы друг друга. И этим полувзглядом говорит: «Слышу добычу там… и тоже вас люблю. Камон!»
Я вот это ощутил тогда, понимаете, я ощутил, как сквозь нее проступает этот философский мальчик, и я буквально ощутил вот что-то такое, что внешне я поцеловал девочку, а внутренне на каком-то символическом уровне сквозь нее проступил мальчик-она и крепко понимающе пожал мою протянутую руку.
- Насколько все хуево? – спросила она.
Я видел небольшой испуг, но это были именно волны на ее капле Инь, а в центре все равно содержалась сосредоточенная капля Янь. И эта капля как бы говорила мне: «Я рядом, братик».
- Сложно сказать, но в Киеве стреляют, позвони отцу. Я пойду пока вниз, принести тебе хавать?
- Побудь здесь.
Она взяла меня за руку.
- Да я внизу, если что, Илья тоже. Я еще своему хочу позвонить – он звонил мне.
Я бы остался с ней, но мне было неудобно слушать ее разговор с отцом. Я же все равно тут.
- А, ладно, – она кивнула.
Я понял, что она скорей задумчива, чем действительно заинтересована в моем присутствии при этом разговоре. У нее есть такое свойство – внешне не всегда понятно, что она сильно задумалась, только по реакциям видно.
- Принести тебе хавать? Короче, я вниз – позвонить и сделать тебе хавать.
И тут – вот этот мальчик капелька. Она вдруг схватила меня обеими руками за затылок и притянула к себе, так проникновенно посмотрела мне в глаза своими изотропными.
- Что? – немного растерянно, улыбнувшись, спросил я.
- Любимка, – сказала она, констатируя, и потерлась своим носом о мой. Как будто устанавливая обонятельный контакт для стайной охоты.
***
Я сделал ей горячие бутерброды с ветчиной, помидором и сыром – тостовый хлеб, между двух хлебцев буженина, сыр на терку и кружочки помидора. Можно было бы обжарить на сковороде, но я бросил в микроволновку и включил кофейный аппарат. Вошел Илья с улицы, и я попросил его отнести еду и кофе Владе по готовности, он кивнул и уткнулся опять в смартфон, как, впрочем, и сам я – я со смартфоном вышел на улицу и снова закурил. Я не любил разговаривать с отцом. Обсуждая это с Владой, я пришел к выводу, что все-таки при всех загонах ее отношения с отцом были здоровее – там хотя бы просматривалась какая-то взаимная заинтересованность, я же с юности все больше отдалялся от отца, ощущая его чуть ли не вовсе посторонним человеком. В этом уже даже не было каких-то острых чувств, там злобы, ненависти. Просто мне было комфортно без него. У меня с матерью было что-то по типу как у Влады с батей – неблагополучные, но все-таки родственные отношения. А с отцом вовсе не было контакта. С годами мне стало казаться, что он испытывал ко мне какую-то вплоть до того что нездоровую ревность, из-за того, что типа я общаюсь с матерью, вы представляете? Но мне вообще, вот если откровенно, всегда казалась непонятной его какая-то тоже, как по мне, нездоровая зацикленность на матери – вот за этой всей нарочитой мужиковатостью скрывался будто бы практически младенец, жаждущий грудного молока. Хуйня какая-то, ей богу, уж до чего у меня проблемы с этой женственностью-мужественностью, но даже я… Знаете, я опять щас вспомнил этого ебаного Головина, и помню, что, уже будучи инвалидом, как-то прочитал в одном его эссе что-то в духе того, что какой-то звездный свет в алхимическом смысле может иметь с нами больше общего, чем биологические родственники. В свое время я старался примириться с их чертами в себе, и у меня это вроде даже получалось. Но еще по прошествии времени мне показалось более здравым просто забить на это хуй и считать себя отдельным от них человеком. Я, безусловно, испытывал к ним сыновьи чувства, но, откровенно говоря, между нами было столько вот этой, блядь, не знаю – НЕЛЮБВИ, как в фильме Звягинцева, что я начал ощущать общую деструктивность своего думания о них. Потому что практически всякий раз, когда я пытался ретроспективно разобраться в наших отношениях, то как будто погружался в этот ебанутый и бесперспективный спор с их тенями, понимаете? Вот в эти все взаимные упреки, злость, непонимание и просто нахуй ограниченность, уж если, блядь, на то пошло. И когда я просто забивал на это хуй, то облегченно выдыхал и просто себе жил дальше. И со временем просто отучил себя об этом вспоминать, вспоминал иногда, но все реже. Типа было и было – надо жить дальше. Вот это мне казалось здравым. Я должен как-то себя отделить от них, в первую очередь внутри себя, и оценивать все со своей колокольни – это мне казалось здравым, впрочем, я не стану спорить, что себя диагностировать всегда непросто, и вообще – век живи, век учись. Я просто хочу объяснить, какие чувства я испытывал перед тем звонком. Но я набрал его, стоя на крыльце. Пока шел вызов, в село проехала легковуха, помню.
- Привет, – сказал я в трубку.
- Привет, ты дома?
Хуй его знает, был его голос немного взволнованным или каким-то заебанным больше… Связь, кстати, была не очень в целом.
- Не, в селе.
- В каком селе?
- Какая разница?
- В районе?
- В слободе.
- А где ты там?
- С друзьями, – ответил я уклончиво.
Он помолчал пару секунд.
- Еда, вода есть? – спросил.
- Есть.
- Ну, может, так и лучше, что в селе… Ты только никуда не езди, пару дней.
- Я и не езжу.
Мне хотелось поскорее повесить трубку. Сказать еще, конечно, надо что-то типа «сам нормально?», чего мне делать не хотелось, потому что в конце концов он у меня не спрашивал… В общем – «давай, давай» – и все на том. В какой-то момент мне казалось, что так оно и будет. Тут он сказал мне:
- В общем – никуда не лезь.
И хуй его знает, что меня дернуло спросить:
- В смысле – куда?
Тут он замолчал на чуть дольше. Вот, может быть, мне надо было где-то тут и закруглить этот разговор, чтобы себе не портить нервы. Но это щас так просто говорить.
- Да все ты понял, никуда не лезь, – бросил он немного раздраженно. – Что, сам не видишь, что у вас там происходит?
- Что? Война.
- Россия ни с кем не воюет.
Ебать. Признаться, я не ожидал, вот совсем. Во-первых – ебаную методичку прям с порога. Ну, это полбеды, скажу откровенно – меня шокировал тон. Такой, знаете, даже со вздохом, ну, вот эта тональность разговора с унтерменшем (причем в исполнении точно такого же унтерменша – ordnungsdienst, ей-богу). Вот в этом смятении я, наверное, выглядел не очень выигрышно, но как бы то, конечно, похуй, я спросил:
- А что делает?
- Идут высокоточные удары по складам военной техники. Никто не трогает гражданские объекты.
Ебать. Ебать, ебать, ебать… Я слушал, отвесив челюсть.
- Это политика, короче, скоро все закончится. Все будем жить, как раньше, вместе.
- В каком смысле?
- Что в каком?
- Пап, твою страну бомбят и оккупируют. Какое раньше, вместе?
- Никто никого не бомбит.
- А что происходит?
- Это военная операция. Прогонят националистов, и все будет нормально.
- Каких националистов?
- Тех, что захватили власть в Киеве.
- Когда?
- Что когда?
- Когда в Киеве кто-то захватил власть?
- Ну, на майдане.
Серьезно, я просто охуевал. По-моему, даже механически ухватился свободной рукой за голову.
- Пап, ты же с мамой ходил на майдан.
Они ходили, короче, днем, посмотреть, вначале, когда еще не стреляли. Туда много кто ходил, я лично знал людей, которые ездили на эти митинги антимайдана за деньги, а отстояв там, приходили на евромайдан, потому что говорили, что там тупо весело. Ну, это тоже еще вначале.
- Посмотреть, как они там скакают.
- Что… Кто?
- Нацики. Хто не скаче, той москаль, да?
- И… Что в этом такого?
Он молчал. Я не выдержал и сказал то, за что мне сейчас немного стыдно – наверное, нельзя было так расклеиваться, пусть даже в первый день полномасштабного вторжения в твою страну.
Я сказал:
- Пап, ты сейчас серьезно хочешь сказать, что из-за слова москаль надо загеноцидить целую страну?
Он опять молчал несколько секунд, а может, со связью были проблемы, короче, я устыдился своей тонкокожести и быстро пробубнил:
- Короче, со мной все нормально, давай поговорим попозже.
На самом деле что у него, что у меня была такая манера между нами – не то чтобы прям бросать трубку, но вот так типа «все, короче» – и отсоединиться. Я отсоединился, выдохнул и достал еще одну сигарету. В тот день я, помню, выкурил какое-то немыслимое количество сигарет, обычно не выкуривая и полпачки в сутки – в тот день, наверное, выкурил почти что целых две. Вперемешку с тем дурацким вейпом (после которого плевался и опять тянулся к сигарете).
***
Тут, я думаю, надо пояснить: я был поражен не столько даже предметом разговора, сколько самим фактом такого разговора. Я почти вовсе никогда не разговаривал с отцом на подобные темы. В мои подростковые годы я с ним вообще разговаривал только когда он приходил пьяным. В детстве были какие-то даже редкие, но все же общие дела, я почему-то помню, как мы вместе чинили электрочайник, например, но мне вообще года четыре было. Но с какого-то момента все переменилось, мне казалось, он стал, что ли, злиться на меня, – я не понимал, из-за чего. Забавно то, что где-то в это время, я помню это детское ощущение – когда мне показалось, что на фотографиях меня как бы подменили, я на фотографиях казался себе каким-то не таким. Сейчас я думаю, что я перестал нравиться себе на фотографиях, и я думаю – возможно, я сам ретранслировал на себя их отношение ко мне. Вот эту злость отца? Я и сейчас не знаю, почему конкретно он на меня злился. Но внутренне мне кажется, что это и не принципиально важно. Важно, чтобы я не злился на себя. Сейчас у меня в голове часто крутится одна мысль, пришедшая ко мне после знакомства с Ильей и Владой, мысль о том, что я не смогу принимать любовь, не любя себя. И это типа самое главное. Но тем не менее в детстве отец с какого-то момента начал очень закрываться. С матерью я продолжал общаться, но мое общение с ней всегда отдавало какой-то механистичностью, что ли. Это было лучше, чем ничего, но в нашем общении было как раз таки мало личного, а больше какого-то общего. Но именно что подобный разговор с ней меня бы, может, меньше удивил. Она одно время увлекалась психологией, ну, такой больше тупопездной, в стиле «мы женщины, а значит, мы богини», и любила это обсуждать, впрочем, это мне всегда казалось близким к сектанству. Одно время, уже в моей юности, она увлекалась Ошо, я с этого тоже внутренне посмеивался, но это было всяко лучше вот этих тейков про «как заставить мужа не абьюзить, а купить вам джинсы». Иногда мы обсуждали и постороннюю срань типа политики, хотя и редко. А вот с отцом… Забавная штука – в последние годы трезвым он почти вообще не разговаривал, и было какое-то тягостное ощущения рядом с ним, даже в большей степени, чем с матерью. А вот пьяным он, конечно, скандалил, иногда дрался, иногда грозился покончить с собой, такое тоже было, портил вещи, разбивал какую-то посуду. Но все-таки я помню это детское ощущение, что пьяный он страшен, но типа он хотя бы говорит, и можно… Нет, поговорить, конечно, никогда не получалось – хули с пьяного-то взять? Но иногда казалось, что вот-вот, и он, возможно, скажет что-то важное, или не знаю. У нас с ним был только один подобный разговор, не о политике даже, но это ближе всего, наверное. В общем, у меня в подростковом возрасте долгое время над компом висела большая фотка Алины Витухновской, на то время где-то десятилетней давности – я сам распечатал ее из видео, где она читает стихи, то ли в каком-то клубе, то ли даже на съезде какой-то экстремистской хуиты, на рубеже веков, не суть. Я вам говорил, что я вообще всегда почему-то интересовался этим временем, ну, когда я только родился. И вот Витухновская, читающая стихи о мальчиках, вьющих смыслы из мифов вождей… Я бы не назвал это какой-то подростковой влюбленностью или типа того – во-первых, она была сильно старше меня, во-вторых, мне не так уж нравились вот эти ее длинные унылые рассуждения про разного рода умирание, но нам ведь не всегда нравятся только те, кто на нас очень похож, а иногда даже бывает, что совсем наоборот… Я много ее читал, мне нравились ее стихи, эссе чуть меньше, но они тоже казались неглупыми. И вот, короче, мне понравилось это выступление, я даже размышлял, помню, о том, что если бы я был взрослым в то время, когда родился, то тоже хотел бы вот как-то так себя позиционировать миру, как она, это сложно объяснить, но мне казалось охрененно важным то, что она делала, и я видел в этом всем какую-то потаенную то ли силу, то ли красоту, которую, несмотря на ее чужеродность для меня, мне все же хотелось как бы частично воспроизвести в себе и тоже транслировать миру. Короче, мне хотелось как бы, ну, чему-то научиться у нее и в чем-то повторять за ней, именно какую-то позу, может быть, позицию, ну, я был подростком, не судите строго – сейчас я не такого высокого мнения обо всем этом, хотя некоторая капля уважения к Витухновской у меня осталась – хотя бы из-за ее проукраинской позиции. Ремарочка (специально для одной дуры): дура, хватить дуться – я, между прочим, молчал по поводу Ди Каприо, Ставрогина и автора разгромного разбора твоих книжек! Кроме того – ты в тысячу дециллионов сотен раз красивей Витухновской.
***
Ну, так вот, я не просто распечатал эту фотку, а даже предварительно обработал ее в редакторе – получилось прикольно, очень винтажно, но в то же время портретно. Ну, и вот она висела, я учил уроки (на самом деле шарился в инете больше), вошел захмелевший отец, слово за слово.
- А это шо за баба?
Вот у него было – вот эта демонстративная очень вонючая маскулинность, понимаете?
- Алина Витухновская.
- Кто?
- Поэтесса.
Ну и дальше что-то в духе «чем знаменита?», – он спросил, и я бегло рассказал о том ее деле, о тюремном сроке, все такое… Тут он смотрит пьяно и в какой-то момент спрашивает:
- И где она щас… бегает?
Вот я всегда хуел с него вот в этом – обычный слесарь с «Мотордетали», постепенно переквалифицировавшийся в строителя, откуда этот наглый понт? Хуй его знает.
- В смысле? – я даже не сразу врубился. – Ну, в Москве, наверное, а где?
- Вот-вот.
- В смысле – вот? Ты о чем?
- О том, что все они в Москве.
- Кто?
Тут у него случился резкий переход от сонливости до аффекта – как часто бывает у алкоголиков.
- Потому, что ты малой еще, жизни не знаешь. Ты думаешь, из книжек жизнь можно узнать? Шо, сильно умный?
Я привычно повернулся к монитору, ответив «не», не глядя на него. В большинстве случаев, если на него не реагировать, он довольно быстро терял ко мне интерес. Я даже пизды от него получал зачастую при матери или хотя бы в какой-то связи с нею, например, когда он на мне сгонял злость после ихней ссоры или, наоборот, я ссорился предварительно с матерью, а та ему жаловалась, и он типа меня «воспитывал» (вот это последнее, кстати, не без удовольствия по ходу – то ли радуясь, что мать теперь по типу его «больше любит», то ли хуй уж его знает). Но если я с ним был один на один, можно было довольно легко его отвалить вот таким вялым игнором, типа не демонстративным, а «ага, шось спать охота». В тот раз тоже он шото повтыкал и съебался благополучно. Но мне запомнился вот этот разговор про идеологию, или уж что оно было, хз.
***
Влада сидела на диванчике внизу, закутанная в плед, в одной ночнушке, нерасчесанная и неумытая, держала в руках кружку с кофе и дышала на нее. Возле нее стояла тарелка с парой бутербродов с ветчиной и сыром, Илья ел такой же бутерброд, опершись о кухонную стенку спиной и втыкая в телефон. Но мне опять же понравились они оба – они были, конечно, взволнованы, но, казалось, не столько напуганы, сколько слегка возбуждены, оживлены.
- Ну, что там? – спросила Влада у меня, едва меня увидев.
Вот тоже как-то оживленно, даже деловито, что ли.
- Несет фашистскую хуйню, – ответил я.
И вкратце пересказал им обоим то, что вы читали выше.
- А твой? – спросил у нее в оконцовке.
Она сказала, что едва уговорила отца не ехать сейчас за ней, он типа уже и машину заправил, завел и хотел ехать вдвоем с мачехой сюда. В Киеве вроде бы стрельба и взрывы, но пока отдаленно от района, где они живут. Влада сказала, что в конце концов уговорила отца везти пока мачеху в Ивано-Франковск к родне. Из этого разговора Влада, ну, а впоследствии и мы с Ильей, в тот день впервые поняли, что кацапы уже где-то рядом с нами, но точно неизвестно еще где. Влада сказала, что отец об этом типа сам проговорился, опасаясь за нее, но Влада перехватила инициативу в том смысле, что не хватало еще им ехать сюда прямо на вторгающихся кацапов, типа она все равно в отдаленном селе с запасом провизии и всего чего можно, и не одна. Да, в том разговоре она впервые бегло призналась отцу, что живет с двумя парнями-любовниками, один из которых Илья, которого он уже видел, а есть еще и второй – тот, который перевел ее книжку. Надо сказать, это известие не вызвало особого ажиотажа не только по причине российского вторжения, но, кажется, еще и потому, что Владин батя, как мне и Илье показалось, был достаточно либерален в данных вопросах, в смысле он не делал идею фикс из вопроса «кто трахает мою дочь?!». Скажу между нами – мне это в нем импонировало, я вообще ненавидел от этот киношный и всякий подобный стереотип об отцах-собственниках, избивающих ебарей дочери, и почему-то полагал, что если бы у меня была дочь, то я бы так себя не вел и, может быть, действительно не вел потому, что этот стереотип сопряжен с каким-то ужасным сексизмом, что ли, или я даже не знаю, скажем, это что-то типа ненавидеть сына-гея, например – ну, я бы вряд ли ненавидел сына-гея, потому что сами понимаете почему. Так и тут. Влада сказала, что факт нахождения Влады в селе с двумя парнями, с которыми у нее довольно давний роман, скорее успокоил отца, да плюс ей показалось, что он сам сомневался в целесообразности поездки в Конотоп. Нет, тут типа сам бы он, конечно, поехал, и даже оставил бы мачеху, но прикол в том, что мачеха настаивала на том, что и она поедет с ним к Владе (к дочери – она называла ее дочерью), а это уже ему меньше нравилось из-за какой-то туманной, известной из нас пока только ему информации о близости к нам кацапов. Короче, у нас сложилось впечатление (хотя он прямо этого и не сказал), что к нам из Киева уже хуй проедешь, и он об этом знает – как-то так. Ну что ж – это было тревожно, но и ожидаемо. С другой стороны – вон в Киеве уже кроваво пиздились, и непонятно, что там еще на Западной будет. Тогда мы, может быть, впервые ощутили это чувство, что нигде не безопасно и бесполезно долго размышлять, куда податься – как-то так.
Еще мне запомнилось, что когда я присел возле Влады, то она механично укрыла меня одной половиной своего пледа, сама при этом так и втыкая в телефон. Тут я ощутил вот еще что интересное – впервые это описанное там выше чувство, что она девочка и я должен ее защищать, у меня притупилось. Не исчезло, а именно притупилось, понимаете? Если попытаться объяснить, то это чувство было чем-то вроде ахиллесовой пяты для нас с Ильей, мы чувствовали, что Влада как бы наше слабое место, и это нас немного угнетало, мы, короче, как тогда и говорил Илья, боялись, что не сможем ее защитить в случае чего, а защитить ее – это самая важная наша задача. Мы так и полагали это самой важной нашей задачей, но вот каким было мое еще одно открытие в тот первый день вторжения. Вот этот мальчик, вылезший из нее и, образно выражаясь, пожавший мне руку, как бы сказал мне при этом одним взглядом, точно так, как мы общались обычно с Ильей, он как бы сказал мне: «Я не какое-то пассивное сокровище в вашей пещере – я твой товарищ по охоте, не тревожься за меня. Да, возможно, я не такой сильный и ловкий, как вы двое, но, видишь, я с вами разговариваю взглядами, так же, как и вы между собой, я умею бегать, и прыгать, и красться, а еще я ведь внешне девчонка и могу вас подбодрить, ведь все-таки я же красивенький». Вот ну вас, можете смеяться, но что-то такое я ощущал, и это меня удивляло и восхищало, это как если бы на том условном вьюжном переезде к моему внутреннему волку подошел такой же волк, только немного меньше, с несколько иным запахом, и промолвил мне по-волчьи: «Я не принцеска, я такой же волк, только женского пола, расслабься, камон».
XVIII
Листая ленту, я, помню, параллельно написал Саше, но сообщение было помечено как недоставленное – его не было онлайн с ночи. Переждав совсем немного, я написал Вите.
- Привет, вы как? Ты в деревне?
Она была онлайн и ответила довольно быстро.
- Еду в Киев.
Я, прихуевший, написал немного тоже растерянно:
- Что? Зачем?
Возможно это «что» было лишнее, но типа сами понимаете.
Она довольно быстро прислала мне голосовуху. Сделаю ремарочку – вот она так активно общалась со мной в тот день, как я понял потом (да и тогда еще почувствовал), чтобы потипу чувствовать кого-то рядом. И я помню, что я сразу как-то ощутил свою полезность в этом качестве и готов был с ней базарить хоть до поздней ночи, тем более что все равно я ничем не был занят по сути. Ну, разве что курил одну за другой, и ту голосовуху я опять прослушал на крыльце, выйдя покурить. В село, пока я закуривал, проехало еще две машины, причем одна была военным пикапом в пикселе. Голос Виты был нервный, но бойкий. Чем-то это мне напомнило Владу, с той разницей, что Влада вообще сама по себе была более ровной в реакциях.
- Богдан, я еду к Саше. Сейчас возле Батурина, еду по навигатору, потому что там была пробка, и я свернула, чтобы срезать, но сначала заблудилась… Щас вроде выехала правильно, тут везде полно военной техники, нашей, а час назад я видела самолет, но не знаю, чей. Так низко пролетел и быстро…
Пока я слушал, пришла еще одна голосовуха.
- Богдан, слушай, я утром поругалась со свекром, короче, украла у него ключи и поехала – он хотел ехать сам. Сейчас они сидят с малой, ты вдруг что… Блин, я же даже не спросила, как ты сам, как вы, извини. Ты в селе?
Я быстро отправил, тоже голосовуху.
- Да, все нормально, мы в селе, если что, будем на связи, я помню, где ваш дом.
- Спасибо, слушай… (довольно длинная пауза, шум) О, я вроде выехала на нужную дорогу, все нормально.
- Вита, ты там береги себя, там в Киеве опасно вроде.
- Да, я говорила с Сашей, ничего, как-то проеду.
Вот это «как-то проеду» мне запомнилось. Вот инста-телочка, красные локоны, мастер по маникюру… «как-то проеду». Это надо слышать тон сам – сложно передать.
- Что там Саша? Я ему писал – его нема онлайн…
- А там то ли связь отключают, то ли бомбят… Там целая история, они вчера бухали у себя в общаге, ну, двадцать третье типа, он проснулся поздно с бодуна, от меня не брал трубку, звонил потом по ходу командиру бывшему, а тот ему сказал, что щас они хуй знает где, и он пошел в военкомат какой-то там ближайший, вроде бы его не взяли. Наконец-то мне ответил, мы с ним поругались тоже. Ну, говорю, мне похуй, щас приеду, пойдем в другой военкомат вдвоем, я даже документы вон свои взяла, какие были, и надела лучшие трусы и лифчик, вдруг завалят…
Она нервно засмеялась.
- Я вижу, здесь какие-то военные в селе, ну, наши.
- А… это, свекор говорил, стоят под сельсоветом. Мы говорили полчаса назад, он говорил, в клубе убрали стенд с атошниками из села, там Саша тоже был, типа им может из-за этого грозить опасность…
- Ну, ты тоже осторожней там, правда… Короче, звони, если что, я в селе, сижу дома.
- Окей, берегите себя.
Практически как только я прослушал эту последнюю голосовуху, мне пришло сообщение в вк. У меня стояло приложение вк, каюсь, хоть это и не вполне патриотически, ну, я там слушал музыку еще с юности, привык, удобно, и пиратской много же. Ни с кем я там не общался. Ну, кроме…
От него и было сообщение. Он прислал мне видео того обращения Хуйла, которое я, к слову, до сих пор не смотрел ни разу. И вы вот просто врубитесь в мое состояние – тут Вита едет в атакуемый Киев вдоль военных колонн, и над ней летают какие-то самолеты, а тут этот родитель мне шлет это видео…
Я написал:
- Зачем ты мне это прислал?
Затем раздавил окурок в пепельнице и прошелся к воротам. На трасе за лесом стоял какой-то невообразимый гул. Натягивало тучи, хотя солнце еще показывалось. Сообщение в вк:
- Посмотри.
- Не буду.
- Почему?
- Потому что мне противно смотреть на говорящий кусок говна в пиджаке, извини.
Меня, конечно, трясло. Сейчас я понимаю, что оно как-то спрессовалось в одно – полномасштабное вторжение, нервы, но и сам факт этого разговора с батей, неприятного разговора, разговора, которого я лучше бы не вел, разговора, из которого ничего путного не будет по определению, как из тех пьяных разговоров в детстве. Но тем не менее не стану скрывать волнующего меня разговора – это как Влада говорила о своем, что неприятен сам факт того, что он все-таки может тебя задеть, ну, потому что отец. Он долго ничего не отвечал, и я прошелся к гаражу, там Илья приколхозил к воротам такое типа подобие турника и иногда подтягивался там летом, а Влада порой висела на нем для растяжки, я смеялся над ними всякий раз. Я подошел к этому турнику и, как-то даже озлобленно ухватившись, подтянулся целых восемь раз – для моих спорадических занятий физкультурой это было в целом впечатляюще – видимо, адреналин. Хотя больная рука почти сразу заныла потом. Был случай в юности, когда я активно занимался спортом… Я ж говорю, что подтягивание для меня было не самым козырем, я не осиливал больше шестнадцати раз, в среднем делал раз двенадцать в день. У меня было хорошо с прессом, говорю же – я мог сделать полтысячи скручиваний как с куста, отжимался от пола, ну так, более-менее, раз тридцать делал в день, кажется, а как-то на соревнованиях отжался больше шестидесяти. Делал отжимания с прихлопом, уж не помню, три-пять точно делал. Повиснув на коленях на турнике, я подтягивался локтями до этих колен довольно много раз, это у меня получалось лучше, чем стандартные подтягивания, возможно, силы в руках не было, а там хз. Я почему-то всегда гордился свой гибкостью – спокойно делал нормативы гибкости на девчачью четверку, в то время как большинство пацанов даже на мальчиковую тройку с трудом. Ну, с гибкостью реально было норм – сильная моя сторона, ничего не скажешь, я легко делал шпагат, дотягивался до пола даже не ладонями, а буквально запястьями. Мой отец к моим упражнениям относился похуистически, зато никогда во хмелю не упускал возможности потравить стори про свою армейскую службу в девяностых, там была куча баек про «реальных мужиков», хотя служил он в близлежащих Ромнах в ракетной части, которая уже тогда пребывала в процессе расформирования. В частности, там была стори о каком-то их офицере-афганце, который делал на турнике подъем- переворот с табуреткой между ног, типа повисал на турнике, зажимал эту табуретку между ног, делал подъем-переворот и ставил табуретку ровно на место. Вообще там было много историй об этом афганце, он был, как я понял, для бати примером того самого реального мужика, там постоянно фигурировали крутые слова «дшб», «дшк», «дра» и прочая срань. Вообще, там в целом просматривалась интересная композиция этих стори – в основном они были о дедовщине, в основном о том, как они сначала были духами, а потом постепенно стали старослужащими и все такое, меня от этого пиздец тошнило с детства. А между этими стори, подобно рефрену, вкраплялись зарисовки об этом офицере, настоящем мужике. И в частности, об этой табуретке. Меня в какой-то момент так это заебало, что я буквально не выдержал. Помню, была, кажется, зима, я сидел за компом, он вновь пришел, опять заряженный, и начал мне нудить, вот щас не вспомню, было там в тот раз об этой табуретке или нет, ну, может быть, что-то подобной тональности, а может быть, и об этой табуретке, главное, что такое же противное и необъяснимо высокомерное, как в том разговоре о Витухновской. Короче, на каком-то повороте этой бравады я буквально потянул его за руку с кресла, хорошо, что он был уже так вяло пьяный, не особо буйный, тот случай, когда перепил, но еще не в отключке. Я буквально потащил его в коридор, блядь, взял на кухне эту сраную табуретку, и уже с одной табуреткой в руке потащил отца на эту лестничную клетку. Быстро темнело, был ранний зимний вечер. Я поставил эту табуретку под турник на детской площадке и, не глядя на отца, сделал подряд три подъема-переворота с ней между ног. Ничего неожиданного за этим, конечно же, не последовало, он вроде пробубнил что-то типа «нормально» и вскорости опять переключился на разговоры о настоящих мужских делах и таком прочем, но, признаюсь, мне понравилось выражение его лица поначалу. Какая-то степень охуения в нем просматривалась. Ну и, конечно же, признаюсь, я предварительно тренировался с этой табуреткой. Где-то около недели.
***
Вот эта хмуроватая погода на дворе и талый снег, наверное, напомнили мне эту ситуацию с табуреткой, ну и плюс мои неожиданные подтягивания, конечно же. И разговор с отцом. Еще вися на турнике, я услышал сигнал входящего в контакте.
- Это у вас по телеку такое говорят? – спрашивал он.
Меня нервировала эта его внезапная многословность. Многословность у него всегда бывала пьяной и невнятной, а после моего увечья он практически не пил, во всяком случае – когда стал уходить из дому и ездить на заработки. И трезвым он никогда не был многословным.
- Какое?
- То, что ты сказал.
- Об этой чепухе?
Опять молчание, довольно долгое. Курить больше не хотелось, и я прохаживался по двору – казалось, мне не хватало свежего воздуха.
- Лучше, когда президент клоун?
Блядь. Я думал, я с ума сойду, серьезно. У меня даже мелькнула мысль, он ли это пишет – но только это был он, просто… Нахуй ему эта методичка – я не понимал. И от этого непонимания и ляпнул:
- Пап, ты там бухой?
На этот раз он очень долго не отвечал. Я думал даже, не ответит больше. Я даже пошел в дом схавать еще один бутерброд, если остались (или сделать). Ну и посмотреть, как там. Илья лежал на диване, укрытый Владиным пледом, и тупил в телефон. Влады не было. Я взглядом и выражением лица спросил «че, как?» типа.
- Влада одевается наверху, – сонно сказал он. – Хочет пойти погулять по селу или в лес, пойдешь с ней?
- А ты?
- Хочу поспать, Бог, я не выспался. Что ты там ищешь?
- Бутерброды.
- Мы все съели.
- Вот уроды.
Он пожал плечами, улыбнувшись.
- Кстати, вкусно.
- Не оправдывайся.
Я тоже улыбнулся, нежно посмотрев ему в глаза.
***
Когда Влада оделась, мы пошли пройтись к реке. Мы тупо шагали, держась за руки, я шел без трости, прихрамывая, и Влада как бы вывела меня из этого тошнотного спора с отцом, уже идя, я слышал входящие в контакте, но не хотел читать. Я рассказал ей об этом споре, и она, помню, предположила, что это что-то наподобие виктимблейдинга, ну, когда, знаете (она так и объясняла), в основе обвинения жертвы лежит, по сути, вера в справедливый мир, типа, знаете, жертва в чем-то виновата, а значит, ситуация под контролем: вот я бы никогда так не поступил, значит, со мной такого не случится. Я не вполне с ней соглашался. Я говорил ей, что тут есть еще что-то другое. Я рассказал ей ту историю про табуретку и того афганца и предположил, что вся эта эстетика вот этого блевотного насилия, страданий, унижений, издевательств в казармах, тюрьмах, завоеванных народах – она подобна многолетнему абъюзу, типа, знаете, когда уже жертва срастается с насильником и сложно уже отличить их друг от друга, что ли, и сложно в этих взаимоотношениях представить хотя б что-то, что вне контекста этого абъюза. Какая-то у меня тогда сформировалась шизотеория, что эта вся хуйня вроде монгольского нашествия, опричнины и заповедных лет была чем-то наподобие такого многолетнего абъюза, сломавшего русскую душу, ну, типа, и потом вот это все еще усугубилось с мясорубкой революций, большевизма, а теперь еще рашистского ресентимента к неким воображаемым победителям в холодной войне.
- Там ничего ведь нет, кроме вот этого тотального насилия, уничтожающего все вокруг и их самих, и ненависти, взращенной на огромной зависти и боли, но так же ненависти к своей боли и закапывания вот этой боли глубоко в себя, в желании переродиться в своего насильника, чтобы наконец перестать ощущать себя жертвой и чувствовать боль, но это и неумение проживать свою боль, это глубоко травмированное общество, зацикленное на насилии и смерти, ненавидящее все красивое и не умеющее чувствовать и принимать любовь.
- Люблю, когда ты поэтичен, – она приклонилась ко мне и я приобнял ее, на некоторое время отпустив ее руку.
- Не знаю, может быть, я экстраполирую, – я засмеялся.
Безусловно, эта наша веселость была несколько нервной, уж куда без этого, но мы вроде неплохо держались в целом.
- Но понимаешь, эта вся эстетика вот этих лысоватых рыхлых мужичков в уродливой одежде, дрочащих на смесь вот этой вот бульварной уголовщины с армейской дедовщиной и советской ностальгией… Я даже не знаю, как это назвать.
- Ты был прав, как мне теперь кажется.
- В чем? – я удивился.
- В том, что я принимала за них миф о них. Причем миф, во многом нами же и созданный.
- Ну, может быть, они когда-то были другими, не знаю. Не знаю. Подумай сама, что такое они? Вот мне когда-то пришло в голову такое – русская мечта? Знаешь, по аналогии. Вот мы строим Украину, да? Казалось бы – ну что такого, да? Но ведь очень просто – раньше Украины не было. И наша цель – модерная. Какая бы при этом по факту ни была заурядная. А они что строят? Россию? Какую из? Как минимум, советская Россия отрицала имперскую. А новая – советскую. И что они такое? Я не знаю. Мне кажется, там распад дошел до того, что появилось что-то тлетворное, какая-то бацилла типа этого ковида. Типа, знаешь, в дельте Ганга зарождается холера. Она идет за караванами в Афганистан и Астрахань. И вот она уже в Москве.
- Так, хватит говорить цитатами! Ведь ты же знаешь – я от этого в тебя влюбляюсь.
- Извини, больше не буду.
Я опять взял ее за руку.
- Я раньше думала, что, споря с каким-нибудь Шмелевым, делаю большое дело.
- Так и есть.
- Но я ведь не думала, что мне придется спорить с каким-то графоманом, пересказывающим Эволу для третьеклассников. Причем умственно отсталых. Причем в умственно отсталом пересказе.
- Так дело ведь совсем не в них.
- И даже не в Ильиных?
- Да ни в чем. Это ведь, знаешь, как в Германии – ну, там ведь тоже все было бездарно и посредственно. Может быть, этим ублюдкам теперь кажется, что не бездарно, но так может казаться лишь на их фоне, типа общий уровень цивилизованности, впрочем… Не знаю. Мы так объемно говорим, чтобы не было страшно?
- Я думаю, да.
Мы оба засмеялись и опять обнялись. Вода в реке была черна и еле двигалась, на берегу кое-где сочился влагой подтаявший снег. Сухие камыши торчали из воды.
- Знаешь, я сейчас не понимаю, – проговорила она в моих объятиях, – вот эти танки едут по мне или какая-то часть меня сидит в этих танках?
- Ни то ни другое пока – тебя всего лишь обнимают руки одного никчемного инвалида.
- Убью, – сказало она, весело улыбаясь и глядя на реку.
- Не убивай, я тебе песенку спою.
- Ловлю на слове. Знаешь, чего мне очень хочется сейчас?
- Чего?
- Не знаю, броситься под эти танки. Как будто кровью искупить каждое написанное на русском слово.
- Ведь ты же понимаешь, что они тебя убьют за эти книги?
- Да.
Она смотрела на темные вешние воды.
- И это главное доказательство твоей национальной принадлежности.
Она думала некоторое время, глядя на воды, я обнимал ее. Я обнимал ее, и я не понимал, зачем они все это делают. Зачем какие-то ебучие Шмелевы, Ильины и иже с ними, если единственное предназначение достойное мужчины – вот так стоять и обнимать любимую. Задумчиво глядящую в вешние воды реки.
***
- Кто-то обещал мне песню, – игриво сказала она в моих объятьях.
- Какую ты хочешь?
- Спой ту, что ты пел, про Дунай.
- Не хочу. Я хочу спеть с тобой. Хочешь спеть?
Она кивнула.
- Да. Но что?
- Сухой дуб?
Она задумалась.
- Может быть, не сейчас…
Я любил эту песню и когда-то сказал Владе, что хотел бы, чтобы меня похоронили под нее. Не потому, что я какой-то солдат или типа того, но мне нравилась в этой песне какая-то ее веселая витальность, удаль, как будто даже на тот свет можно идти, как в военный поход. В этом лихом мотиве мне слышался стук одинокого сердца в великой степи, и дуб там зеленел, несмотря на мороз и метель, а молодые казаки были красивыми, и род их никогда не мог прерваться. Но мы, и я, и Влада уже тогда начинали ощущать какой-то жгучий стыд за то, что все типа дрались, а мы сидели здесь и ничего не делали. И нам не хотелось петь песню о военном походе, если мы не шли в поход. И ладно бы Влада, но у меня-то это откуда взялось при моей похуистичности ко всему общественному? Я не знаю, может быть, от Влады…
Забегая наперед – вот это некоторое оживление больше было характерно для нас с Владой, Илья скорее был сосредоточен, сдержан, еще более, чем прежде, молчалив. Меня очень трогает при этом его усилившаяся нежность, ласковость ко мне и Владе. И я не стану даже ни секунды спорить с утверждением, что наша с Владой возбужденность в это время была даже вредна, безрассудна и в худшем смысле слова пубертатна, хорошо, что нам обоим хватало ума ее сдерживать, да плюс, конечно же, забота Ильи. Но вот Илья сам как-то заключил, впрочем, без негативной коннотации, любовно, что ли: «Вы оба как звереныши какие-то сделались». Впрочем он говорил также, что это очень сексуально, лол.
- Может быть, про невольников? – спросила тогда Влада.
Эта песня нравилась Владе, но не мне. По-моему, она была ужасная и приличествовала моменту даже в меньшей степени, чем «Сухой дуб». Это была песня одного нашего барда еще начала 1990-х, на известный легендарный сюжет. В летописи Самуила Величко есть история о том, как летом 1675 года Иван Сирко пошел на Крым, впоследствии ебейше тот разграбив. Кроме драгоценностей, оружия и табунов овец, запорожцы там прихватили также неимоверное количество ясыря – христиан-невольников, томившихся в татарском плену. По этому преданию, их было около тринадцати тысяч. Остановившись на какой-то переправе во степи, Сирко будто бы приказал накормить невольников, а затем разделил их на две части – христиан отдельно, басурман отдельно. Басурман он велел связать, а христианам предложил: «Кто хочет, пусть идет со мной, а кто не хочет – возвращайтесь в Крым». Услышав это, около трех тысяч христиан, в основном родившихся в Крыму, попросили дозволения вернуться. Остальные же четыре тысячи хотели идти дальше в Украину. Сирко спросил у тех трех тысяч, почему они хотят вернуться в Крым. Они ответили, что в Крыму у них хозяйства и дома, а в Украине ничего нет. Сирко послушав это, разрешил этим трем тысячам вернуться в Крым, и когда они отправились, он взошел на могилу и смотрел им вслед, пока они не исчезли в степях. И тогда он приказал тысяче молодых казаков седлать коней, догнать эти три тысячи и вырубить их всех. Когда же это злодеяние было исполнено, Сирко поехал туда сам и, спешившись возле побоища, сказал, глядя на трупы: «Простите нас, братья и сестры, и лежите здесь до Страшного Суда, вместо того чтобы плодиться там, в Крыму нам на погибель».
***
Это очень Владин сюжет, и меня в ней и ее творчестве поражает то, как в ее исполнении подобные кровавые истории становятся завораживающе красивыми. Я не знаю, в чем тут дело, но иногда мне кажется, что она как автор и мыслитель вся воплощает вот это смотрение в бездну, будь эта бездна пролетающими вдоль дарницкой платформы поездами или удаляющейся толпой невольников в знойной полуденной степи семнадцатого века. И знаете, если представить, что мои кощунственные размышление о Троице верны, то, может быть, Бог-Отец воплощал бы в таком случае вот это созревающее в нем решение отдать страшный приказ, возможно, он его бы так и не отдал, но он бы созревал в нем как решение, а может, он бы сомневался, или скорее было бы что-то в духе этой истории из Бытия о богоявлении у дубравы Мамре, мне странно нравится эта история, особенно то место, где Авраам говорит Адонаю: может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели Ты погубишь и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников в нем? И вот вообразите, что Господь стоит и смотрит в степь с вершины некоей могилы. И вот к нему подходит робко некий молодой казак – отец всех украинцев, и тихо говорит ему: так неужели ты погубишь тридцать из трех тысяч? А двадцать? А десять? А трех? И Он, разгневавшись как будто на его нахальство, отступает от него, сказав: не погублю и трех, как будто устыдившись этих слов своих, и в этом своем гневе, и стыде, и милосердии – весь Он, Господь. Но если на навершии могилы будет не отец, а Сын, то молвит он сам к казаку: «Убери свой меч в ножны, ибо тот, кто поднимет меч, от меча и погибнет», – и когда возопят казаки к нему о том, что эти басурмане расплодятся там, в Крыму, и вырежут наших детей, и его, Господа, убьют вместе с детьми, то Господь-Сын так их успокоит, неразумных: «Или думаете вы, Я не могу воззвать к Отцу Моему, и Он не пошлёт Мне на помощь больше двенадцати легионов ангелов?» И в этом грозном «убери свой меч» будет весь Сын. А что же мать? Пресвятая Богородица была покровительницей всех запорожских казаков. Даже запрет на посещениями женщинами Сечей был, по сути, перенят с запрета женщинам входить в алтарь, не потому что как бы женщины плохие, а потому, что в этом месте как бы эксклюзивно может быть лишь Богородица. И вот, представьте, Богородица стоит на той могиле в степи, и смотрит, и молчит. И вот уже, не выдержав ее молчания, и зноя, и неопределенности, кто-то из казаков несмело приступает к ней и вопрошает:
- Что нам делать, Пресвятая Богородице?
А Богородица молча стоит и смотрит, смотрит. Уже не видно трех тысяч невольников, и пыль от их шагов осела в тех степях, а она молча смотрит, и в этом молчаливом взгляде вся она, Дух-Руах, и я до остатка влюблен в этот взгляд, и он для меня откровение. Она смотрела так тогда, когда мы пели вместе, и где-то на словах: «Ну, плодите янычаров, бесовские дети!» – услышали самолет. Он летел низко и быстро, но за тучами его не было видно.
***
- Как думаешь, наш? – спросила Влада, держа меня за руку.
- Кто знает, – пожал плечами я.
- Пройдем к шоссе? Ты не устал?
К шоссе – это значило не грунтовой дорогой, огибающей пионерлагерь, а тропинкой через лес, не к самому шоссе, но к месту, где когда-то были хозяйственные постройки дома отдыха, их давно разобрали, и сейчас там была небольшая полянка, а дорога, которая вела к ним от шоссе, давно заросла и разрушилась. Но шоссе оттуда немного видно, особенно если, как тогда, было не зелено, за голыми ветвями подлеска. Видимо, Илья ходил сюда с утра смотреть на шоссе. Тропинка эта тоже была не особо проходимая, особенно в дожди, но сейчас она подмерзла, и мы пошли по ней довольно быстро.
- Тебе не кажется, что лес как-то меняется? – сказала Влада.
- Что ты имеешь в виду?
- Что лес как будто бы тускнеет.
Я заметил это еще у реки. Это была, безусловно, какая-то психологическая иллюзия, но было трудноописуемое ощущение, как будто смерть спускается на лес и реку. Вы знаете, ближе всего это мне напоминает ту Кинговскую повесть о лангольерах, помните, там люди попадают в это выцветшее время прошлого, цвета тускнеют, и продукты портятся, и все теряет вкус и запах. Здесь же было даже безысходнее. Вот эта река, наполненная смехом Влады и туманами, в которых фольклорная мать прогоняла прочь нерадивого сына, ночами резвились нагие русалки, а осенью ведьмы сходились на пир – эта великая река как будто бы неумолимо уменьшалась, уходя в саму себя, а на ее месте оставалась заболоченная хилая речушка возле никому не нужной умирающей деревни. Мир сказок уходил куда-то за пределы бытия, оставляя по себе какой-то серый скучный мир, в котором просто не хотелось жить. Все вокруг становилось обычным, безрадостным, тусклым, и этот со всех сторон окружавший нас с Владой заколдованный лес, бывший еще вчера транзитным шлюзом на пересечении бесчисленных вселенных, как бы вправду выцветал, терял все чары, становился неухоженным лесочком под заброшенным, нелепым пионерским лагерем. И мы с Владой чувствовали себя пришельцами из этого уходящего, стремительно тускнеющего мира. Мне на миг представилась довольно странная картина – как будто мы вдвоем внутри дремучего застойного совка, из лагеря доносятся речевки о гниющем в мавзолее Ленине, а мы идем, не выспавшиеся, этим лесом, я в колхоз, она на вечернюю дойку лейкозных коров на задрипанной ферме, мы оба в фуфайках, как в лагерных робах, на ней выцветший платок, на мне заштопанная кепка, мы ругались дома за какую-то похлебку и теперь молчим… И вот в какой-то миг, закуривая, я вдруг вспоминаю свой недавний сон, в котором мы с ней, крепко держась за руки, летели над уснувшим миром. Сон, в котором мы с ней купались нагие в туманной реке и любили друг друга в отсветах костров. И я, остановив ее, рассказываю ей об этом сне. И, рассказывая это ей, я постепенно понимаю, что забыл, забыл что-то самое важное в жизни, и это самое важное, пожалуй, состоит в том, что я без памяти влюблен в ее большие ведьмины глаза. И, вспомнив это, я ей говорю, что я без памяти влюблен в ее большие ведьмины глаза. Ее большие ведьмины глаза блестят от слез, и она вдруг так сладко целует меня. Звучат унылые речевки о гниющем Ленине, а мы стоим посреди леса, обнимая друг друга и вспоминая с неведомой болью о том, что когда-то мы были другими, но мир и пространство, в которых мы были другими, теперь так невозвратно далеки от нас, что попасть туда можно лишь погрузившись в странный предутренний сон. Который к тому же растает с первыми криками петухов в застойном колхозе.
***
Военная техника действительно ползла и ползла по шоссе. Но не стройными колоннами, а так, вперемешку с гражданскими машинами – мы видели такой по типу кунг, потом грузовики, накрытые брезентом, и военные пикапы. Один тягач тащил по ходу пушку, но чего-то более серьезного мы не увидели.
- Такое чувство, что они нас оставляют, – задумчиво сказала Влада.
- Я думаю, они по типу разворачиваются для отражения атаки, – сказал я.
Влада кивнула.
- Да, похоже.
- Ты замерзла.
- Почему это? Ай…
Я ущипнул ее за нос.
- Нос покраснел, пойдем в дом.
- Да, идем.
Мы пошли назад. Когда мы вышли из леса, то увидели на грунтовой дороге впереди пару – пацана и девку с сумками, по ходу они шли от шоссе, возможно, даже с той автобусной остановки… Наверное, автобусы еще ходят – удивился я. Они не оглядывались назад, шли уже практически напротив пустого коттеджа. И тут мы с Владой услышали первый за эту войну взрыв. Было весьма похоже на гром, только такое отчетливо ударное, знаете, не раскатистое, а как бы в одну точку вмазанное, резкое. Парень с девушкой заоглядывались, как-то так пристально поглядели на нас и пошли немного быстрее, чем прежде.
- Интересно, где это? – сказала Влада чуть оживленней, чем говорила до того.
- Похоже на Дубовязовку, с той стороны, – сказал я. – Это ПГТ такое тут, неподалеку.
- Да я помню, мы ж катались на машине.
- Да.
- Как ты думаешь, это что, бомба?
- Возможно.
- А что там бомбить?
- Железнодорожная станция там, а так не знаю. Военных там вроде бы нет. Не было, во всяком случае.
На этих словах мой телефон зазвонил, и я, отпустив руку Влады, полез в карман достать его. Это был опять отец. Я не сбросил звонок, а просто выключил звук.
- Что? – спросила Влада, видимо, обратив внимание на то, как я слегка скривился.
- Папа.
- Не хочешь говорить?
- Нет, не хочу. Что твои там?
- Да едут. Пишут ужасы, что они расстреливают машины.
- Ну, твои довольно рано двинули, я думаю, проедут.
- Да, дай бог.
Мы много применяли эти конструкции «дай бог», «если бог даст» и т. д., но в этом, как мне кажется, было все-таки больше суеверия. Или вот этого дурного фатализма, о котором я рассказывал, по типу «если суждено…» – и все такое.
***
Илья спал наверху, одетый и укрытый пледом Влады. Ми же с Владой немного послонялись внизу, не вполне понимая, что делать, я выпил клубничного морса просто из пакета, а Влада уселась на диване, раскрыв макбук.
- Пишут, что один наш летчик уже сбил несколько российских самолетов над Киевом, – через некоторое время сказала она.
И я помню это неподдельное, робкое, но при этом по-детски восторженное выражение радости на ее лице. Я улыбнулся в ответ.
- Думаешь, правда?
- Почему нет, – ответил я. – Все может быть.
Я помню, что мне очень не хотелось выражать какой-то скептицизм, хотя в других условиях я вечно был Фомой-неверующим. Она опять погрузилась в чтение, а я достал свой телефон. Сообщение от отца было коротким:
- Почему ты со мной так разговариваешь?
Я написал:
- Как?
Его не было онлайн, и я, не выдержав, дописал после этого.
- Пап, в вот эту самую минуту обезумевшие от безнаказанности ничтожества убивают нас за то, что мы не соответствуем их идиотским представлениям о нас. А ты мне шлешь все эти рожи с таким видом, будто я мечтаю лишний раз на них смотреть. Не задавай глупых вопросов, если не хочешь, чтобы я тебе на них отвечал в подобном роде.
Отправив это, я в тот же миг подумал, что это было зря, но эту мысль почти тотчас заступила другая – что, возможно, вот это был самый длинный мой монолог, обращенный к нему, возможно, с раннего детства, а может, и вообще за всю жизнь. И даже отвечая ему письменно при его отсутствии онлайн, я помню, ощутил все то же извечное раздражение от разговора с ним в духе, что – какого хуя я вообще должен с ним разговаривать? Я уже давно привык любую попытку разговора, что с его, что с моей стороны внутренне прерывать тирадой в духе: «Так, хватит, мы с ним разные люди, и нам некомфортно друг с другом, давай не сокращать дистанцию». И после этого мне быстро становилось легче и этот дискомфорт исчезал, вообще, чем дальше друг от друга мы находились, тем мне было комфортней. А тут он еще в эту минуту с этой плешивой залупой, и вообще…
Мне захотелось курить, и я вышел на улицу, впрочем, не закурил, а стоял и смотрел на устлавшие все небо тучи. Да, ясная погода продержалась до полудня, а теперь было пасмурно. Талый снег то там то сям напоминал, что зима не окончилась.
Я, чтобы как-то отвлечься, написал Вите, однокласснику.
- Ну как там?
- Сидим дома, – через, может, полминуты отозвался он. – Говорят, что в Белополье или Краснополье наши пограничники сдались.
Вот и оно – подумал я. Вот то, о чем и говорил Владин отец. Через сколько они будут здесь? Но мысль не оформилась, почему-то сразу вспомнилось о Сумах. У меня никого не было в Сумах, а сейчас бы хотелось написать кому-то там… Я как-то быстро вспомнил сумские многоэтажки, мосты через Псел, болотистые поймы, ивняк и холмы. Конотоп довольно ровный и, конечно, сильно меньше, а Сумы стоят на холмах. Хотя они мне нравились – они казались зеленее, особенно в центре, мне нравилось обилие воды и все вот эти поймы, плакучие ивы над ними, рогоз, камыши. Мы любили с Ильей гулять пешком после кино и разговаривать, я иногда стоял на каком-то мосту и курил, и задвигал Илье какие-то свои фантазии, что, например, я иногда умею ловить какие-то отзвуки прошлого. Одна история была забавная, на меня напало вдохновение, кажется, мы смотрели The Dead Don't Die Джармуша, хотя я уже точно не помню. И вот перед тем прошел дождь, и закатное солнце клонилось за город, едва выходя из-за тучи, и я смотрел на болотную воду и ряску, а на другой стороне реки заметил вроде частный сектор, шиферные крыши между ивами и электрическими столбами. И я погнал Илье:
- Знаешь, кто в этом доме раньше жил?
Я того дома, честно сказать, толком не видел. Возможно, это вообще был какой-то сарай или, может быть, склад, быстро темнело. Улетающее дождевое облако казалось очерченным янтарным закатным огнем.
- Кто? – спросил Илье.
- В начале девяностых или раньше там жил ребенок. Он рано умер, лет, может быть, в пять, точно не знаю. Но вроде бы еще до школы.
- Откуда ты знаешь? – удивился Илья.
- Вижу, – таинственно проговорил я и затянулся. – Родители часто оставляли его одного, он был несчастливым. Они не очень любили его, были заняты. Он был спокойным тихим мальчиком и слушался родителей, но ему было очень грустно одному. Игрушек у него было мало, я вижу какие-то советские пластмассовые, доктор Айболит и лошадка. Я могу описать комнату, там такой, знаешь, ворсистый ковер, кстати, не пропылесосенный, и еще на стене два ковра, и диван с таким, знаешь, покрывалом, как картина, с какой-то дубравой, сложно разобрать, рядом стоит кроватка мальчика, ящик с игрушками и старый телевизор, знаешь, на окнах такая тюль в крупную сетку. Днями мальчик играл один посреди комнаты, у него была старая игра, ну, эта, с кубиками, где надо было собирать картинки из животных, свойских и диких. И этот мальчик играл один в эту игру, он несколько раз просил маму поиграть с ним, но ей всегда было некогда. Один раз мальчик увидел мышь, и испугался, и залез на стульчик, а потом на батарею. На улице шел дождь, и мальчик взобрался на подоконник и смотрел на ливень, во дворе текли потоки грязи, там стояла деревянная времянка и собачья будка без собаки, а за вон теми ивами немного было видно речку, и мальчик засмотрелся на речку, и он надеялся увидеть там красивый кораблик, на котором приплывут папа и мама.
- Блин, хорош.
Я посмотрел на Илью и увидел в закатном свете, что у него влажные глаза. Даже, может, почувствовал больше, чем увидел.
- Почему этот мальчик умер?
Илья так это спросил, что… Мне сложно объяснить, но он был какой-то такой красивый в этот миг. Возможно, эта капля инь, глубоко растворенная в его крепких расправленных плечах и юношеской грации. На нем был классный темно-сиреневый свитер (я сам подбирал), рукава были закоченные, и мне нравилось смотреть на кисти его рук. И тон, которым он это сказал, – это был тон какого-то отчаянного несогласия с рассказанной мной историей, и, знаете, вот я когда-то слышал, выдумка это или нет, не знаю, но вроде бы был случай где-то в Америке, как маленький ребенок залез под стоящую на домкрате машину, и типа домкрат этот соскочил и колесо придавило ножку ребенка, или типа того, и мать, молодая совсем девчушка, подскочила к машине и нахуй ПОДНЯЛА эту машину, чтоб ребенок вылез, а потом подлетела к ребенку… а потом не смогла встать – у нее сухожилья типа разорвались, понимаете? И вот у Ильи в этом тоне было что-то тогда такое в высшем смысле материнское, и то, что он мальчик, было почему-то вдвойне классно.
- Я не знаю, – сказал я.
- А… как ты это видишь?
- Да забей, я это выдумал. Ну ладно, этот мальчик я. А совковый антураж я взял из какого-то, уже не помню, фильма.
- А реку? У тебя ведь нет реки там. возле дома.
- Мы жили в частном доме, я совсем малой был. Там, на Загребелье, – там была река, ну, так, речушка.
- Что это была за игра?
- Какая?
- С кубиками.
- Я не очень помню. Ну, картинки там, коровки, курочки.
- Давай когда-то поиграем?
- Поцелуй меня.
И мы реально там поцеловались, на мосту. Но были уже сумерки, прохожих рядом не было, возможно, кто-то из машины видел, но навряд ли.
- Этот мальчик не умер, – сказал мне Илья, обнимая меня за плечо.
- Возможно, и нет, – улыбнулся я.
- Не умер.
- Ладно, это очень грустно, дорогой, – я улыбнулся. – Давай я лучше расскажу, как в младших классах нас сюда возили в музей Чехова.
- Тут есть музей Чехова?
- Кончено, деревенщина!
Он попытался ущипнуть меня в ответ на колкость, я его слегка толкнул.
- Пошли. Короче, я не очень помню все подробности, тем более что мне почему-то запомнилась только сигнализация, такая, знаешь, которая реагирует на движение, она была не активирована, но датчики под потолком реально мигали, если ты ходишь, но мы типа долго ходили, и моя одноклассница, Ленка, помню, сказала другой какой-то телке, я уже не помню, – типа, я так устала и хочу полежать, а эта ей указывает на кровать, ну, экспонат, и говорит: «ложись», – а та такая: «Да, тут Чехов умер, а теперь я буду лежать».
И я, помню, как заржу сам, Илья сначала не смеялся, а потом запырхал так и тоже рассмеялся, мы испугали тетку, идущую следом за нами, этим смехом, она так смотрела на нас, как на придурков (которыми мы, собственно, и были – два влюбленные придурка из райцентра). И вот знаете что? Это было хуже всего в тот первый день. Вот этот вечер в Сумах на мосту – мне казалось, что на каких-то перекрестках и пересечениях вселенных этот вечер навсегда останется. Что эти вот космические Сумы будут хранить наши с Ильей как будто отражения, как та река, пусть сами силуэты, но и этот смех наш, поцелуй, объятия и влажные глаза Ильи, закат после дождя, раскаленный янтарь, обрамляющий тучу. И вот теперь какие-то ничтожества с отмершими сердцами рвались к этому городу на проржавевших вонючих машинах, чтобы стереть воспоминания о всех влюбленных парах и всех поцелуях и добить всех маленьких мальчиков, которые не умерли.
***
В общем и целом, было паскудно, но я чувствовал, как мое внутреннее второе сердце отводит на периферию сознания всю эту горечь, как бы продолжая говорить мне: «Никаких рефлексий, только дэнс!» Танцуй. Я после Вити тут же написал Вите, той, которая девушка:
- Как вы там?
Она ответила тоже письменно, довольно быстро, была онлайн.
- Едем домой с Сашей. Он выехал из Киева на электричке, чтобы я не ехала. Сейчас он за рулем, едем домой.
- Нормально все?
- Дохера техники. Проехать тяжело, но Саша лучше тут знает дороги, чем я. А навигатор барахлит, Саша сказал, возможно, глушат джипиэс. Как там вы? Уже, говорят, на Сумской трассе идет бой.
На Сумской трассе? Блядь.
- Пока нормально. Мы слышали взрыв, но далеко.
- Свекор тоже слышал. Говорит, что в Дубовязовке.
- Да, где-то там, в той стороне.
- Кто говорит – железка, а кто – что нашу установку ПВО бомбили.
- Тебе удобно переписываться?
- Да! Саша ведет, ползем, как черепахи. Тебе передает привет.
- Спасибо, ему тоже.
Сообщение в вк, еще одно. Меня скоро трясти начнет от этих звуков. Вита больше не писала, и я посмотрел.
- Вас зазомбировали всех. Не понимаешь ничего и умничаешь.
Он что – реально квасит?
- Ты бухой?
Хотя вот это «умничаешь» очень его. Почему его всегда так бесило, когда я витиевато и пространно выражался? Или начинал судить о чем-то сколь-нибудь значительном? Хз. Меня дико раздражал в нем этот непонятный понт, бравада. Впрочем, типичная бравада для абъюзера – они же часто себя носят дома как миллионеры и успешные успехи… Быть может, это что-то в духе компенсации какой-то.
- Не хами.
- Перестань нести чушь.
- Это Америка натравливает вас на Россию. Знаешь, что такое золотой миллиард?
Пиздец. Пиздец, пиздец, пиздец.
- Это план по завоеванию Америкой мира. Россия не воюет с Украиной – мы один народ. Спецоперация направлена против бендеровцев, которыми руководит Америка.
- Пап, что ты хочешь?
Я просто уже устал охуевать. Если он там реально бухает, то лучше я его в ЧС закину, на денек, и все. Короче, я помню, что таки закурил сигарету, но, сделав пару затяжек, выбросил ее просто во двор, чего, кстати, обычно не делал. Как-то быстро серело, или мне так показалось. Бренькнуло очередное сообщение.
(имейдж) Знаешь, что это?
Я написал:
- Бафомет Леви.
- Что?
- Это статуя, изображающая Бафомета, из рисунка на карте Таро Элифаса Леви.
- Откуда ты знаешь?
- Прочитал в интернете.
- Это статуя Сатаны.
- Нет, папа, это Бафомет, придуманный Элифасом Леви. Был такой французский мистик девятнадцатого века. На одной из своих карт таро он изобразил вот это антропоморфное существо – видишь, у него тело женщины, а голова козла, там, видишь, сиськи? Это типа символ плодородия, а на руках, не знаю, есть там, там должны быть слова РАСТВОРЯТЬ и СОПРЯЖАТЬ – это алхимическая тема, ну, стилизация.
- Откуда ты это знаешь?
- Говорю – прочитал в интернете.
- Но это дьявол.
- Папа, это Бафомет Леви. Леви поместил его на карту таро, называющуюся Дьявол, но с тем же успехом он мог поместить туда что угодно, это было в девятнадцатом веке. Вообще же Бафомет – это предполагаемый идол, которому поклонялись рыцари-тамплиеры в допотопные времена, некоторые расшифровывают это слово как обратный акроним «Настоятель храма людей», но, скорее всего, это просто исковерканное Магомет, в смысле который пророк. Но никакого изображения этого идола не существует – его придумал Леви из головы в девятнадцатом веке.
Вся эта ситуация была насколько сюрной, что я тупо погнал дуру. Ну а как бы вы реагировали? Он действительно прислал мне фотку со статуей Бафомета, вокруг которой толпились люди. А иногда ты бываешь насколько охуевший, что тупо ролфишь, что ли, ну, вот когда бухой или на эмоциях – вот так и я толкал ему ту лекцию письменно, но это мне труда не составляло, я быстро печатаю на смартфоне.
- Это фотография с собрания миллиардеров в Америке, там они поклоняются этому.
- Пап, никакие миллиардеры не могут этому серьезно поклоняться. Повторяю – это выдумка таролога из ХІХ века. С тем же успехом можно поклоняться Морготу.
- Кому?
- Никому.
- Это дьявол.
- Нет, это Бафомет Леви. Пап, что ты хочешь?
- Американские миллиардеры служат сатане, Рокфеллеры и Ротшильды, и Сорос. Они хотят уничтожить Россию.
Вы понимаете – было бы полбеды, если бы оно было лахтованское, но оно было какое-то тупо бабсраковское, из какого он телека это тащил, я не знаю. Но меня уже несло.
- Зачем? – спросил я.
- Что?
(Нет, он реально подвыпивший, готов забиться).
- Зачем они хотят уничтожить Россию?
- Потому что это православная страна.
Я, тяжело хромая (я особо хромаю, если долго стою и сижу, а потом начинаю идти – потом расхаживаюсь постепенно), спустился во двор, подобрал тот бычок и кинул в пепельницу – баночку под крыльцом.
- Даже враги России называют нас православными, признавая, что мы правильные христиане.
- Пап, они нас называют ортодоксами. Православные – это самоназвание, как петля Нестерова.
- Какая петля?
- Фигура высшего пилотажа в виде петли, которую называют петлей Нестерова только в России. В англоязычных странах ее называют просто луп, в смысле, петля. Короче, что ты хочешь?
- Почему ты злишься?
- Папа, потому что нас бомбят. А ты мне шлешь какую-то ерунду.
- Россия никого не бомбит – это ваша пропаганда.
- Я своими ушами слышу.
Он молчал с минуту.
- Это нацисты.
- Какие нацисты?
- Нацистские батальоны.
- Что нацистские батальоны?
Тут он впервые прислал мне перепост из паблика, и я примерно понял, где он это берет, хотя без телека, видимо, все-таки не обошлось. Но я, бегло просмотрев, понял, что и этот паблик тоже в основном постил что-то из телека, типа педерач Михалкова. Там была такая, знаете, публикация об «Азове», ну, как в пабликах бывает – фотки (в основном мужчины в форме со всякой символикой типа «идея нации» и прочий вольфсангель), видео (я его не смотрел) и текст, уже не помню точно, типа «неонацистский полк азов, история» – там были всякие кулстори про убийства русских и бомжей, короче, я не вникал. Должен еще заметить, я эту переписку восстанавливаю по памяти, потому что удалил позже вместе с приложением вк, остались несколько скриншотов, которые я слал Владе и Илье (и даже пару Вите, той, которая, девушка, ну, Сашина). Но поверьте, что я не то что не утрирую эту муру, я даже сильно смягчаю: оно реально было словно с тех видосов про пыпу – президента мира.
- Что это? – спросил я.
- Это нацистские ублюдки.
- Папа, я не знаю, кто на этих фотках, но полк «Азов» – это подразделение Нацгвардии Украины. И я бы попросил не выражаться сейчас в их сторону, т. к. они защищают меня от твоих православных друзей.
- Ты что, нацист?!
Тю, еб… Но не скрою – это даже меня как-то веселило, было в этом что-то ебанутое, прикольное, тем более в такую минуту, когда реально земля уходила из-под ног и, ну, хотелось хоть как-то развлечься. Моему внутреннему зверю, кстати, это нравилось.
Отец прислал сообщение почти сразу за тем:
- Ты не знаешь этих нелюдей, это нацистские ублюдки, нечисть! Если бы ты с ними столкнулся, то так бы не говорил.
- Папа, я не спорю, что из полка «Азов» я вроде никого не знаю. Я знал пару челов из «Патриота Украины» и впоследствии правосеков, но шапочно.
- Где ты мог их узнать?
- В Конотопе.
- Почему ты врешь?
- Что вру? Тебе пофамильно назвать? Один пацан играл со мной в футбол, не из нашей школы, но ходил с нами на стадион. С другим я просто познакомился случайно – пересеклись в одной компании. Короче.
- Ты врешь.
- Почему?
- Ты все время сидел за компьютером.
- Папа, помимо этого, я играл в футбол в школьной команде и в последний год перед инвалидностью регулярно приходил домой около пяти утра. И если ты этого не помнишь, то это вытеснение, а может, отрицание, но это отрицание того, что тебе просто было похуй на меня, но речь щас не об этом.
- Перестань материться.
- Поуказывай мне еще.
- Перестань со мной так разговаривать! Все, что у тебя есть, – заработал я.
- Что, например?
Он молчал минуты две. Меня трясло. Ну да, меня трясло. Я не совру вам, если скажу, что этот разговор вывел меня из себя сильнее, чем вторжение в мою страну. И это не фигура речи.
- Я поставил тебя на ноги.
- Спасибо.
Ну а че я должен был отвечать? Но его это вывело.
- Ты ни на что не способный бездельник. Лентяй. Иждивенец. Ты всегда жил за мой счет! Все, что у тебя есть, дал тебе я. Я зарабатывал всю жизнь, а ты сидел на моей шее. Твоя мать тебя разбаловала, ты как баба.
Я часто думаю, что этот разговор весь, может быть, не мог случиться без этой войны. Может быть, я никогда ему бы прямо не сказал то, что сказал дальше. Я не знаю. Возможно, был бы какой-то другой разговор. Возможно, все бы было по-другому, но я стоял тогда под коттеджем, и помню одно – тишину. Я даже, кажется, cлышал скрип сосен в лесу. Шоссе немо молчало, понимаете? Я вдруг подумал: далеко ли отсюда до Краснополья? С какой скоростью движется мотопехотная бригада?
- Знаешь, в последнем ты, может быть, прав, – написал я ему. – Во всяком случае, уже два года у меня роман с прекрасным парнем. И я счастлив с ним – как баба или нет, не знаю. Я влюблен в него без памяти. И я сплю с ним – и как баба тоже.
- Ты врешь.
Вот не помню, быстро ли он прислал это «Ты врешь», – после данного откровения время для меня как будто остановилось.
- Нет, не вру. Если хочешь – пришлю тебе фотки, где мы с ним целуемся.
Я бы, может быть, реально прислал эти фотки, у меня они были прямо на карте на смартфоне. В основном там были наши поцелуи и засосы, сфотканные Владой, но было несколько и селфи, например, мне нравилась одна, я прилепил ей черно-белый фильтр, там я сосредоточенно фоткаю себя с помощью селфи-палки, а Илья нежно целует меня в щеку. Но я не успел их послать – он написал:
- Ты мне не сын.
Я отозвался сразу:
- Хорошо, только на квартиру губу не раскатывай, ладно? Она числится на мне, если ты вдруг забыл.
Она реально числилась на мне – это было то немногое, что они сделали для меня с умом, впрочем, у меня есть предположение, что мать заблаговременно таким образом решала имущественные вопросы на случай вероятного уже развода. И, в принципе, что-то такое и получилось, она ведь осталась со мной, а он ушел, по сути, ни с чем, ну, такое.
***
Я видел, что он прочитал, но не отвечает. Затем он позвонил. Я сбросил и внес его номер в чс.
XIX
Я уже думал пойти в дом, когда мне написал Витя.
- Слышим стрельбу.
- Автомат? – быстро спросил я.
- Типа да.
- Не подходите к окнам.
- Та я понял.
К чему я это все – «не подходите к окнам»? В кино видел? Хотелось не молчать, а чем-то помогать, хоть чем. Этот Витя был мне лучшим другом. А вы знаете, почему он остался моим лучшим другом от самых школьных лет и до теперь? Отец ошибался – в юности у меня был довольно широкий круг общения. Какие-то собутыльники, футболисты, какие-то левые челы, компании… Но вот одно из горьких разочарований – когда я попал в больницу, они очень быстро исчезли. Я впервые остро ощутил то, что называется стигматизацией калек; эти люди не то чтобы ненавидели меня или брезговали мной – я как бы не дарил им положительных эмоций, что ли. Вот эти все компании, тусовки и т. д. – они о положительных эмоциях. Кто-то крутой, кто-то веселый, кто-то, может быть, влиятельный. И все друг к другу тянутся. А я теперь был чем-то, от чего они хотели отвернуться. Им не хотелось как бы думать о плохом. Это было неприятно, но я с этим быстро смирился. Но вот у Вити остался какой-то мной трудно понимаемый интерес ко мне. Мы вроде бы и не были в школе какими-то очень закадычными, к примеру, моя футбольная тусовка не особо пересекалась с его компанией, и мы тогда были чем-то вроде просто очень давних хороших знакомых. Но он всегда как будто… Не знаю, он как будто тихо радовался моей социализации и спортивным успехам, не знаю почему, но было такое чувство. А потом, уже в больничках, он не отвернулся от меня – что говорить, если это именно он организовал тот визит одноклассников ко мне, лежачему, в больницу и потом еще приводил их, когда я уже был дома и ходил на костылях. Он иногда звонил мне или писал, когда я лежал в Сумах и в Киеве. Когда потом он сам учился в Киеве, мы на некоторое время отдалились. Впрочем, там была другая причина, я сам виноват. Витя обиделся, когда я не пришел к ним на выпускной. Там была муторная история, я же говорил, что сдавал экзамены в другой школе, как раз перед тем у меня была в Киеве операция на кисти. Ну и, помню, когда они уже готовились к выпускному, Витя как-то спросил:
- Ты же придешь?
Я сказал:
- Нет.
И он, помню, ну, знаете, начал в таком духе, типа, «что ты начинаешь, конечно, придешь», – а когда я начал заливать, что типа не учился с ними тот последний год, он так немного возмутился, но не сильно, по ходу он это не воспринимал всерьез, ведь у меня вообще была эта манера поломаться. Но ближе к выпускному, когда я еще несколько раз сказал, что не приду, он вышел из себя. Я помню, мы стояли с ним на перекрестке, ждали светофора, я уже тогда, кажется, вообще ходил без трости, я первые года три-четыре довольно много ходил без трости, а может быть, и с тростью я там был, но, кажется, трости не помню. И вот мы ждали светофора, и Витя настолько вышел из себя по поводу очередного моего нет, что мы пропустили уже несколько зеленых. Сначала он мне тупо и как-то очень упрямо доказывал, что типа: «Ну и что, что ты не учился последний год, тыры-пыры, к чему ты это вообще?» Потом я сказал, что пить не буду, а тогда какой смысл мне идти, если все будут пьяны, – он сказал, типа, не так уж и будут пьяны, ну, хоч, я тоже пить не стану, – типа в прикол он это сказал. Потом, когда я ему прямо сказал, что мать не хочет, потому что я сдавал экзамены в другой школе, и она на эту тему поругалась с нашей директрисой, то он вспылил, обматерив и директрису, и ту другую школу (чуть не обматерил и мою мать, но во время сдержался), а потом, я это запомнил, сказал мне примерно следующее. Вот он посмотрел мне в глаза и сказал:
- Ты понимаешь, что мне… Что мне насрать, будет там эта Ленка Чусова, Скелет или Малега. Но мне важно, будешь ли там ты.
Я помню, он с волнением это сказал. Но я был непреклонен. Мы с ним не поругались или что-то в этом роде, даже дальше пошли вместе, куда там нам надо было, я уже не помню…
Но после того выпускного наше общение как-то угасло. И вы знаете – мне жаль, что я не был на том выпускном. Это было не мое решение, а матери (конечно же, поддержанное отцом), но я, пожалуй, искренне считал его своим, ну, потому что когда ты калека и более, чем прежде, зависишь от родителей, то ты психологически по типу привыкаешь к этой власти, и сам уже начинаешь считать ее чем-то естественным, и сам начинаешь считать их решения собственными. Я теперь понимаю, что дело там ни в какой не директрисе. Дело в том, что матери было стыдно. История с моей попыткой суицида стала притчей во языцех в городе. Что говорить, если даже по прошествии лет я встречал людей, которые, удивляясь, говорили: «Это ты тот парень?» – а один раз, щас это кажется мне забавным, но тогда очень смутило, я шел проулком вечером, даже без трости, ну, слегка прихрамывая, и разминулся с троицей подвыпивших типов, никого из которых знать не знал ни в какой мере и даже, кажется, вообще впервые видел. И вот они со мной разминулись, а потом один мне в спину пьяно заорал: «Эй, Бетмен, больше не летаешь?!» – и они втроем, заржав, как те гиены, скрылись за поворотом, когда я оглянулся. И вот вообразите – как бы мое появление обсуждалось на том выпускном. Но матери было важней всего, как будут обсуждать ее. Возможно, скандалы с отцом и романтические стори с любовниками казались ей прикольными и КРАСИВЫМИ темами для обсуждений посторонними людьми, а вот сын, самоубийца-инвалид – нет. Это было не сильно красиво, наверно.
Но с Витей этот выпускной нас разругал, хотя самой-то ссоры вроде бы и не было. Он учился в Киеве, и мы почти не общались, так, списывались пару раз, по мелочи. Он не звал меня на свою свадьбу, но неожиданно позвал на новоселье где-то через месяц после свадьбы. Причем и новоселье, как оказалось, отмечалось за неделю до того, но меня тронуло, что он по типу специально меня позвал одного, чтоб без шумной компании. Он познакомил меня с женой, он очень трогательно был в нее влюблен и, помню, так картинно меня к ней приревновал, когда мы что-то обсуждали с ней, пока он отошел за чем-то. Потом мы выпили вдвоем, потом пили втроем, потом, помню, пьяные сидели у него на лестничной клетке ночью и обсуждали войну. Но нас не тянуло на приключения, помню это чувство, что мы напились типа уже по-взрослому, лишь раз вышли из дома в ночной магазин за пивом догнаться, а потом я вызвал такси и поехал домой. Потом была эта история со сватаньем, потом я познакомился с Ильей. Знал ли он, что мы с Ильей пара? Я думаю, да, но этот вопрос между нами никогда не поднимался. Я помню лишь один случай чего-то близкого к такому – когда мы еще раз напились с Витей, кажется, по поводу его днюхи, опять же после днюхи, это опять было у них, и как-то слово за слово, уже поддатый, он что-то начал – что ездил со Светой на море в Одессу, а я сказал, что я эти курорты не люблю, и вот, не очень помню, во хмелю он ляпнул типа «съездили б с Ильей куда-то, не?», – причем это звучало даже не как подколка, а как, ну, знаете, такое типа дружеское похлопывание по плечу, мне кажется, Витя сам не отбил, что что-то не в тему сказал, это просто мне запомнилось. Я позвал его на презентацию Влады в Конотопе, их двоих со Светой, и там было забавно, что, кажется, именно Света восприняла нас с Владой как пару. Ну, это сложно объяснить, но, знаете, у женщин есть такое, когда они как бы своим поведением сообщают: «Я знаю, что вы пара». Я иногда размышлял над тем, что, наверное же, они обсуждали наш со стороны Вити предполагаемый роман с Ильей? И почему теперь Света как бы радуется, что мы с Владой пара? Иногда мне в этом виделось какое-то женское чувство собственничества, ну, типа, «наконец-то он прибран к рукам моей систы по полу, отлично», хаха. Но, может быть, дело и не в этом, а в том, что Света вот всегда немного как бы стеснялась именно Ильи, ну, так при нем немного вроде бы робела – я, честно сказать, списывал это на его привлекательность, он нравился женщинам и, кажется, даже его некоторая отстраненность и легкая холодность нравилась женщинам, нравилась и немного смущала. А Влада, типа, может, была ей более понятна (хотя вот знала бы она поближе эту совершенно потустороннюю сущность в человеческом облике, хаха). Но в любом случае я вот чувствовал от Вити, да от них со Светой обоих опять какую-то тихую радость за меня, и это меня грело. И вот я начал с того, что пытался объяснить, почему Витя мой лучший друг. Да потому, что он как-то умел быть, с одной стороны, ненавязчивым, а с другой – его постоянный ненавязчивый интерес ко мне постепенно меня растопил. Может быть, это с моей стороны немного и эгоистично, что большая инициатива в дружбе исходила от него, но все же вот я писал ему тогда в феврале и пытался хоть чем-то помочь, значит, возможно, я не такая уж и эгоистичная сволочь, а?
***
- Блядь, что-то взорвали по ходу, – написал он мне почти сразу за этим.
- Что там? – написал я, тупо не понимая, что еще написать.
Он не отвечал с полминуты, потом написал:
- Не знаю. Грохот был большой. В районе военторга дымный столб стоит и валят из чего-то крупного по ходу.
Я смотрел на эти строчки сообщений, затягиваясь сигаретой, и в этот момент понял, что не заметил, когда достал и поджег эту сигарету. Я написал:
- Вить, если что, то ты мой самый лучший друг.
И нажал отправку.
- Та ладно, не гони, – ответил он.
- Я искренне.
- Та все нормально будет)
- Да, дай бог.
- На связи!
Я тыкнул в другую иконку и написал Вите, которая девушка:
- Вит, где вы?
А потом добавил:
- Кацапы уже в Конотопе.
Она ответила почти сразу:
- Мы видели. Попали в перестрелку.
- Как вы? – спросил я.
- Все нормально, мы под Гирявкой, тут пробка. Саша пошел смотреть, что там с мостом, тут люди говорят, взорвали. Я в машине жду.
Я, блин, даже этот мост не сразу вспомнил. Вот сколько ездили, а не особо замечал, ну, я-то за рулем ни разу не был и дорогу не запоминал особо. Там был такой мосток возле почти соседнего села, бетонный, через заболоченную обмелевшую речушку.
- Может быть, придется ехать через поле, – отписалась Вита.
Затем она прислала мне голосовуху, голос был взволнованный, но наподобие того утреннего, не столько испуганный, сколько оживленный такой. Вернее, и испуганный, конечно, но от испуга оживленный, наполненный адреналином, понимаете?
- Мы как заехали в город, там возле сельхозтехники на остановке еще наших солдат полно толпилось, и грузовики стояли. А потом в центре уже слышали стрельбу. Короче, мы возле трамвайного парка тот перекресток проезжали, знаешь? Мы быстро ехали, я даже не врубилась – выскочил солдат на перекресток, наш, споткнулся посреди дороги, чуть не упал, Саша по тормозам… И, короче, он вот так за столбом сныкался, какое-то ружье большое у него, мне Саша говорил, по типу снайперского, я уже забыла. Короче, он за столб с этим ружьем, и тут мы трогаемся – прямо перед нами очередь по этому столбу, ты представляешь, от него куски аж полетели, Саша голову мне вниз пригнул рукой и по газам, я и не видела, как мы проехали.
Еще одна голосовуха.
- Я спрашиваю, кто по нему стрелял, он говорит – кацапы. Говорит, от военторга двигались, от ЦРБ, оттуда. Он их видел. Спрашиваю – много? Говорит, что да. Мне все интересно, что с тем парнем стало… О, Саша вроде возвращается.
- Напиши, как вы приедете, – отправил я.
Потом подумал и добавил:
- Или заедьте в гости.
Она ответила почти что сразу.
- Да, конечно. Саша говорит, что вроде взорван мост, но он не видел. Говорят, что наши, может быть, взорвали, когда отступали.
Отступали…
- Поедем по полю.
Мне сложно воссоздать свои эмоции тогдашние. Конечно, волчье сердце билось и заступало собой то обычное и вялое. Но эти новости немного вернули рефлексию, самую малость, и я знаю почему – из-за некоего удивления. Я все-таки не думал, что они прорвутся в город уже к вечеру. И теперь я где-то на периферии сознания думал вот о чем. Я увидел конец своей жизни в двадцать с небольшим лет. Вот моя жизнь была предо мной, и она, как книжка или песня, приближалась к завершению. В пятнадцать лет в реанимации я все-таки не думал, что умру. Ну, то есть, думал, конечно, о подобной вероятности, но в моих силах было не загоняться по этому поводу и цепляться за жизнь своей волчьей вот этой натурой. И это, конечно, был какой-то другой извод жизни, мой личный. Я был одним из подголосков в песне, которая с моим исчезновением не завершалась. Я помню, как, просыпаясь ночами уже в хирургии, на первом этаже железнодорожной больницы (я числился в травматологии, но меня не решились тащить по лестнице и из реанимации отправили в хирургию), я слушал город вокруг себя. Там рядом был частный сектор, и я с интересом прислушивался к ночному лаю псов во дворах, по своему обыкновению пытаясь представить и эти дворы (некоторые я помнил) под светом желтоватых фонарей, и жизнь людей в этих дворах, и это было чувство единения с городом, который я не хотел бы променять ни на что в мире. И я понимал, что с моей смертью завершится моя личная история. А город будет жить. Будут какие-то еще истории, истории, истории, и что с того, что эта несчастливая? Ведь будут и счастливые. На одну мою неразделенную придется семь или семьсот разделенных любовей. На одну мою смерть придется восемьсот рождений. А даже если смерти будут перевешивать рождения, то город еще долго будет жить. Вот этой Слободе более двух сотен лет. Когда-то рядом с ней было довольно крупное древнерусское поселение. Оно было разрушено монголами, но я читал, что эта болотисто-лесистая местность давала пристанище многим беглецам от ига, люди занимались здесь промыслами и существовали благодаря пролегающим рядом торговым путям. В четырнадцатом веке эта территория была освобождена литовскими войсками князя Ольгерда. С тех времен эти земли входили в состав Великого Княжества Литовского, которое впоследствии объединилось с королевством Польским в Речь Посполитую. Восстание Хмельницкого отторгло эти земли у Речи Посполитой, а после тяжелого поражения под Берестечком масса людей бежала на Левобережье, создавая Слободскую Украину. Местная Слобода формально не была ее частью, но ее тоже основали правобережные казаки после поражения под Берестечком. Родина моей матери – село Красный Колядын – имело похожую историю, его в тридцатых годах семнадцатого века основали польские магнаты местного русинского происхождения. Потом оно долгое время даже было центром сотни Прилуцкого полка, забавно, что один даже, возможно, мой какой-то далекий предок был сотенным есаулом там, во всяком случае, у матери в девичестве была та же фамилия, что и у него. Ну а вы думаете, откуда у Влады в «Ведьме» появились эти есаулы и собственно Колядын? Мы с ней вдвоем исследовали в интернете мою генеалогию – впрочем, это все, конечно же, фигня, потому что фамилия у меня по матери хоть и немного на польский манер, но не такая уж и редкая, в окрестных селах было немало людей с такой фамилией, мне родственниками не являющихся, ну и мать, естественно, ничего о настолько древней истории не знала, как и мои немногочисленные родственники в Колядыне. Мать рассказывала, что ее прапрадедушка был гусаром и служил в Польше, а потом участвовал в Первой мировой и в гражданской, даже будто бы на стороне петлюровцев, но это не точно. В любом случае, я не слишком всерьез принимал эти разведки относительно моей генеалогии, а когда Влада удивлялась этому, то говорил, что эти все военные меня не трогают и жили черте-когда, но вот моя прапрабабушка из Красного Колядына, дочь этого полумифического гусара, говорили, была знахаркой, выливала людям переляк и лечила заговорами, вот это меня вдохновляет немного, а эта политика – не.
- Значит, ты врожденный колдун? – стреляла в меня Влада изотропными глазами.
- Та ладно, я прикалываюсь, тогда каждая вторая баба была знахаркой, – отмахивался я. – Почему ты так смотришь?
- Колдун.
- Не смотри так. Перестань, – она меня смущала. – Какой же я колдун, если бессилен перед твоими чарами? Ты дура. Ты прекрасна.
С Владой я сделал немало великих открытий, одним из которых было то, что мы можем вдвоем… Это довольно сложно объяснить, но, скажем, во многих средневековых алхимических трактатах, в том же Розарии Философов, великое делание изображается через союз Короля и Королевы – сульфура и меркурия, причем именно буквально как любовная поэма – вот они встречаются, влюбляются и спят с друг другом, постепенно превращаясь в ребис. И с Владой я испытал именно вот это – как процесс познания всецело наполнялся сексом, грубо говоря, что можно учиться и делать некие открытия в союзе со своей девчонкой, вместе, постоянно при этом любя, наслаждаясь друг другом. Не в том смысле, что с Ильей я не наслаждался, но я бы сказал, возможно, так, что наша с Ильей центробежная сера всецело замыкалась на друг друге в высшей точке, позволяя нашим каплям ртути слиться в том блаженнейшем экстазе, понимаете, как я и говорил, порыв, пульсация – сера к сере, до основ испепеляющая сущее и в первую очередь сама себя, столкновение ртути, слияние ртути, «Илья, я люблю тебя!», высший восторг и наполненность смыслами, счастье. Затем постепенное вновь возгорание серы и вновь… Ну, короче. Пульсация, циклы. А Влада? Это состояние. Вот я смотрю… и господи – сплошная ртуть! Так много ртути, вожделенной ртути, которую я жажду сжечь или погаснуть в ней навеки, растворившись в ней… Но понимаете, что будет, если я ее сожгу или исчезну в ней? Что я встречу, вы же догадались? Серу. Я буду жечь ее собой в этом мужском и своевольном бешенстве, «ты вся моя, ты обратишься в пепел, потому что я хочу тобой насытиться, ты моя вещь, ты несубъектна, ты ничто, заткнись, гори, ты пепел, пепел, я хочу, чтоб от тебя остался пепел», – и вдруг из пепла ртути вырывается ЕЕ сульфур! Я в замешательстве, мой дотлевающий костер почти погас, и я не понимаю…
- Кто ты? Кто ты? – говорю я, еле существующий. – Да кто ты, Господи, кто ты такая?
- Я та, что влюблена в тебя, – вдруг говорит она.
Испепеляя мою внутреннюю ртуть.
И я кричу, сгорая в этом пламени:
- Я весь твой, обрати меня в пепел, пожалуйста, насыться мной, я твоя вещь, я несубъектен, я ничто, испепели меня, я твой, я жажду обратиться в пепел, пепел…
И пока я шепчу «пепел, пепел», я вижу, как она, скажем, заснула на моем плече, обняв меня одной рукой, и во мне возгорается такая неимоверная нежность к ней, я наполнен, как и с Ильей, я люблю ее, как и Илью, но во мне разгорается нежность, понимаете – там затлевает сульфур. А от ее костра уже осталось тающее зарево, на которое ртутными тучами наползает ее женственность, короче говоря, с ней из моей серы как бы рождается ртуть, а из ее ртути сера, а с Ильей от соприкосновения наших сер высвобождается наша с ним внутренняя ртуть, это у нас с Ильей напоминает некое столкновение, и поэтому это цикл, возгорание, взаимное испепеление, высвобождение… А с Владой это некие качели, и поэтому это процесс и состояние, он постоянен, понимаете, – ее ртуть испепелилась моей серой, значит, моя капля ртути беззащитна, и ее внутренняя капля серы, разгораясь в пламя, уже стремится к ней… А если она изначально погасит меня, то будет наоборот, но суть та же, ее ртуть соприкоснется с моей, как у меня с Ильей, и она будет шокирована этим так же, как и я, она может спросить:
- Богдан, почему ты настолько похож на меня? Боже, ты совершенно как я! Я люблю тебя…
То есть, понимаете – она откроет беззащитно свою внутреннюю серу, и уже я растворю ее, теперь я растворю ее…
Короче говоря, это же у Влады происходило и с Ильей, я видел. Может быть, с той разницей, что (ну, мне так казалось) у них это получалось, может, более естественно и органично как-то, без такого надрыва, надлома, как-то более легко. Хотя об этом лучше им самим судить. Я же скажу о нас – вот эти наши с Владой исторические разведки были прекрасны тем, что, скажем, рассуждая о некоем мифическом воеводе по прозвищу Коляда, который был насколько кровавым, что его обиталище со временем прозвали Красным Колядыном, мы могли начать произвольно целоваться. Или, например, Влада могла показаться мне уж совсем сверх всякой меры красивой во время чтения мне лекции о Магдебургском праве, и я мог взять ее, а потом, как ни в чем не бывало, взмолиться:
- Так, продолжай, пожалуйста, мне дико интересно!
И мне действительно было все это дико интересно, понимаете? Наша влюбленность наполняла нашу науку жизнью, кровью, сульфуром и ртутью, и мы радовались этому, как дети. Конечно, главным ребисом в данном случае была Владина книга, но был и этот осадок в виде моей образованности, а пуще всего меня удивляло, да, пожалуй, вот это – наслаждаясь друг другом с Ильей, мы были замкнуты на друг друге, а замкнувшись вдвоем на Владе, мы как бы… я не знаю, ну, вот она нас причесала, что ли, прибрала к рукам нашу взрывную серу, как бы нас цивилизовала и огранила, не знаю, да, вот она обуздала в нас вот это взрывное мальчишество, способное спалить весь мир, которым мы в друг друге наслаждались, ничего вокруг по сути и не видя, или особо тем вокруг не интересуясь, но она сделала это как-то совсем по-другому, чем мне представлялось, это не была какая-то удушающая токсичная женственность, как мне рисовалось, это было вот тоже – это когда такая ДЕВОЧКА подходит к вам двоим, купающимся в собственной сере и лелеющим свои внутренние капли ртути, такая девочка, вся ртуть-ртуть-ртуть, наверно, хочет погасить нас, да, конечно, сейчас же, и тут она такая, знаете, как будто сердечко перед нами раскрывает, а это сердечко серное, оно сплошное пламя.
- Ты что, мальчик? Почему ты серная внутри? – как бы удивляемся мы.
- Не, я девочка, но внутри у меня сера, да. Я вас люблю.
- Мы тебя тоже, ты красивая. Позажигаешь с нами?
- Да, немножко. Только давайте все не жечь, тут много чего есть хорошенького – солнышко, цветочки, звери…
- Да, как скажешь.
И вот мы все втроем пылаем в этой сере, и мы с Ильей чувствуем, что мы влюбляемся без памяти в эту девочку. Это какое-то новое чувство, но очень приятное. Она не наш антагонист, она как будто бы наша сестренка – то, чего нам раньше не хватало.
- Хочешь чего-нибудь, сестренка? – спрашиваем мы, уже даже себе не удивляясь.
- Да, на ручки, – говорит это невозможно прекрасное существо. – И домик, и цветочки, и быть вашей женой.
- Да, выходи за нас. Потом построим домик.
- Вы на меня не сердитесь, что я не сильно жгу?
- Нет, у тебя внутри огонь. И нам почему-то тоже уже хочется просто пообниматься.
- Мы завтра сожжем что-нибудь еще! Хотите, полежим, и я вам расскажу, что жгла вчера, пока вас встретила?
- Давай.
- Вот вы знаете, что такое магдебургское право?
- Нет.
- Хотите, я вам расскажу?
- Да, очень.
***
И вы, наверно, спросите, зачем я снова погрузился в эти сладкие воспоминания и умопостроения. Сейчас я попытаюсь объяснить. Возле районного исполкома в Конотопе есть место, где можно буквально прогуляться по древнему оборонному земляному валу, который защищал город еще во времена его осады в 1659 году. Если не знать, что это такое, можно подумать, что это просто цепочка холмов, почти как в Сумах, только меньше, но если знать, что ищешь, и с этим знанием увидеть линию в этой цепи холмов, то ты увидишь вал. В этом валу при раскопках даже в 1990-е находили пушечные ядра, которыми московские войска обстреливали город в семнадцатом веке. Мы с Владой лазили по этому валу еще в то карантинное лето, и один раз она, запутавшись в траве, упала и чуть было не покатилась вниз, смеясь, она не ушиблась, но испачкалась, я, помню, отряхивал ей джинсы, и вот… Слушайте, это вновь-таки как озарение, для описания которого чрезвычайно трудно подобрать слова. Вы понимаете – карантинное душное лето 2021 года. Древний конотопский оборонный вал, на котором стоит твоя любимая и самая красивая девчонка в испачканных джинсах. Она, кроме того что самая красивая, еще и гениальная и просто в это лето сочиняет книгу о времени восстания Хмельницкого в этих местах, и вы с твоим и ее любимым парнем помогаете ей, как только возможно. А как иначе – вы ведь оба влюблены в нее. Наша любовь, наши свидания, наш секс и наши разговоры. Туманная река перед рассветом оглашается русаловыми песнями. Которые даже можно расслышать сквозь утреннюю дрему. Яков Сомко едет сквозь вьюгу по степи в семнадцатом веке, он сворачивает в место, где на закате советской эпохи родилась на свет моя мать. Волки смотрят издали на одинокий огонек в оконце хаты на краю заснеженной степи. И уже иные, а может быть, те же волки смотрят на окно мансарды из сосновой чащи рядом с заброшенным пионерлагерем во втором десятилетии двадцать первого века. Персеиды проливаются сплошным потоком в наши наполненные похотью заплаканные сны. Струятся галактические нити Владиных волос. Мы слушаем о магдебургском праве, а потом я вспоминаю заговор, который в детстве мне шептала мама. Ветер стремится вослед поездам, приближается осень. На лысых горах тлеют ведьмины костры. И я един в этой вселенной, я сосна под предвесенним ветром, я влюбленный и любим, я в объятьях парня и девчонки, я чувствую их поцелуи, я часть нескончаемой песни, и песня во мне. Мое праславянское имя, мои польская и украинская фамилии, мои зеленые глаза, моя судьба, мой город и моя история. А теперь, на провесне двадцать второго года, мне придется умереть. Потому что ко мне движется Батый. Я часто думал о том страшном времени, отбросившем наше развитие назад на несколько столетий, и только теперь я, кажется, воочию увидел, как это бывает. И первое, чему я удивился – отсутствию страха. Не то чтобы его и вовсе не было, но он был насколько третьеразрядным делом, что о нем и вспоминать не хочется, это как боязнь вползания этой толстой иглы в позвоночник – секунда, и все совершилось, нелепый, накрученный страх. Что же важнее всего? Важнее всего то, что смерть не перечеркивает жизнь. Смерть рано или поздно все равно придет. Да, нам хотелось бы, чтобы она случилась в далекой и ласковой старости и была тихой и сладкой, как мечталось Татьяне Ефименко в преддверии страшного краха ее страны и жизни. Но ее зверское убийство отменяет ли ее прекрасные стихи? И должна ли она была отказаться сочинять их, если бы узнала, что все равно придет некий Батый и сожжет все ею сотворенное? Он все равно придет – вот что. Будет ли это обезумевший уродливый старик в бетонном бункере, шарахающийся от собственных теней, или некий новый иероглифический интернационал, вооруженный микроэлектроникой и эпидемиями, будет это западный Калигула в закатных лучах обреченного Рима, а может быть, их будут десятки, и сотни, и тысячи. Может быть, вовсе не люди, а бесы распада культур потребления, призраки бунта низов и верхов, болезнетворная бацилла из дельт Ганга и Меконга, перенаселение, глобальный голод, новое оледенение, комета, черная звезда и тепловая смерть вселенной. Что-то обязательно случится, и наш вид обязательно вымрет, как тысячи видов до этого, или по крайней мере – он изменится до неузнаваемости. Так стоит ли, все это понимая, перестать писать стихи? Стоит ли умертвить себя еще задолго до конца, привив себе нечто нечеловеческое и страшное, возможно, в виде некоей великой компенсации для эго или суперэго? Мне кажется, что эти все живые чингизиды прошлого и будущего так и поступали. Я хочу повторить тут свою мысль – нельзя запрещать себе чувствовать, жить, заменяя эти человеческие чувства на какие-то холодные фантомы. Вы же знаете, что тот же Батый был сам дитя насилия во втором поколении. Он не был настоящим внуком Чингисхана. Жену Чингисхана, его первую и главную любовь похитил его главный враг, впоследствии сделав своей наложницей. Понимаю, что мысль моя так себе, но вы же видите мой общий уровень, поэтому уж что, принимайте, как есть. Мне сейчас кажется, что наши оппоненты отличаются как раз тем, что склонны заменять свои живые чувства на какие-то великие химеры. Им кажется, что свой экзистенциальный страх закончиться навеки нужно чем-то утолить – единственной ортодоксальной верой, законченной идеологией или стремлением бежать к последним завершительным морям. Но это бред. Если хотите – это и есть бесы, поселяющиеся в людях. Ведь в них нет человеческого, это падшие ангелы, не способные творить. Они и есть вот эти схемы, алгоритмы, предназначенные исполнять господню волю, но по нелепому стечению обстоятельств возомнившие себя сами творцами. Но я, пожалуй, много говорю и правда очень умничаю. Я хочу описать свои чувства тогда и говорю, что был не страх, а этот возбуждающий адреналин, чувство того, что жизнь не протянется в старость, но типа пусть, да, немного обидно, но пусть. Главным казалось то, что эта жизнь БЫЛА. Была любовь, и творчество, и счастье, и я не умер в юности, а еще столько всего интересного пережил. И, оглянувшись, я понимал, что – да, хотелось бы немалого, но и эта жизнь была не напрасной, потому что смысл вот этой жизни – в ней самой. Не в последних морях, которые так или иначе тоже обратятся в прах. А в самой жизни, в проживании каждого мига из нее. И я был благодарен этой жизни за то, что она у меня была. И да, мне хотелось бы, умирая, знать, что мой город и страна будут существовать после меня, но в конце концов это ведь тоже абстракции. После меня ведь не будет понятия «после». И умираю я один или меня стирает из истории вместе с историей моей страны некий обосранный Батый в своем бетонном бункере – какая к черту разница? Ведь все когда-то обратится в прах, но прах – не жизнь, а жизнь – не прах. Да, было очень грустно смотреть на кровавый закат обожаемого мной чарующего мира с его ведьмами, валами, Персеидами и галактическими нитями волос любимой девушки. Да, было печально понимать, что грядет нечто крайне унылое, бездарное, вонючее и омертвляющее. Превращающее все, к чему коснется, в безликую и стандартизированную массу, нужную лишь для того, чтобы пахать в неких колхозах или прочем крепостничестве и рабстве, восславляя поминутно некую очередную мумию, дошедшую когда-то до какого-то давно уже никому не всравшегося моря. Но что же? Пусть так, ведь, как я и сказал – все когда-то закончится. Грустно проигрывать такому, но какому-то ковиду – веселее ли? Я думаю, что одинаково. И еще я думаю о том, как умирала мама.
***
Она умирала в больнице, хотя сама бы не хотела этого. Когда она впервые потеряла сознание дома, я вызвал скорую и позвонил отцу. И сидел с ней, покамест приехали медики. Она упала в коридоре, это было ночью, но не поздней, часов в десять. Дело в том, что я уже привык прислушиваться к ней, сидя за компом в своей комнате. Я слушал, как она вставала ночью и опять ложилась, а иногда сам, выйдя в коридор, я прислушивался, дышит ли она во сне. Иногда она дышала очень тихо, и я подходил к ее двери, и вслушивался в ночь, и замирал еще сильнее, вслушиваясь. Я слышал вдох или похрапывание и уходил. Иногда я думал над тем, что буду делать, если не услышу этот вдох, но этот миг так никогда и не наступил. Иногда я думаю над тем, что должен был быть сердечней к ней в ее болезни. Наши отношения не изменились в принципе, и моя забота о ней была такой же, как всегда, стыдливой и немного посторонней. Она никогда не обнимала и не гладила меня, почти ко мне не прикасалась, может быть, когда-то в раннем детстве, но я этого не помню. Она всегда называла меня только по имени и никогда сыночек или даже просто сын. Она никогда не говорила, что любит меня. Может быть, говорила в реанимации, я очень смутно помню, что там было, сам я тогда не мог говорить и нечленораздельно мычал, а позже писал короткие фразы на листике левой рукой – едва разборчиво. Нет, вру, сейчас я вспомнил, было один раз. Я потому и вспомнил, что понял – она мне говорила, что любит или обнимала меня очень редко, в мгновения, когда мне грозила реальная опасность. Поэтому, мне кажется, в реанимации она что-то такое говорила. Потому что самый яркий случай был перед этим, когда я был еще здоровый и учился в школе. Отец был на вахте, а она приехала поздно – ее привез кто-то на незнакомой мне машине. Я обратил внимание потому, что эта машина стояла под подъездом очень долго с работающим двигателем, а потом кто-то хлопнул дверью, и машина уехала, а мать вошла в квартиру вскорости. Помню, мы с ней поругались – она прицепилась к бытовым делам, типа, я не помыл посуду, даже не посуду – сковородки. Обидно, кстати, было, что я приготовил борщ, а она, как всегда, даже этого не заметила, а прицепилась к этим сковородкам, даже не потому что я их не помыл, а типа помыл не очень тщательно, и она стала читать мне лекцию о том, что я ВСЕГДА не мою сковородки, а от этого на них скапливаются канцерогены, ну, что-то такое. Я не помню, как там точно было, я что-то наговорил в ответ, она в ответ, ну, слово за слово, я был подростком, хуле? Короче, я помню, что ушел к себе и сразу думал пиздовать на улицу, но был будний вечер, и я сразу не придумал, куда двинуть и, кажется, мне не хотелось никого видеть, но в комнате стены меня тоже душили. Вы знаете, вот мать умела вызывать во мне это состояние, когда жгучая боль от обиды переходила в гнев от того, что эта обида несправедлива, но этот гнев как будто выжигал меня внутри, не находя выхода. Это была в целом сложная смесь унижения, боли и гнева, как будто… как будто она избивает меня ремнем по заголенной спине, прижимая мою голову коленом к полу – как-то так. И она умела делать это, не физически, во всяком случае, когда я стал постарше. Она была ближе отца и умела больнее задеть. Отец компенсировал это страхом, возбуждаемым во мне – дистанция между мной и ним была довольно большая, и хотя он всякий раз пытался преодолеть ее, чтобы ударить больно, так же, как и мать, мне зачастую удавалось отстраняться в той или иной мере, и он чаще применял буквальное насилие, а еще чаще манипулировал угрозами этого насилия. Иногда мне кажется, что это очень странно – как бы они оба пытались пробиться ко мне, настолько это было навязчиво, но почему их тяга ко мне всякий раз принимала столь нездоровые формы? Почему мать как будто… Я не знаю, может, я додумываю, но она как будто всякий раз, когда ей хотелось обнять меня, поцеловать или сказать, что любит, даже как-то остервенело вместо этого унижала меня, обвиняла меня, иногда даже била. Также отец вместо того же самого проявления любви к своему сыну просто бил, пугал и тоже унижал. Да, унижение. Я почему-то постоянно помню унижение, и всякий раз некая часть меня восставала против этого унижения, его несправедливости – несправедливостью было нежелание матери любить меня как сына, несправедливостью было отцовское возвышение надо мной благодаря одной лишь физической силе – суть то же унижение. Да, они были очень похожи в сути между собой. Но с отцом я был не так близок, и это позволяло мне держать дистанцию. Один раз в жизни я его даже ударил и, кажется, совсем этого не стыжусь, впрочем, он сам был виноват. Я тогда еще с тростью ходил, он пришел вусмерть пьяный и начал наезжать, уже не помню из-за чего, но что-то тоже очень глупое и унизительное. Я пытался выйти из ситуации и даже надел курточку идти на улицу, забавно, что тоже был вечер, но, кажется, выходной – я помню, что хотел сходить в какой-то клуб, где тусовались наши. Но он все донимал меня и даже стал в дверях, продолжая затирать какую-то сугубую муру, которая по сути ни к чему не относилась, короче, доебывал, я попытался пройти, а он меня толкнул, меня это возмутило, я толкнул его в ответ, несильно, кстати, чисто в виде демонстрации, а он толкнул меня сильно, и я упал на спину, уронив трость, я резко попытался встать, а он буквально повалился на меня, прижимая мои плечи к полу, вот я щас вспоминаю – удивляюсь сам, насколько же они похожи. Он типа держал мои плечи локтем, еще упираясь мне в грудь, и я отчетливо помню этот мерзкий запах перегара, он что-то еще мямлил, типа «успокойся, успокойся», скаля зубы, издевался, тварь. Но даже не ненависть двигала мною, хотя сам даже первый толчок был возмутителен тем, что он даже ко мне, калеке, считает нормальным применять силу. Но я совершенно как-то рефлекторно от этого давления на грудь резко высвободил левую и уебал его в висок – он даже отшатнулся набок от удара, и я наконец-то попытался встать, но он уже опять лез ко мне, тут набежала мать, она курила на балконе… Короче, она начала ему там чем-то угрожать, и он ушел на улицу, а мать повела меня на кухню – оказалось, что у меня кровит костяшка, я даже не заметил, мать измазала ее перекисью.
***
Тогда же после спора с ней ситуация была похожая, я помню, что в комнате мне очень хотелось напиться, а еще вот эта боль. Мне было больно за вот этот борщ, которого она даже не заметила, больно за то, что мать меня не любит. И от осознания того, что это все несправедливо, возникала злость, которой я не находил выхода, и она, по-видимому, начинала пожирать меня. Но я еще как бы… короче, был подростком. И вспомнил этот борщ, и как его варил, и, честно говоря, надеялся, что вот она оценит. И, успокоившись немного, я подумал, что эта ситуация какая-то ненужная, что типа, может, можно отмотать и предложить тот борщ, и будет все нормально, просто будний вечер, тыры-пыры. Ну, вот какое-то такое чувство. И я пошел и попытался сгладить ситуацию, я даже извинился. А она ударила в эту мою открытость, уж не знаю, что там у нее было с отцом или на другом личном фронте, но мириться она была не намерена, и я вот помню эту ее не раз повторенную фразу, что «ты неискренен, ты фальшив», или что-то такое, и в этом было сколько злости на меня. Почему они так ненавидели меня? Мне хотелось любви, и я тянулся к их любви, а они в эту любовь как будто постоянно били, откуда в них было это желание на всякое проявление любви или жажду любви отвечать злостью, унижением, насилием? Впрочем – ведь моя история не о них, как в прямом, так и в переносном смысле. Я опешил от этого ее напора и, не зная, что ответить (в сердце жгло), я таки пошел на улицу и просто шлялся по городу, выкурив несколько сигарет. Свежий воздух и отдаленность от дома мне так помогли, что я даже передумал напиваться и вообще идти куда-то к людям, я пошел домой, намереваясь не пересекаться с матерью сегодня больше, хорошо, что у меня есть своя комната, даже с защелкой. И так оно и было поначалу. Но потом она начала петь. Я был в наушниках, но она пела так громко, что я услышал на фоне и вынул один наушник. Она, типа, что-то делала на кухне и весело пела, конечно, нарочито и специально, типа, ей нахуй так весело, и все дела. Причем пела какую-то пошлейшую срань типа попсы тех лет, не важно, просто я вышел из себя. Да, я не выдержал. Я вышел на кухню и высказал ей все, как мог, об этом борще и об ее претензиях, об этом ее поведении и, в общем, я спросил несколько раз, по типу, – что я делаю не так? Вот что я делаю не так?
- Я не хочу об этом разговаривать, – ответила она.
- А я хочу, – сказал ей я.
- Ну, говори, а я не буду отвечать.
Вот тут-то меня вынесло. Она, оказывается, мыла такие баночки для консервации, она, бывало, консервировала что-то, они стояли помытые на столике, несколько штук.
- Ну, ладно, – сказал я.
Потом взял эту баночку одну – разбил об стол. Она смотрела на меня.
- Перестань, – сказала тупо.
Я взял еще баночку, еще разбил, кажется, бросил под ноги.
- Богдан, перестань.
Третью баночку я расхуярил, бросив в стену, возле двери, повернувшись спиной к матери. Затем у меня, я помню подкосились ноги, я упал не то чтобы на колени, а так как-то боком, и так, сидя, взял один осколок с пола, посмотрел на него, потом на мать и, помню, заорал:
- Ну, что я делаю не так?!
И начал бить этим осколком себе по запястью. Это, в общем, была демонстрация – я знал, что не порежу этим вены, во всяком случае, серьезно, ну, я был подростком, и это была демонстрация. Я нанес несколько длинных порезов вдоль руки, когда она подлетела ко мне, заорав:
- Богдан, не надо!
И, отняв у меня этот осколок, вдруг стала меня сильно обнимать и типа гладить и даже целовать в лицо и голову и говорить:
- Я же люблю тебя, сыночек! – всхлипывая.
Я не плакал, но мне было плохо. Я, возможно, первый раз вот это ощутил. Вокруг лежали осколки этих баночек, как будто осколки стены между мамой и мной, и вот она типа обнимала меня, произнося слова любви, и было чувство какого-то облегчения, которое мне яростно не нравилось. Не нравилось потому, что (возможно, я не смог тогда бы это сформулировать) – она как будто мучила меня и издевалась, доводя до этого взрыва, потому что любила этот взрыв, а не меня. Это было неправильно. Мне не нравился ни этот взрыв, ни ее излияние чувств после него. Мои порезы на руке были фигней. Проблема состояла в том, что я, разбивая ту первую банку, нечаянно повредил правую руку ее куском, сам сразу не заметив. Рана была на указательном снаружи. Это кровотечение нам с матерью не удалось остановить. Я помню, мать накладывала жгут, но рука быстро немела, а только лишь ослабь тот жгут – она опять текла. Она текла и текла, я помню, как сидел на стуле, тупо глядя на этот кровоточащий палец, а мать тряпкой отмывала пол на кухне от крови перед приездом скорой.
***
Этот случай не оформили как суицидальный эпизод, потому что мы соврали, будто я упал на банку, поскользнувшись на мокром полу. Самая серьезная рана на пальце тут помогла – она была явно, скажем так, естественного, ну, случайного происхождения. А царапины на запястье были неровными и неглубокими.
XX
Забавно, что и у отца был похожий паттерн поведения. Я понимаю, что я вас утомляю этими ебучими воспоминаниями. Но меня поражает, что эта вся хуйня о любви и насилии, понимаете? И меня страшно волнует вопрос о том, какой великий или малый эликсир способен так жутко и неумолимо трансмутировать любовь в насилие? На второй день после нашей драки отец утром постучался ко мне в комнату, и я открыл. Он выглядел очень жалко, ну, впрочем, он был с похмелья, но я вообще не переношу в нем эту жалкость, как не переносил и мамины очень редкие нежности после доведения меня до взрыва. Это было неправильно, понимаете? Зачем доводить меня до грани суицида, чтобы просто ко мне прикоснуться? Почему не прикоснуться просто в любой миг? Зачем толкать или бить меня, чтобы потом стоять передо мной, как жалкий мальчик, и невнятно бормотать «прости»?
Да, он просил прощения, но я сказал «уходи» и закрыл дверь, когда он отошел. Он очень больно ранил меня, и я не собирался делать вид, как будто это мелочь и как будто можно просто что-то там сказать, и все будет как прежде. Но мне было жалко его, и иногда казалось, что я был жесток, но очень редко и почти что только поначалу. Влада говорила мне, что он бы не переломился подойти еще и подходить, пока я не простил бы, и она права. Я бы простил на какой-то раз, но он больше не подошел, в тот день он опять напился, но меня не трогал, мы вообще не разговаривали где-то, может быть, с полгода, а потом только по делу, да и то из-за болезни мамы. То есть во многом этот случай проложил между нами окончательную границу, но, может быть, и лучше, что проложил, и лучше, что он больше не просил прощения. Потому что так было всегда, вот это «я же все равно люблю его» во мне, и он подходит ближе и очень-очень скоро наносит удар, нарушая все возможные границы. И равным образом «я же люблю тебя, сыночек», чтобы снова подойти и попытаться раздавить меня – от той же матери. Возможно, это просто о границах, на самом деле я точно не знаю. Как-то в детстве, я был в классе третьем, к нам во двор приехал на лето пацан, мой ровесник, из Харькова. Мы даже немного подружились, он был такой веселый, знаете, душа компании, как говорят, и я дома часто говорил о нем, там за ужином, скажем. И вот как-то отец был выпивший, мы сидели на кухне с ним вдвоем, мать была, кажется, на работе, я точно не помню. И я вновь начал говорить об этом мальчике, пересказывая в очередной раз наше приключение, мы накануне лазили компанией в заброшенном корпусе ЦРБ, там был такой недостроенный блок – еще в девяностых там строили роддом, но по ходу деньги кончились, и он зарастал бурьяном. Короче, на каком-то этапе этого моего восторженного разговора об этом мальчике отец вдруг, глядя мне в глаза, сказал:
- Ты должен отпиздить его.
- Что? Зачем? – опешил я.
Я помню его пьяный мутный взгляд в этот миг, до сих пор помню. Помню. Я до сих пор не понимаю его тогдашних мотивов – он знать не знал ни этого мальчика, ни его родителей. Скорее всего, это была просто пьяная белиберда. Но вы должны понимать – в ту пору его слово значило для меня все. Это уже подростком я мог видеть в нем просто пьяного несостоявшегося в жизни мужика. А тогда он был моим Отцом. Я сейчас думаю, сколь много для меня всегда значила семья, и я всегда пытался нарисовать ее у себя в голове, и всякий раз этот образ разбивался вдребезги, как те баночки для консервации тогда на кухне. Я хотел видеть какую-то крепкую и любящую семью, какую-то в натуре козаностру, где каждый горой за другого и мы друг для друга ценнее всего. Пускай это и будет обычная райцентровская полупролетарская семья. Но это я себе нафантазировал, а в реальности я видел распад, энтропию. И я видел пьяного заебанного мужика, жена которого так долго пропадает на работе всякий раз. И этот заебанный мужик, не знающий, что делать со своей собственной семьей и жизнью, хотел, чтобы я избил совершенно ни в чем не повинного мальчика, который мне вообще-то нравился и с которым я дружил. И я, конечно же, избил этого мальчика. Потому что папа ведь получше меня знает, как поступить правильно. Я доебался до этого мальчика, совершенно как вонючий гоп, еще и выставив себе в наилучшем свете. Он типа пошутил над одним меньшим, без злобы, ну просто над ним все шутили, и вы же понимаете, что мне в тот миг было абсолютно поебать на этого малого. Просто это был повод, я, резко оборвав веселье, зарамсил на харьковчанина, типа:
- Какого хуя ты над ним прикалываешься?
Вообще главный прикол в таких делах всегда – удачно выбранный момент. Вот суть в том, что я оборвал это веселье в самой наивысшей точке, резко сменив тон беседы, и тем самым притянул к себе всеобщее внимание. Понимаете – поэтому я уже находился в атакующей позиции, как в футболе, я как бы уже владел мячом, а этот харьковчанин должен был оправдываться. И плюс он этого не ожидал и замешкался, типа «ты чего?», сказал и это выглядело уже и заискивающе, и жалко. И я навалился:
- Ну, он из нашего двора, и он малой, ты думаешь, раз он малой, то можно попускать его?
- Слышь, какого хуя? – он уже пытался отбиваться.
- В хуй подышь, гондон! Приколись надо мной, если вывезешь.
Короче, я запиздил его кулаками, повалив на землю, но так, не сильно, какой у меня был удар в третьем классе? И быстро это кончилось, практически как только я его повалил, он заплакал. Знаете, что меня поразило? Даже не то, что он заплакал, но то, что как только я его отпустил, он побежал к подъезду, а потом обернулся в слезах и выкрикнул, как-то даже захлебываясь:
- Я… я маме расскажу!..
И убежал в подъезд. Вокруг меня поднялся одобряющий гомон, пацаны уже переговаривались в духе:
- Вообще охуел, харьковчанин галимый! Классно ты, Бодя, его!.. – ну и все в таком духе.
Я каким-то внутренним умом понимал всю картину: вот вы минуту назад все, как и я, волоклись за этим парнем, аж любуясь им, ну, вам же насрать на этого малого, как и мне, просто я сейчас избил его, и вы уже кучкуетесь вокруг меня?..
Но не это занимало мои мысли в тот момент. Я, помню, как-то отбрехался быстро: мне надо идти, ну, типа матушка просила, чтобы я пришел пораньше, все тоже закивали – типа, поздно. Я пошел к своему дому. Я, помню, шел, все ускоряя шаг, потому что понимал, что сейчас зарыдаю. Я не помню, чтоб до этого испытывал такую нелюбовь к себе. Даже не в миг драки – тогда все было на адреналине, но в этот миг, когда этот мальчик кричал «я маме расскажу», на меня, как в миг грехопадения, обрушилась сплошная нелюбовь к себе, и я сейчас понимаю, что моим главным внутренним чувством было броситься к этому мальчику, остановить его и попросить прощения, сказать: я не хотел, это мой папа, извини меня, ударь меня в ответ, прости, пожалуйста, прости – и, может быть, даже обнять и утешить его. Да, мне хотелось обнять и утешить его. Мне очень этого хотелось, а больше всего хотелось, чтобы этого всего просто не происходило, чтобы этого не случилось, чтобы мы играли и лазили по заброшкам, как раньше, и этот мальчик всех нас веселил. Я не знаю, почему я заговорил о грехопадении, но это все было подобно именно грехопадению, и, возможно, в первый раз в своей жизни я засомневался в адекватности отца, возненавидел самого себя, как бы узрев некую мерзость свою, как Адам наготу, и, что уж точно – я разлюбил насилие и унижение, насколько вообще мог разлюбить. Бывало, что из-за этого своего свойства я оставался где-то на периферии движа, но почти никогда всерьез об этом не жалел. Где-то глубоко внутри меня сидело чувство, что каким бы ни был мерзким человек передо мной – стоить мне забить его до слез, до вот этого «я маме расскажу» – я испытаю в сторону себя вот то же самое, что испытал тогда в далеком детстве. Может быть, за очень редкими исключениями. Да и то… Мне страшно об этом думать, но иногда мне кажется, что если бы мне удалось дотянутся каким-то образом до нашего Батыя и ебашить его до кровавых соплей, то если бы он, разрыдавшись, внезапно бы начал звать маму… Я не хочу продолжать эту мысль. Я никогда до него не дотянусь и не узнаю, что бы я почувствовал – пусть так все остается. Единственное, что еще скажу в этом куске – возможно, среди вас есть люди, которые возразят, что не всех можно довести до слез и криков «Мама!». Отвечу так – у меня небольшой жизненный опыт, и я на этом не настаиваю, но все-таки прошу поверить в рамках этой книжки инвалиду с политравмой, кучей переломов, операций и т. д. … ЛЮБОГО человека можно довести до слез и криков «Мама!». Вот любого.
***
По прошествии лет я больше не прислушивался к маминому пению, а только к ее шаркающим шагам и дыханью во сне. В тот раз я, помню, строил какие-то многоуровневые домики в четвертом фолыче и не услышал, как она упала – возможно, громкий стук совпал с соединением каких-то блоков в очередном домике. Но что-то меня вроде бы заставило прислушаться, и меня удивила тишина – она ведь только что ходила, и свет в коридоре горел… Короче, я вышел в коридор. Она лежала так вдоль коридора, запрокинув голову назад, в ночнушке и едва завязанном халате. Я подошел, присел и наклонился рядом с ней. Она дышала, но негромко, будто бы спала, зеленые глаза были прикрыты, а бледные губы, наоборот, слегка раскрыты. Вначале я хотел ее поднять и положить на кровать… Я не знаю, зачем – я бы точно не донес ее со своей ногой, но остановился я даже не поэтому. Я взял ее под руки в каком-то тумане, просто, блядь, казалось неправильным, что она лежит вот так в коридоре, ну, вы понимаете? Но, потянув ее вверх, я… Несмотря на ее тогдашнюю худобу, она мне показалась тяжелой, но дело опять же не в этом, а в том, что мне почему-то подумалось, что ей будет больно, что вот это держание под руки и подымание как-то причинит ей боль. Я не знаю, почему мне показалось так, она ведь даже не была в сознании. Короче, я пошел, взял у себя диванную подушку и плед, осторожно подложил подушку ей под голову и укрыл пледом. Тем не менее боялся, что она простынет тут на холодном линолеуме. Как я и говорил, я вызвал «скорую» и позвонил отцу. Затем, ожидая кого-то из них, я сидел в коридоре над ней. Я хотел было взять стульчик, но передумал и тоже сидел на полу рядом с ней, немного в стороне, напротив двери в свою комнату. Я не знаю почему, но почему-то было неудобно брать стульчик, когда она лежит так на полу. Отец приехал первым и, услышав звонок, я встал и открыл, и, не зная, что делать, пошел к себе в комнату, посмотрел там в окно на мерцающий в слякоти город. Затем я робко выглянул – мой плед и подушка валялись в коридоре, отец перенес мать на ее постель. Я, не зная, что делать, опять вернулся в комнату и практически за мной зашел отец. Мне почему-то запомнилось, как он зашел и как будто бы даже швырнул и подушку, и плед на мое прикроватное кресло.
***
В больнице мать пришла в себя довольно быстро и приехала домой уже дней через пять. И отец, и врачебники уговаривали ее остаться, но она не хотела. Понимала ли она, что умрет? Конечно, понимала, но между нами этот вопрос как-то не особо поднимался. Мне казалось, она хочет умереть у себя дома. Но где-то через три недели она опять потеряла сознание дома и от этого полноценно уже не оправилась. В больнице на этот раз она очнулась как бы не полностью, встать и говорить она не могла, какое-то время немного подымала голову и как-то тяжело вращала глазами, будто никого не узнавая. У меня был один разговор с отцом на тему того, что, может быть, опять вернуть ее домой, но он и слушать не хотел, а что я-то мог поделать, если даже поднять ее был не в состоянии? Была в этом его упертость и зловредность или правда больше логики? Он нанял ей сиделку, хотя мы оба торчали в больнице почти постоянно, ну, я уходил на ночь домой, у него-то была своя машина, а я на общественном транспорте, а пешком ходить не близко. Короче, она пробыла там около недели. Как-то я пришел часов в десять утра, отец был уже там и сказал, что ей хуже. Я заходил к ней. Она спала, но спала странно, не как в тот раз, когда упала, как-то хрипло и быстро дышала, как бы даже иногда со стоном. Я сидел на диванчике возле ординаторской до вечера, тупо листал телефон. Один раз спустился похавать в больничную булочную. Отец говорил, чтобы я шел домой, типа он будет здесь, но я не пошел и все сидел, вечером он даже сказал, что сестрички ругаются из-за меня, я ответил, что «они на все ругаются» – а то я не знал тех сестричек. Знаете, о чем я думал? Что, может быть, нам надо с ней сидеть сейчас? Отец не сидел с ней все время, только подходил к двери, время от времени – это была женская палата и как бы наподобие реанимации вообще-то, хотя там несколько таких палат, и я так точно и не понял. Ну, типа, было неудобно там, и сиделка, и медсестрички бегали. Но все же надо, может, как в кино, сидеть и держать ее за руку? Я, блин, не знаю. Была какая-то неловкость в этом всем, возможно, если б дома… Я все же подходил к двери несколько раз, когда отец спускался вниз во двор больницы. И даже слышал это ее хриплое дыхание со стонами. Часов около девяти отец подошел ко мне и сказал:
- Все.
- Понятно, – кивнул я. – Чем мне помочь?
- Ничем, я тут сам разберусь. Хоронить будем из дому.
- Она хотела крематорий…
- Глупости!
- Чего?
- Она крещенная.
- И что? Не возбраняется.
- Как это так не возбраняется?..
Я был очень уставший для спора.
- Ладно, я тогда пойду домой.
- Давай я вызову тебе такси?
- Не надо. Я хочу пройтись.
Я действительно хотел пройтись и шел пешком по практически уже ночному городу. Что я чувствовал тогда? Первой эмоцией было облегчение от того, что ситуация наконец разрешилась – как и потом, в том феврале. Мы оба с отцом этого рано или поздно ждали, и наконец это случилось. Вторая эмоция была тогда еще не до конца оформленная, сама по себе очень избитая и пошлая, сто раз уже обсосанная, как вот в той дурновкусной прозе Бродского о тех ебучих комнатах. Эта эмоция была про то, что я – это все, что от нее осталось. И я почему-то неудержимо думал и чувствовал эту эмоцию, несмотря на ее тупость и избитость. Я думал о том, что только сейчас в полной мере осознал, о том, что как бы в жизни она меня ни отвергала, как бы от меня ни отгораживалась, как бы изощренно надо мной ни издевалась – теперь я все, что от нее осталось, и главное – я продолжение ее. Я всегда был продолжением ее. Я так же, как она, краснею при смущении, я так же, как она, заламываю руки, погрузившись в мысли, так же, как она, смотрю на мир зелеными глазами. Я, черт возьми, всегда был ЕЕ СЫНОМ.
XXI
Я помню, что совсем не плакал в этот день, даже не хотелось. Придя домой, я попытался уснуть – просто лег на кровать одетый и укрылся одеялом. Даже вроде бы задремал, но всего на пару минут. Вышел на балкон покурить – было глухое предрассветное время, и город досматривал скучные сны. Мне вдруг захотелось что-то приготовить. Подумалось, что завтра со всеми хлопотами мне некогда будет готовить, и, может быть, отец или еще кто-то захочет похавать, а в холодильнике одни полуфабрикаты. Это была идиотская мысль – в конце концов же будут поминки, но, блин, я просто очень люблю готовить, и это меня всегда успокаивает. Я взял в морозильнике аргентинку и приготовил то, что я называю рыбным пловом, но, по сути, просто сварил кружку риса без ничего и стушил в кастрюльке аргентинку с луком и специями, потом заправил этим отваром рис. Мне долго нравился этот простой самостоятельно изобретенный рецепт, если вдруг вздумаете варить – главный прикол его в тонко нарезанном луке, колечками, и еще в правильном соотношении воды и растительного масла для тушения, ну, тут уж сами разберетесь, я всегда на глаз угадывал. Короче, эта варка вместе с распитием кофе заняла у меня около часа, и на улице стало светать. Есть не хотелось, и я так и оставил все приготовленное в кастрюльке, выпил еще кофе, а потом пошел за сигаретами в ночной киоск. Сигарет оставалось две пачки, но мне опять захотелось пройтись. Вернувшись, я поставил свой остывший «плов» в холодильник. К нему так никто и не притронулся ни в тот день, ни на следующий, и я позже выбросил его вместе с мусором. А заплакал впервые уже после похорон и поминок. Я вернулся в квартиру один после обеда и помню почему-то эту звенящую тишину в ней, а еще помню свет, был очень светлый, какой-то радостно-светлый день, не знаю почему вдруг эта ассоциация, но этот радостно-светлый день почему-то напомнил мне детство. И квартира была полна света, я не сразу понял, что изменилось, но со временем допер – в последние полгода или чуть больше мама часто ложилась спать днем, и шторы в ее комнате почти всегда были задернуты. Я, немного помешкав, вошел в ее комнату. Ну, то есть – в ее с отцом бывшую комнату. Там было непривычно пусто, до стерильности, и очень светло. Я подошел к окну, взглянул на детскую площадку под соседним домом и заплакал, осознав, что мамы нет, и так теперь будет всегда.
***
Я вспомнил эту историю не просто так, а чтобы объяснить вам вот какую вещь. Я часто сравнивал эту смерть с тем, что случилось 24 февраля и далее, находя какие-то понятные мне одному параллели. Например, что в смерти мамы мне долго казалось самым горьким осознание того, что какой-то важный этап моей жизни навсегда остался в прошлом. Вы должны понимать – она уходила постепенно, и долгое время я буквально жил в ожидании ее смерти, то есть она не стала для меня неожиданной, но когда она случилась, я понял, что огромный кусок моей жизни, моего детства, юности навсегда закончился. Это как бы даже больше подводило под ним черту, чем моя инвалидность. И мне было горько от осознания этого, блин, сложно объяснить, ну, от того, что жизнь и все любимое и дорогое в ней утекает сквозь пальцы, и ты ничего не можешь с этим сделать. Но вот что – я очень быстро отверг эти мысли. Буквально в первые же дни, наплакавшись вдоволь, я сказал себе: «Да, что-то закончилось безвозвратно – за ним будет что-то другое, каким бы оно ни было», – и эта мысль странно успокоила меня. Я, в общем, понял, что бессмысленно и даже вредно наматывать на душу эту горечь. И как бы это странно ни звучало в исполнении многократного суицидника, я сказал себе, что надо просто дальше жить. Что-то подобное у меня было и с полномасштабкой. Но в тот день в конце февраля я больше думал вот о чем – мне также было горько от того, что мама умерла молодой. Что у нее впереди могла быть еще долгая интересная жизнь, и, возможно даже, в этой жизни мы с ней что-то важное наконец-то сказали друг другу. Ну, например, это что касается именно нашего взаимодействия. Но в какой-то момент, тоже не сразу, через какое-то время после похорон я понял, что и по этому поводу рефлексировать нет смысла. Вообще нет смысла долго рефлексировать над вещами тебе неподвластными. Да, были какие-то частности вроде той кремации, или буквального держания за руку, или смерти в больнице, а не дома… Но никогда ведь невозможно идеально сделать все. Мы были с ней до последнего, мы, как могли, заботились о ней, и я, существуя дальше, в каком-то смысле продолжаю ее жизнь. И это все, что я могу, и несмотря на то, что я могу не так уж много – это успокаивает меня. Так и здесь – мой край и мой мир умирал, но я был рядом с ним и держал его за руку. И был готов умереть вместе с ним. И в этом смысле я очень понимал Владу, потому что мне кажется, что находиться в этот миг в каком-то Берлине мне было бы гораздо тяжелее. И может быть, это просто самоуспокоение, но от этого самоуспокоения мне становилось легче. Дело было не в каком-то имуществе или гражданстве, дело было в этом оборонном вале, от пыли которого я отряхивал Владины джинсы. Дело было в этом ветхом совковом балконе, стоя на котором я поцеловал Илью. И в том другом балконе, с которого я спрыгнул. Дело было в росах на тропинке к Сейму, дело было в нашей первой новогодней ночи вместе, дело было в смятых и желтых листах вдоль проспекта и ведьминых снах на опушке соснового леса. Я совсем не солдат, я бесполезный инвалид, но в тот момент, в тот день я чувствовал, что мое сопротивление – это быть с тем, что я любил, несмотря ни на что, и быть с теми, кого я любил – да, в этот момент я даже внутренне был рад, что Влада с нами, потому что страх за нее меркнул по сравнению с чувством любви к ней и осознанием того, что вот эта любовь во всей полноте и есть мой единственный ответ всепобеждающей смерти. Да и всепобеждающая ли она на самом деле? Где-то глубоко внутри мне почему-то казалось, что она победит не тогда, когда расстреляет нас, целующихся, а когда мы, еще живые, перестанем целовать друг друга, убоявшись этой смерти.
В общем говоря, с этими мыслями я и вошел тогда в коттедж в сгущающихся сумерках. На первом этаже стояла полутьма, лишь мерцал экран раскрытого Владиного макбука на столике возле диванчика. Влада сидела на диванчике, едва закутанная в плед, непричесанный сонный Илья лежал головой на ее коленях, закинув свои ноги за край дивана, оба тупили в смартфоны, причем Влада была в наушниках. Я, только лишь взглянув на них, восстановил всю цепочку событий: вот сонный нерасчесанный Илья спускается с Владиным пледом в руках и тут же, видя Владу на диване с макбуком и наушниками, пытается закутать ее в плед, наверное, она, взглянув, сейчас же складывает губки поцелуйчиком – она так часто делает, наверное, они целуются, а потом она убирает макбук, чтобы он улегся головой на ее колени, берет телефон и, возможно, они говорят… Мне от этих мыслей стало тотчас же тепло и уютно.
- Бог, они в Конотопе. Ты слышал? – негромко сказал мне Илья, очевидно, воспользовавшись тем, что Влада в наушниках…
Хотя вряд ли он с ней это не обсуждал.
Я рассказал им обоим про Виту и Сашу, а также про Витю и взрыв.
- По ходу заправку рванули, – предположил Илья.
Ему кто-то из знакомых эту версию озвучил.
Влада рассказала много всяких новостей от знакомых и просто с инета – впрочем, иногда они не то чтоб сильно отличались. Было похоже на тот утренний информационный шум, но было и всякое, во что хотелось робко верить, как с тем летчиком на МиГе, опровержением российских десантов в Одессе и первыми мутными слухами о разгроме кацапов в Гостомеле. Но все, конечно же, перекрывало то, что они уже здесь. Скажу так – этот весь Гостомель и Одесса были далеко, в каком-то интернетном лучшем мире, а тут перед нами во весь рост вставало слово и понятие, которое нам троим очень не хотелось озвучивать, но которое от этого умолчания никуда не девалось, подобно бельму на глазу – оккупация. Так что же – она? Наползание вонючих лангольеров на цвета и вкус, и оттеснение всего, что мы любили, на периферию взгляда, подобно народу богини Дану в Ирландии? Это, уж не говоря о прозаических вещах, подобных тем, что когда-то постигли Илью.
А удивительней всего в чувстве нахождения в оккупации тогда казалось озвученное Владой ощущение, что лес как будто бы тускнеет. Я вот не люблю, когда их называют орками, это, мне кажется, как минимум глупо, но я не могу больше никакой метафорой описать это чувство наступления чего-то не то чтобы только ужасного (это было бы полбеды), но чего-то вымарывающего чары моей родины, чего-то заставляющего быстро выцветать ее прекрасные ведьмовские глаза. И хуже всего было то, что они не только выцветали, а ты начинал сомневаться сам, была ли в них когда-то эта ведьмовская красота. Тем не менее понимая, что без этой красоты ты не сможешь больше полноценно жить. Помните, я говорил, что не поцеловал маму на кладбище? Так вот, я не поцеловал ее, потому что четко понимал, что это была уже не мама. Это было ее тело, которое когда-то служило пристанищем ее души, я не верю в душу, строго говоря, но, скажем, это было пристанище ее жизни, как хотите, всего, чем она являлась, теперь же это не была она. Вот так и все вокруг превращалось в выцветший труп, увядший отголосок собственной цветущей юности. Вот как в легендах о народе Дану существует две Ирландии, одна обычная, а одна сказочная, так и для меня существовали как бы две Украины, но, в отличие от Ирландий, они обе были связаны более непрерывно, переходя друг в друга, одна вырастала из другой, была обычная земная Украина и была какая-то небесная, была, как у Платона, вещь и образ вещи, что ли, я не знаю, причем во Владе и Илье они соединились для меня – казак и ведьма, помните, я говорил, причем в книжках этой ведьмы говорится вот об этой Украине грез. И удивительней всего в первые часы оккупации было то, что эта Украина грез уходила куда-то за горизонт событий и пределы бытия. Тогда я думал, что это несправедливо и что это доказательство того, что мир действительно уродлив и безлик, а все волшебное в нем – только грезы. Но сейчас я думаю немного иначе, я думаю о том, что это было чем-то вроде злых чар. Вот знаете, я уже упоминал тут Вия и говорил о том примерно, что, скажем, для меня в моей небесной Украине ведьма и философ поженились, как в тех сказках. Что там была наконец найдена искомая гармония сульфура и меркурия, что сам этот сказочный край был соткан всецело из этой гармонии, как тот великий несравненный эликсир. Но вы ведь знаете, что поздние алхимики объясняли неудачи в своих опытах тем, что со времен средневековья буквально поменялись расположения созвездий, и сам звездный свет поменялся, и хуже всего то, что правильное волшебство как бы затмила индустриализация, являющаяся по сути чем-то типа черной магии? Ну, или как волшебство уходило из Арды – там ведь происходило что-то похожее, помните? Так вот, теперь я думаю, что и эта страна грез не то чтобы рассеивалась, а куда-то пряталась. Но даже если бы и исчезала, то я все равно был воодушевлен тем, что я ее осколок, тем, что я ношу ее в себе хотя бы как воспоминание, что я помню о ее внеземной красоте и сам в каком-то смысле воплощаю эту красоту, хотя бы внутренне.
Но это о себе, опять же, но передо мной были два воплощения этой красоты, просто в полутьме коттеджа на диванчике, причем они были как бы озаряемы светом своих телефонов и экрана макбука на столике. Я такими их запомнил, вот эту их какую-то фосфорическою красоту – печальную, но по-прежнему колдовскую. Знаете, что еще почему-то запомнилось? Я осознавал, что люблю и хочу их как раньше, но та неистовая страсть, которая была сердцевиной всего меня раньше, как будто бы ушла куда-то в умолчание, как будто тогда утром в душе, когда я застеснялся, конечно же, не Ильи, а в целом ситуации, но я ведь по-прежнему любил Илью, только мою любовь как бы окутала, обволокла в себя резкая горечь и смущение, но любовь эта билась внутри ртутной каплей, являясь моей сердцевиной и сутью. И там вечером в коттедже, я помню, как с удивлением заметил, что мой эрос вылился на них чем-то другим, это было как с Владой и теми сережками, я вместо того чтобы возгореться похотью, глядя на них, вдруг подумал: «Они голодны». И мысль о том, чтобы кормить их, была эротична. Кормить их. Кормить их сейчас.
- Кушать хотите? – спросил я с полуулыбкой, начиная старую шутку.
- Не, – сказала Влада.
- Чисто по приколу, – продолжил Илья, всматриваясь в экран смартфона.
- Дебил, – ответил я ему. – И ты тоже дебил, – это Владе. – Я хочу приготовить вареники.
- Что? – первая всполошилась Влада. – Варенички? Варенички! Варенички! Варенички! Богданчик, ну, варенички…
Она вскочила, сбросив на пол плед, и начала, ну, знаете, ну, ластиться, она так часто делает, как собачонка (или как волчонок? львенок?), трется об меня, хватает за руки… Прикол был в том, что я очень редко варил вареники, но они им обоим очень нравились. Ну, я ленился их часто варить, это было весьма трудоемко, хотя, впрочем, может, я лукаво не хотел их приучать, чтобы оно приелось, ну, нарочно. Ну, и еще там был чисто технический прикол, связанный с тестом, короче, за многие годы готовки я пришел к выводу, что тесто – это штука именно под настроение, если хотите. Вот Влада спрашивает часто, в чем секрет моего теста, которое буквально тает во рту, типа, а я говорю, что это от положения созвездий всецело зависит, но зависит оно от настроения. Вот если я силую себя – часто и тесто то твердое, то какое-то с едва заметными комочками, короче – сакс… А когда есть вдохновение – другое дело. Влада, кстати, немного стесняется того, что, как она выражается, «я готовлю лучше нее». Я бы не сказал, что лучше, но все-таки спросил у нее как-то:
- Ну и что, если лучше?
- Не, ну я типа девочка…
- И что?
- Это неправильно, а что?
Я, помню, что-то готовил, как раз это было на кухне, и отрезал ей, прямо не отходя от плиты:
- Блин, ну так возьми поприставай ко мне, как мальчик, может, я для этого стараюсь?!
Вот это помогло – она сказала, что я тогда «обворожительно» улыбнулся (с таким-то ебалом – ну ладно), и ей очень понравилось то, что было дальше. И всякий раз я или напоминал ей об этом разговоре, или моя готовка и ее смущение от этого служили для нее тригером «мальчишеских» приставаний ко мне. С Ильей у нас это как-то не особо водилось – он мог меня, проходя, приласкать у плиты или чмокнуть, ну, типа того, но у нас как-то изначально повелось вот именно как между пацанами, типа, «он занят делом – не мешай», вот была такая нота, ну я же говорю, что даже в сексе было более структурированно, что ли – порыв, насладились, беседуем, нежимся, курим, лежим, вновь порыв… Секс так секс, работа так работа – как-то так. А вот с Владой – состояние, и все как будто бы одно в другое переходит без разрыва. Я обожал, когда она нахально, как пацан, себя со мной ведет. Ну, я же говорил, что хочу быть отъебанным ею именно в том смысле, что она девочка и хочет меня выебать, хотя и не может в физиологическом смысле, но может духовно, ну, вы понимаете – этим сульфуром, который ее сердцевина, этот сульфур способен насладиться моей ртутью, которая во мне и суть меня. У нас со временем даже завелось что-то вроде игры, вот, например, когда Илья что-то особенное заказывал на обед или ужин и я снисходил, или просто он был голоден и я приступал к готовке, то между нами шутливо повелось вот это:
- Отвлеки Владу, она будет приставать.
- Заметано.
Ну, вы ж понимаете, что я хотел, чтобы она пристала. И мне хотелось, чтобы она, как мальчик, преодолевала некие преграды на пути ко мне, кстати сказать, именно подобные эксперименты помогли мне лучше понять, что нравится Владе, и в дальнейшем с радостью удовлетворять ее хотелки. Я как-то прочитал фразу, что «ты не научишься правильно обращаться с членом, если не побываешь на другом его конце», и мне она очень понравилась. Так и тут, если уж на то пошло, то я считаю, что бисексуальность для парней вообще мастхэв вот в этом отношении, я помню, как-то рассказал Владе одну свою потаенную фантазию, которая вообще не сильно необычная, просто сюжет там зачастую о девчонках, а у меня было наоборот, ну, типа, вот как будто существует некий обычай, где перед свадьбой молодые парни участвуют в чем-то типа мальчишника, где наслаждаются именно женихом в виде некоей инициации – чтобы он в дальнейшем лучше ублажал свою невесту и жену. Владе понравилась эта фантазия, так классно, что ей, как и мне, нравится мужской гомоэротизм, ну, короче. Самым прикольным в этом обсуждении, помню, было место, где я рассказывал о первой брачной ночи, где невеста, ну, уже жена по типу, похотливо улыбаясь, спрашивала мужа:
- Ну как, повеселился с мальчиками?
- Да, было отпадно, – отвечал он, – я даже не думал.
И им было обоим так классно в этот момент, и я помню, Владу так вдохновила эта история, что она впервые высказала мысль, не попробовать ли типа мне что-нибудь написать.
- Что в смысле?
- Ну, что угодно. Хочешь – просто про себя пиши, про нас, – она улыбнулась. – Ты интересно так рассказываешь, мне бы хотелось это записать.
- Та перестань!
- Нет, правда.
И тут впервые у меня в груди что-то такое возгорелось. Я попытаюсь объяснить: это было что-то в духе той творческой страсти, той творческой похоти, я бы сказал, как когда я переводил «Ведьму» и «Лето» на украинский, как тогда, когда мы с ней исследовали мою генеалогию и историю магдебургского права – то и дело отвлекаясь на соития. Мне бы сроду не всралась все эта писанина, если бы не то чувство, что вот это свое безмерное и невыносимое восхищение Владиной красотой, свое вожделение к ней, свой кипящий сульфур я должен выплескивать на эти страницы, как сперму во Владу, ну, блядь, я не знаю, как лучше сказать, мне плевать на ебучую литературу, язык и мертвую культуру, припадающую пылью и не стоящую ноготка живого человека, мне плевать на сгнивших уебанов-мудрецов, благословляющих маньяков, мне плевать на одряхлевшие конструкты их обоссаных империй, мне плевать на их религиозные догматы импотентов; мне НЕ плевать на эти волосы-галактики, на эту серость изотропных глаз, на эти губы, созданные ради поцелуев, эти руки, сотворенные лишь для того, чтоб их хватать, и эти бедра белые, которые кусать-кусать, и этот запах, пробуждающий во мне самца, и это лоно, ждущее меня. Я хочу весь быть возбужденным членом, раз за разом вновь в нее вонзающимся. Я хочу лишь раз за разом проливаться спермой, оплодотворяющей ЕЕ. И я хочу, чтобы она была довольна мной и удовлетворена. И если она хочет сверху, то пусть будет сверху, если она хочет ртом – я отымею ее в губы, хочет лизать и трогать мое тело – я буду отдаваться ей, как женщина, практически кончая от легчайшего прикосновения ее, и если она хочет, чтобы я забыл о ней и занимался сексом с парнем, то я буду любить этого парня так же сильно, как ее, а если она хочет, чтобы я писал роман, то значит, я начну писать роман. Я хочу только трахать ее, и мне, в сущности, похуй, как именно. Ведь я без памяти влюблен в нее. И околдован ею.
***
Вареники с картошкой и куриным фаршем были моими фирменными. Обычно я по-деревенски разбивал в тесто яйцо, это еще мама научила. Впрочем, в тот раз я только лишь тестом и планировал заняться – неплохо было бы вообще замешать его на сыворотке, но ее в магазине не купишь, можно обойтись и молоком. Фарш я поручил Владе – готового не было, и мы использовали пару окорочков – Влада должна была очистить мясо от кости и перемолоть на мясорубке с тройкой луковиц, перцем-горошком и несколькими зубцами чеснока – тоже фирменный ингредиент. Илье я поручил чистить картошку и сварить пюре, пюре готовилось обычно и мешалось с маслом. Я именно намеревался их занять и этим снять тревогу, которая, как бы там ни было, висела в воздухе. За готовкой, меся тесто, я и рассказал им про отца. Илья, помню, немного завелся:
- Ну, и зачем ты рассказал?
- А почему бы нет? – пожал плечами я.
- Просто… – он слегка замялся. – Можно было не рассказывать.
Я понял с полуслова, почему он так воспринял – он чувствовал типа себя виноватым, ведь разговор, как бы там ни было, его касался, и сейчас он пытался меня запоздало убедить, что ему совсем не обязательным казалось это мое признание.
- Слушай, – улыбнулся я. – Это же мой батя, в конце концов, и мне решать, рассказывать ему о наших отношениях или нет. Попустись.
- Та ну, я не в том смысле, – он тоже несколько смущенно улыбнулся.
- Ну вот и хорошо.
Он реально смутился – я видел, что он как бы, с одной стороны, тронут тем фактом, что я рассказал отцу о нем, да еще в таких выражениях (впрочем, они были абсолютно искренними), а с другой – пытался мне донести, что для него совсем не обязательно это признание в том смысле, что он не хочет быть причиной нашей с отцом размолвки, что ли. Я еще сказал, точно не помню в каких выражениях, что дело тут не в нем, конечно же, и если уж на то пошло, то даже не в моей ориентации.
- Просто он мудак, – заключил я, разминая тесто в миске.
Илья не ответил, и я видел, что он о чем-то думает, и кажется, я знал, о чем. О том, что он, наверное, был бы безмерно счастлив какому угодно отцу – лишь бы живому. Но я не знал, что ему по поводу этого сказать, и тоже молчал, и в этом тягостном молчании совершенно не отбил, как Влада типа между прочим поинтересовалась:
- А вы в дискорде общались?
- Не, в вк, – ответил я.
И еще подумал, что, наверное, она имеет в виду, что ВК подментован и, может быть, отец не мог в нем прямо что-то говорить, я уже приготовился на это что-то оппонировать, но она не продолжила эту мысль. Вскорости она пошла звонить в Германию, взяв у меня сигарету, и я доделывал фарш за нее, Илья уже варил пюре.
- Достань там замороженную зелень в морозилке, – попросил я.
- В фарш?
- Не, в пюре, размешаешь с маслом. Знаешь, с чего я охуеваю?
- А?
- Вот посмотри – то то кацапы взяли, то это, Сумы типа в окружении уже… может, так как Конотоп – уже взяты, а наши пишут – в окружении. А у вас на Донбассе за день пишут ноль продвижения. Как их наши там ебут так жестко?
- Ну, там… – он взялся за полотенце и понес кастрюльку к раковине. – Там не так, как здесь, там весь Донбасс, по сути, как одна агломерация. Городская застройка сплошная, короче. Ну, и там же много наших войск, по сути. И они их ждали.
Влада пришла минут через пять, когда я уже раскатывал тесто. Нам и слышно было немного, как она говорит на немецком на улице, и я спросил между прочим:
- Ну, че там?
Оказалось, ей звонила целая газета, там не пиздец центральная, но и не маленькая. И они типа настолько вывели Владу тупыми вопросами про «украинский кризис в разрезе большой русской культуры», что она им вывалила все, что думала о них, о русских и о том, насколько ей вообще думается о культуре в миг, когда ее пытаются убить просто из-за ее происхождения, примерно как ее еврейских предков в середине прошлого столетия – она именно что ЧЕТКО провела им эту параллель.
- Ну, молодец, – сказал Илья, размешивая масло и зелень в пюре. – Теперь к нам точно вскорости придут.
Я отвесил ему шуточный подзатыльник, впрочем, именно изобразил – руки были в тесте.
- Да не напечатают, – отмахнулась Влада. – Она такая охеревшая была, не знала, что ответить… Вот знаете – малой мне нравилось там, но они какие-то такие… я не знаю, как это объяснить, ну, помните, я говорила про ту книжку?
Она попыталась объяснить, что они, с одной стороны какие-то декадансно капитулянтские, но, с другой стороны, даже в этом капитулянстве есть какая-то надменность… В общем, она запуталась, пытаясь подобрать определение, и я в какой-то момент сказал:
- Как в межрасовом порно.
- Как?
Влада не поняла, Илья тоже вопросительно взглянул.
- Ну, смотрите… – начал я, моя руки.
И тут я малость сплоховал, ну, не то чтобы именно сплоховал, но получилось как-то нелепо-забавно. Прикол в том, что во всей этой ситуации я тупо забыл, что обсуждал это с Владой, но не обсуждал с Ильей. Опять же – не потому что я это СКРЫВАЛ от Ильи, а просто потому что его это меньше интересовало и даже, как мне казалось, немного смущало наподобие наших с Владой просмотров порно или… Ну, вот этих самых обсуждений. Я же говорил, что мы с Владой часто обсуждаем наши девиации, и меня особенно греет то, что мы с ней можем вот типа обсуждать это ебучее магдебургское право, а потом, за что-то зацепившись, как бы совсем без перехода начать обсуждать какую-то еблю, причем точно так же увлеченно, а потом опять перескочить на магдебургское право, или алхимию, или вообще что угодно. А Илью вот эти переходы, как мне кажется, немного смущают, потому что я не раз краем глаза замечал, как, находясь с нами, он с интересом слушает наш триндеж о магдебургском праве, но как только мы начинаем о ебле – он быстро выходит, как будто за чем-то, ну, не прям всякий раз, но бывает. Впрочем, с другой стороны, я с ним в отношениях даже дольше, чем с Владой, и вообще, я очень эмпатичен, хотя и не всегда люблю людей, и поэтому мне кажется, что его это и смущает, и нравится, и ему нравится его смущение. Короче, это тоже своего рода брачные ритуалы. Но вот я хочу сказать, что, исходя из этого, все же есть целый пласт тем, которые мы легче обсуждаем с Владой именно потому, что мы тут больше на одной волне, а не потому, что мы это скрываем от Ильи, или еще что-то в этом роде. И вот мы с Владой как-то обнаружили общий интерес, ну, блин, короче, к сексу с крепкими чернявыми парнями. Я не знаю, стоит ли мне тут применять слово, обозначающее в русском расовую принадлежность этих парней, тем более что понятие расы давно и прочно опровергнуто, ну, скажем, очень чернявых, понятно, надеюсь? Но вообще это был обширный разговор, и я в числе прочего признался, что и у чернявых девушек тоже есть эта своеобразная притягательность – я это место очень четко запомнил, потому что тогда впервые задумался над тем, что попытался сформулировать тогда вечером 24 февраля на кухне. Я помню, что хотел применить к притягательности черных девушек эпитет «дикая» или же «первобытная» и осекся, и сказал что-то другое, более нейтральное. И дальше, увидев некоторую нотку ревности во взгляде Влады, начал ее третировать тем, что я типа просто вообразил, что именно она ебется с черной девушкой, и ничего такого.
- А я бы просто смотрел, не бомби.
- Рррр, – зарычала она на меня.
А я не мог успокоиться:
- Ты такая бледненькая-бледненькая, а она такая черненькая, кофе с молоком реально…
Это было уже не так давно, и я, как объяснял уже, не настолько остро воспринимал лесбийское по отношению к Владе, меня даже немного это начинало интересовать.
- Да, ты бы вот так смущалась, а она тебя брала и постепенно, шаг за шагом развращала.
Она опять оскалилась, мой львенок, и сказала, так оскалившись:
- А может, это был бы черный парень, и он брал ТЕБЯ, а я б смотрела. Ты, кстати, тоже очень бледный.
Она это сказала с вызовом, типа поугорать, а я такой пожал плечами и ответил ничтоже сумняшеся:
- Как будто что-то плохое.
И тут случился миг, которые я обожаю в наших взаимоотношениях с Владой – мы обменялись ВЗГЛЯДАМИ. Такими какими-то все понимающими, любящими взглядами.
- Тебе хотелось секса с черным парнем? – спросила она после минуты звенящего наполненного смыслом молчания.
- А тебе? – спросил я, так же глядя на нее.
И, короче, после этого мы сошлись на двух сюжетах, которые нас сильно заводили. В обоих из них я, правда, настоял, что я хотя бы без увечий на ебале, ну, покрасивше, чем есть, иначе я на это не согласен даже и в фантазии. Она, скрипя зубами, согласилась. И вот, ладно, я опишу это здесь, потом, может, сотрем, не знаю, короче, в первом сюжете мы с Владой были парнем и девушкой, как и сейчас, ну, может быть, где-то не здесь, нам почему-то хотелось некоего инкогнито в этом вопросе, и мы решили, что мы оба в том же Берлине, например, ну, например, в европейском туре Влады, ха-ха, да, она крутая писательница, но не кинозвезда же – на улицах не узнают, ну, и, короче, она классная писательница, все дела, чуть ли не выступает там в каких-то университетах, а я ее молодой и (это важно – смотри выше) красивый любовник, олрайт? И вот после какой-то ее модной лекции мы оба, уставшие, снимаем или склеиваем атлетичного чернокожего парня, а может быть, даже двоих, чтобы расслабиться после тяжелого дня – ей после лекции, а мне – ну, после изнурительного шопинга, хаха. Этот сюжет нравился мне, я был больше его автором, хотя последующие развлечения с парнем или парнями мы обсуждали очень увлеченно. А Владе больше нравился другой сюжет, он начинался так же, вплоть до ее лекции и моего шопинга. Этот шопинг, кстати, в первый сюжет как раз со второго и перекочевал, изначально в моей задумке я, наоборот, бегал за Владой, помогая в подготовке лекции, а потом сидел в зале, морально поддерживая, ей же хотелось, чтобы я, пока она втирает немцам про искусство, как раз таки занимался шопингом, забив на ее эту скукоту, а потом пришел к ней в отель и оттрахал ее до счастья и изнеможения, а затем сам, недостаточно удовлетворившись Владой, пошел в какой-то бар и склеил крепкого чернокожего парня чисто для себя.
- Идет, – сказал я, и мы поцеловались.
***
И вот я, долбоеб, тогда вывалил весь этот разговор в качестве преамбулы к тому, что я хочу сказать, причем я пытался не потерять мысль и самозабвенно лепил вареники, не глядя на реакцию своих любимых. И очнулся лишь, когда услышал от Ильи:
- Богдан, я буду бить тебя.
Но вы должны понять, вот трудно передать в тексте – это звучало так жалко, и робко, и обиженно, что я прям сразу растерялся. Я взглянул на него и тут только все понял. Он ревновал и обижался, неподдельно. Причем, казалось, больше на меня, чем на Владу, и это меня поневоле рассмешило. Но хорошо, что Влада ринулась к нему, пока я не издал какой-то подлый нежелательный смешок.
- Ильюш, ну это просто…
Она включила это утютю, встроенное на всю мощь, но в этот раз ДАЖЕ ОНО не стразу сработало, настолько почему-то Илью это задело. Мне до сих пор немного стыдно, хотя ситуация была именно что неловко-смешная.
- Тебя тоже бить? – прервал Илья Владу.
Тут я подумал, что его это обиженное возмущение именно в мою сторону все-таки может быть вызвано гендером, хули. Владе он, может, сразу постеснялся угрожать физической расправой.
- Немножко можно, – вздохнула Влада, покорно приклонив голову.
Это возымело действие, он стушевался. Я в этот миг, с одной стороны, позавидовал ее всемогущим встроенным бабским настройкам, а с другой – безмерно радовался, что она у нас такая есть.
- Ну, блин, – обиженно скривился он, – вас двоих, наверно, надо колотить время от времени…
- Немножко можно, – усмехнулся я, возвращаясь к вареникам.
А затем меланхолически добавил:
- И все-таки ты страшен мне, Отелло. Ты гибелен, когда твои глаза…Так бегают. Мне нечего бояться: я за собой совсем вины не знаю… И все же я боюсь тебя, боюсь!..
Влада заржала первой, потом сначала нехотя, а потом уже свободней вслед за ней заржал и Илья. Потом он, все еще смеясь, приобнял ее, она приклонилась к нему.
- Ну, вот ты понимаешь, – все еще смеясь, так как-то по-родному говорил он ей, – почему я влюбился в него.
- Как никто, понимаю, – сказала она, лукаво глядя на меня.
- Один-один, – сказал я хмуро. – А знаешь, почему я влюбился в тебя?
- Почему? – он обнимался с Владой и не ожидал атаки.
- Потому что ты смуглый.
Влада снова заржала в его объятьях, а я сказал:
- Два-один.
- Та ну, пошли вы… – он вырвался из объятий Влады и пошел в двери.
- Стоять! – крикнул я, и он остановился.
Я, подходя к нему, подмигнул Владе.
- На счет раз…
- Раз!
И мы поцеловали его в щеки.
Причем я немного измазал его в тесто и муку, нечаянно.
***
- Дослушай про порно, – крикнул я ему, повернувшись от стола.
- Не хочу.
- Ты куда вообще?
- Та на турник.
- Ну и вали. Вареники почти готовы.
- Я не долго.
Мы с Владой снова засмеялись.
- Короче, вот что, – начал я, бросая вторую партию в кастрюльку. – Я тогда подумал, что в этом контексте все равно есть что-то расистское, понимаешь? Вот как бы между сюжетом, где белый плантатор пользует чернокожих рабынь, и сюжетом, где белая телка отдается чернокожему крепышу или нескольким чернокожим, изменяя мужу, или не важно – там все равно есть это превосходство белых, понимаешь? Потому что без него этот сюжет бы никому не всрался, понимаешь? Ну, чернокожий и чернокожий, типа? Нет же особого фетиша там… на темноглазых ебырей. Ну, или он редкий, типа моего.
- И моего.
- Ну да.
Мы засмеялись вновь.
- Но я хочу сказать, что в этом коленопреклонении я тоже вижу подспудный расизм. Как и вот в этом фетише. Ведь не секрет, что преобладающие фетиши в каком-то смысле характеризуют текущие общественные настроения. Вся пикантность в этом, как в какой-то, извини, зоофилии. Они не вполне за полноценных людей считают тех, перед кем приклоняют колени, врубаешься? Я об этом подумал, когда сам фантазировал о подобном коитусе. Я, блин, в курсе, что славяне не белые, но это тоже ведь какое-то подражание, как варварские лорды подражали римлянам, не знаю. Я, представляя трах с могучим чернокожим парнем, все равно воображал себя подобием Нерона, отдающегося своему рабу, ты понимаешь? Но если бы я не был Нероном, а он не был рабом, то в этом не было бы сладости, ты понимаешь? А в этом кайф, ты понимаешь, что ты такой весь знатный и красивый, музицируешь, пишешь стихи и отдаешься грязному рабу. Если задуматься, все это мерзко именно вот с этой стороны.
Она задумалась.
- Ну, может быть… Не знаю. Помнишь, мы говорили, что мне нравится какой-то элемент насилия, но это же не значит, что ты хочешь причинить мне боль, если ты просто делаешь то, что меня заводит, если мы об этом говорим. Это, наоборот, мне кажется красивым.
- Я согласен с тобой, но не знаю, как сформулировать точнее. Может быть, дело в том, что это какой-то личный извод взаимоотношений, а становясь общественным, он неизбежно приобретает некие уродские черты. Даже не знаю. Я сейчас подумал, что с тобой согласен – обмениваясь нашими желаниями и удовлетворяя друг друга, мы лучше понимаем красоту друг друга, если хочешь. Но почему, перенося это на все общество, мы теряем эту красоту, как будто, знаешь, квантовые взаимодействия нельзя экстраполировать на макромир, ведь там работают совсем другие правила.
Я устал от этих мыслей и вообще устал – не знал, что еще говорить.
- В любом случае должен сказать, что я тем не менее завидую чернокожим парням. Пусть их считают унтерками, как и меня, но хотя бы ценят как удовлетворителей, я бы и от такого не отказался, а то совсем грустно.
- Я тебя ценю как удовлетворителя.
- Тем и живу.
Она ткнулась головой в мое плечо.
- Так кто хотел вареничков?
- Я! Я!
- Сейчас, еще немного…
В этот момент вошел Илья.
- Ты вовремя, – сказал я, на него не глядя.
- Там техника какая-то тяжелая по трассе движется опять.
Мы молча посмотрели на него.
- Уже темно, не видно. Они как будто бы без фар, с одними габаритами.
Тут позвонил мой телефон, и я даже дернулся. Это был Саша.
- Да, Саш?
Я едва взял пальцами в муке.
- Богдан, это…
Его голос был то ли задумчивым, то ли уставшим.
- Погасите лучше свет или на окна что-то плотное накиньте, – после паузы. – Но лучше погасите.
- Я понял. Слушай, тут какая-то техника по трассе едет – это не наши, не знаешь?
- Не, это пидары. Погасите лучше свет, чтобы не видно было с трассы.
- Хорошо. Ты как?
- Та все нормально, уже дома.
- Хорошо.
- Давай.
***
Окна в мансарде мы завесили плотными простынями поверх гардин и погасили там свет. Окно внизу со стороны леса тоже завесили, а вот большие окна от дороги просто зашторили, потому что столько материи у нас попросту не было. Но мы хотя бы погасили везде свет и зажгли только два ночника, один на кухне, один в большой комнате возле двери. Затем Владе позвонила мать – они доехали как раз на ее родину, потом почти что сразу кто-то позвонил из-за границы, и Влада пошла наверх и громко говорила там на немецком – мы с Ильей, естественно, нихера не понимали. Илья покрутился и пошел в гараж искать еще какие-то лампочки – он говорил, что там у него есть пара светодиодных светильников, типа для спальни, ну, то есть, собственно, мансарды, но он не помнит, где они, я побубнил на него, что вареники остынут, он вновь заверил меня, что он быстро. От нечего делать я вновь написал Вите, который парень – он сказал, что все затихло и что все его знакомые в городе, как и они, сидят по домам и не знают, что происходит. Потом он еще дописал, что какой-то его кент (он почему-то был уверен, что я его тоже знаю, но я в душе не ебал, кто это такой) типа ходил еще днем в военкомат, и там его буквально послали нахуй. Ну то есть их там несколько человек ходило вместе, и вот их нескольких послали нахуй из окна второго этажа – двери в военкомате были заперты. До сих пор не знаю, правда это или какая-то кулстори. В любом случае, после этого разговора я вспомнил, что хотел пригласить Сашу и Виту на ужин, но Саше я почему-то постеснялся перезванивать и набрал Виту.
- Вит, слушай, я забыл Саше сказать – вы приходите, может, к нам вечерять, а? Мы будем рады.
Она ответила, что Саша уже спит – лег и отключился, а она только-только уложила малую. Я уже думал пожелать ей доброй ночи, если так, как вдруг она просто сказала, что придет одна. Впрочем, я не удивился этому – она до сих пор была на адреналине, это слышалось в голосе. Вряд ли она щас заснет, и ей хотелось движения и говорить с людьми – я ее отлично понимал, меня самого целый день что-то такое накрывало. Как раз зашел Илья с этими лампочками, и я ему сказал, что Вита придет ужинать – он зажег одну эту лампочку и прилепил к холодильнику, после чего, накинув курточку, пошел встречать Виту на дорогу, взяв фонарик. Я расставил миски, ложки, вилки, высыпал в большую миску фабричную корейскую капусту из холодильника – ее почти никто не ел, кроме меня, мне она нравилась… Ну, все равно салат особо делать не из чего, в основном консервация и что-то в морозилке. Типа пойдет. От 23 февраля остался почти целый незамысловатый тортик, и я решил подать его как десерт, предложить кофе, чай. Может, заварить кофе сейчас? А если Вита любит чай, я как-то и не знаю… Я сел на табуретку посреди кухни и, кажется, впервые за весь день ощутил, насколько мне адски хуево. Хотелось вусмерть нахуяриться, как в юности. Когда я тупо заливал водярой боль. Я даже подумал, не выпить ли мне ту начатую бутылку вина в одно рыло. Да у нас в шкафу, там, наверху, кажется, и коньяк какой-то был нераспакованный – кто-то Владе подогнал из городских функционеров после презы – не пойми к чему. На самом деле я, хуй знает, выпил бы я даже вот это вино, хотя бы полбутылки. Я не напивался с пятнадцати лет, с того самого последнего раза, и даже просто пил лишь за компанию с Владой, наверно, изредка, каких-то полбокала, как и она. Ну, может быть, бокал – раз или дважды. Я не знаю, может быть, если б не Вита, то я бы попробовал выпить. Понятное дело, что ни Влада, ни даже Илья у меня из рук бы то бухло не вырывали. Но я бы все равно втихаря ебанул, потому что я знаю, что они бы сделали, сказали бы – значит, и мы нахуяримся. А я этого не хотел. Но Вита решила прийти, и это было так кстати. Не только потому, что вообще отвлекало, но еще и потому, что я вдруг вспомнил, как мы с ней пересекались чуточку на тусах бог знает когда – когда я был еще здоров. Я ж говорю – я не был с ней знаком, ну, может, представляли, хуй его там знает, просто в курсе был, что старшая телка из той-то компании типа… Я, может, перебрасывался с ней парой слов там на гульках, забавно, что она меня помнит, но вообще я по пьяни часто довольно заметный был, несмотря на тихость по трезвому, чото постоянно я мочил, и это, думаю, бросалось в глаза. Но не то чтобы мы именно знали друг друга – она была старше и туса другая, короче. Но в этом и прикол. Я почему-то, вспомнив это, наполнился еще большой теплотой к Вите, щас попытаюсь объяснить: она была человеком из той моей прошлой, бог знает когда закончившейся жизни, но именно сейчас это и было важно. Она, короче, была частью конотопского оборонного вала, если вы понимаете, о чем я. И даже вот то, что мы встретились случайно здесь, на этом практически хуторе, в преддверии вторжения, казалось не случайным, вот мы бухали вместе почти десять лет назад, потом разошлись по своим жизням как бы навсегда, но именно сейчас вновь встретились и узнали друг друга – мы как бы были частью одной стаи. А может, одного ныне умирающего мира, но это не грустно, а напротив, добавляет какого-то родства. Короче, то, что я сейчас буду кормить эту девушку вместе со своими любимыми людьми, меня мобилизовало – бухать перехотелось и даже вроде разгорелся аппетит.
***
Влада еще говорила наверху, когда они вошли – сначала Вита, потом Илья, он, видимо, ее пропустил вперед себя, открыв предварительно дверь. Я почему-то ожидал, что появление Виты в доме будет в чем-то театральным, даже сложно объяснить, как это, ну, короче, типа в этом будет что-то картинное, как в этих колоннах на трасе или в первом услышанном мной взрыве. Но Вита вошла так, как будто все время была здесь, только за чем-то выходила на улицу минут на пять. Я щас понимаю, почему – вопреки адреналину (а может, как раз благодаря ему) она была такая очень собранная, она даже как бы немного сутулилась, как мне показалось – в отличие от вчерашнего вечера, и вообще. Но эта сутулость была не испуганной, а такой, как будто за миг до того, как человек начнет бежать. Вот понимаете, скупость движений и все по делу – вот такой вайб. И мое подсознание простроило интересную линию, которая, может быть, и была не только лишь теорией – она зашла в коттедж так, как будто этот дом был ей не чужим, а не чужим он ей был потому, что мы им не чужие. А не чужие мы им потому, что мы из одной стаи, понимаете? И это меня грело.
- Привет, ну, как ты? – сказал я.
И сделав шаг к ней, приобнял ее. Так очень-очень сдержанно, едва-едва. Она тоже сдержанно обняла в ответ, тоже почти только коснулась меня, но от этих прикосновений она как будто наконец расслабилась и выдохнула.
- Привет… – действительно на выдохе сказала, улыбнувшись. – Ой, подожди, разденусь.
Она, снимая курточку, заговорила, и говорила быстро и почти не останавливаясь. Как заблудилась утром в селах Черниговской области, как ругалась с Сашей по телефону, как на каком-то этапе, пока она еще ехала, они действительно планировали вдвоем идти в военкомат. Потом как они чуть не разминулись – его кто-то подвозил под Киевом, а она чуть не поехала дальше в Киев. Потом как они подвозили какого-то пацана в ту же Черниговскую область, а пацан этот с раннего утра чуть ли не пешком шел из Киева домой. Потом она стала рассказывать, как они объезжали крупную дорогу, и застряли на грунтовке, и выталкивали, а дальше уже в сумерках видели большое зарево со стороны той же Черниговщины. Я усадил ее за стол, кивая, и буквально заставил съесть вареник. Илья сел рядом с ней, типа за компанию, и я ему подвинул миску.
- Блииин… – вдруг протянула она, пережевывая. – Вкуснятина какая! Это Влада варила?
- Я, – улыбнулся я. – Ешь.
- Ты?
- Ну, че такого? Фирменное блюдо, между прочим.
- Подтверждаю, – кивнул Илья. – Не упросишь приготовить.
И сам принялся за вареники. Я отметил, что и Илья воспринимает Виту как часть стаи – хотя он только вчера познакомился с ней. Дело в том, что это, может быть, неочевидно, но чужому человеку он бы не сказал такую фразу про вареники – она все-таки предполагала, что мы настолько близко взаимодействуем, что я готовлю для него, и он меня упрашивает что-то приготовить иногда. Но Вита была занята варениками – вряд ли даже что-то отбила.
- Мммм… а как у тебя тесто получается такое пышное?
- Это зависит от фазы луны и света звезд, – улыбнувшись начал я, сам усевшись за стол. – Вот смотри, когда Луна в Меркурии…
- Дурочку гонишь? – как-то так по-свойски спросила она.
- Естественно, – пожал плечами я.
Она засмеялась с набитым ртом и кивнула Илье.
- Вот он и малым такой приколист был, помню.
- Таким и остался, – сказал Илья, слегка подмигнув мне.
- Иди хозяйку позови, – парировал я, – все остынет.
- Та разговаривает же.
Илья сам с аппетитом хавал.
- А это че, немецкий? – прислушалась Вита.
- Ну да, – кивнул я, подвигая и к себе миску.
- Слушай, а… где она так наблатыкалась?
- Училась за границей.
- Да? Прикольно.
- Это… – я откусил вареник. – И действительно неплохо в этот раз.
- А ты фарш сырой кидаешь, извини?.. – спросила Вита, жуя.
- Ну да, он, как пельмени, варится в воде.
- Я поняла.
- Влада – писатель, довольно известный. У нее есть на немецкий переводы, – сказал я.
- Слушай…
Вита вдруг затрясла вилкой.
- Это… Так, подожди, это она книгу презентовала где-то в Новый год, и в пабликах писали…
- Да.
- Блин… а че вы не сказали? Я так-то не слежу особо и не сопоставила. Классно, слушай. А можно книжку почитать как-то?
- Я дам, – кивнул я.
- Ну, я бы, может, че спросила. А не только про ногти трепалась.
- Та ну тебя.
- Вообще, я в школе немецкий учила.
- Серьезно?
Она кивнула.
- И можешь разобрать, что Влада говорит? – усмехнулся Илья.
- Ну, неудобно ж слушать, – усмехнулась и она.
Влада на весь дом орала, конечно, – сильно там надо прислушиваться было.
- Что-то о войне, – сказала Вита как-то грустно.
- Вит, ты белое вино употребляешь? – спросил я.
Она на меня посмотрела.
- Тяпнем по глоточку?
Она задумалась и тут же кивнула.
- Можно, наверное.
Я взял бокалы и налил всем – поставил один и возле Владиной тарелки.
- Ну… давайте за нас, – сказал я, держа бокал. – И чтобы им не обломилось.
- Да, – сказала Вита.
И мы чокнулись.
***
От чая и кофе Вита отказалась, сказала, что пригрелась у нас и ей хочется спать, и вообще как-то навалилась усталость. Но рецепт вареников все же выпросила у меня на словах. Потом, пока они с Ильей одевались, я вспомнил про книжку и попросил Виту подождать, Илья уже выходил на улицу. Я дал Вите украинский перевод «Ведьмы» – ну, он был ближе всего, внизу целый ящик стоял их.
- Так а автограф? – спросила она, улыбнувшись.
- Подпишет потом обязательно, – махнул рукой я.
- Ладно, – она замешкалась. – Знаешь, Богдан, мы с девчонками так плакали, когда с тобой тогда… Ну, когда ты в больницу попал. Леша Кубик, помню, деньги собирал.
Леша Кубик – это старший парень, тоже футболист в прошлом – он играл когда-то в областном клубе, но потом что-то там не получилось, но он остался заядлым болельщиком, ездил даже на матчи Евро, ну и нас курировал немного, часто приходил на стадион, вообще был такой футбольный активист, короче, и ко мне хорошо относился. Я только в тот момент понял, что он, возможно, и был ниточкой, связывающей наши с Витой компашки, – он, кажется, был Витин ровесник.
- Да ладн, дело прошлое, – несколько смутился я.
- Короче, что-то я перепила, хах, но… хотела сказать, что рада, что у тебя все хорошо.
- Спасиб, я тоже рад, что мы встретились снова.
Она неловко прикоснулась к моему локтю, я еще раз кивнул. Все это было очень неожиданно, хотя и довольно приятно. И еще казалось, что все, о чем мы сейчас с ней говорим, происходило сотню лет назад, не меньше.
- Идем, я тоже выйду, – сказал я. – Ты, кстати, за Кубика не знаешь? Где он щас?
- В Сумах, кажется, был, тоже давно не видела.
- Что там щас в Сумах…
- Мне одногруппница звонила – говорит, видели танки в центре.
- Ихние?
- Ну да.
***
Илья пошел провести Виту прям домой, хотя она и отказывалась, а я, вернувшись в дом, сел снова за стол и допил вино в своем бокале – больше не хотелось. Я съел пару вареников, затем спустилась Влада.
- Вита привет передавала, – сказал я ей.
- Ты с ней говорил?
- Она вечерять приходила. Мы вот вино пили втроем.
- Тю, а меня че не позвали?
Влада была прям возмущена.
- Ну, ты же говорила.
- Та ну их… Надо было позвать.
Она уселась есть.
- Что там опять? – спросил я.
- Ммм, вкуснятина!..
- Спасибо.
- Богданчик, я тебя кохаю.
- Че там?
- Забей. Звонил тот чел, в арт-студии которого планировалась преза перевода «Ведьмы». А где Илья?
- Пошел Виту проводить.
- А… Короче, воду в ступе, опять же – мне доказывает… Вот зачем он час со мной проговорил? Чтобы что? Я уже не знаю, я ему говорю: «Герр Альфред, я уже достаточно вас успокоила по поводу вторжения в мою страну? Вы уже не так переживаете, а то я хочу спать, еще и светомаскировка…»
- Так и сказала?
- Примерно.
- Да че он хоть втирал?
- Одно и то же. Мне кажется, они тупо охуевшие и пытаются как-то преодолеть когнитивный диссонанс. Сюда все в кучу, как ты, кстати, и говорил, и виктимблейдинг, и какие-то абстракции…
Она смешно так говорила с набитым ртом, как всегда.
- И это, кстати, пренебрежение к нам, вот как ты говоришь. Такое впечатление, что если они скажут себе, что мы жалкие славянские унтерменши, а они нет, то это будет значить, что уж с ними такое никогда не случится. Но знаешь что – я вот в Киеве еще вчера знала кучу людей, которые думали, что уж с ними-то такого, как с Донбассом, не случится.
- Понимаю. Дак а что он предлагает?
- Вот это самое смешное, – она, усмехнувшись, пережевала. – Понимаешь, вот там нет понимания, что просто может огромный охуевший людоед пытаться уничтожить нацию. Вот нет, и начинается: это ж, наверное, какое-то недопонимание, давайте сядем, успокоимся. А когда ты говоришь, что там НЕ С КЕМ разговаривать, что там людоед, людоед, людоед – они говорят: «Мы понимаем ваши чувства, но». Вот это но. И дальше о благоразумии.
- Ясно.
- А когда я попытаюсь проводить очевидные параллели, о Мюнхене, о чем-то в этом духе – они сразу же блокируют: «Нет, это другое, это нельзя сравнивать». А когда я, блин, выйдя из себя, говорю: а можно мне сравнивать, если я еврейка, и мои предки лежат в Бабьем Яру, – то они говорят: «Мы понимаем ваши чувства». И как будто меня пытаются в этом убедить, как будто, если я сейчас скажу – да, вы правы, а я ничего не понимаю, я жалкая украинка, и мои глаза мне врут, и уши врут, и мозг врет, а вы во всем правы и все лучше меня знаете, то их мир обратно сложится назад и все будет как прежде.
Она помолчала, потом посмотрела мне в глаза, и изотропность этих глаз в свете светодиодной лампочки была не то чтобы видна, но чувствовалась.
- Милый, знаешь, я так рада, что осталась здесь сейчас. Не важно, что со мной дальше случится, но я хочу быть здесь, а они все пускай будут правы, умны, цивилизованны, благоразумны… а я буду украинской дурой здесь.
- Ты уже дважды назвала себя украинкой и один раз еврейкой – и то, и то мне очень нравится. И я тебя тоже кохаю.
Она засмеялась.
- Мне хочется продублировать свой прошлый тост, короче… бери бокал.
Я взял бокал Ильи.
- За нас. И чтобы им не обломилось.
Мы чокнулись, и Влада выпила, а я немного пригубил – пить не хотелось.
***
- Мне сейчас очень стыдно за то, что я говорила тогда, – сказала она, еще пригубив.
- О чем ты?
- Ты ведь был прав с самого начала, прав во всем!..
- Ты о чем?
- Знаешь, у меня иногда голова кружится от осознания того, насколько ты умней меня.
Когда она говорит, что у нее кружится голова от того, что я умней ее, то вы должны понимать, что ее слова – фульминантная ртуть, выжигающая мое сердце. Это ртуть, облаченная в пламя. И первое движение моей освобождающейся ртутной сердцевины в этот миг кричит: «Зачем ты снова делаешь мне больно?!!», – но ее огонь уже поджег желтоватые кристаллы моей серы, и ее серная сердцевина вопиет к моей внутренней ртути: «Сделай со мною то же самое!» – и на пороге красного рассвета наших душ, сливающихся в вечный уроборос, пожирающий и сотворяющий себя, я тихо говорю: «Я не умней тебя, я просто твой! Твой любовник, твой друг… и твое отражение».
- Я твое отражение, – говорю я ей, держа в руке бокал Ильи.
- Как?
- Я только что подумал, что больше всего на свете хочу быть твоим отражением.
Она молчала несколько секунд.
- А я твоим, – сказала.
Я не знаю, как вам описать, но у меня было чувство, что я совершаю великое делание со своей мистической сестрой. А может быть, это она в другом наполненном алхимиками-женщинами мире совершает делание с помощью меня – мистического брата своего. Кончики наших пальцев соприкоснулись над столом.
- Я влюблена в тебя. Но ты был во всем прав. А я нет. Все это православие есть интроекция в себя насильника.
- По моему, мы оба сегодня слишком уж уставшие для таких разговоров, – усмехнулся я, и она сжала мои пальцы. И мне было так невыразимо классно не чувствовать перехода между собой и ею. Я хотел быть ее отражением.
- Знаешь, я думаю, что я действительно был прав – только в одном. Но не в вот этих бесполезных разговорах, а в тот миг, когда в тебя влюбился. Потому что ты прекрасна, ты талантлива, ты гениальная, и эти все сентенции ценны не сами по себе, а потому что ты их произносишь.
Она меня почти перебила, практически сдавив в своей ладони мои пальцы.
- Я всякий раз возмущена подобной чушью. Но то, что эту чушь произносит обожаемый мной парень, совершенно сводит меня с ума, и мне почему-то хочется тебя съесть.
- Ну правильно, ты же львенок.
Она засмеялась чуточку захмелело – видимо, адреналин, как и недавно у меня, растворялся, и она чувствовала усталость. Но, резко оборвав смех, хотя продолжая улыбаться, она вдруг поднесла мою руку к своим губам и горячо поцеловала. Ненавижу, когда она так делает. Ну то есть – я полностью таю, когда она так делает.
- У тебя губы такие горячие, – сказал я немного растерянно и заторможенно.
- А что бы ты делал, если бы я перешла на их сторону? Если дело не в сентенциях, то… что?
Она смотрела мне в глаза.
- Богдан… ты… в смысле?
Я улыбался, но, мне кажется – улыбался одними глазами.
- Только не говори, что ты бы перешел со мной…
- А как бы поступило отражение?
- О господи, ты так прекрасен.
- Перестань... Зачем ты это делаешь?
- Ты так прекрасен.
- Я люблю тебя.
***
Была еще одна особенность этого дня, о которой мне хотелось бы напоследок рассказать. Уже после душа мы с Владой поднялись наверх вдвоем – Илья остался внизу, он сказал, что выспался и хочет посидеть в интернете. У меня возникло чувство, что ему хотелось нас поохранять, но, может быть, он действительно выспался, днем он спал довольно крепко. В любом случае мы с Владой были очень уставшие, почти что засыпали на ходу. Она посушила волосы и убрала их в пучок с помощью резинки, она была в халате, я в полотенце на бедрах сидел и втыкал в телефон на кровати, Влада подошла и немного подула мне на голову феном – я улыбнулся и зевнул. Мы оба как будто чего-то ждали, хотя дико хотелось спать. Мы посмотрели друг на друга.
- Что? – спросила она.
- Трусы? – спросил я у нее.
Она вздохнула.
- Ты тоже подумал про бомбу?
- Нет. Про ФСБ.
- Я все же думаю, что я им не нужна и ты преувеличиваешь.
- О, поверь.
- Хорошо, я теперь буду тебя слушаться во всем.
- Вот жаль, ты кружевных не носишь.
Она заржала и, смеясь, пошла к шкафу, я поднялся следом.
- Мужские кружевные тоже есть модели… – все смеялась она.
- Да, было бы в тему, не подумали, – я тоже засмеялся.
Обычно я носил слипы, мне они с детства казались самыми удобными, хотя я отмечал, что боксеры Илье шли (он их предпочитал), но сам их не любил именно из-за неудобства, лишней ткани, что ли, а может, я никогда не мог по фигуре подобрать, не знаю, не запаривался, слипов мне было достаточно. Влада тоже иногда носила слипы, но чаще всего хипсы, такие, с высокой талией, ей, кстати, тоже очень шли – с высокой талией.
Я видел, что она такие высокие зелененькие хипсы и достала, с широкой резинкой CK и надела, я же грустно улыбнулся, увидев набор своих слипов камуфляжных расцветок – это Влада как-то подарила, ей они нравились на мне. Опять вот эта неуместность всяких привычных вещей. Но тут же я подумал: «Та пусть уссутся», – и взял черные слипы с красным сердечком и белой надписью LOVE ME, ну да, прям на заднице. Влада улыбнулась, когда я их надевал, а я в ответ задрал ей халат и шлепнул по заднице, прямо по этим зелененьким хипсам.
- Эй, – она попыталась шлепнуть меня в ответ, но я легко поймал ее и скрутил, наклонив, а затем, быстро наклонившись, сам поцеловал то место, по которому шлепнул.
- Прости подлеца. И футболку?
- Ну да.
- Я, наверное, не буду.
- Да, конечно.
Я лег под одеяло, она скинула халат и быстро надела ночнушку с логотипом НАСА.
- Круто выглядишь, – сказал я ей.
- Ты тоже.
Она прыгнула ко мне, почти что на меня, и поцеловала в лоб.
- Илья, спокойной ночи! – крикнула.
- Наверное, в наушниках. Сейчас я напишу. Давай помолимся?
- Ты хочешь?
- Да. Отче наш?
- Давай. Ох.
Она взяла меня за руку, и я сжал ее руку в своей.
- Отче наш, иже еси на небесех …
XXII
Почему-то хорошо помню, что сон мой в ту ночь был глубокий и совсем без сновидений. Проснулся я в полумраке и один, сначала подумал, что еще очень рано, а потом только допер, что это же светомаскировка. Судя по времени на телефоне, было около девяти. Я открыл новости и параллельно написал Вите, который парень.
- Как вы?
Сначала подумал узнать, где мои, но видел, что Влада и Илья оба онлайн и слышал всякое приглушенное сование снизу, короче, я понял, что они оба внизу и что ничего особого не происходит, ну, вы понимаете, что это бывает сразу ясно из родных шагов, из всякого неясного бубнения. В новостях был тот же информационный бардак, что и вчера, я запомнил сообщения о том же Гостомеле, о какой-то разбитой кацапской колонне и целом сбитом транспортнике там. Все равно это все напоминало кино, потому что кацапов, которые двигались по трассе вечером, у нас никто не разбивал, а это казалось единственной заслуживающей внимания реальностью. Короче, листать интернет не хотелось. Между официальными сообщениями о том, что Конотоп окружен, начинали изредка промелькивать неофициальные о том, что, к сожалению, город потерян. По поводу Сум было вовсе непонятно, в Тростянце и Ахтырке ебашились. Я вдруг подумал о том, что больше не увижу украинский Конотоп. Мысль была, конечно, горькая, но в ней почему-то содержалось больше тупо констатации, как будто я в пятнадцать лет лежу и думаю: «Теперь я навсегда останусь инвалидом». Типа – ничего хорошего, но и не голосить же теперь.
- Доброе утро! – написала мне Влада.
- Я хочу твое тепло и запах, ГДЕ ОНО ВСЕ??
- Ты долго спал (поцелуйчик).
- Я на тебя обиделся.
- Не надо! (поцелуйчики)
Я коварно закрыл ее чат, и в тот же миг мне ответил Витя.
- Сидим в квартире. Свете лучше.
- А кацапы?
- Ничего не знаем.
Тело приятно заломило, и я потянулся. Эта полоска полиэстера и хлопка на бедрах, конечно, казалась непривычной с утра, но я специально выбрал тонкую и облегающую, хорошо сидящую модель. В повседневном быту мне больше нравится именно хлопковое, дышащее и более свободное белье. Без синтетики, более плотное. Но меня позабавила мысль, что мне не неприятно так лежать, и я приспустил одеяло – решил, что трусы вполне себе подчеркивают фигуру, и это показалось даже привлекательным. Я провел ладонями по бедрам, и эластичность ткани показалась мне приятной. Нет, это рили классно – себе нравиться, пусть даже на какой-то миг. Но мне вдруг резко захотелось как бы самого себя обломать и, как бы сказав себе мысленно: «Я больше не стану к тебе прикасаться!» – я резко сел, свесив ноги с кровати. Почему-то эта шутка меня очень позабавила – я именно ее запомнил, вот. К тому же что-то тут же написала Влада, а я демонстративно не ответил – даже не раскрыл взглянуть, что там. Вдруг пришла странная сонная мысль: «Я хочу нравиться себе, а на нее не обращать внимания». Вы должны понимать, что в этом не было агрессии или там вызова – я безумно любил эту девушку, но главным в этой мысли было уже мной в этом тексте проговоренное чувство того, что я смогу ПОЛНОЦЕННО любить ее, только если буду по-настоящему любить себя. Но я хочу полноценно любить ее. Я почему-то редко задумывался о том, что путь к любви к кому-то лежит через любовь к себе. Это ведь очень тупо и просто, но…
Я встал и в этой мутной полутьме подошел к шкафу и открыл дверцу. Там было такое вертикальное зеркало, ну, типа для примерки, можно было видеть себя в полный рост, а не как в продолговатом зеркале на комоде. Короче говоря, мне захотелось взглянуть на себя. Потому что я хотел проверить это неожиданное чувство – «хочу нравиться себе». Эти черные слипы и правда мне шли и прекрасно сидели. Я показался себе сонным, со сна свалявшиеся волосы спадали на глаза, я никогда не носил длинные волосы, признаться, мне сексистски кажется, что мужчинам они мало идут, ну, мне, во всяком случае, не нравились. Но и совсем уж коротко мне стричься не хотелось, все-таки густые волосы – прикольно, когда чувствуются, и обычно я стригся под классическую шторку, зачесывая просто набок, мне нравилось, когда локоны небрежно падают на глаза (ага, особенно на парализованную сторону), виски я не брил, но немного брил затылок. Сейчас слежавшиеся волосы как раз прикольно небрежно сплетались. Мне нравилось, как я летом загорел на речке – конечно, я не очень восприимчив к загару, но более, чем Влада, восприимчив, и загар был все-таки заметен даже именно на этом контрасте, и он долго держался, ну, речной местный загар, прилипчивый, даже и до сих пор немного угадывался, рили. С этим загаром был один прикол, короче, я и до этого не регулярно, но порой пользовался кремами для депиляции. Я довольно-таки шерстистый от природы, именно такой пиздец мужик, как обезьяна, лол. Только что спина не волосатая. И мне не то чтобы это не нравилось, нет, но иногда вот было настроение еще с юности, ну, хочется побыть гладеньким, что ли. Пару раз я брился, еще как жил один, но при моем оволосении это была реально мука. Самостоятельно использовать воск я стремался, а в салон пойти – да вы, наверно, издеваетесь, где, в Конотопе? Но несколько лет назад я открыл для себя депиляционные кремы вот эти, причем именно подобрал для чувствительной кожи, короче, реально тема – и безболезненно, и просто, и хватает что-то типа на неделю. Но я все равно им пользовался спорадически – Илья к этому как-то индифферентно относился, вот именно я не мог из него вытащить, как ему больше нравилось, так или этак. Он такой тип святая наивность…
- Как с волосами? – спрашиваю.
- Хорошо.
- А без волос?
- И без волос отлично.
- Ну пиздец.
И вот это постоянно – ему по ходу действительно одинаково. Я как-то так его заебал этими расспросами, что он попытался объяснить:
- Ну, блин, ты мне и так, и так все равно нравишься. Ну вот ты часто пару дней небритый ходишь, мне нравится, когда небритый, и когда побреешься, тоже нравишься. Делай как хочешь: хочешь депилированным – норм, не хочешь – тоже замечательно.
- Вот ты меня совсем не любишь, как это тебе все равно?
- Мне не все равно! Мне именно что нравится и то, и то.
- Урод.
- Богдан, чего ты хочешь?
- Секса.
- Так бы и сказал.
Ну да, вот как-то так. А вот что касается Влады… Короче, Владе нравилась моя небритость. И волосатость тела тоже нравилась. Были какие-то совсем неожиданные для меня вещи в наших взаимодействиях. Например прикосновение к моим щекам. Вот именно небритым, со щетиной.
- Зачем ты трогаешь?
- Ну, хочется.
- Так я колючий.
- Именно колючесть хочется потрогать. Хо-о-очется… Сиди!
Или мои кисти гладить, целовать, я как-то прямо спросил:
- Тебе что, подшерсток этот нравится?
- Ага.
- Серьезно?
- Очень.
Мне это льстило, ну, и типа, еще лучше – меньше мороки, значит. К слову говоря, сама Влада вообще на лазер ходила еще до нашего знакомства и уже при знакомстве один раз перед приездом в Конотоп тем летом. Мне она нравилась гладкой, но с ней я как-то лучше понял Илью, мы как-то обсуждали, когда она какие-то там волосинки на ногах заметила, и я сказал ей:
- Ты думаешь, мне б твои небритые ноги не нравились или лобок?
- Почему?
- Ну, это реально какие-то частности.
В том смысле, что мне ее ноги нравились, а уж в шерсти они, в штанах, с загаром или без – такие мелочи.
Но вот этот загар меня летом сподвиг избавиться от волос на теле, и Влада немного бомбила от этого (тем более что не знала, что я собираюсь). Я даже немного обиделся, помню:
- Я думал, тебе понравится… – говорю
- Мне нравится.
- А че ты?
Она меня успокаивала, и в результате сказала, что ей нравится то, что мне нравится, и потом даже несколько раз подхваливала гладкость моей кожи (тут уже я бомбил и уличал ее в неискренности). Но, наверное, прикол в том, что тебе хочется любить то, что любит твой любимый человек. С этой мыслью я смотрел тогда в зеркало. Я пару недель назад пользовался кремом, и волосы немного отросли, но казались еле заметными, еще и в таком свете. Я думал эту мысль, что Влада и Илья любят меня, а значит, с моей стороны просто свинство – не нравиться себе. И вот эта мысль – «я хочу себе нравиться» – в затемненной нашей неуклюжей светомаскировкой мансарде. Парень в отражении когда-то был невзаимно влюблен и чуть не покончил с собой. Парень в отражении красиво говорит на украинском. Парень в отражении писал красивые стихи. Парень в отражении вкусно готовит. Парень в отражении все лето загорал возле реки. Парень в отражении не любит спать в одежде. Парень в отражении влюблен в другого парня. Парень в отражении влюблен в прекрасную девчонку. Парню в отражении идут черные слипы. Парень в отражении желанен и любим.
- Я люблю тебя, – вдруг полушепотом сказал я парню в отражении.
И вдруг я неожиданно для самого себя поцеловал этого парня в отражении. Просто приклонился к зеркалу и прикоснулся губами к его губам.
***
- Почему не отвечаешь?! Ты красивый сонный.
Влада сидела на диванчике с макбуком, нерасчесанная и закутанная в плед. Голые ножки выглядывали из-под пледа. Она тоже была очень красивой сонной, но мне не хотелось ей этого говорить, и я не сказал.
- Ты бросила меня.
- Ты долго спал!
- Ушла, и не оправдывайся.
- Она ко мне ушла, – улыбнулся Илья, не поворачиваясь.
Он споласкивал кофейный аппарат. В футболке с мерчем групы Dysphoria (это мой подарок) и спортивках, босой. Тоже красивый, как ебаный Аполлон в футболке Dysphoria и спортивках.
- Подеремся за нее? – спросил я, стоя в одних слипах в центре кухни, и протер глаза.
- Давай, – кивнул он и поставил в раковину контейнер из кофеварки, сделал шаг ко мне.
Я выпустил руки, как бы пытаясь поймать его руки – как в борьбе, он встал в аналогичную позу, и мы примерялись как бы броситься друг на друга, очень сосредоточенно, я чуть не заржал, поймав краем глаза совершенно охуевший взгляд Влады, кажется, она даже челюсть отвесила. Классный бы получился прикол, если бы Илья чуть дольше подыграл, но он, дурак, только лишь мы столкнулись, начал щекотать.
- Эй, хватит! Только не щекотка… Идиот!
Я буквально толкнул его на диван, а у него было, ну, такое уж невинное выражение лица, совершенно детское, типа «я ж ни при чем». Он откинулся и запрокинул голову, касаясь босыми ногами голых колен Влады, что сидела с краю, охуевшая еще. Я рухнул на него и чмокнул в губы:
- Получил? – спросил.
И вдруг почувствовал, как мои слипы резко тянут вниз.
- Эй!
Я попытался обернуться, но Илья прижал меня к себе.
- Пусти меня.
- Лежи спокойно.
- Почему ты вечно ей подыгрываешь?!
- Потому что я влюблен в нее.
Мы вновь поцеловались. Я чувствовал ее пальцы, буквально вонзающиеся в обнажившуюся кожу моих бедер. Илья целовал мою щеку, а я отклонился, чтоб снова увязнуть в меду его взгляда. Его пальцы тоже вонзились в мою спину, и вдруг уже ее рука ожгла мой позвоночник и плечо, а обнажившиеся бедра растопляли поцелуи. Резкие, горячие, голодные.
- Влада, я НЕНАВИЖУ тебя! – зло выкрикнул я чуть ли не сквозь слезы.
После чего мгновенно ощутил сильный шлепок по ягодице, от которого весь обратился в беззащитный стон.
***
Мы с Ильей вдвоем стояли в душе, когда он сказал.
- Они вроде бы в городе, ты слышал?
Я, подставив ладони, умылся.
- Хз, мне Витя говорил, после стрельбы все вроде бы затихло. Все по домам сидят.
- Там техника сгоревшая кацапская, отам, возле больницы вроде и моста, ну, знаешь…
- Да.
- Что-то по типу бехи. И там люди фоткать выходили, и вроде бы возле той техники кацапы шароебились, в разгрузках, всей хуйне, вооруженные. Вроде бы даже и на фотках есть, но я не видел этих фоток, и фоток с триколорами на исполкоме и вокзале тоже нигде нет, а все базарят.
- Зачем ты сюда приехал?
- Что?
Я вышел из-под душа и немного вытерся.
- Город Горловка, Донецкая область, я, подполковник ФСБ Хуйлов Игорь Иванович, тебя допрашиваю, ну?
- Ну, типа…
- Вот, лицо попроще, правильно…
Он засмеялся, я тоже, утираясь. Очень нежным как-то получился этот общий смех.
- Типа ничего не знаю, у меня тут бабушка, да?
- Бабушка, малым был…
- Думаешь, поможет?
- Нет.
Я взял зубную щетку и выдавил пасту из тюбика.
- Я выходил утром в лесок – на трасе тишина такая, даже странно, – проговорил Илья себе под нос, выключив душ.
- Блядь… – едва разборчиво матернулся я.
Стоило пасте запениться, я почувствовал боль – покровила десна. Я подошел к раковине и выплюнул пасту с кровью, прополоскал затем рот. Илья, проходя мимо, легонько приобнял меня, по типу успокаивая.
***
У Влады тоже было свое фирменное блюдо – острая арабская яичница с помидорами или томатной пастой. Я порой смеялся над ней, что это традиционная еврейская шакшука, она смеялась, но утверждала, что это вообще отцовский рецепт, который он узнал от кого-то в армии еще, по типу. У них дома готовила мачеха, а отец иногда только эту яичницу. Впрочем, мне нравилось – у Влады как-то всегда получалось поддерживать температуру на сковородке, обычно она использовала сливочное масло – жарила лук с приправами, потом по чуть-чуть помидоры и пасту, потом в этом яйца. Получалось красиво и вкусно, напоследок добавлялась зелень… Сейчас, пока мы мылись, Влада и стояла у плиты – я понимал, что ей хотелось отыграться за мои вчерашние вареники, но вообще вот она такая, если вы еще не поняли – злопамятная и мстительная. Вот это мое утреннее истязание ею было ведь не чем иным, как МЕСТЬЮ за тот мой вчерашний невинный шлепок! Но вот она такая – не упустит, сроду, и всегда хочет побеждать и быть главной. А я хуею с себя, насколько мне это внутренне нравится. И еще вот это состояние мое всегдашнее – даже если я ее нахально трахну (конечно же, по первому ЕЕ желанию), то мой сульфур как бы перегорает, и я становлюсь к ней нежным, растекаюсь ртутью, но когда она меня – то в моей последующей неизбежной нежности есть отличительные особенности. Когда я ее беру, то моя последующая нежность – это в первую очередь забота, а когда она меня, то это что-то вроде восхищения влюбленности. То есть там, конечно, тоже влюбленность, но там забота влюбленности, а тут восхищение, как-то так. Мы как-то с ней говорили об этом, и она сказала, чтобы я всегда помнил о том, что это чувство восхищения ко мне, после того как я ее имел, она всякий раз испытывает, и поэтому ей так нравится мне отдаваться. Ради этого чувства – сказала она.
- Ну, так и ты знай, что мне поэтому тоже иногда хочется отдаваться тебе.
- Хорошо, – улыбалась она удовлетворенно.
Тогда же утром я, спустившись сверху уже одетый, повесил полотенце обратно в душевую – у меня вот с той поры не истребилась эта привычка не ходить по дому голышом, с той самой первой секунды, когда я узнал о начале войны. Это было как со сном голышом, ну, вот как-то объясняешь себе, что бомба или ФСБ, но, может быть, внутри не только это. Забавно, что – это очень забегая наперед – Влада скучает за моей наготой, уже бывало и вот подобное стягивание с меня трусов, и разговоры с намеком и прямо, и даже несколько раз она сама ходила голой по дому или квартире СПЕЦИАЛЬНО, чтобы я разделся за компанию, я раздевался пару раз, конечно, и она радовалась, но потом… Какая-то ирония, я заметил, что веду себя подобно ей в начале наших отношений – все равно потом что-то накину, как бы просто невзначай… Ну, это не такая большая проблема, но есть вот эта особенность с тех времен до сих пор.
В то утро я спустился в спортивках и кенгурушке. Влада колдовала над плитой в теплых хебешках и той же ночнушке, закутанная в плед, вот она как-то умеет в него кутаться, что он при этом не стесняет движений и не мешает ей, я так не умею, например, я если и обмотаюсь, то хожу как халабуда в нем, как будто заболел. А она стоит вот над плитой, такая нерасчесанная, классная, сосредоточенно перчит яйца и готовит зелень, чтобы бросить. Я подошел к ней и, легонько коснувшись ее плеч, поцеловал в макушку. Эта девушка прекрасна, она только что делала со мной все, что хотела, и мне теперь хочется ей тупо поклоняться.
- Решила отомстить за вареники? – спросил я, все еще касаясь ее плеч и вдыхая вкусный аромат из сковородки.
- Решила накормить своих любимых завтраком, как и пристало женщине. – сосредоточенно, но не без явной ноты победного ликования в голосе сказала она.
- Ну и ладно. Спасибо, – сказал я и отошел.
В этот момент она меня опять, хотя уже очень легонько, шлепнула.
- Хватит меня трогать, победила, победила, да! – забубнил я, беря кружку кофе.
- Даже и не думала, – лукаво усмехалась она, бросая зелень в сковородку.
- Ты такая злопамятная, мстительная, жесть… – бубнил я, отхлебывая кофе, она молча улыбалась, глядя в сковородку.
Вошел Илья, воткнувшись в смартфон, и уселся на диван, я тоже от нечего делать пошел с кофе к нему и уселся рядом со своим смартфоном. Помню, в то утро чего-то разговорился Витя – я увидел от него сразу несколько сообщений, и мы некоторое время вели довольно глупый и ненужный разговор о какой-то дурацкой политике. Он размышлял о том, начнется ли теперь третья мировая война, или некое великое переселение народов, или еще какие-то пертурбации, я помню, что неловко поправлял его то в том смысле, что персы – шииты и поэтому вряд ли они могут быть центром «исламского мира» в обозримой перспективе, а Турция вообще-то светская страна, вполне вестернизированная в общем смысле слова. Я сам был не уверен в том, что несу, потому что знал об этой срани максимум из википедии и никогда всерьез не интересовался. И вообще не понимал смысла щас это обсуждать нам двоим, провинциальным долбоебам. Но мне хотелось вместе с тем как-то поддерживать разговор, если уж Витя хочет об этом разговаривать. Я помню, что и за завтраком об этом еще переписывался одной рукой параллельно, что-то самое общее обсуждая с Владой и Ильей (и даже их посвящая в этот разговор с Витей, ну, вкратце). Яичница была отпадной, Влада и Илья красиво утренние, в коттедже было тепло и он казался мне какой-то норкой или рукавичкой, где мы втроем засели и сидим. В какой-то момент я положил телефон и, хавая, слушал об еще одном заграничном интервью Влады, которое она дала буквально только что, с утра, просто здесь на диване, сидя в объятиях Ильи, текстово с макбука.
- Классно было? – спросил я у Ильи, жуя потрясную яичницу.
- Непередаваемо, – кивнул тот, тоже хавая.
- О чем вы? – спросила Влада, отхлебывая кофе.
- Не твое дело.
- Нет, серьезно.
- Я спросил у Ильи, – я повернулся к ней, – насколько ему классно было обнимать всемирно известную писательницу в миг, когда она дает интервью европейскому изданию.
- Та ну тебя!..
- Так и есть, – опять кивнул Илья с набитым ртом. – Мы с Богданом часто это обсуждали, у меня было волнение по поводу того, что меня возбуждает твой статус…
Он вытерся салфеткой.
- Но Бог убедил меня, что это как раз таки классно.
- Вы издеваетесь?
- Конечно, – кивнул я и тоже вытерся салфеткой. – Но это не отменяет искренности сказанного. Быть любовником всемирно известной интелектуалки – это немыслимый кайф.
Я встал и быстро чмокнул ее в щечку.
- Не думай, что ты до конца победила, – подмигнул я ей. – И было обалденно вкусно, кстати.
Я уже отошел от стола, тоже немного ликуя, как услышал знакомый звук из кармана и болезненно покривился. Месседжер ВК. Блядь, я же его ТАМ не заблочил… Но, взглянув на дисплей, я на миг задумался и посмотрел на Владу. Мы встретились взглядами, и через миг она сказала негромко:
- Прости. Ну, я не удержалась.
- Что ты написала?
- В основном фотки. Я тебе перешлю, если хочешь.
- Ану, перешли.
- Ты сердишься?
- Та не, забей. Просто… Блядь, это смешно. Посмотри, что он прислал.
***
Когда Влада прочитала, мы вновь посмотрели друг на друга молча и почти одновременно засмеялись.
- То есть, прикинь? – сказал я.
- Что там? – спросил Илья.
- На.
- Тю.
- Ну, вот. Ты понимаешь, Влад, ты что-то типа очистителя, я как бы грязный стал от отношений с Ильей, а от отношений с тобой, что – типа очистился? Что у этих ебанатов в голове, я не могу понять… Это какое-то мышление, как будто у цыган – я слышал, женщинам на втором этаже жить нельзя, потому что у них месячные и весь дом запомоят. Что за хуета…
Пересмеявшись, Влада заявила:
- То, как он повел тебя с собой после твоего признания, – это просто возмутительно, мне захотелось ему в морду дать, прости, Богдан. Но поскольку я не могу этого сделать в силу разных причин, я сделала это, ну, как могла, ха-ха…
- Пришли мне все-таки, что ты ему там написала.
- Щас.
- Пойду на улицу и что-то напишу ему…
- Уверен?
- Да, чего-то хочется.
- Ну, сам смотри.
***
От него было ровно одно сообщение, и выглядело оно так: «Почему ты не сказал, что у тебя есть девушка?». Я просто охуел от этого – ну, выше видели.
Оказалось, что еще вчера поздно вечером Влада отправила ему подборку фоток, где мы с ней вместе, причем одна была даже недвусмысленная, где мы с ней полулежим голые, и она, обнимая, прижимается ко мне, там ракурс целомудренный вполне, но фотка все же эротического содержания, не порно, но эротика, короче, свет приглушенный и лица Влады именно по ней не узнать, но если смотреть на другие, что она прислала, где есть лицо, то понятно, что это она. Текст гласил: «Здравствуйте, Денис Борисович! Меня зовут Владислава, я девушка вашего сына. То, что вы ему сегодня написали, просто возмутительно, и я не могу об этом молчать. Я хочу, чтобы вы знали, что, по моему мнению, Ваш сын – самый мужественный парень из всех, кого я когда-либо встречала, я влюблена в него сильнее, чем в кого-либо в своей жизни, и если Вы серьезно верите в то, что смели написать ему, то вынуждена констатировать, что Вы совсем не знаете своего сына. За сим откланяюсь – не надо отвечать мне, я вас заблокирую. Ниже – мои фотографии с Вашим сыном в разное время года, надеюсь, это достаточное доказательство. Всего хорошего».
Господи, я так люблю ее… Она самое лучшее, что было в моей жизни. Ну, опять же – Илья тоже, но он меня понял бы всецело в этом утверждении. Я еще полюбовался этими фотками – реально подборка фоток парочки, очень видно, что мы парочка, даже без объятий, поцелуев, поз, это даже в самих взглядах видно, это не подделать. Хотя объятия, поцелуи и позы там были в количествах, причем Влада именно как девушка это тонко подобрала, да, в разное время года, и во всяких конотопских местах, типа того же парка, перекрестка на Миру, горисполкома… Ну, что сразу отметает постанову, понимаете? И вот он это мне написал впоследствии.
Я вышел на улицу и закурил. Было облачно и сыро, как вчера, все как-то серо, талый снег и серость-сырость. Ветер как будто дышал размеренно и тихо, сосны шевелились, и действительно стояла тишина, которую я тут практически не слышал, такая глухая, одинокая какая-то. Я подумал, что надо звякнуть Вите или Саше, но сначала написал Владе в дом: «Свари мне еще кофе, плиз».
- Ок, – написала она почти сразу.
Потом добавила:
- Принести тебе куртку?
- Не надо. Не холодно.
Действительно, было не то чтобы холодно – именно сыро и слякотно. Я написал отцу.
- Так у меня и парень есть. Я ж говорю.
Удивительно, что он тоже ответил почти сразу – как будто бы ждал, что ли, хотя…
- Ты просто молодой. Это пройдет.
Я обратно заржал. Ну, пиздец. НУ, ПИЗДЕЦ. Как может быть, что я тоже, получается, не знал этого человека? Как может быть, что он насколько ебанат?
- Ты что, опять считаешь меня сыном, потому что у меня есть девушка? А если бы был только парень или никого – то не считал бы?
Ответил через некоторое время – пока я опять подошел к турнику.
- Богдан, я вчера наговорил тебе лишнего.
Я смотрел на это сообщение, пришло второе.
- Конечно, ты мой сын.
И я стоял там перед турником и думал, что те вчерашние его сообщения были менее болезненными для меня, чем это. Потому что мне было комфортнее просто послать его нахуй и забить. Типа мы чужие люди, ну и все. А тут опять нахлынула вся эта срань из детства, юности, вся эта поебота… Вот этот весь клубок насилия, насмешек, унижений, в котором можно, может быть, найти то изначальное зерно любви, но там где-то настолько глубоко, что неохота уже даже и копаться – весь измажешься в этом дерьме. Да, я хотел быть отдельно и сам по себе, я полтора часа назад поцеловал свое отражение в зеркале и испытал от этого неведомое раньше счастье, а теперь я должен вновь нырнуть во все это безумие? Я только-только, кажется, начинал понимать, что моя любовь к Илье и Владе – это не зависимость, и они не наркотик, мой главный наркотик, говоря начистоту – я сам. А они люди, которых мне легко и приятно любить, но, блин, вот эта максима из тупых психологических книжек о том, что надо полюбить в первую очередь главного человека в своей жизни – себя самого, она, как это смешно бы ни звучало, но она работает. А теперь разговор с ним, который нес страдание. Конечно, ты мой сын… Да почему конечно-то? Потому, что ты не разговаривал со мной несколько лет? Потому, что я по гроб жизни должен был быть благодарен за те деньги, что ты мне время от времени посылал, а с какой стати? Ты высчитаешь каждую копейку ту, как будто меня в рабство хочешь взять за те копейки, а при этом я стал инвалидом в детском возрасте, когда ты за меня должен был быть в ответе. Я уж молчу, насколько ты в этом сам виноват. И как будто эти деньги делают меня миллионером, и как будто дело вообще в этих деньгах… Меня Илья обеспечивал в последнее время, но я не помню, чтоб хоть раз был хоть намек на подобный разговор с его стороны. Я помню, даже как-то что-то начал, когда нам на что-то не хватало, типа – может, ты думаешь, я дома сижу, он отмахнулся, я опять начал, в результате он сказал:
- Ты мой любовник, это твоя должность, ок?
- Борщи еще варю, – смеялся я.
- Ну да, входит в пакет.
Я уж молчу о том, что Влада в совсем последнее время обеспечивает нас обоих, но, кроме тех анекдотических историй про машину и подобное (да и то в самом начале отношений), я не помню, чтобы эта тема подымалась между нами, с какой бы то ни было стороны. А тут вот это… Короче, мне было неприятно это внезапное типа снисхождение ко мне: «Наговорил лишнего… мой сын».
- У тебя сейчас все хорошо? – написал он опять.
- Нет. Конотоп захвачен.
- Не захвачен, а освобожден.
Да как ты заебал…
- Ты перестанешь? – не выдержал я. – Ты будешь меня слушать или нет?
- Я слушаю тебя, Богдан. Не хочешь позвонить?
- Нет, не хочу.
- Почему?
- Мне тяжело с тобой говорить.
- Почему тяжело?
Я стоял и думал. Потом, так и не снимая кенгурушки, десять раз подтянулся на турнике. Десять раз. На крыльцо выглянула Влада с пледом, поставила кофе на скамейку.
- Богда-аш!
- Да, я вижу, спасибо.
Она послала мне воздушный поцелуй, и я поймал. Потом посмотрел на пустырь и ответил:
- Потому что ты вчера отрекся от меня, а теперь опять несешь какую-то сугубую фигню, как будто ничего не сделалось.
- Я извинился.
Тут меня вынесло.
- Нет, ты НЕ извинился. Ты сказал, что что-то там наговорил, и этого, по-твоему, достаточно. Нет, недостаточно. Ты не имеешь права относиться ко мне надменно только на том основании, что произвел меня на свет, а не наоборот. Ты понимаешь? Не имеешь. И либо ты начнешь разговаривать со мной как с полноценным взрослым и РАВНЫМ тебе человеком, либо я прекращаю этот разговор.
Потом я дописал, пока он читал.
- Я занесу тебя в ЧС и здесь, если увижу хоть попытку унижения с твоей стороны. Помни об этом.
Он что-то писал, потом остановился, потом снова написал, причем, скорей всего, он стер то, что писал изначально, потому что итоговое сообщение было очень коротким для такой долгой писанины.
- Где я тебя унизил?
Потом еще короткое.
- Я не понимаю.
А ведь он действительно не понимает – чуть не вслух подумал я. И бесполезно что-то объяснять.
- Извини меня за то, что я вчера тебе сказал.
Новое:
- Я звонил тебе потом всю ночь.
Новое:
- Я действительно выпил, ты прав.
Новое:
- Я не оправдываюсь.
Новое:
- Я просто не пил совсем уже шесть лет.
Новое:
- Вчера сорвался.
Новое:
- Но сегодня я трезвый.
Новое:
- Может быть, ты позвонишь?
Я чувствовал, что меня снова втягивают в ЭТО. Вот он сидит на кухне или в коридоре, пьяный, такой жалкий… Но, может, он ПОГОВОРИТ со мною? Трезвым он даже не посмотрит в мою сторону, но, может быть, сейчас поговорит, пускай и пьяный?.. Из этих «разговоров» никогда и ничего не получалось. Было только хуже. Любил ли я его? Конечно же, любил. Но он с каждым разом делал мне больнее и больнее, и больнее, и больнее… Я чуть было не убил себя из-за него, ну, в том числе из-за него. И я начинал понимать, что мою любовь к нему он использует как средство для вторжения. Я должен отстраниться от него. Я не знаю, чего я хотел. Почему я хотел с ним говорить всю жизнь, что я хотел услышать от него?
Богдан, ты хороший?
Как хорошо, что ты у меня есть.
Богдан – ты мое счастье.
Мне хочется плакать, когда я пишу эти фразы, потому что я думаю о том, что было бы, если бы я их слышал – в детстве, юности… Как бы сложилась моя жизнь?
Богдан, ты мое счастье…
Но ведь я действительно был их счастьем! Я действительно был чем-то самым важным в их жизни, просто ПОТОМУ что. Просто потому, что по-иному быть не может. Но если я не дождался этих фраз от них, то я, имхо, должен оставить их в покое и услышать наконец-то эти фразы от самого главного в моей жизни человека – меня самого. А не втягиваться вновь в эту бессмысленность и тьму наших токсичных отношений.
- Я не позвоню.
- Хорошо, но ты отсюда не уйдешь?
- Чего ты хочешь?
- Просто говорить.
- О чем?
- Ну, я переживаю за тебя.
Илья и Влада вышли в курточках во двор.
- Бог, мы пройдемся к лагерю! Не хочешь с нами?
- Идите не спеша, я догоню.
Я взял кружку с кофе и так и пошел за ними следом, попивая и глядя в телефон.
- Думаю, я понимаю, в чем тут дело, – написал я на ходу. – Мне кажется, ты все-таки каким-то боком понимаешь, что происходит, но, убеждая меня, убеждаешь себя, что все не так. Ты не мог настолько оторваться от реальности за эти несколько лет. Я думаю, что все ты понимаешь.
Выйдя на дорогу, я снова закурил и спрятал телефон. Влада с Ильей уже скрылись в лесочке, я захромал следом. Они идут в ту просеку возле лагеря, где мы вчера ходили с Владой. Я допил кофе. Тут пришло сообщение, но не в контакте, а в фейсбуке, что ли. Я выбросил окурок и достал телефон.
- Богдан, привет. Ты как?
От Кати. Именно ТОЙ Кати. Моей первой любви.
***
Я не общался с ней после попытки суицида. Она не приходила ко мне с одноклассниками ни разу, и через третьи руки я слышал, что девчонки упрашивали ее несколько раз, а она говорила им, что не хочет, потому что я выгоню ее прочь. Я бы не выгнал ее прочь и был бы рад, если б она пришла. Но она не пришла, а потом наш класс выпустился. Я, конечно, видел ее пару раз в нашем клубешнике, но уже сильно позже, после всего, наверное года через два, не раньше. Забавно, что она всегда со мной здоровалась первая, и так, ну, как-то жалко, мне чего-то так казалось:
- Привет, Богдан.
И тупила глаза. Я говорил:
- Привет.
И больше ничего не говорил, шел по своим делам. Я не знал, что еще говорить после всего случившегося. Я продолжал ее любить тяжелой и высасывающей кровь любовью. Мне несколько лет казалось, что я смогу быть счастлив только с ней. И никто, кроме нее, мне был не нужен. Я только теперь понимаю, что любил не ее, а образ своей смерти с ее ликом, что я соединил ту детскую невинную любовь со смертной тьмой и сделал ее, Катю, чем-то вроде лика своей смерти. Она была такая Улялюм, пускай живая, но могильная, ведь я умру ради нее, не так ли? А может быть, из-за нее, но это частности, это не важно. Ну, или я пытался умереть из-за нее…
Пару раз девчонки подбивали меня провести Катю домой, после клубешника. И, конечно же, мне этого хотелось, но я всякий раз делал вид, что воспринимаю это как неудачную и вообще-то оскорбительную шутку, типа «идите в хуй, задрали», и они отваливали. Один раз Лена, ну, та другая одноклассница, буквально привела Катю ко мне. Это было, по-моему, поздней весной. Я еще ходил на костылях, но уже сам выходил во дворик, сидеть на лавочке возле детской площадки. У нас там был такой уютный дворик, как бы ограниченный котельной и ларьком, а напротив ларька мусорными баками, даже забор стоял возле котельной, ну, короче – не проходной двор, там всех я знал. И вот я сидел там довольно часто где-то около обеда, курил, или книжку читал, или лазил в смартфоне, короче. И, бывало, пару раз ко мне приходили одноклассники на переменках или так, сбежав с уроков – школа наша там была недалеко, и Витя приходил, и Лена эта тоже, еще с несколькими девчонками, короче, как-то она пришла с Катей, но вообще они типа не пришли, а приехали на великах, типа им обеим куда-то надо было и они заехали по пути. Хер его знает – верить этому, не верить. Да какая разница? Но прикол в том, что я разговаривал практически с одной Леной – с Катей только поздоровался, по сути.
- Садитесь, – кивнул я на лавочку.
И Катя села вот так рядом со мной на лавочку, а Лена отказалась, увидев качели, – там была такая гойдалка на площадке, на которой и взрослые катались. Вообще Лена ее видела уже тысячу раз – нахуй было так экзальтированно охать и бежать к той гойдалке буквально.
- Пообщайтесь пока, – улыбнулась она нам и побежала к гойдалке.
Я сидел и думал, какая она ебучая дура. Возможно, в первый раз я подумал, что, может быть, и все телки такие. У меня как-то с ними на постой не получалось, блин, конекта, что ли. Я не был там каким-то кавалером не вьебись, конечно, но, скрывать не стану, паре девчонок нравился до инвалидности, чего уж там. Какая-то просто возле меня крутилась, ирл и в интернете навязывая общение, какая-то там что-то пробивала через одноклассниц, и они меня потом подначивали. Но я был в этом плане настолько похуистичен, что даже привлек спорадические смешки по поводу моей ориентации (прикольно, что по итогу не беспочвенные), но мне, блин, не то чтобы было похуй, поймите, просто мне прикольно было любоваться ими, все такое, какие-то фантазии у меня были подростковые, чего уж там. Но в разговоре… Вот может кто-то объяснить, зачем телка шарахается от тебя, как от прокаженного, делает каменное ебало или даже глупо дерзит при каком-то банальном бытовом вопросе (что ты даже охуеваешь – что такое?), а потом набивает о тебе рамсы через твоих одноклассниц на предмет возможной встречи.
- Твоя невеста о тебе интересуется.
- Какая еще невеста?
- Ну, с которой ты шептался!
- Когда?
- Ну, Алена, блин, вчера.
- Я спрашивал по поводу автобуса.
- Какого еще автобуса?
- Который на маршруте у ее отца. Меня тренер просил разузнать, нельзя ли его арендовать на день, чтобы нас отвезти на игру, а то на электричке долго ехать. Она меня вообще послала с ходу, че, блин, за приколы?
- Ха-ха-ха!
- Съебите.
Ну, и вот такое. Это надо понимать, что та Алена, ебнутая вечно, что-то обо мне несла и морщилась, меня завидев. Ну, вот, у меня с ними по-другому не выходило. Кто-нибудь может объяснить, на какой собачий хуй названивать мне на мобильный и сбрасывать около полугода через день? Вот какой в этом смысл? Причем – сбрасывать ответные звонки, не отвечать на эсемески, но упорно названивать, заебывая. Я знаю, что это телка, потому что Витя как-то с батиного на этот номер позвонил практически после этих приколов (я радом сидел, понятно) и спросил какую-то Оксану выдуманную, типа ошибся.
- Телка, – сказал он мне.
- Да слышал.
- Но голоса не узнаю.
- Я тоже.
Но для меня вот это тайна пуще великого взрыва или расширения – нахуя это делать? Вот у тебя язык отсохнет предложить сходить в кафе? Ну, ладно, ты стесняешься, окей, но есть же тысяча способов сблизиться с человеком, не заявляя ему прямо «ты мне нравишься» или «хочу с тобой потрахаться» – девушкам ли этого не знать? Нет, надо звонить полгода, хамить мне при любом удобном случае, морозиться на самый примитивный разговор, чтобы потом устроить какой-то пьяный дебош из-за того, что я при тебе на Катю посмотрел влюбленно, а я не мог даже предположить, что вызываю у тебя какие-то такие чувства… Или наоборот – малознакомому парню, за команду которого ты с подругами ходишь болеть, неожиданно после тяжелого матча признаться в симпатии и убежать в слезах, чтобы тот там стоял охуевший, смущенный и не понимающий, что дальше делать. Ну, такое. Говорил же я уже, что после встречи с Ильей я долго думал, что я таки гей – нам с друг другом было очень просто и легко, ну, небо и земля в сравнении с.
Ну, так и вот тогда я там сидел и думал вот об этой Ленке, что какая же она подорва ебаная. Ну вот нахуя? Я, может быть, хотел бы говорить с Катей, но я не понимал, что говорить. В который раз признаться ей в любви? Так я уже признавался. Что? И что она ответит? А хуже всего, что она может же ответить из стыда, из чувства жалости, из-за того, что полгорода о ней говорит, что она довела парня до самоубийства. Это меня и останавливало, и я решил, что тупо буду по ней страдать, раз уж мне хочется, а говорить я с ней не буду. Мне, блин, и нравилось страдать, если на то пошло. Я выдумал ее себе как такую мрачную Дульсинею, если хотите, это просто была красивая история, ну, мне так казалось – я был влюблен в нее и сломал себе жизнь из-за нее (печальный смех). Там на детской площадке, пока Ленка каталась на гойдалке, мы просидели с Катей рядом, может быть, минуты две – она молчала, я молчал. Потом я заметил соседского малого, копающегося в чужой клумбе, и сказал Кате:
- Извини, я щас.
Встал и мысленно опять обозвал Ленку идиоткой. Я мало того что сидел здесь разбитый и страшный, а она приперла Дульсинею на меня поглядеть, так еще я по привычке оставил костыли возле каштана, ну, чтобы не торчали и не занимать ими всю лавочку, но только теперь мне придется при телках встать и допрыгать до костылей на здоровой ноге. Я встал, допрыгал, прошелся по дорожке метров пять и закричал в сторону подъезда:
- Теть Тань, то ваш малой у Овсиенко в клумбе роется?
- О Господи! – заголосила та. – Андрюша! Андрюша, шо ты робиш, ти такий-сякий… Спасибо, Богданчик.
- Та не за что.
***
После этого я виделся с Катей пару раз мельком в нашем заведении вечерами, кто-то, бывало, меня подначивал, чтобы я ее домой проводил – я не понимал, больше в этом издевательства или реального участия… Через пару лет она вышла замуж, и мне стало легче. Я, конечно, не хотел, чтобы она страдала. Ходить и думать «я влюблен невзаимно» было грустно, но в общем не смертельно, даже романтично. А вот думать, что «а вдруг она меня действительно любила?»… Вдруг это все трагическое недопонимание? И, может, надо подойти еще раз, похуй на резоны в духе «насколько она будет искренна, не скажет ли она «люблю» из одного чувства вины», подойти и, может, обрести свое единственное счастье. Она вышла замуж и счастлива в браке, наконец-то. Нет, никогда не любила. А даже если и любила – все прошло.
XXIII
Впервые это было классе, может быть, в девятом. Она просто подошла на переменке и сказала, улыбаясь: «Богдан, а я знаю, кого ты любишь!»
- Кого? – спросил я.
- Меня, – ответила она, все так же улыбаясь.
Я пожал плечами и сказал тоже с улыбкой:
- Может быть, и так.
И ушел по своим делам.
Ничего неприятного в этом не было – напротив, это было классно. Знаете, что было слаще всего – любоваться ею. Просто смотреть, как она сидит за партой, накручивает волосы на палец или делает заколку из карандаша. Смотреть, как она распускает волосы, вынимая этот карандаш. И слушать ее голос. Я запомнил, что как-то видел, как она обнимается со своим парнем, и не чувствовал ни грамма ревности. К чему, в сущности, ревновать? Мне нравилось ее любить, а этого чувства у меня ни этот парень, ни она сама не отберет. И пусть. Ну, что такого, что она встречается там с кем-то. Я, по сути, с ней встречаться не хочу, мне классно любоваться ею очень издали и, вот что главное, и ВДОХНОВЛЯТЬСЯ ею! Мне хотелось прыгать на мячи, бежать в центр поля, делать подъем-переворот на турнике и просто жить в чудесном мире, освещенном ее красотой. В какой же момент ее образ и лик как будто примерила смерть? Я не знаю. Помню, что, возможно, что-то темное я начал ощущать уже подростком, когда заметил, что держу с ней некую дистанцию, это даже мило было в своем роде, но, например, если мы были в спортзале с пацанами, что-то обсуждали, и вдруг заходила она с подружками, то я, выждав для порядка с минуту, уходил, как будто и планировал уйти, мне начало казаться, что она вызывает во мне настолько сильные чувства, что эти чувства способны причинить мне вред, я неиронично ощущал это на уровне физиологии – ну, в обморок нахуй свалюсь, хоть это и смешно, но правда ведь – сердцебиение, дыхание, потливость, головокружение. Ну, конечно, не прямо уж в обморок, но, короче. Возможно, где-то там я начинал сравнивать ее с наркотиком, еще не прямо так, но вот на ощущениях. Потом я помню первый случай селфхарма, еще о котором никто не знал, но я его очень запомнил, причем мне тяжело его проанализировать. Я помню, что после тренировки шел домой с несколькими пацанами, и они что-то обсуждали, какую-то ебаную срань на самом деле, типа тачек, в которых я, естественно, не разбирался. Я сейчас не могу толком понять, что меня вывело тогда. Этот разговор о тачках? Типа вот они говорят так деловито, а я в этом ничего не понимаю и… я хуже их. Не знаю почему, но хуже. Я сидел дома за компом потом, и помню это жгучее чувство ущербности, типа они такие взрослые и говорят о тачках, я никогда не смогу быть таким, как они. Вот я сейчас не понимаю – я тогда мог с тем же успехом говорить о Витухновской или о Южнинском кружке, но это мне казалось бесполезным и смешным, а эти тачки… Тачки. Это было как в тумане. В креплении светильника торчало лезвие обычной бритвы – ну, точить карандаши для черчения, плюс в детстве я немного рисовал, пробовал рисовать простые комиксы… Я взял это лезвие, закатил рукав рубашки и, как в тумане, вырезал чуть ниже локтя слово «КАТЯ», не очень большое, но четкое. Смотрел на него, как оно наливается кровью. Мне это казалось красивым. Потом я написал в блокноте фразу «ты не нужен никому» и смотрел на эту фразу. Почему «ты», а не «я»? Это работа Собеседника? Потом я все-таки наложил на слово КАТЯ пластырь, ну, широкий. А на следующий день нам объявили, что парней будут вести в военкомат – первый раз, на какой-то досмотр. «Ну, все, пиздец», – подумал я, представляя, как на осмотре этот пластырь заставляют снять и вызывают психиатра. Короче, этого удалось избежать, возможно, и к худшему. Я очень плотно замазал вырезанное на коже слово зеленкой, ебанул два пластыря и обмотал бинтом. Витя первый у меня спросил, что это за херня, когда мы раздевались там, в военкомате, я сказал, что поцарапал кот, соседский. И еще небрежно так спросил:
- Как думаешь – снять не заставят?
- Не знаю, – сказал он. – У меня старший брат было порезался ножом на кухне, так ему в военкомате на осмотре еще и обрабатывали по новой.
«Блядь», – подумал я.
Но кулстори про кота прокатила везде.
***
Когда я уже сильно пил, то про мою влюбленность в Катю казалось знали абсолютно все, хотя я никаких шагов в ее сторону так и не предпринимал. Это уже начинало заебывать тупо на бытовом уровне.
- Богдан, подойди к нам!
- Мне некогда, я занят!
- Подойди!
- Отстаньте!
- Подойди, тебя Катя зовет!
Или я, бухой в говнину, что-то отмачиваю, и меня толпой ведут умыться, и слышу ее голос из толпы:
- Блин, алкоголик!
- О, видишь, Катя о Боде заботится!
- Еще чего!
Или бухаем с пацанами, и в припадке взаимного «уважения» начинается:
- Та дай я с пацаном поговорю!.. Я слышал, тебе Катя Салтыкова нравится…
- Чего ты хочешь, Макс?
- Не, ну, я просто, понимаешь, надо знаешь что… Вот будешь в клубе, ты ее на танец пригласи, не бойся, да… Еще раз пригласи. Потом можешь домой провести…
- Я понял. Хорошо.
- Та ты не агресируй, я ж как лучше!..
- Хорошо.
Как ты, пидарас, заебал своими танцами да провожаниями, когда уже и так пройти нельзя бывает, словно я на ней женат, причем самым куколдским образом, кароч. Дошло до того, что эта Ленка нас сводила пару раз. Ей-богу без малейшего моего вмешательства. Я и вообще послал бы эту срань куда подальше – мне тупо нравилось тогда бухать и похапывать изредка. Я даже начал забрасывать футбол, и тренер отложил мое вхождение в основной состав как основного воротника, и я с ним даже посрался, помню. Ну, это не суть дела. Короче, в нашем клубе Ленка как-то подвела ко мне Катю, типа им надо сходить к ней, Ленке, домой, она там рядом жила, за чем-то, но им одним страшно – короче, самая тупая хуета, которую только возможно выдумать. Типа со мной, бухим, не страшно шляться ночью. Ну, короче, я пошел, но, как на зло, буквально метрах в двухстах от клуба мы наткнулись на двух гопов – оба были старше, и одного я шапочно знал, он был из соседней школы, а другого не знал совсем, они тоже были бухие, но вроде не до такой степени, как я, а может быть, под веществами, конечно, они уже начинали на меня рычать, и я горячечно прикидывал, что эскалировать не стоит, потому что драку я с ними двумя не вывезу, еще и в сраку пьяный, а быть отпижженым при телках мне не улыбалось, пусть уж лучше оскорбляют. И вот, пока я их забалтывал, телки свалили назад в клуб и, естественно, практически сразу первый гоп меня «узнал» и начал интересоваться за футбол, короче, назад в клуб мы втроем шли практически в обнимку – понятно было, что они при телках рисовались, провоцируя меня. Но я таки не удержался и в удобный момент уронил того второго в крапиву подножкой, как бы случайно споткнувшись и зашатавшись, сразу же сказав:
- Извини, – и подал ему руку. Ну, вот есть у меня эта сучесть, ничего с собой поделать не могу, оно типа не по-пацанячьи, все дела, но мне даже немного нравится в себе. Короче, в тот же вечер, еще выпив с теми гопами в их компании, я увидел, что Катя пошла домой с Малегой, одноклассником, и еще одним младшим нас на год парнем. Я знал, что ни тот, ни другой с ней не встречается – может быть, на что-то рассчитывают, кто их знает, Катя вообще такая Стейси – королева школы, между нами говоря. Короче, я их догнал, был бухой и навеселе, ясень пень. Хотя уже водило и довольно сильно. С пацанами поздоровался (хотя и виделся уже):
- Да вот, Катю проводим…
- Можно за компанию?
- Давай.
И мы пошли, я помню, Катя еще травила кулстори про какое-то привидение в этом районе, я молча курил. Потом, когда дошли до ее дома, я сказал парням:
- Вы идите, ладно, я потом догоню?
- Да, конечно… – еще сказал Малега, и я подумал, что они таки просто проводили, наверное, без всякой мысли.
Когда они отошли, Катя с вызовом сказала:
- Че ты хочешь?
- Поговорить.
- Говори.
- Давай на лавочку присядем…
- Нет, говори здесь.
- Ну, типа… в любви признаюсь тебе, – выпалил я.
Я так реально и сказал, ну, извините, я был сильно пьяный, прям стихов не получилось, я сильно волновался, и мне было пятнадцать.
- У меня парень есть, Богдан, – сказала она.
Вот я не знал, есть у нее сейчас парень или нет. Так с ней не видел никого, в том числе в клубе, но, быть может, есть – почему нет. Я так и думал, в сущности, какая разница – это «есть парень» может значить для меня только одно.
- По типу, я свободен?
- Типа да.
- Окей, – кивнул я и отступил на шаг. – Спокойной ночи, Кать.
Развернувшись, я догнал парней, ну, тип не специально там бежал, но они не сильно далеко отошли, а у меня кончились сигареты.
- У вас нема курить? – спросил у них.
- Та не, скурили, – ответил Малега. – Все нормально?
- Да, – кивнул я. – Отлично. Отлично, парни. Да, отлично.
Я в два шага разогнался и прыгнул вниз с дорожной насыпи. Не то чтобы это было опасно – там было не слишком высоко, да плюс я как воротник все-таки умею профессионально падать. Но мне почему-то очень хотелось скатиться с этой насыпи именно кубарем, и я скатился. Там рядом с автомобильной, по обочине которой мы шли, сразу за таким типа рвом с узкой тропинкой на дне сразу возвышается железка. А на дне этого оврага вдоль тропинки там бурьян, как раз была поздняя весна, и он довольно сильно там разросся. Я помню вот что – я лежу вот в этом бурьяне, смотрю на звезды. Тишина, и как будто бы машина приближается. Кто-то меня окликнул, кажется, Малега. Потом я помню как будто шаги по тротуару, «пусть уходят» – мысль, потом эта машина, мне снизу один свет фар виден. И в этом свете фар я вижу силуэты пацанов, которые идут обратно в город, и за ними в отдалении бегущий женский силуэт. Причем я помню свою мысль очень невнятно. «Знакомая какая-то? Кто это может быть? Наверное, на гульки чешет, хочет, чтобы провели». Какие гульки в половине пятого утра, я в ту минуту отдуплить был не в состоянии. То, что это была Катя, и что она догоняла меня, я понял значительно позже.
***
Тогда же меня разбудил проходящий товарный состав. Я, помню, смотрел в светлеющую ночь и слушал грохот товарных вагонов. Затем встал и, немного отряхнувшись, посмотрел вслед уходящему составу и перебрался через железнодорожную насыпь. На другой ее стороне лежало заболоченное поле, очень торфянистое, вдали виднелась лесополоса и еле заметные цеха «Мотордетали». Болотные травы шатались в тумане. Я, помню, шел по этому болоту-полю бог его знает зачем и, зайдя довольно далеко, стал на колени и вот так сидел, утопая коленями в торфу. Мне казалось, что туман вокруг меня танцует.
О чем же я думал тогда? Я чувствовал все то же облегчение. Облегчение от того, что ситуация разрешилась и я знаю, что она меня не любит. Горько мне было от того, что не любит? Горько, но пожалуй что привычно. Ведь НИКТО меня не любит и никогда не любил. Это хоть в каком-то смысле, но красивая история. Это не о пьяных придирках отца, не об истериках матери, это красивая и грустная история безответной любви. Теперь я знаю, что меня не любят. Но это все же хоть в чем-то красиво. Вот это слово КАТЯ на руке, и как оно кровит. Кровит.
***
Впервые я вообще вспомнил о том бегущем женском силуэте уже на следующий день, вернее даже не то чтобы вспомнил, а заподозрил, почувствовал что-то неладное. Дело в том, что я случайно встретил Малегу в супермаркете – меня туда родители отправили за покупками в качестве наказания за то, что я приперся домой грязный и утром. Главным образом за то, что грязный. Они, может быть, и не заметили бы моего утреннего возвращения, но дело в том, что мне было настолько хуево, что я даже не подумал то ли постирать одежду, то ли спрятать… Я просто завалился спать, сняв грязные джинсы и свитер, и даже нахуй дверь не заперев (впрочем, я ее тогда не всегда запирал – пару раз бухой отец ломал замок). И вот за эти джинсы мать и вызверилась, ну да, еще и за ботинки… Началось: «Где ты был, во сколько ты явился?» Ну, у нее там свои траблы были на работе, или уж на личном, я не знаю. Тут батя подлетел, обрадованный тем, что может дружить с мамой против меня, даже впиздил раз между лопаток, впрочем, в те годы я сдачи давать и не думал, мне почему-то казалось, что нельзя им не покоряться, хотя бы прямо, раз уж я несовершеннолетний и они за меня отвечают. Они сказали, что отныне никаких гулек, и отправили меня почти сразу за покупками – на самом деле странная логика, но они типа считали, что достаточно сказать: «Вот деньги – если чего-то из списка не будет, тебе пизда, если не придешь через два часа – тоже пизда, если будешь накуренным или…» – короче, вы поняли. Ну, я и пошел, хотя было хуево еще. Там, тупя в маркете, я и столкнулся с Малегой, и он начал меня расспрашивать, говорил ли я с Катей. Я вот тогда не понял толком – зачем он меня расспрашивает, говорил ли я с ней, если он сам видел, что мы говорили? Ну, типа хуй его знает, я сильно с бодуна был и не врубился. Катя тогда уже училась в гимназии первый год, и в школе мы с ней не пересекались, в основном только на гульках. Но в школе, вернее, уже после школы, после перекура за остановкой, если быть точнее, мы все толпой повалили кто куда, и меня догнала Лена там с еще одной не с нашего класса. Лена стала расспрашивать про наши с Катей взаимоотношения, причем довольно недвусмысленно. Я уж не помню точно, мы вместе дошли почти ко мне, хотя Лена жила там ближе к школе, разговор был долгий и не вполне внятный именно с точки зрения содержания. Я помню, что сказал ей в какой-то момент, уже даже этой второй телки не стесняясь:
- Лен, чего ты хочешь – я ей все сказал, она ответила! Ты издеваешься, я не пойму?
- Но ты же пьяный был!
- И что?
- Ну как что? Поговори с ней трезвым.
- Я не бываю трезвым, – выпалил я с юношеской фрондой. – Закончим этот разговор, окей?
- Ты будешь в пятницу в клубе?
- Зачем?
- Будешь или нет?
- Что если буду?
- Будь. Приди туда.
- Не знаю, попытаюсь. Родаки меня не выпускают, может быть, к полуночи.
- Приди.
И что вы думаете? Я как дурак поперся, стыдно до сих пор. Часам к двенадцати родаки действительно заснули, мать, правда, сныкала ключ, но у меня-то был дубликат, проблема состояла в другом – она сныкала мою выходную одежду почти всю, а ночами еще было холодно, я так и пошел – в раздолбанных домашних кроссах, домашних спортивках ношеных, клетчатой рубашке растянутой и батиной камуфляжной спецовке, охуеть, как чучело. Если Ленка хотела прикольнуться, то у нее получилось. Я гвоздиком заблокировал дверь своей комнаты, типа я закрылся изнутри, и в одних носках, неся в руках раздолбанные кроссы, вышел в коридор, осторожно открыл дверь и закрыл снаружи дубликатом. На лестничной клетке обулся и попиздовал в наш клуб. Наших там было, кстати, мало – один пацан из футбольной команды с телкой и еще пара младших пацанов из школы, еще была пара знакомых с моего района просто. Вообще в клубешнике было в ту ночь малолюдно. Я посидел, послушал музыку, пацан из команды пошутил, что я выгляжу так, как будто пришел с вахты, я ему прямо объяснил, перекрикивая дурацкий кальянный рэп, что выскользнул из дома тайком от родителей.
- Че, стало скучно? – спросил он.
- Да тупо по фану.
- Понятно.
Не буду же я объяснять, что меня как лоха развела эта Ленка. Ну или хз, что это было. Короче, я посидел где-то до начала второго, раз за разом куря – ни Ленки, ни Кати, ясень хуй, не было. Я попиздовал домой, размышляя о том, что не хватало еще спалиться, ведь отец пришел заряженный и будет пиздить в случае чего. Но я нихера не спалился тогда.
***
Я, естественно, в школе не расспрашивал Ленку больше ни о чем, да она могла по сути и не знать, что я в ту ночь был в клубе – тот пацан из команды был вообще не из нашего класса, а другие знакомые имели к Ленке еще меньшее отношение, чем он. Ну, не суть. Чуть позже Витя рассказал мне о том, что это Катя догоняла пацанов на трассе тогда перед утром и что они даже искали меня и звали, но не нашли.
- Я в овраге лежал за два шага, нельзя было подойти? Чушь какая-то.
- Мне Малега лично говорил.
Мы сидели на лавочке у Вити под подъездом, я курил, а он тоже хотел курить, но стремался мамки, которая могла выглянуть с балкона. Я еще сказал ему:
- На, потяни.
- Не хочу.
- Скажешь, что я курил.
- Отстань.
- Чего?
- Ну, я при мамке не могу, чего-то стыдно.
- Ладно.
Мы еще посидели, и он с огромным трудом выдавил:
- Вообще, ты зря с ней…
- Что?
- Ну, мутишь.
- Почему зря?
- Ты ее не знаешь.
Витя реально знал Катю лучше, потому что они жили рядом и даже в садик вместе ходили, просто потом ее родаки некоторое время снимали квартиру в другом районе, потому что поругались со своими родаками, у которых жили, но потом помирились и вернулись, и тогда Катя из той школы в том районе к нам перевелась. Но с самого начала Витя Катю недолюбливал, впрочем, не мог этого нормально сформулировать; как мне казалось, началось с того, что она его младшую сестру у них во дворе то ли побила, то ли обругала в детстве, там был какой-то такой скандал, в который я не особо вникал. В тот день у него под домом он приколол мне о том, что на днях, тоже будучи, признался в симпатии давней зазнобе – старшей девушке из этого района. Мне, в свою очередь, это показалось смешным, хотя Витя и не заметил моей улыбки, но я не понимал этой его влюбленности. Вокруг него как раз телки крутились всегда, он и тогда встречался там с одной, которая ему в рот заглядывала, а он класса с восьмого сох по этой дылде, короче, это была девушка из нашей школы, на два класса старше, лыжница. Реально, лыжница, даже выступала за границей, тогда уже жила не в Конотопе, но приезжала к родителям. И Витя мне это рассказывал в том смысле, что вот, дескать, она, когда он к ней поддатый подошел, выслушала его и предложила поговорить, когда он протрезвеет. Но когда он протрезвел, то побоялся с ней опять заговорить, короче, он мне это приколол в том смысле, что она с ним вежливой была и хотела как лучше, даже если ей в натуре похуй на него, а типа моя Катя хуергу какую-то творит на ровном месте.
- Ну, возможно, – сказал я, сбивая пепел.
Мне не хотелось это обсуждать, честно признаться.
***
Где-то в начале июня, что ли, мы всем классом отмечали на природе начало каникул. Это было на окраине в частном секторе, там, короче, жил один одноклассник, и у них там было красиво оборудовано, столы, беседка, все такое. Чтобы долго не нудить, сразу скажу – я там нажрался в хлам. Причем намешал водяры, пива, энергетика – от чего меня всегда взрывало. Но там еще в том прикол, что, казалось, чем дольше я пью, тем больше теряю над собой контроль. Поначалу мы с пацанами могли выжрать на троих, скажем, пару бутылок водки, и было просто весело, ну, эйфория, утром сушит, но, кажется, ты даже в этой эйфории контролируешь себя почти что в полной мере. А потом оно как-то постепенно, что ли. Постепенно что-то в эту эйфорию подмешивается невеселое. Злое. Я, например, через несколько месяцев регулярных попоек начал замечать беспричинную тревогу даже вне опьянения. Дома, в школе. Плюс я подзабил на спорт, и это тоже внесло свою лепту. Но эта тревога была странной. Она именно что была беспричинной, и мне именно что хотелось избавиться от нее, но она не уходила. Разгораясь, она порой переходила в панику. Причем я мог лежать на кровати и чувствовать, как нарастает эта паника, среди дня, на ровном абсолютно месте. Я как бы чего-то ужасно боюсь, но не пойму чего. Вы помните, например, как в какой-то момент этот сраный Ставрогин у Достоевского почти что видит беса. Я почему-то очень люблю этот момент. Вот этот, и о том, как градоначальник сходит с ума, стоя посреди осеннего давно уже убранного хлебного поля. Там прикольный пейзаж этого поля помню, а у Достоевского пейзажей вообще мало, хотя ему они и удавались, если хотел. Я люблю пейзажи в прозе. Ну, так вот – тот момент, где Ставрогин почти что видит беса, – это в главе У Тихона, изъятой, я люблю эту главу, мне кажется, она нужна там, и текст много силы без нее теряет. Вы помните, он там говорит, что беса как бы и не видит, чтобы уж так прямо видел, но по типу чувствует. Короче – вот это я чувствовал. И чтобы вы не думали, по типу, я вот это нагонял себе из текста – я тогда читал еще только «Преступление и наказание» в школе, а «Бесов» еще не читал, это уже после школы. Но как точно там передано вот то, что я ощущал в этой переходящей в панику тревоге. Я как бы иногда не то чтобы видел, но сам себе воображал некое существо, но собственное воображение меня пугало, чего со мною раньше не бывало. Вот эта сущность как бы вырастала из этой тревоги, и по сути не так важно было, сам ли я выдумал ее. Просто мне было страшно. И, чтобы избавиться от этого, хотелось пить и веселиться, но алкоголь приносил все меньше и меньше веселья, а больше вот этого. Также начались провалы в памяти. Это я четко помню, этого много было в тот день на природе, когда вот совсем яма, вот не помню, например, полчаса или около того, вот совсем не помню, до сих пор не помню, сколько лет прошло, а не вспомню, но я ведь что-то делал в это время. А не помню. Потом мне рассказывают, что я что-то делал, но разные люди мне рассказывают одно и то же, а я этого не вспоминаю. Просто кусок выдернут из памяти, как будто яма там, ну, чернота. Такие вспышки – вот мы пьем и поем под гитару, вот я полулежу в траве с остальными и курю, вдруг чернота, и уже вечереет за ней, я с кем-то говорю, смутно помню, о чем, и опять чернота-чернота, вдруг я кого-то пытаюсь ударить, кто-то держит мои руки, чернота, кто-то берет у меня сигарету, вот мы с Витей, шатаясь, идем по вечернему проулку в частном секторе, и он мне говорит:
- Какого хуя, перестань, пошли назад…
- Иди назад.
- Нет, я пойду с тобой.
- Как хочешь…
- Но ты зря все это.
- Возвращайся.
- Нет!
Опять же чернота. Трамвай грохочет где-то под универмагом.
- Пойду попрошу сигарету…
- Я дам тебе сигарету, пошли, не лезь к ним!
Чернота.
- Посиди. Сиди. Давай я отведу тебя домой.
Я сижу на тротуаре возле ЦРБ, а Витя стоит подле.
- Пошли, тут рядом.
- Как ты заебал!..
- Та я только спрошу… Пошли.
И снова чернота. Мемориал. Какая-то мысль об истории с этим прудом – там хотели оборудовать бассейн, но наткнулись на массовое захоронение трупов из концлагеря или что-то в этом роде. Концлагерь и трупы, да. Это как-то нравится моему бесу, но сейчас его здесь нет, он придет позже, когда я начну трезветь. Чернота.
Там было летнее кафе, и они праздновали там свои каникулы, там рядом, прямо под гимназией. Я помню, что чернота как будто бы разогналась и замелькала сильно чаще. Я помню вообще вспышки, вспышки, помню закатное солнце над мемориалом и бассейном с трупами, помню проезжую часть, помню лицо Кати, ее стильную прическу платье… Почему-то очень помню злобную гримасу на ее лице, чистый оскал, и она говорит:
- Уходи.
А может, она говорит:
- Я не люблю тебя.
А может, она говорит:
- Оставь меня в покое.
А я говорю, что умру без нее, если так, но я этого не помню – это мне рассказал Витя. Я ударил одного из ее новых одноклассников, другой въебал меня и уронил на тротуар, я тяжело поднимался, пока Витя все разруливал – как они нас не запиздили толпой тогда, ведь мы и так едва держались оба на ногах?.. Потом Катя говорила со мной в стороне – Витя не слышал нашего с ней разговора, а я помню вот это, выше, выражение лица, оскал, «я не люблю тебя», но мне кажется, что детали я мог и присочинить. Понимаете – вспышки. На проезжей части напротив мемориала я почти что прыгнул под машину, Витя удержал меня.
***
Скандал у меня дома был тогда пиздецовый. Дело в том, что это стало известно, казалось, всем в городе. Это стало известно учителям, и нашим, и в гимназии, родителям одноклассников, каким-то мамкиным и папкиным знакомым. Мать орала на меня:
- Не стыдно, что тебя по городу бухого девочки тащили?
- Меня тащили не девочки, а Витя.
- А что мне говорила мама Иры?
- Я не знаю.
Эта Ира, блин, такая склочница и ябеда, в жизнь бы она не тащила меня даже при смерти, просто навыдумывала чушь, чтобы эффектней выглядело, что ли. И вообще та мама Иры мою маму не любила, может, и сама присочинила что-то.
- Где твоя курточка?!
- Не знаю.
Курточку я в натуре проебал тогда. Ну, неплохая была курточка, и недешевая, конечно. Кажется, тогда возник и этот разговор про стариков.
- Скажите старикам, что сожалею? Я, по-твоему, старая?
Короче. Отец орал другое. Там получилась трагикомическая история, когда Витя довел меня к нашей детской площадке и попиздовал домой. Он сидел еще со мной поначалу, но он же сам никакой был, хотя я и пьянее.
- Иди домой, – сказал он мне.
- Я еще тут посижу, – проговорил я заплетающимся языком.
- Зачем?
- Хочу немного протрезветь. Иди домой.
- Ты будешь тут сидеть?
- Щас посижу и повишу на турнике… чтоб протрезветь.
- Ты никуда не пойдешь?
- Не, я не дойду. Я, может, тут посплю.
- Замерзнешь.
- Нет. Тепло.
Уже было темно.
- На лавочке?
- А что? Иди домой.
- Ну, ладно. Бодя...
- Что?
- Сиди недолго.
- Ладно.
- Ни к кому не приставай!
- Не буду.
Он ушел, и я пошел в пивбар, возле дороги. Там еще с кем-то из района выпил, помню, мне кто-то купил бутылку пива, я пошел на улицу и на дороге бросился под грузовик. Он бы меня задавил, это точно, я просто под его колеса прыгнул, до сих пор помню эти налетающие фары, визг от тормозящих шин… Под баром кучковались мужики, ну, всякие местные работяги и скуфы. И они успели меня вытащить из-под колес. Ирония была в том, что один из них был старый отцовский знакомый. Они меня полуживого усадили в машину и повезли домой. Но когда мы подъезжали, я очухался, быстро разблокировал дверцу со своей стороны и, пока машина тормозила у подъезда, выскочил и убежал. Пошел в наш клуб и занял у одного парня, тоже футболиста, из другой школы, денег, купил две банки энергетика и сигареты, один энергетик там выжрал, а другой взял с собой, пошел на улицу курить и помню, что не докурил, тошнило. На улице уже было серо, я сидел на ступеньках клубешника, потом пошел через дорогу к остановке маршрутки и сел там на лавку, глотнул энергетика, лег на эту лавочку и задремал. Меня разбудили пенсионерки, которые приходили туда с утра занимать очередь на льготные места в маршрутке.
***
Вот, короче, об этих знакомых скуфах мне орал отец:
- Ты помнишь, что тебя фура чуть не задавила?!
- Нет.
- Зачем ты убежал?!
- Не помню.
- Врешь!
- Не вру.
Но чаще все же они орали друг на друга:
- Это ты его воспитал!
- Нет, это ты его воспитала!
Их брак трещал по швам, мать гуляла, отец тоже начал гулять, типа в отместку матери, по-видимому, он и не хотел, но все же спутался с какой-то давнишней знакомой, все об этом говорили. Их ругань на меня была не воспитательным процессом, а способом куда-то выплеснуть свою злость. А я оставался один на один с Собеседником. Который говорил мне:
- Я твой единственный друг.
Я подумал сейчас вот о чем – а это существо? Оно ведь тоже постоянно было рядом, получается? Так как оно взаимодействовало с собеседником? А что если Собеседник – это вкрадчивый, обманчивый лик этого существа? Впрочем, я, как и князь Ставрогин, нихуя не мистик и не шизотерик, я это говорю как образ своих внутренних психических процессов, знаете, как Юнг говорил, что, например, алхимия – не лженаука, ведь имеет смысл как описательная метафора внутренней психической жизни индивида, да? Был не бес, а совокупность всего суицидального во мне. Но мир беса был страшен, понимаете? Голоса родителей, привычные дела и увлечения, рассветные лучи сквозь пыль гардин, каштаны во дворе и детский смех с площадки, гул автомобилей и маршруток – все как будто постепенно отдалялось, и ты постепенно погружался в лимб. В этом месте тени как бы казались контрастнее света. И каждая тень что-то в себе таила, и тебе не хотелось долго на нее смотреть, будь то тень от лестницы в подъезде или от спинки стула в твоей комнате. В этом пространстве тишина казалась внушительней звуков, и эта тишина была зловещей. Ты будто бы боялся что-то расслышать в этой тишине. Это измерение вообще сочилось страхом. Обреченным, животным, паническим. Ты мог испугаться котенка на лестнице, просто чужого котенка. Вот он сидит, такой милый, но лимб наползает, и звук отступает, и ты слышишь звонкую ватную тишину, и котенок сидит – почему он сидит и не двигается? Он смотрит на тебя. Смотри, ведь у него едва заметные клыки. А глаза? Представь, что сейчас он начнет улыбаться, обнажив клыки и щурясь. Он хочет это сделать, он специально здесь сидит, вот посмотри – ведь он сидит в тени! А в подъезде, кроме вас, никого нет. И почему такая тишина? Нет, нахуй, надо закурить… А лучше выпить. Вот если бы выпить. Выпить, и тогда хотя бы на какие-то часы все прекратится. Лимб уйдет, он будет где-то там, за горизонтом, мне будет снова весело, я больше не хочу оставаться здесь один, мне страшно. Конечно же, я выпивал и после этого. Бывало, даже в одиночку выпивал стакан в какой-то наливайке подальше от дома. Один раз мне позвонила Лена и предложила присоединиться к ним на празднование Купалы. Типа там много кто будет из класса… Она не сказала, что там будет Катя, но, помню, сильно упрашивала. Хуй ее знает, что она хотела по-серьезному – вообще она была лучшей Катиной подругой, и я не знаю, насколько это доебывание меня было с ее инициативы или все-таки с Катиной. Я отказался идти с ними. Часто думаю о том, как бы сложилась моя жизнь, если бы не отказался. Впрочем, это просто мысли. Я вообще в тот купаловый вечер идти никуда не хотел. Я случайно встретил этого гопа в городе, того самого, с которым чуть не подрался при Кате и Лене и с которым потом выпивал, шапочного знакомого. Слово за слово, короче, я пошел с ним за компанию в общагу. Там была студенческая общага, и какой-то его знакомый типа пошел еще с каким-то старшим пацаном уже туда, а этот опоздал и теперь, по-видимому, сам туда идти немного очковал, потому что никогда там не был… Вообще, я не вполне понял – мне показалось, что намечается какой-то терц. Но тот сказал, что не, по типу он там просто никого не знает. Короче, там просто была пьянка, на пятом этаже студенческой общаги. Были в основном пацаны, студенты и местные, несколько телок. Мы с этим гопом были там самые малые, я так вообще казался пиздюком, и нас даже один раз послали в магазин докупить водки, дав какую-то ебаную пачку денег при этом – дали эти пацаны, которые самые старшие и не студенты, мне они, к слову, не очень понравились – по ходу они были мелкими уголовниками, которые взымали дань с этой общаги, и сейчас эти студенты тоже выставлялись перед ними за какое-то решение вопроса, но ручаться я не стану, меня, естественно, никто не посвящал, и мы пришли, когда они уже бухали. Но вообще мне приходилось видеть уголовников, и даже пару раз общаться, в основном в больницах, и от них всегда исходит такой неприятный вайб – от этих самых старших исходил. С другой стороны, у них было спиртное и еда, компания. Да и на меня они практически не обращали внимания – ну, пиздюк и пиздюк. Мы там все вусмерть нажрались, причем мешали, а потом еще курили план. Потом курили на балконе просто сигареты – я, этот гоп и этот его старший кент. Уже темнело. Я вот помню, что эти двое что-то такое нудное между собой обсуждали, по типу тех же тачек, но не буквально, но у меня было подобное ощущение, как от того разговора о тачках, понимаете? Что-то такое, вроде мне не нужное и вовсе меня не касающееся, но при этом почему-то угнетающее. Наверное, еще тот план был охрененно лишним. Я оттолкнулся ногами и, перевалившись через поручень, уже почти что рухнул вниз – этот гоп меня удержал, потом его товарищ помогал ему. Тянули меня внутрь. Я помню – то ли тормошили, то ли били по лицу, кричали:
- Эй, приди в себя!
- Да он невменяемый.
Я действительно был невменяемый, помню, что не разговаривал, да вообще вот было чувство, что я их впервые и вижу, и не понимаю, где я есть. И на ногах я тоже почти не держался. Они вдвоем потащили меня в комнату, не ту, в которой мы пили, а там же на секции пустую, там была кровать без матраса, с одной сеткой, и шкаф, и больше ничего, по-моему. Они уложили меня на кровать, на эту сетку.
- Закроем его здесь, пусть спит.
- А балкон?
- Он закрытый.
- Ну, ладно.
Они ушли, я помню, что замок в двери и правда щелкнул – наверное, студенты дали ключ им… Я помню, что лежал какое-то время, вот не помню, спал или не спал, действительно, может, просто вот эти отрывки, но помню, что ко мне больше никто не заходил. Мерещится, будто меня стошнило прямо на пол там, но точно не скажу. Дальше – не помню. Я четко помню, что ко мне никто не заходил. Потом в больницах иногда всякие медсестры-санитарки, бывало, расспрашивали:
- Может, собутыльники-друзья столкнули?
- Нет, – отвечал я.
- Ох, ты, малой, еще людей не знаешь, – охали они.
Но прикол в том, что: а) это была не первая моя попытка суицида; б) я буквально перед тем пытался прыгнуть; в) ко мне никто не заходил. Тут вот что – я точно не помню момента, когда я прыгнул. Вот как попытался тогда на другом балконе – да, помню. Почему я прыгнул тогда? Да просто так, по фану. Вот хотите верьте, а хотите нет – по фану. А здесь не помню. Иногда мне кажется, я помню, как смотрел вниз уже с этого балкона, вот за миг. И та картинка, что я как бы помню, в целом выглядит правдоподобной. Но я даже не помню, как открыл дверь на этот балкон, возможно, я выбил стекло, но это как-то потерялось. Возможно, этот балкон был совсем не закрыт, а они не проверили? Я не помню, чтобы они проверяли, но разговор про закрытый балкон был. Черт его знает. Тут вот что. Я помню чувство, когда был один вот в этой комнате… Точно не знаю, но, помните, я рассказывал выше про лимб, да? Как иногда мне страшно становилось в своей собственной комнате, хотя причин для страха вовсе не было. Поймите – иногда мне кажется, что я как будто бы мог там чего-то испугаться. Я был там один, но, может быть, мне на мгновенье показалось, что я там не один. Возможно, просто я почувствовал присутствие какое-то? Не знаю, вряд ли. Скорее всего, я просто осуществил то, что давно запланировал. Уход из своей жалкой жизни.
***
Я пролежал под той общагой больше двух часов и потерял много крови, уже стемнело. Никто даже не вызвал скорую – все местные ушли, студенты уничтожили следы попойки. Возможно, они думали, что я мертв или скоро умру. Улица там не то чтобы оживленная, но и не пустынная, я думаю, что люди шли по тротуару рядом и проезжали на машинах мимо. Ну, пусть. Лежит какой-то тип под окнами… А вы бы подошли? Еще и лужа крови. Меня, уже когда стемнело, обнаружил студент медучилища, я потом через годы случайно столкнулся с ним в больнице, в которой умерла мама. Он жил в той общаге не постоянно, а именно тогда там один месяц или что-то в этом роде, он был на практике, и им там не хватало мест у себя, что ли, и их поселили временно в чужую общагу. Он жил в противоположном крыле от того, где была наша попойка. Об меня он чуть ли не споткнулся – уже было достаточно темно. Он позвал дежурную вахтершу, и они вместе позвонили в скорую. Пока они звонили, я перевернулся на другой бок. Вахтерша говорила, что решила, будто меня застрелили. Крови типа было очень много. Эту лужу крови потом засыпали таким мелким щебнем, специально, чтобы было не так видно. Я видел этот щебень сам, не раз. Он даже через годы выделялся цветом на той узенькой дорожке возле клумбы.
XXIV
И вот через многие годы Катя написала мне:
- Привет, Богдан! Как ты?
Что я почувствовал тогда? Даже не знаю. Во-первых, это вызвало во мне гораздо более вялую реакцию, чем можно было ожидать. Было некоторое чувство неуместности этого сообщения. Почему? Почему тот факт, что я знал Виту десять лет назад, казался мне уместным и приятным? Я не знаю. Возможно, потому что она помнит мой веселый нрав и плакала, когда я выпрыгнул с балкона? Возможно, потому что они с Сашей подвезли меня тогда? Или, возможно, потому что они сейчас нам помогали и поддерживали? Но ведь вот Катя интересуется моей судьбой… Скажем так – Вита почему-то сейчас казалась мне гораздо более близким человеком, чем Катя. Витя, который в городе казался мне лучшим другом. А Катя… Катю я совсем не знал. Я выдумал какую-то Катю в своей голове и носил там ее многие годы, но с настоящей Катей, которую я не знал, этот фантом имел чрезвычайно мало общего. Мне надоело плодить и множить все эти фантомы. Мне надоело рисовать каких-то Дульсиней, забывая с ними о чем-то единственно важном – о самом себе. Это простая мысль, но я так долго шел к ней. Я должен наконец оставить горькие страницы в прошлом. Я должен перестать себя калечить. Я должен перестать себя калечить, потому что я люблю себя. Потому что я сам для себя – единственное счастье. Все то, что причиняет мне страдания, должно остаться в прошлом. Если прошлое приносит тебе радость, то возможно, стоить взять его с собой в твое сегодня. Но если оно убивает, калечит тебя, то его надо оставить там, перевернуть эту страницу. Я хочу перевернуть все то, что описал в предыдущей главе. Я не хочу его забыть – я его никогда не забуду. Но я хочу это прожить наконец и войти во что-то новое. Таких историй, как я выше описал, сейчас будет больше и больше. Но я не знаю, что нам с ними делать, кроме как прожить их и двигаться дальше, если уж они случились. Позволить себе чувствовать, позволить себе плакать и страдать, но неизменно возвращаться к этой максиме – «люблю тебя, ты, в зеркале», к новым историям, хорошим и плохим. Катя была человеком из плохой истории, но я не испытывал к ней злости, негатива. Она была посторонним человеком, с которым мне не очень-то хотелось говорить, ну, так и с родным отцом мне разговаривать хотелось еще меньше. Удивлением было то, что ее сообщение не вызвало у меня ни радости, ни злости, ни тоски. Какой-то отзвук…
Знаете, я позже встретил того парня, что привел меня в общагу. Он был какой-то исхудавший, помню, и казался сильно старше. Мы поговорили, но недолго, просто возле остановки, на которой встретились. Он мне не нравился, и я не очень-то хотел с ним говорить. Он начал почти сразу, не то что с каким-то упреком, но таким апломбом, что ли, рассказывать, что чуть ли не попал под следствие из-за этой истории, и других там искали, кого-то из них.
- Я ничего о вас не говорил, – пожал плечами я. – Менты оформили как суицид.
- Та знаю я…
А знаешь, так с хера рисуешься – подумал я. Но не сказал, потому что он агрессивный тупой гоп и нахера мне рамсевать с ним щас.
- Ну, так-то все нормально у тебя? – сказал он все равно с какой-то ноткой не то упрека, не то хер его знает.
- Да, ничего.
- Ну, ладно.
На этом мы и разошлись. И потом несколько раз пересекались в городе, но даже не здоровались. И мне это казалось правильным. Мне этот парень и раньше не нравился. Но, будучи подростком, я, как водится, разочаровался в родительских максимах, а максимы моих ровесников оказались такими же, как и родительские – в сущности, гнилыми и непрочными. Почти все, с кем я дружил, к кому тянулся, или те, кто тянулся ко мне – почти все они забыли про меня, стоило мне попасть в больницу. Два таких разочарования, да одно за другим – многовато… Я был слишком молодым, чтобы понять, что я сам должен быть ориентиром для себя. Жизнь – штука непростая, но уметь переворачивать тяжелые страницы, вот как вы сейчас переворачиваете в этой книге – очень важно, понимаете? И я хотел перевернуть эти страницы. И страницу с Катей тоже. Даже не потому, что я люблю сейчас другого. И другую. А потому, что я люблю себя, черт побери, и вот это важнее всего.
«Все нормально. А ты как?» – написал я ей.
Затем спрятал телефон и достал сигарету – неплохо было бы и это бросить, но что-то пока не получается, еще и в таких условиях. Я уже видел просеку и слышал голоса Ильи и Влады. И тут что-то пришло опять – Катя или отец? Это был Саша, коротко:
- Богдан, не ездите никуда пока, як шо.
- Что там такое? – быстро ответил я.
Вот тут я и услышал этот гул. Что-то двигалось по трассе – очень быстро. Я подошел к своим. Они стояли за кустами, Влада снимала пустынную трасу на телефон.
- Эй, вы что здесь? – спросил я почти шепотом, размахивая этой дурацкой пустой кружкой.
- Только что видели машину, – тоже полушепотом сказал Илья. – Но очень быстро пролетела, наподобие как бензовоз. Она уже по трассе ехала, когда мы подошли. Влада хотела снять на телефон, но не успела.
- Слышите?
- Да, снова что-то едет.
- Может быть, уйдем?
- Ну, вряд ли нас здесь видно, – задумался Илья.
Мы не отошли, к слову сказать, вглубь леса не потому, что такие смелые или безрассудные (что иногда одно и то же), а потому, что так много где было в те первые дни. Помните, как люди останавливали российские колонны, став среди дороги? А потом перестали (потому что таких людей начали убивать). Вот это какое-то еще не вполне понятное чувство, что – «Какого хуя вы здесь ездите? Не хватало еще прятаться от вас у себя дома!» – было превалирующим тут у нас у многих, хотя, конечно, очень быстро поменялось на обычное военное «летит шрапнель – я ховаюсь» типа. Так и тогда у нас было типа «какого хуя мы от них еще и ныкаться должны» (хотя надо было ныкаться, конечно, по-хорошему).
Я почему-то хорошо запомнил, как впервые их увидел. Трасса так как бы немного поднималась, и они ехали как бы от нас, короче, понимаете – как будто бы выезжали из леса и летели дальше – очень быстро, так немного боком, наискосок от нас куда-то в сторону Конотопа. Первым, что я увидел, была беха – БМП. И они сидели на ней, буквально облепив ее. Беха пронеслась в этом просвете между деревьями очень быстро, но мой мозг все это будто бы сфотографировал, и я очень помню детали почему-то. И самая контрастная деталь, конечно же, – они, облепившие эту беху. Кажется, все они были в балаклавах, я не помню, чтобы белело хоть одно лицо. Но я почему-то как бы даже помню взгляды, хотя и не мог с такого расстояния и на такой скорости их рассмотреть, но это были какие-то рыскающие взгляды зверей, вот этот воротник и балаклава, или что оно такое, шлем и между ними – прорезь рыскающего животного взгляда. Эти взгляды странным образом окрашивали местность, лес и трассу, поле в какие-то еще иные краски. Небесная Ирландия русалок, гетманов и ведьм ушла куда-то вовсе в забывающиеся предутренние сны. Но и забитая унылая деревня возле трассы потеснилась, уступая место чему-то даже не нечеловеческому, а ДОчеловеческому. Тогда я, возможно, впервые решил, что они – энтропия. Вы помните, у Филипа Дика многократно встречается этот образ, например, в том же «Убике» это спрей, ну, всякая субстанция, останавливающая распад и старение, так вот, они представились мне анти-убиком – все, к чему они прикасались, и даже на что смотрели, регрессировало с фантастической скоростью. Они сами были такими – беха, на которой они сидели, выглядела просто ужасающе. Мало того, что она была в грязи, это понятно, но она была не крашена бог его знает с какого дремучего года. Болотная, какая-то рябая, в ржавчине, что ли, она казалась полусгнившей бехой-зомби, вылезшей из какой-то советской могилы. Я, может быть, наивный и, конечно же, совсем не военный, но я до сих пор поражаюсь, как такую технику не стыдно было слать на захват чужой страны? Ну, блин, в таком вот состоянии, не потрудившись хотя бы покрасить… То есть это вот – их ебучий вермахт? Вот это вот? Серьезно? То есть вы должны понять – это был первый диссонанс, я именно что ожидал чего-то другого. Не знаю, чего, но не зомби из советской могилы, ну, блин. А солдаты? Во-первых, сначала мне бросилось в глаза, как они облепили ту беху. Это довольно трудно описать, но они жались к ней, в натуре как какие-то гоблины. А сами они были какие… Вот что меня удивляет с первых дней вторжения. Вот этот ихний пиксель. Ну, блин, но он ведь реально ужасен, неужели только я это вижу? Как на стороне добра может сражаться хуета в такой одежде? Но эта хуета на бехе даже не в пикселе была, ну, то есть, в пикселе, конечно, но его было не видно под налипшей грязью. Эти уебки были охуенно грязными, нестираными и свалявшимися, вот просто поверьте на слово, даже из лесочка и с такого расстояния это было чудесно заметно. Позже многие люди это объясняли тем, что они ведь стояли в лагерях на границе несколько месяцев, в каких-то палатках посреди полей и, натурально, не стирались и не мылись, обносились и завшивели. Оно было очень похоже на то – те, что шароебились у нас весь конец февраля и март, были феерически обсосными – это просто надо один раз увидеть, бесполезно объяснять. Да, я не спорю, что у них были и другие части, не такие ужасные, те, что прикрывали их бегство с Сумской и Черниговской области, говорят, имели и новую технику, и выглядели в целом по-другому, хотя их было очень мало. Но вот, воля ваша, я реально не могу понять. Ну, вот вы идете захватывать другую страну, причем ваша пропаганда восемь лет, а то и больше, триндит без умолку о в том числе бедности этой захватываемой страны. Ну неужели вы не понимаете, что надо хотя бы ПОКРАСИТЬ ебучую беху? Ну что с вами, нахуй, не так? Пускай это будет одна беха, три бехи, десять бех заштатного неважного подразделения, но она будет ехать по трассе вдоль сел, где ее будут видеть перепуганные, ничего не понимающие люди. Ну неужели вы не понимаете, что это важно? Неужели вы не понимаете, что надо непременно постирать эти армейские фуфайки? И снять нахуй балаклавы, да, ну, посадите на бехи кого-то, кто не станет прятать лица, я все понимаю, но вы же тоже должны понимать, как это воспринимается? Мне есть с чем сравнивать, и я настаиваю, что это какой-то сугубый долбоебизм! Что говорить, когда-то я бесился и сказал Илье, уже позже, тип:
- Илья! Если бы они пришли ко мне, ну, теоретически, то я бы дал им ДЕСЯТЬ планов захвата Украины с КПД 200%! Я, гражданский лох из Конотопа! Ну, какие же ебучие ничтожества…
Ну, это ладно, вернемся туда, в то утро или же почти обед 25 февраля 2022 года. Фуфайки. И вши. Да, у них были вши, я, конечно, лично не проверял, но знаю, что были в количествах, просто не спорьте, я знаю об этом, как о дороге из Конотопа в Слободу, хотя никогда по ней не ездил, сидя за рулем. Фуфайки, и вши, и глаза. Они держали какие-то калашматы и целились ими в окружающее предвесенне пространство. Они вообще казались очень перепуганными, даже с такого расстояния. Выстрелили бы они в нас, если бы увидели? Не знаю. Позже, через недельку – обязательно бы выстрелили. Тогда… сложно сказать – зависело от кучи обстоятельств. Но они нас не видели за этим лесом, и к тому же ехали от нас. В этом месиве облепившей беху грязи, «мух» и калашматов, берцев и нестиранных фуфаек, глаз и балаклав различались одни очень яркие и контрастные пятнышки – красные повязки на их рукавах. Они промчались, исчезли за лесом. Я взглянул на Владу и Илью, Влада снимала на телефон дорогу, а Илья держал ее за плечи. Почти сразу вслед за бехой на трасе показался бензовоз. Пролетел и исчез, а за ним пролетел другой точно такой же. Оба они, как и беха, были болотного грязного цвета.
***
- Саш, по трассе движутся кацапы, – отправил я сразу же голосовуху. – В сторону Конотопа.
Он позвонил почти тотчас.
- Богдан, ты сам их видел?
- Видели, в леску стоим, они уже проехали…
- Богдан… – он, казалось, заговорил сосредоточеннее. – Скажи, ты не видел бензовозов? Они выглядят по типу как пожарные машины, типа бочки…
- Да-да, Саш, там была беха с десантом, а потом два бензовоза, только что!
- Только что?!
- Ну да.
- И точно бензовозы?
- Влада видео снимала, щас пришлем.
- Бодь, расцелую, присылай, там эти бензовозы ищут не могут найти, они по ходу заблудились в селах.
- А зачем они?
Я шепнул Владе: «Перешли мне видео».
- Они ГСМ не успевают подтянуть, я потом объясню.
- Окей, отправил.
- О, спасибо, я перезвоню.
Как только я положил трубку, вдалеке, с той стороны, куда направились кацапы, что-то как будто забарабанило, вроде даже и не взрывы, а такое «пух-пух-пух», хз. Мы переглянулись.
- Идемте в дом, – сказал я.
Помню, что, пока мы шли назад к дому, я обрисовал им примерно, что описал там выше, об этой некрашеной бехе и энтропии. Влада была немного возбуждена, оживлена, как тогда, в начале, вот у нее, несмотря на шизоидность, самая выраженная среди нас троих реакция «бей» на опасность. Она так вот заводится, как Илья говорит, сам Илья, мне кажется, больше замирает, а я то бегу, то тоже бью, когда как, но, наверное, чаще бегу, хотя для этого ведь тоже надо оживиться, возбудиться. И вот Влада, заведенная, начала говорить о русских идеологах, она вспоминала этого Ильина, Шмелева, даже Достоевского… Я, помню, ей перечил, что она множит сущности, и даже упрекал в антропоморфизме.
- Прям так? – буйно спрашивала она.
Вот именно буйно, она была какая-то такая разгоряченная, даже немного покрасневшая на холоде, глаза сверкали, прям как в сексе, «звереныш», как и говорил Илья. Ужасно сексапильный звереныш. Мне хотелось с ней спорить.
- Да, так, – отвечал я. – Ты приписываешь им какие-то свои черты. И не хочешь понять, что на самом деле идеология русского фашизма – это творчество группы «Любэ». А может быть, вообще вот эти анонимные стишки и армейские песни об убийствах и изнасилованиях. Идеология русского фашизма – это вот это «выебем Америку», да и то, идеологией ли это назвать… когда даже у этих дурачков из интернета, начитавшихся Грамши и Маркузе, бессмысленный пиздеж больше похож на идеологию.
- Илья, ты тоже так считаешь?
Она шла с ним под ручку, я немного в стороне.
- Я не понимаю ни слова из того, о чем вы говорите.
Она ударила его в грудь, он засмеялся и поцеловал ей руку, так манерно, картинно. Меня тоже этот ее удар рассмешил.
- Пройдемте еще к реке? – попросила Влада.
- Ну как, думаешь, безопасно? – спросил я у Ильи.
Честно сказать – тоже хотелось размять кости.
- Ну, что тут… – вклинилась Влада.
- Помолчи, телка, – я ущипнул ее за нос. – У нас с Ильей серьезный разговор.
Илья обнял ее еще сильнее, так, за плечи, став за спину ей и немного наклонившись, – подбородок его касался ее макушки. Она закуталась в его объятия и нежно сказала:
- Молчу.
- Та давайте пройдемся, – промолвил Илья.
Мы и пошли не спеша. На пустыре царила тишь и уныние, как вчера, кое-где залегал талый снег, но, казалось, его было меньше, чем вчера, повевал сырой слякотный ветерок. Пока мы шли к реке, немного развиднелось, и показалось холодное безразличное солнце, которое совсем не радовало – вешние воды под его лучами казались чернильными, кое-где вдоль берега они были покрыты коркой льда. Верболоз шатался под унылым слабым ветром. Стоя над рекой в объятиях Ильи, Влада начала пересказывать какую-то английскую статью о Дугине.
- Блядь, я не хочу этого слушать, – махнул рукой я и спустился к реке.
Присел там, опершись здоровой ногой о корягу, на которой мы часто сидели летом после купаний.
- Меня тоже это бесит, но ведь они об этом говорят!
- Антропоморфизм, – отстраненно повторил я.
- Типа они сравнивают их с собой?
- Ну, да. У них каждая восемнадцатилетняя фемка просто обязана написать книгу о дайверсити в понимании левых мыслителей прошлого века. Ну, типа. И они думают, что там так же. А там не так. И они даже не могут представить, насколько не так. Этот Дугин… он чисто на импорт, причем не по разнарядке, а сам, вскочив на гребень, как какой-нибудь Гребенщиков. Все это хуета на постном масле.
Я бросил веточку в чернильные вешние воды.
- Там все такие же бездарности и опущи, как этот Дугин. Я думаю, я понимаю, в чем тут дело. Тогда идет и берет с собою семь других бесов, злейших себя, и, войдя, живут в нем; и бывает для человека того еще хуже, чем было вначале. Так будет и с людьми этого поколения.
Влада, задумавшись, смотрела на меня.
- Это ты о большевизме? – спросила.
- Может быть. О нелеченных травмах. Подумай вот о чем. Вот есть некий человек, которого ты знала. Быть может, ты его любила, может, нет, но вот он умирает. Ты пытаешься там что-то сделать, ну, не важно – он умрет. Ну, хотя бы потому, что все умрут. И вот когда он умер, что с ним делать? Похоронить его, не так ли? Кому как нравится, кремировать, отдать на съедение птицам, не важно. Но надо это пережить, перевернуть эту страницу, понимаешь? Как бы ни было больно, ты можешь хранить воспоминания об этом человеке, какие-то вещи, не до фанатизма, конечно, там, фотографии с ним, может быть, какие-то его игрушки, я не знаю. Но ты не можешь хранить в доме его труп. Ты понимаешь? Потому что если хранить его труп, одевать его, мыть или я там, не знаю, делать вид, что он жив, как и раньше… Мало того, что это патология, произойдет еще вот что. В какой-то момент этот труп начнет неизбежно меняться. Черты живого человека будут уходить, стираться. Но. Появится запах. Это будет симптомом того, что в этом трупе зреет нечто новое. Но это новое – не этот труп, мы можем считать эти миазмы запахом некогда жившего человека, но это не так. В его трупе множатся микробы тления. Они даже не часть этого организма – они пируют на его останках. Это микробы. Но для живого человека они крайне опасны, потому что это болезнетворные микробы. Я не думаю, что Дугин хоть чего-то стоит. Все его потешные идеи, если в них есть хоть какое-то, хоть извращенное зерно, – он взял это зерно у кого-то другого, и это не Генон и не Эвола, если ты подумала о них. Сейчас мне почему-то кажется, что есть один изначальный микроб, поразивший их всех, я не имею в виду их глубинный народ, вероятно, там шли похожие процессы, но с другими лицами, типа твоего православия, но сферу философии поэзии там, кажется, во многом подверг тлену человек, который, как это ни смешно, казался мне когда-то чем-то вроде, ну, духовного отца.
***
Вообще я узнал о Южинском кружке еще в старших классах. Через ту же Витухновскую – я знал, что она туда ходила в начале девяностых. Тогда же я узнал и о Евгении Головине. Сначала меня заинтересовали его критические тексты о Лавкрафте. Он был одним из первых издателей Лавкрафта в СНГ и, кажется, переводил его, переводил Рембо, который мне нравился в школе, переводил какие-то средневековые труды алхимиков. Мне это было очень интересно. Я впитывал его статьи и лекции, как губка, мне кажется, он во многом сформировал какой-то мой, ну, личностный сердечник. Мне нравилось то, что он писал о мужественности. Ну, то есть там не все мне нравилось, и не со всем я был согласен, что-то вызывало во мне жгучее неприятие, но я был очень молодым к тому же – это все равно было лучшее из того, что я читал о мужественности вообще. А мне хотелось что-то такое читать. Я был отвергаем матерью, как мне казалось, потому что я мальчик. Я был отвергаем отцом, потому что он, наоборот, считал, что я недостаточно мальчик, но то, что он, отец, считал за мужественность, не хотел принимать уже я сам. Мне это казалось противным. И даже оскорбительным. Я не считал, что мужчина должен быть таким. Но что я мог узнать тогда, в пятнадцать лет, о мужском образе, которому мне бы хотелось соответствовать? Головин называл наше время Эрой Гинекократии, объясняя это тем, что это, по сути, не матриархат, а нечто хуже. Он писал о мужчинах, потерявших способность творить, восхищать и влюблять. Он писал о мужчинах в дурацких и блеклых одеждах, которые тратят свою жизнь на то, чтобы приблизиться к званию лучшего донора спермы и денег. Он писал о нашем времени как о эпохе подавления, уничтожения и растворения всего мужского. Соглашался ли я с этим в подростковом возрасте? О да! Еще бы. Я видел вокруг себя сплошное клеймление всего хотя бы называющегося мужественным как токсичного и опасного даже без попытки разобраться, что же, по сути, есть такое эта мужественность? Все просто – что плохое, то и мужественность. И даже не так, а так – все, что имеет отношения к мужчинам, – плохое. Многомилионные исследования, призванные доказать всем, что тестостерон опасен и порождает насилие. Новые учебники по биологии для школы, где рассказывается о мальчиках как от природы агрессивных обезьянах, недалеко ушедших от каких-то питекантропов, и девочках как от природы дружных, умных, рассудительных, цивилизованных. Я много уже в этой книге наводил примеров этому, и неохота повторяться, тем более что книга не об этом, но я буквально чувствовал, насколько мир вокруг меня не для мужчин, а в лучшем случае для каких-то оскорбительных пародий на мужчин, ну, и, конечно же, для Женщин! Головин, впрочем, считал, что и не для конкретной женщины весь этот современный мир, а для некоего лика Великой Злой Матери, позже Дугин разовьет пару его эссе в целый антифеминистический дискурс и назовет кибелическим Логосом – как всякий графоман, он нуднее, многословнее и глупее своего вдохновителя. А Головин писал о мужчинах, утративших способность к магии рождения из себя человека без участия женщины, и ведьмах, аналогичную магию не утративших. Но ведь когда-то, получается, и у мужчин она была. Таким мужчинам я хотел бы подражать и даже, может быть, приблизится к той древней магии, если на это мне даже пришлось бы положить целую жизнь. Головин рассказывал о традиционно женской и традиционно мужской магии, о женщинах и мужчинах алхимиках и о мистических соитиях колдуний и колдунов над колбой с гомункулом. Головин задавал простые, но понятные вопросы: сколько книг вы видели о мужской сексуальности в последние десятилетия? Вам хватит пальцев на одной руке, чтобы их пересчитать? А сколько книг вы читали о женской сексуальности? У меня где-то есть двухтомник о мужском и женском теле в украинской мифологии. Наверное, для вас не будет удивлением тот факт, что том номер один, о женщинах, естественно, огромный, а второй, о мужчинах, практически брошюрка, причем в предисловии к этой брошюрке автор-женщина (конечно же!) многословно извиняется и объясняет, что планировала писать только о женщинах (естественно), но ее завалили письмами с просьбами написать хоть что-то о мужчинах, впрочем, она не соглашалась долго, потому что мужское тело, по ее словам, «гораздо менее многофункционально, чем женское». Вот Головин об этом и писал в контексте нашего времени. Я повторяю – я с самого начала не был согласен во всем с ним, но он писал хотя бы на темы, о которых я хотел читать, которые казались мне несравнимо важнее, чем политика, история, религия и все такое прочее, но о которых больше никто не писал, как будто не видя или не желая видеть их вопиющей важности! Что я видел вместо этого на периферии господствующего дискурса? Альтрайтов с их дрочкой на отрезанные головы и поклонением чему угодно, от халифа аль-Багдади до нашего плешивого Батыя на одном лишь основании того, что те, по их мнению, «противостоят левацкому западу»? Или, может быть, иницелов с их требованиями выдавать им талоны на удовлетворение сексуальной потребности (впрочем, уже за это преследуемых силами крутейших контрразведок мира)? Идиотов типа Питерсона, съезжающих с катушек от наркотиков в московских клиниках и неспособных за всю жизнь родить хотя бы зачаток идеи, которую, с одной стороны, можно было бы на пальцах объяснить школьнику (некий десятистраничный манифест их партии), а с другой – не отторгнуть этих школьников еще на этапе объяснения. Меня попросту забавляет, как эти умнейшие мужские умы неспособны даже придумать никакой жизнеспособной идеи. Да, безусловно, мужской ум намного совершеннее, чем женский, да, по вам это особенно заметно… (Впрочем, Головин как раз говорил, что идеализация мужского интеллекта – в целом женский дискурс, скажем, некий Шерлок Холмс с его дедукцией – это именно что фантазия женского мира о приемлемом и понятном ему мужчине, и все эти рассуждения «в мужчинах ум – самое главное» – это примерно то же самое, что «у мужчин лишь одна эрогенная зона», крч) Ну так вот – задумайтесь вот над чем. Вот представьте усредненную фемку, которая противостоит вот этим всем мыслителям. Эта фемка условная приходит к школьнице примерно в том возрасте, в котором виртуальный Головин пришел ко мне. И что она ей говорит? Она ей говорит: «Ты можешь быть какой захочешь! Мы всегда тебя поддержим, потому что ты женщина, а значит, ты богиня», – если уж совсем просто. И как поступит эта школьница? Наверное, она пойдет к альтрайту и наденет паранджу. Ну, да. А теперь представьте рядом меня, к которому приходит Питерсон, альтрайт, любой православный русский фундаменталист, выросший из СНГ-шной маносферы, да кто угодно, ну и говорит: «Ты должен отслужить в армии, отсидеть в тюрьме, побывать на войне, пойти на бокс, почистить парашу, не дрочить, не ебаться со шлюхами, не целоваться с мальчиком, не брить усы, не красить волосы, быть пизженным, не носить серьги, не делать маникюр, не красить ногти, слушаться отца, сосать хуй президенту, весить сто кило, качаться, не носить ничего красного, придерживаться воровских понятий, выучить Коран, молиться, не носить трусы длиной выше колена, не дай бог не фоткать свою жопу и не депилировать ее ни в коем случае, не петь, не танцевать, не дай боже, балет или пилон, ни в коем случае, и никакой косметики, ебаться строго по субботам с девственницей, не есть сладостей, держать аскезу, правильно голосовать и заработать минимум миллиард за десять лет – вот тогда, ВОЗМОЖНО, мы будем считать тебя мужчиной, а пока ты, мудень подзалупный, за работу!» – и я такой смотрю на это все и говорю, показывая на ровесницу, уже сосущуюся с фемкой-агитаторшей:
- Да? А можно я все-таки к ним, в таком случае?
- Ты что, не понимаешь, что они хотят тебя убить?!!! – орет мне этот Питерсон или альтрайт.
- Вот это я как раз понимаю, но кажется, что вы меня убьете раньше – эти хотя бы, пока между собой переебутся, будет время пару лет пожить спокойно хоть в подполье…
Причем особенно смешно, что и об этом Головин говорил. Он, кажется, писал, что вот эти все супермаскулинные мужчины, которые вечно кому-то чего-то должны, из современного дискурса, – это именно что фантазии матриархального мира о том, каким должен быть мужчина, ну, такой female gaze, крч, как они выражаются. То есть это именно пародия, как я и полагал еще малым. Впрочем, Головин и не объяснял, каким должен быть мужчина, он вообще мало чего объяснял, потому что его лекции и статьи не были ни лекциями и ни статьями – это были своеобразные секстантские заговаривания зубов, я всегда это понимал. Они призваны были тебя убаюкать и что-то внедрить. Но мне, казалось, нравилось то, что они внедряют. Я готов был видеть истинную мужественность в том же Артюре Рембо. Я готов был видеть мужественность в том, кто просто отрицает бытие, материю и здравый смысл ради чего-то эфемерного, ненужного и вообще очевидно бесполезного. Я хотел восхищаться мужчиной-мистиком, мужчиной-колдуном, поэтом и любовником. Я хотел быть мужчиной, который не измеряет свою мужественность чем-то внешним, потому что он мерило сам себе, но и это не нужно – потому что мужественность – это он сам. Я хотел восхищаться всесторонней Красотой Мужчины. Красотой. И в юности Головин мне казался красивым.
***
Там было то же, что и с Витухновской, или даже Стусом, я увидел несколько его фотографий в молодости, то в нарочито аляповатом галстуке, то с сигаретой на балконе, в пиджаке и клетчатой рубашке с закатанными рукавами, ярком шарфе, снова на балконе в какой-то компании, и я почувствовал, что в этом человеке есть нечто, что я хочу взрастить в себе, и это нечто, безусловно, какая-то красота. А потом я почитал его стихи. И это было потрясение. Я подумал: «Хочу быть таким». Но с годами я стал четче различать в нем какую-то червоточину, ту, которую и сразу заметил, это было подобно трещине внутри кристалла или же на поверхности зеркала. Вы знаете же, что нельзя смотреться в треснувшее зеркало? И если не быть осторожным на финальной стадии алхимического делания, то все может закончиться взрывом. И мне со временем стало казаться, что его проблемой была заложенная подспудно в самой сути его псевдофилософии принципиальная невозможность соединения Меркурия с Сульфуром. Вы знаете, я не большой в этом специалист, и уж, конечно, не читал всех тех трактатов, половина из которых не переведена с чуть ли не мертвых языков, но в алхимии ведь все не так, как в химии, и чувства, интуиция, прозрения и предсказания порой важней в ней, чем формальные теории и формулы. И вот мне иногда казалось, что проблема таких, как Головин, в том, что они так и не соединились со своей мистической сестрой. Мистическая сестра – это некая сущность в алхимии, которую ты как бы выделяешь из себя, а может быть, просто твое отражение в зеркале невидимого мира. Но ты должен вступить в союз с этой сестрой и в конце делания соединиться с ней, чтобы из этого союза и родился философский камень. Так вот, мне кажется, что в алхимических опытах таких, как Головин, они работали не с настоящими сестрами, а с бесами, принявшими личины их сестер. И из этого получился не великий эликсир, а взрыв.
***
Об этом я сказал тогда Илье и Владе, сидя у реки. И еще я пошутил, сказав, что у меня, кажется, есть своя формула философского камня.
- Какая же? – спросила Влада.
- Найти свою сестру чрез своего мистического брата, – подмигнул я Илье.
- Та ну тебя, – улыбнулась она. – И что, ты думаешь, что этот Головин хотел российской гегемонии или Евразии?
- Конечно же, не думаю. Мне кажется, что ему было глубоко плевать на Россию, Евразию или Советский Союз, на славянство, и церковь, и все что угодно. И даже на все, о чем он вдохновенно писал в своих книгах.
- Чего же он хотел?
- Спалить весь мир.
- Зачем?
- Просто по фану.
Я пожал плечами. Издалека донесся звук, подобный эху грома, откуда-то очень и очень издалека.
- Пойдемте домой? – вздохнул я.
- Да, – кивнул Илья.
- Я обожаю тебя слушать, Бодька! – вдохновенно закатила глаза Влада.
- Пойдешь к нему? – спросил Илья, обнимая ее.
- Да, – она кивнула.
Он отпустил ее и в тот миг, когда она двигалась ко мне, легенько шлепнул по заднице.
***
Саша позвонил мне, когда мы шли назад, сказал, что те бензовозы обнаружили и ебнули.
- По нашей наводке? – спросил я.
- Не знаю, там писали со всех сел о них по ходу. Но за видос спасибо.
- А это щас гремело не по ним?
- Не знаю, может быть, но вряд ли. Вроде их под Конотопом раньше обнаружили.
- А в чем прикол вот этих бензовозов?
- Короче, они ж думали… А хуй их знает, на что они рассчитывали, короче. У них горючки было на полдня, у некоторых, и они вперед рванули. А хули танк без дозаправки – гроб. Там поставали, вроде бы даже за Конотопом, а под Черниговом и дальше вроде бы вообще пиздец. Горючка кончилась, танки стоят, наши их валят, они технику бросают. А бензовозы хуй знает откуда приходится гнать, у них карты хуевые, связь наши глушат… Вот эти бензовозы заблудились тут в трех соснах, по болоту ездили, потом нашли их. Слушай, ты не скажешь, с вашей стороны отам на грунтовке за лесом, не помнишь, указатель СЛОБОДА стоял, когда вы ехали?
- Не помню. А тебе зачем?
- Та мы с Викусей на машине ездили с утра, сняли с той стороны села…
- А… Чтобы они по картам не проехали? – наконец допер я.
- Ага.
- Щас мы посмотрим.
- Та не ходите, думал, може, помнишь. Хай я сам проеду.
- Не, мы щас посмотрим быстро.
- Ну… тогда просто посмотрите, ладно? Сами не снимайте, если что, то я подъеду, там его долго снимать, а перед открытой трассой нечего светиться.
***
Илья, короче, пошел смотреть на тот знак сам. Я хотел пойти с ним, но он сказал, что быстро вдоль лесочка пробежит, чтоб я остался с Владой. Он все-таки взял из гаража отвертку, гвоздодер и, кажется, плоскогубцы. Но вернулся быстро, мы с Владой готовили рыбные сэндвичи.
- Что такое?
- Нет там знака. Та я так и помнил, думаю, схожу на всякий случай.
- Щас позвоню Саше.
- Я уже звонил.
- Ну, ладно.
Влада вынула тосты и сказала, что доделает сама, я пошел прилечь наверх, честно сказать, навалилась усталость. Были непрочитанные сообщения от Вити, Кати и отца.
Витя пересказывал какие-то сплетни о бегстве конотопской местной власти, и я даже не знал, что ему отвечать. Катя сказала, что они сидят дома и ничего не знают, затем спрашивала, не в Конотопе ли я, я ответил, что мы тоже ничего не знаем, я не в Конотопе, а в районе, но не стал уточнять, где. У меня промелькнула странная мысль: не может ли аккаунт Кати быть сломан, и там сидит какой-то ФСБшник или лахтован, пытающийся что-то выведать. Но я отмахнулся от этой мысли, тем более что переписка после этого заглохла как-то сама по себе, а я ведь ничего военного и не раскрыл. Ну, это была уже немного такая паника-не-паника, военный мандраж, тогда много кто становился подозрительным даже в инете. Впрочем, мысль об ФСБ возникла сразу же, как я открыл ВК. Не может ли приложение ВК на андроиде быть неким вирусом-шпионом, вычисляющим наше местоположение и бог весть что еще? Может быть, сказать отцу перейти в ту же телегу? А телега-то не подментована? Да и вообще – чего я это? Я опять втягиваюсь в «пьяные» разговоры с отцом? Пьяные или трезвые – все они одинаковы по факту… Первое его сообщение было коротким:
- Нет, ты не прав.
А дальше они шли целым потоком.
- Я лишь хочу тебе сказать, что все будет нормально – чтобы ты не волновался.
…
- Почему ты решил, что мне все равно?
…
- Меня это вчера разозлило.
…
- Прости.
…
- Я никому об этом не рассказывал, но я каждую ночь молился за тебя, когда ты был в больнице, и сказал себе, что если ты поправишься, то я буду молиться каждую ночь до смерти. И я до сих пор молюсь каждую ночь.
…
- Я всегда думаю о тебе.
…
- И сейчас я знаю, что ты мнительный, я не в обиду говорю, прости, но ты всегда таким был. И я хочу, чтобы ты не брал близко к сердцу и не дай бог не делал глупостей.
…
- Я переживаю за тебя – поэтому пишу.
…
- Почему ты думаешь, что мне все равно? Это несправедливо.
…
- Я не в упрек, просто расстроился вчера.
…
- Можешь не отвечать, если не хочешь.
…
- Просто если можешь, пиши, все ли у тебя нормально.
Я смотрел на экран минуты две, а потом написал:
- Ты помнишь, как ты бил меня уже калекой?
Он ответил довольно быстро – неужели в натуре сидит и ждет?
- Зачем ты это вспоминаешь?? Я был пьян. Ты мне дерзил, так получилось. И я тебя не бил, просто толкнул. Это была случайность. Я просил прощения! Я не хотел.
Он помнит.
- Еще в Киеве, в больнице, после операции, ты помнишь, когда я расстроился и не хотел говорить. Я отвернулся на бок и лежал, не отвечал тебе. Ты помнишь, как ударил меня в спину?
- Это неправда.
- Это правда.
- Нет, я тебя не бил.
…
- Я этого не помню.
…
- Может, я просто толкнул тебя, думал, ты спишь.
- Ты ударил меня.
- Я толкнул.
Все он помнит.
- Ты тогда был абсолютно трезв.
- Может быть, я не рассчитал. Случайно. Почему ты это вспоминаешь?
Я не отвечал.
- Вот об этом я и говорю! – написал он. – Ты мнительный. Ты всегда все преувеличиваешь. Что такого, если я слегка толкнул. Думал, ты спишь. Я не ударил, не хотел ударить. Это не так. Разве я недостаточно тебя жалел? Я всегда сам ходил в магазин, если ты сидел в своем компьютере. Даже если приходил поздно с работы. Ты никогда ничего не делал по дому. Я всегда тебя жалел, и этим ты отплачиваешь?
- Ты помнишь, почему толкнул тогда меня в квартире? Помнишь, с чего все началось?
- Почему ты снова провоцируешь меня? Почему ты цепляешься? Я думал, мы поговорим нормально.
- Ты помнишь, с чего все началось? Я сидел на кухне и говорил с тобой, ты поругался с матерью. Я говорил с тобой о постороннем, мне было тебя жалко, что ты там сидишь один, и тогда мать зашла и насыпалась на меня, видимо, она приревновала меня, как всегда – вы постоянно ревновали меня к друг другу, несмотря на то что ни с кем из вас нельзя было даже толком поговорить. Когда я оказывался в полном распоряжении кого-то из вас, то вы немедленно корчили надменные и безразличные физиономии, будто всем своим видом показывая, насколько вам на меня плевать. Но только лишь вы были рядом, и я сближался с кем-то из вас, другому будто шило в задницу вонзалось. Она сказала мне, что ты алкаш, и я напрасно говорю с тобой, и что все это снова плохо кончится. А я встал и сказал, мне, помню, захотелось плакать, но я собрался и сказал, что люблю вас обоих, я говорил это, обращаясь к матери, я сказал, что люблю вас обоих, люблю мать, но и тебя тоже люблю, какой бы ты ни был, пьяный, трезвый, все равно, алкаш ты, не алкаш, я все равно тебя люблю и не могу не говорить с тобой. Ты помнишь, что ты начал провоцировать и оскорблять меня буквально сразу. Я помню твое выражение лица. Пап, скажи пожалуйста, почему твоя любовь ко мне как будто самого тебя взрывает изнутри, почему ты сам так неимоверно злишься на свою любовь ко мне и все вокруг крушишь? Ответь мне, если сможешь – почему? Я уже не смогу спросить это у матери, но я хочу спросить у тебя – почему? Я не верю, что ты не любил меня. Возможно, ты ненавидишь себя и ненавидишь те мои черты, в которых узнаешь себя, но ты ведь не всегда себя ненавидел. Я несколько раз пробовал уйти из жизни, но даже я сейчас понимаю, что глубоко внутри я все еще люблю себя, что там внутри меня еще живет тот мальчик, что когда-то нравился себе на фотографиях. И я уверен, что такой же мальчик живет и в тебе. Так почему ты так злишься на свою любовь ко мне? Ответь. Я знаю, что ты любил и, наверное, до сих пор любишь женщину, которая меня родила. И что ты чувствуешь, когда ты видишь, как во мне ее черты переплетаются с твоими? Что бы между вами ни было, какая бы большая ненависть не воспылала между вами вследствие всего, ты не можешь не понимать и не чувствовать, что я единственный, самый значительный итог вашей любви. Так почему ты за всю жизнь не смог принять и отпустить эту любовь ко мне? Я знаю, что любил тебя и до сих пор люблю. Я помню, как ты носил меня на руках, я помню, как мы вдвоем играли в самолетики, как ты учил меня водить машину. Я помню, как мне хотелось быть похожим на тебя. Каким красивым, сильным, умным ты казался мне. Пап, если во мне есть хоть что-то мужское, то оно – от тебя. И я люблю в себе это мужское, как и твои черты в себе, как и тебя как своего отца, но, папа, все в жизни имеет последствия. Я так долго, так настырно, непреклонно шел к тебе, а ты меня отталкивал. Ты как будто кричал мне «уйди!», ты как будто боялся меня, пап, – чего ты боялся? Чего? Ты можешь объяснить мне? Мне кажется, что ты боялся своей любви ко мне, но почему ты боялся ее? Пап, мы с тобой практически посторонние люди, и дело не в том, что ты живешь в России, а я здесь, дело не в твоей новой семье и не в чем-то еще. Дело в нас. Папа, я отпускаю тебя. Я все еще люблю в себе твои черты, но они теперь только мои, как те ключи от когда-то нашей общей квартиры. Пап, мы теперь сами по себе. Я очень тебя любил, когда-то я любил тебя больше всего на свете, но я понял, что любить невзаимно – неправильно. Невзаимная любовь высасывает кровь и душу. Я буду продолжать любить свои воспоминания, плохие и хорошие, но больше все-таки хорошие. Плохие надо отпускать. Но отпускать, приняв – я принимаю и плохое, и хорошее в тебе, все оно сделало меня таким, каким я есть. Теперь я взрослый. Где-то глубоко во мне, наверное, будет жить образ сына, который готов растаять в любящих объятиях отца. Я возьму этот образ с собой, и если у меня будет сын или дочь, я всякий раз буду стараться спроецировать на них этот образ, когда буду злиться на них, ревновать их, ругать или не понимать. Но даже если у меня детей не будет, я возьму этот образ с собой, потому что мне сейчас больше лет, чем было тебе, когда ты стал моим отцом. И если мне будет очень плохо, то я приду к себе, маленькому, взрослым. И обниму себя.
***
Я не дословно помню эту огромную простыню, что накатал тогда – просто я сделал скриншот, когда отправил. Он присылал мне что-то, пока я писал, но я не видел, что – мой текст застилал полэкрана, а я все писал, утираясь от слез, даже не всхлипывая, я весь обратился в эту писанину, потом я отправил ее, а потом сделал скриншот и, увидев, что она дошла и прочитана, бросил его в ЧС и удалил приложение ВК из телефона.
XXV
Влада с Ильей прибежали почти сразу, услышав мои рыдания. Сейчас, вспомнив это, я думаю о том, что они всегда по-разному успокаивали меня. Влада всегда налетала на меня свирепым шквалом поцелуев и прикосновений, ласк, объятий. В ее заботе всегда было что-то материнское, и это так красиво, так всепобеждающе, что я даже не знаю. Она всегда как будто окружала меня, растворяя в своей нежности, любви и ласке, а Илья был другой, но это не было хуже, понимаете? Мне кажется, что в сути это было одно и то же, лишь другими средствами. Илья всегда бил точно в цель – вот что. Он мог просто обнять меня и прижимать к себе, практически не двигаясь. Он мог коснуться моего плеча, единожды погладить предплечье. И одарить единственным, но точным поцелуем. Он прожигал меня. И ртутной сердцевиной прикасался к моей ртути. Влада же ртутью растворяла мой сульфур, но в сердцевине ее ртути клокотал огонь. И когда я об этом думаю, то понимаю, что они – одинаковы. Что они суть отражения друг друга, и это так прекрасно, что невозможно описать, и когда я думаю об этом, то мне кажется, что я соединил Сульфур с Меркурием. Что я познал то, что хотел познать. Вся моя жизнь простилается передо мной, все мои колбы и реторты, эликсиры, формулы и пыльные тома. О господи, я вижу, вижу эту внеземную красоту! О Господи, если ты есть, то ты – велик! О, я не мог тебя постичь лишь потому, что я был слеп. О, как же они невозможно прекрасны. О Господи, я вижу эти контрапозиции, перетекающие друг в друга, которые на самом деле никакие не контрапозиции, а отражения друг друга, потому что, Господи, ты всю вселенную скрепил своей любовью. Потому что ты и есть твоя любовь. Мне кажется, я вижу и могу наконец записать эту формулу. О Господи, ведь эта формула всегда была передо мной. Вот я стою в своей квартире под обжигающими струями воды. Я только что впервые в своей жизни занимался сексом с парнем. И вдруг меня в одно мгновенье накрывает понимание того, насколько это было невозможно потрясающе. Я содрогаюсь в очистительных рыданиях, и соленые слезы мои растворяет вода. Вот я унылой поздней осенью иду один по городу. Я только что прочел лучшую в своей жизни книгу. И эту книгу написала девушка с этой фотографии, вот эта, под акацией, в пальто и джинсах скинни, низенькая и длинноволосая, с накрашенными губками и подведенными бровями, с накладными ноготочками, в сережках, в теплом свитере до горла под пальто. О Господи, в мире не существует ничего, кроме желания ее оплодотворить. И не просто оплодотворить, но заниматься с ней сексом так долго и неистово, насколько вообще хватит моих сил, а потом целовать, а потом обнимать, а потом опять трахать, и трахать, и трахать, а потом признаваться в любви, потом плакать, и трахать, потом посвящать ей стихи и готовить ей завтрак, заплетать ей косу, а потом опять трахать, хватая за эту косу, и опять целовать, и опять признаваться в любви, целовать, целовать, целовать и быть с ней до конца своих дней. И до конца своих дней говорить «ты безумно красивая». Вот я стою уже в прихожей и кричу, что я урод и мой лицевой нерв не восстановится, а если даже восстановится, то будет только боль. Вот я кричу, что у меня некроз сустава. И вот мой парень говорит в ответ, что меня любит. Вот мы целуемся, и я смотрю в его медовые глаза. Вот я лежу с ним обнаженным под тяжелым одеялом, и он мне тихо говорит, что я колдун. Вот я смотрю в окно на медленно ползущий киевский перрон и вижу девушку, которая в квинтиллионной степени красивей всех на свете. Вот я целую эту девушку практически посреди проезжей части и говорю ей, что она мне нравится. Вот эта девушка рассказывает мне, что ей порой снятся ведьмовские шабаши. Вот эта девушка диктует мне роман и иногда целует в губы, приближается рассвет. Вот эта девушка лежит вспотевшая, нагая и рассказывает нам – ее парням – о вере во Христа. Вот мой парень говорит, что он влюблен в нее. Вот ветер догоняет поезда, пока он это говорит. Вот тлеют ночные костры и осенние листья на Лысой горе. Вот под соснами ютится Ведьмин дом. Вот в этом доме мы с любимой девушкой целуем член нашего парня после разговора о несправедливых войнах. Вот я вхожу в свою любимую и быстро истощаюсь, после чего меня сменяет мой любимый парень, и она кончает, задыхаясь под его напором, пока я целую ее липкие и скользкие прекрасные уста. Вот этими устами она, голая, уставшая, лежащая, диктует мне: «Иже разруши смертию смерть, и упраздни державу имущаго смерти, сиесть тебе диавола». Вот мы идем втроем купаться в предрассветных росах и тумане. Вот я поцелуй за поцелуем приближаюсь к ее увлажнившемуся естеству. Вот я смакую ее вкус, пока она так вдохновенно говорит нам про елмань. Вот я целуюсь с ней, когда мы смотрим порно. Вот мы лежим нагие у реки. Вот мы вместе с любимым в ювелирном выбираем ей сережки. Вот я прошу, чтобы любимый отымел ее вместо меня. Вот я, стоя на балконе, понимаю, что я счастлив. Вот мы зимой читаем ей стихи. Вот мы втроем встречаем Новый год. Вот ее джип неспешно движется сквозь плотный снегопад, и она в моих объятьях говорит, что все закончится антропофагией. Вот она и он поют мне, что родился Божий Сын. А вот она повторяет ему, что идет в Рим и будет распятой. Вот я сплю с ней горячей, снаружи идет снегопад. Вот мы моемся в душе вдвоем. Вот мне кажется, что она внутри парень, а я внутри девушка. Вот мой парень встревоженно рассказывает мне о грядущей войне, а вот я отпускаю его член и он, пульсируя разбрызгивает сперму. Вот мы с любимой девушкой во сне летим на шабаш вдоль захолустной железнодорожной ветки. Вот я дарю ей желтые цветы. Вот она влажными глазами смотрит на мои с ним поцелуи. Вот она трогает мой раскаленный член под одеялом. Вот она глотает и глотает весь мой член, а я кричу о том, как я люблю Илью, и в этот миг кончаю, проливаясь спермой в изотропную вселенную. Вот я, держа ее за волосы, вхожу в нее, мстя ей за то, что до остатка околдован ею. Вот мы целуем ее вместе с моим парнем, вот горит ведьмин костер в глуши пропащей осени, цветут Плеяды, мы танцуем голые, вот мы ОДНО. Одно. Одно. И в то же время – трое. Вот предвесенний стылый Конотоп и:
- Я сгорю в тебе.
- Нет, это я всецело растворюсь в тебе.
Я растворяюсь в них. Я растворяюсь в ласковой воде. Печальные туманы. Пахнет детством. Я плыву. Плыву. Плыву. Вода меня ласкает. Я смеюсь. Мне хорошо. Я так люблю свою невесту, жениха, и весь этот туманный безграничный мир. Вот я читаю о любви в античности. Вот я стою перед мемориальным стендом и читаю о погибших в зоне ООС. Вот я стою перед причастием и думаю о смысле Троицы. Вот наш любимый парень дарит нам цветы – ей розы, мне тюльпаны. Вот она мне говорит, что православие и есть Россия. Вот я ей говорю, чтобы она молчала, и смотрю, как он берет ее на кухонном столе. Вот я понимаю, что каждый ее темно-русый волосок есть галактическая нить длиной в миллион мегапарсек. И я хочу, чтобы Он взял Ее ради меня. Вот я читаю Улялюм ему, и он мне говорит, что меня любит. Вот я хочу, чтобы она сожгла меня в своей любви. Вот я целую свою сперму на ее губах. Вот я смотрю во вьюгу для нее и проявляю эту вьюгу для нее. И говорю ему, что любовь ее – вечное лето. Вот она хочет, чтобы я не останавливался. Вот я схожу с ума от их великой красоты, а вот я моюсь с ней опять, и мы с ней говорим о приближающейся бойне. Вот уже она теперь мне дарит бледные тюльпаны. Вот мы много говорим, вот я его целую, говоря ему, что будем умирать. Вот он рассказывает мне об обращении Хуйла к российскому народу. Вот я ей говорю, что россияне вторглись. Вот она мне говорит, что любит, когда я кажусь ей поэтичным. Вот я думаю: «Что же нам делать, пресвятая Богородице?» Вот она мне говорит «Пройдем к шоссе? Ты не устал? Тебе не кажется, что лес меняется?» И я без памяти влюблен в ее большие ведьмины глаза. Вот я говорю отцу, что я без памяти влюблен в другого парня. Вот я признаюсь отцу, что сплю с Ильей и как женщина тоже. Вот я готовлю любимым вареники. Вот мы с любимой признаемся своему любимому, что грезим о красивых черных членах. Вот мне кажется, что я заканчиваю опус в красном. Вот мы с любимой сожалеем, что у нас нет кружевных трусов. Вот я целую себя в зеркале, вот я спускаюсь. Вот она при помощи него практически насилует меня, и я от этого в восторге. Вот я с ним голый в душе чищу зубы, и он, моясь, говорит, что слышит тишину, а я выплевываю кровь вместе с белизной. Вот я целую ее волосы, целую ее волосы, целую ее волосы, целую. Вот мы стоим и смотрим на российскую колону. Вот я смешиваю, смешиваю, смешиваю. Вот что-то происходит, происходит, происходит. Я влюблен в них. В чем же твоя формула, спросите вы. И почему она была перед глазами? Да все просто. Формула была со мной, но я ее не видел – только чувствовал. Все, что я чувствовал в эти мгновения, и было этой формулой, если же пытаться передать ее словами, то получится «Я существую». Я живой. Я есть. Аз есмь.
***
В первых числах апреля Слободу освободили военнослужащие 72 отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев. Перед этим в деревне и окрестностях происходила куча всяких событий, о которых мне, признаться, не очень интересно здесь рассказывать, но Влада настаивает, чтобы я их описал хотя бы вкратце, и я даже не знаю, с чего начать. На третий день вторжения машину Саши на трассе расстрелял кацапский БТР. Они с отцом ездили в Дубовязовку за хлебом для деревни и как раз на повороте в Слободу случайно наткнулись на мчащуюся кацапскую колонну – та открыла огонь, к счастью, ни Саша, ни его отец не пострадали, БТР валил по ним очень издалека и они успели выпрыгнуть и спрятаться в неубранном кукурузном поле. Но машина была в хлам, Вита поехала на тракторе забрать их и на буксире притащила машину, я сам ее видел, жалко, она хоть и видавшая виды, но хорошо им служила, а теперь весь двигатель казался раскуроченным, не говоря уже про лобовуху. Впрочем, забегая наперед, – Саше ее как-то удалось реанимировать, но уже когда в деревне расположились запорожцы. Исходя из этого события, Саша с Витой один раз одалживали у нас джип, но это немного позже, по порядку. Сначала скажу, что примерно на третий или четвертый день по общему вайбу стало казаться, что наши их пиздят. По поводу Конотопа были мутные новости о каких-то местных переговорах, и вроде бы из самого города кацапы оттянулись, но окружили его кольцом блокпостов. Блокпосты эти стояли с нашей стороны в Подлипном и, кажется, где-то под Шаповаловкой, но этого я не видел, а подлипенский блокпост и тот, что в самом городе, видел не раз – их потом заняли наши. По селам про кацапов с самого начала говорили плохое. Меня в этом удивляло многое, как и с той бехой некрашеной, например, обязательно ли было посылать сюда военнослужащих, которые даже на русском плохо изъясняются, не говоря уж. Особо плохое рассказывали как раз о некоторых национальных элементах, ну, тут уж сам не видел – не скажу. В Подлипном и не только с первых дней видели кацапских срочников, которых типа нет, причем каких-то совсем уж обсосных и обосранных, они выпрашивали у местных похавать. В те же дни со стороны Черниговщины начала доноситься канонада, которая не утихала до бегства кацапов оттуда. У нас тут кацапы, пару раз заблудившись (даже один раз заехав чуть не к нам во двор на танке – к счастью или к сожалению, я этого не видел, спал, а это было рано утром, Илья видел издали в окно, как танк проехал в сторону второго домика, потом он вроде вырулил в селе на трассу вновь), облюбовали эту самую трассу и гнали колонны куда-то на Самбор и оттуда по нескольку раз в день. Во второй половине марта особенно участились эти прогоны – поговаривали, что какие-то кацапские части ночевали в пустых домах заброшенного хутора, в лесу, тут рядом, причем каждый раз их туда и назад сопровождала ночная вертушка, она очень заебала рили, поэтому я все-таки не удержусь и воспользуюсь случаем – если ты, пидарас, хоть один, еще живой, патрулировавший ночами в Конотопском районе где-то между Самбором и Дубовязовкой – хуем тебе по лбу, дура ебаная, впрочем я свой тебе даже показывать побрезговал бы. Ну, такое. Он наши патрули особенно заебывал – попробуй посреди ночи сныкаться куда-то. Ну, такое. В общем говоря, Саша где-то около первого марта повез Виту в город к зубному, предварительно договорившись – терпеть было невозможно, хоть ты вырывай его. С отцом и матерью он поругался на предмет этой поездки, батю чуть не пизданул, мне говорила Вита. С нами тоже почти что поругался, потому что был уже изрядно заведенный, а мы ж тоже предлагали отвезти их, впрочем, не так активно, как отец – мне очень не хотелось ехать через блокпосты кацапов, чисто неприятно было, Владе тоже, а Илью я отпускать боялся, из-за той Горловки в паспорте главным образом. Хотя, конечно, и за Сашино АТОшное прошло переживал, но сам он был очень весь такой на фарте, что ли, и, слава богу, все обошлось. Они потом оба у нас чаевничали и рассказывали в подробностях. На блокпосту их даже не остановили, только жестом спросили курить – Саша молча крутнул головой. Вита говорила, что кацапы те были ужасно грязными и грелись у костра чуть ли не посреди дороги. После стоматолога при въезде в город они даже поучаствовали в импровизированном митинге – местные перекрыли дорогу кацапским грузовикам, и Вита говорила, что один рослый типа офицер даже пару раз хватался за автомат, впрочем, ничего не добившись, и в конце концов ретировавшись с этими грузовиками. Этот офицер по типу был единственный славянской наружности, остальные то ли буряты, то ли бог уж их знает. Примерно на следующий день после этого события местные собрались возле клуба и организовали самооборону для патрулирования улиц в ночное время суток, мы с Ильей пошли на это собрание вдвоем, тоже поначалу чуть не поругавшись – он настаивал, чтобы я не шел со своей ногой, но я был непреклонен, впрочем, на собрании, пока сельчане переругивались по поводу того, как все лучше организовать, мы с Ильей несколько раз обменивались такими, ну, взглядами… Короче, я не знаю, как вам объяснить – потаенными влюбленными взглядами двух парней в гетеронормативном обществе, которые чрезвычайно трудно описать словами, если вы никогда не бросали подобные взгляды на любимого парня и не ловили на себе такие взгляды. Когда вы, в общем, все такие пацаны среди людей, плечи расправлены, осанка, твердо стоите на ногах, взгляд сосредоточенный, несколько колючий, подозрительный, а на лице маска сарказма и надменности, и вдруг вы взглядываете на Него – точно такого же… И вдруг, скажем, думаете, что можете в точности сейчас представить Его голым, потому что на Его теле нет места, которого вы бы не целовали. Причем по много-много-много раз. Иль повторю то, что я писал выше – когда вы в пламени парней вокруг все тоже из себя такие серные, и только взглядывая друг на друга, видите друг в друге капли ртути в ваших сердцевинах, и через эти взгляды ваша ртуть почти соприкасается. В общем, мы бросали друг на друга вот такие взгляды, и потом Илья мне дома говорил, что благодарен мне за то, что я ходил с ним. Да, он мне прямо говорил вот так:
- Я почему-то так любил тебя там, Бог. Я даже не знаю…
Он чаще стал называть меня Бог, даже не знаю, почему. Но мне прикольно. Влада, кстати, тоже набивалась пойти с нами, но мы ее все-таки отправили к Вите, типа не бабское дело. Забавная штука с этим «небабским делом», почему-то нам иногда в той ситуации нравилось ее так подначивать, впрочем, именно потому, что ей это по какой-то причине было приятно. Вот это все – «Телка! Не бабское дело». Я уже вам объяснял там выше, что это странная амбивалентность, когда с одной стороны: «помолчи, телка», а с другой про себя: «господи, в мире нет ничего ценнее, чем Она!». Мы, кстати, говорили с Ильей как раз об этом после того как занялись любовью, ну, после собрания. Это были такие какие-то жгучие обостренные чувства, как тогда, утром 24-го, вот это его неожиданное признание, и это его участившееся Бог… Особой остроты добавило и то, что Влады рядом не было, и более того, когда она пришла, то мы не только отвалили ее вопросы по собранию вот этим «не бабское дело», а еще и не рассказали о том, как именно мы занимались сексом после оного, а она по нашим взглядам видела, что мы занимались. Вы же видите, я и здесь не описываю подробностей этого соития – это специально. Ну, короче, она была так возмущена всем этим, причем это возмущение странным образом содержало в себе и удовольствие, она как-то так покраснела и ныла сбивающимся голосом, шепелявя сильнее, чем прежде, и почти сразу побежала в душ, ругая нас. Мы переглянулись с Ильей – это были похожие взгляды влюбленных парней, но теперь в них подмешалось третье. «Любимый, ты влюблен в нее?» – «Да, блядь, безумно, слушай!» Короче, мы пошли за ней в душевую, раздеваясь на ходу и бросая вещи просто на пол в основном. Тогда мы взяли ее только поцелуями. Причем мы знали, что она хотела траха – наших твердых членов, наших сильных рук и крепких обнаженных тел, но нам хотелось поклоняться ей. Мы опустились на колени перед ней и очень долго целовали и ласкали ее невообразимые ноги. Потом, конечно, поднимались выше, очень постепенно, я видел, как она, смирившись, сминала в руках свою грудь и один раз даже ее поцеловала, но в целом мы не смотрели на нее, потому что приступили к сути каждый со своей стороны, так сказать. Мне нужна была только ее задница – я все-таки хотел отомстить ей за то надругательство после начала вторжения. И отомстил. Своими действиями мы как будто говорили ей – ты будешь наслаждаться и кончать не так, как тебе хочется, а так, как мы тебе прикажем, потому что мы мужчины и потому что мы в тебя безумно влюблены. Потом, когда мы уже одетыми сидели на диване, я обучал Илью заплетать ей косу – ему внезапно захотелось.
***
Да, надо сказать, что я настолько долбоеб, что с огромным скандалом добился разрешения пойти с Ильей и Сашей в первое дежурство. Это было где-то в первых числах марта. Толку от меня, конечно, было мало, и Илья ругал меня по поводу ноги, но я был снова непреклонен, прям пиздец. Саша, впрочем, был более благосклонен и сказал, что маршрут наш не сильно долгий, если типа я хочу, то пусть пройдусь. Нельзя сказать, что я не переоценил свои силы, хотя стойко терпел. Дело в том, что около полуночи поднялась неимоверная вьюга, а хромать не только по грунтовкам, но и по снегу с моей ногой – то еще удовольствие. Но все-таки я как-то дохромал. Мы просто совершали периодический обход двух улиц, ту, которая коттеджная, и там, где жили родители Саши – ту, что примыкала к Неизвестному солдату. Если что, то мы не охотились за кацапами, ясень хуй – на инструктаже нам строго приписывалось ныкаться при малейшем намеке на кацапов, будь то колонна, одиночная машина или же вертушка. Максимум мы должны были поднять тревогу по деревне и информировать тероборону Конотопа (это, к слову несколько раз делалось – впрочем, по всяким незначительным событиям). Мы патрулировали улицы как бы от мародеров, ну и так вообще, просто потому, что буквально никакой власти в селе и окрестностях не было, к тому же светомаскировка, вся фигня – абсолютная тьма спускалась на село уже часов в девять вечера, ну, сами понимаете. Мы, к слову, еще и следили за соблюдением этой вот маскировки. Ну, короче – в первый раз я подежурил с Сашей и Ильей, вооружены мы были одной охотничьей ружбайкой, заряженной парой патронов. По людям нам стрелять категорически запрещалось, что бы ни происходило – только в воздух в самых крайних случаях. Меня почему-то очень тронуло, как нас сначала провожала Влада – снарядив нас бутербродами с тунцом и термосом с кофе, перекрестив, поцеловав, она была какая-то такая… Я не знаю, просто потрясающая. Этот взгляд, эти распатланные волосы… А потом еще и Вита, когда мы зашли за Сашей, эта была какая-то очень суетливая, но тоже в этой суетливости красивая, сунула нам отбивных в термопакете и по жмене карамелек. Дежурить с моим здоровьем было трудно, но прикольно. Большую часть времени мы сидели в пристройке ангара Сашиного отца, он так немного выходил как бы к пустырю, там был обогреватель, мы сидели, то листая телефоны, то травя истории – в основном Саша, кстати, не АТОшные, а деревенские, то с его юности, то с детства, иногда недавние, всякие смешные сельские приключения. Вообще, он очень располагал к себе и вдохновлял в этих условиях. Забегая наперед – я очень верю, что свои последующие награды он честно заработал, даже и с лихвою, думаю, его бойцы были с ним как с батей, знаете. Ну, короче, Илья как-то сблизился с Сашей, что меня радовало, они поначалу вспоминали географию родных мест Ильи, потом что-то еще о Конотопе… Короче, они вообще имели что-то общее, вот эту немногословность в быту, но как бы что-то просыпалось в них во время всяких испытаний. Мы дежурили по полночи, раз примерно в полчаса делали обход двух этих улиц, спотыкаясь во вьюге. Позже, кстати, на следующих дежурствах мы использовали как перевалочный пункт не только пристройку ангара, но и кухню нашего коттеджа, ну, я не всякий раз дежурил с Ильей, но еще бывало, особенно когда Саша залег с ковидом. Тут всю деревню, наверное, перекачало, где-то после нашего дежурства заболела Влада. Температура в пике была тридцать восемь, и так вроде ничего серьезного, но сильно болело горло, а у нас было не так много медикаментов, в частности, для горла, к тому же кончилась курица, а мы хотели сварить ей бульон, а еще она любила при простуде хавать сгущенное молоко просто ложками, а у нас тоже не было здесь… Короче, к тому моменту кацапы снялись с блокпостов вокруг города, и мы решили вдвоем с Ильей проехаться в город. Сначала он хотел ехать сам, но я его, понятно, самого не отпустил, и мы поехали вдвоем. Влада вообще нас не отпускала, но мы вроде ее успокоили, сказав, что мы быстро, попросили Виту присмотреть за ней вдруг что. Я еще помню, она нас опять перекрестила и хрипло сказала: «Бог вам назустрич», – а я взял миньона и вручил ей со словами:
- Вот нá тебе Тепоцтекатля, чтобы скучно не было.
Она хрипло засмеялась и прокашлялась.
- Я тебе сказку почитаю, как приеду.
Мы выехали рано утром, было серо. Странно было видеть трассу такой пустынной. Невдалеке от села на обочине стояла на домкрате совершенно продырявленная «копейка» – Саша говорил, что она тут стояла еще с первого дня вторжения, кто-то уезжал из города и, видимо, не смог поменять колесо. Продырявили ее кацапы, причем несколько раз – вероятнее всего, то «пух-пух-пух», что мы слышали в лесу на второй день, было звуками стрельбы по ней. Надо объяснить, что они, проезжая, валили по всему транспорту, который видели, даже брошенному. Держу пари, что, если бы Вита на тракторе не забрала Сашину хонду, – она выглядела бы сейчас так же. На том самом повороте на Дубовязовской дороге к концу оккупации скопилось несколько подстреленных и совершенно выгоревших тачек. Они валили по этим тачкам с людьми, просто завидев их, а потом многократно обстреливали брошенные и даже полностью выгоревшие тачки. К тому моменту они вообще валили во все без разбору, в придорожных деревнях валили даже по гражданским людям во дворах, едва заметив их. Был слух, что они валили, чтобы эти люди не сообщали об их передвижениях, но я думаю, что они валили чисто по фану, потому что уебки и потому что их пропаганда перед тем годами нас дегуманизировала. На той трассе, по которой мы ехали, был ранен и погиб не один человек, и в основном гражданские. Первым их мрачным следом была вот эта продырявленная «копейка», затем мы спустились к тому взорванному в первый день мосту. На самом деле он был не взорван весь, а продырявлен в нескольких местах, и из него торчала арматура, а меж арматуры колыхалась вешняя вода болотистой речушки. Илья осторожно объезжал эти дыры, на другой стороне моста громоздился рыжий остов сгоревшей «мотолыги». Это была украинская мотолыга – ее бросила еще в первый день выходящая из Конотопа 58-я бригада, у нее порвалась гусеница, что ли, точно не знаю, но она, как и пятерка, тут стояла с того первого дня. Кацапы тоже расстреляли ее не один раз с холма напротив, она была выгоревшая просто начисто, один ржавый остов и больше ничего. За мотолыгой на холме возле деревни стоял еще украинский бронеавтомобиль с пробитым колесом, тоже с того первого дня. Илья остановил машину и, заглушив двигатель, прислушался:
- Вроде тишина, – промолвил я.
Колонну мы должны были услышать, но тишина была такая, будто в поле, а не посреди когда-то оживленной трассы. Мы снова двинулись и поднялись на холм. На злополучном повороте в Дубовязовку в кювете лежала девятка, и дальше на дороге в Дубовязовку стояла еще какая-то «броня». Девятка тут лежала уже больше недели – ее водителя ранило и он чуть не истек кровью, его спасли деревенские, когда кацапская колона наконец проехала. Остановка с мозаичным Шевченком была продырявлена снарядом. Мне грустно было на это смотреть, но не хотелось рефлексировать. Вернулось чувство того первого дня, по типу умирать так умирать, а думать будем после. Перед Подлипным нам навстречу выехала грузовая ГАЗель и приостановилась перед нами, мы тоже приостановились. В кабине грузовичка сидело два потрепанных мужика в очень поношенной одежде. Один из них обратился к нам как-то возвышенно-задорно:
- Здорово, казаки! Ну, шо там на Ромны?
- Не знаем, мы из Слободы, – сказал Илья. – Проехали спокойно. Смотрите, там на повороте слушайте, чтобы не ехала колона.
- Да, добро!
- Что в Конотопе?
- Блокпост в Подлипном так и брошен! Возле сельхозтехники ихний блок пост наша тероборона заняла, смотрят прописки, пропускают…
- Ясно.
- Ну, удачи!
Они махнули нам руками и поехали. Подлипенский брошенный блок-пост представлял из себя бетонные блоки и что-то типа пулеметных гнезд, нигде не было ни души. Наши и правда стояли возле сельхозтехники, и этот блокпост был гораздо лучше оборудован – тут были противотанковые ежи во множестве и еще эти, как их, ну, колючки, рассыпанные для автомобильных шин которые. Ну и бетонные заграждения, конечно. Блокпост охраняли человек десять-пятнадцать с калашматами, все в гражданской одежде и с желтыми повязками на рукавах. Проверили наши документы, чинно, мирно, но, правда, переспросили Илью по поводу места рождения, кажется, когда приехал, ну, такое… Я, почему-то заволновавшись, выпалил:
- Та все нормально, он со мной… Короче, он мой парень, мы встречаемся. Короче…
Ну, я реально не ради эпатажа это ляпнул – просто разволновался, что вдруг, не знаю, ну, короче, что-то будет – вдруг его задержат или еще что… Теробороновец на это мое сообщение никак особо не отреагировал, мне сразу показалось, что повел плечом в духе «мне похуй», но вполне возможно – показалось. Он отдал Илье паспорт и пропустил нас. Отъехав немного, Илья чуть не заорал:
- Ну шо ты мочишь?!
- Ну а шо…
Меня разобрало на смех, и Илья почти что сразу рассмеялся вслед за мной. В работающей аптеке мы купили все, что нужно и не нужно, даже электронный градусник, хотя в коттедже был рабочий – и такой, и ртутный. Купили кучу всяческих смоктушек и чаев, пачку прокладок Владе. Потом Илья подвез меня в супермаркет, а сам поехал на заправку попытаться хоть немного заправиться. К супермаркету стояла очередь, я стал в нее. Какая-то вставшая за мной женщина спросила меня, есть ли что-то в супермаркете, я ответил, что не знаю, типа – если стоят, значит, есть. Вообще людей на улице было чрезвычайно мало, кучковались возле вот таких вот точек интереса типа супермаркета, аптеки и т. д. Вдали за городом хуярила канонада. Окна в супермаркете были заклеены картонкой, полки стояли полупустые – люди сметали с них все, что оставалось. Оставалось много сладостей, и я набрал все, что мог тащить: конфеты, шоколадки, ну и сгущенку – я за ней пришел вообще-то. Когда я шел к кассе, то свет внезапно вырубился, стало темно, хоть глаз коли, и какая-то женщина рядом со мной даже вскрикнула от неожиданности. Потом свет загорелся опять. На кассе какой-то мужик пролез без очереди и очень по-бабьи ругался с телкой, которая пыталась его осадить за это. Мне стало неуютно – люди были перепуганы, оно передавалось. Вдруг я ощутил прикосновения к плечу, резко развернулся и увидел свой любимый вересковый мед.
- Ну, что тут? – улыбнулся Илья.
- Вот, – показал я на сладости.
- Ого, сейчас сгружу.
- Заправился?
- Та где там? По талонам.
Уже выходя, когда он нес пакеты с покупками, я спросил:
- А у кого есть эти талоны?
- У теробороны. И у родичей теробороны, как я понял.
- Ну понятно. А цветы?
- Голяк. Нашел искусственные.
- Розы? Желтые? Серьезно?
Мы позвонили Владе, а потом заехали к Вите, который мой друг, и быстро выпили у них по кружке чая. Света выглядела почти совсем здоровой, только покашливала часто, оба они были так вот несколько возбуждены, как много кто тогда. Я подарил Свете коробку голимых конфет и поздравил с восьмым марта. Да, если вы не поняли, вообще прикол этой поездки был купить Владе цветы, но это не совсем получилось, ну уж что есть. Короче, мы заехали к себе на квартиру и сгрузили из холодильника все, разморозили его, поотключали все и поехали назад в село. Теробороновцы на блокпосту предупредили нас, что кацапы движутся где-то в районе, но на трассе и на повороте было тихо. Мы долго слушали, перед тем как проехать.
***
Уже дома, видимо, не выдержав, Илья сказал нам с Владой, что ходил в военкомат. Влада восприняла это известие немногословно и как будто немного заторможенно, я же вышел из себя. Я обрушился на него всем своим, как он сам говорит, «раскидыванием по полочкам» – там было много всего: и то, что его бы не призвали из-за родителей, и то, что он не посоветовался с нами, и то, что он вообще не думает о нас, я не сказал там прямо про «не думает о нас», но повернул в ту сторону, ну, каюсь, блядь, я просто испугался, ладно? Говорю как есть. Может быть, сильнее, чем в любой из этих дней. Впрочем, я, кажется, не стал прикрываться Владой, тем более что она заторможенно молчала, а сказал как есть, по типу:
- Ты не думал обо мне?
Я наперед знал, чем он будет отбиваться, он отбивался вяло тем, что хочет как раз защитить нас, что не хочет снова убегать, что… самой удачной была его апелляция к моим дежурствам со своей ногой:
- Ну, ты же ходишь на дежурства! Вот и я что-то такое чувствую…
Но когда я его припер к стенке аргументами, он неожиданно расплакался. О господи, я никогда его таким не видел, мне стало так стыдно. Я бросился к нему, обнял и целовал.
- Прости, любимый, ну, прости, я не хотел, прости-прости...
Влада, шатаясь, подошла к нам обнимающимся, это было так трогательно, мы сразу переключились на нее, даже я, кажется, сказал:
- Все по порядку. Сразу вылечим вот эту…
Илья легко подхватил ее на руки и уложил на кровать. Я сварил бульон и накормил ее, поили ее чаем и кормили сгущенкой с ложечки, я читал ей «Властелина колец». Мы обсудили это с Владой вдвоем, когда Илья в ту ночь ушел на дежурство с Сашей. Знаете, к чему мы пришли? Что здесь не может быть единственного правильного решения. Опасней было находится здесь или в Киеве? Поначалу казалось, что в Киеве. Потом, когда зарыскали кацапы – показалось по-другому. Да, мы отделались легким испугом, но ебучая случайность отделяла нас от того, чтобы у нас в селе остановилось любое замшелое кацапское отделение и превратило здесь все в филиал ада. Как было в Тростянце, Ахтырке, Краснополье, Изюме или той же Буче. Сейчас кажется, что мы очень верно поступили, приехав сюда, не оставив Владу с отцом и даже не оставшись в Конотопе. Но это сейчас так кажется. Нет никаких охуенных вариантов, все решают случайности, и если суждено от водки сдохнуть, то… То.
***
Владе довольно быстро стало лучше от медикаментов, но заболел Саша, и я несколько раз дежурил вдвоем с Ильей. Почему-то мне запомнилось, как мы с ним около трех часов утра ныкались от вертушки в пустой неиспользуемой трансформаторной будке.
- Улетел? – спрашивал я.
- Вроде бы нет. Где-то над хутором кружит.
- Вот интересно посмотреть, что за модель… На фоне звезд не получится разглядеть?
- Вот вы с Владой какие-то при шухере делаетесь, как в жопу ужаленные! – буркнул Илья.
- Да? – засмеялся я.
- Нахуй тебе тот вертолет? Зачем высовываться?
- Та нахуй мы ему на самом деле?
- Саша сказал, чтоб ныкались под крышу – значит, ныкаемся…
- Ладно.
Была одна история, за которую мне немного стыдно, честно говоря. Один раз, делая обход с Ильей, мы уже в комендантский час заметили возле поворота к трассе два грузовика, гражданских. Там меняли колесо, как потом выяснилось. Мы позвонили Саше, он сказал: смотреть, не подходить. Грузовики те вскорости уехали, но, пока они стояли, я сказал Илье:
- Может быть, досмотрим?
- Думаешь?
Он спросил как бы с сомнением, но я почувствовал, что скажи я сейчас «пошли», он, может быть, пошел бы. К счастью, почти сразу те грузовики уехали. Но потом Саша сильно отругал Илью, когда он рассказал об этом (он не обо мне, а вообще, типа – думали досмотреть):
- Долбоебы! Они б увидели, что вы с оружием – на месте б забаранили!
Он покричал и рассказал историю о том, что на Донбассе, бывало, вот такой гражданский транспорт подъезжал, выскакивали с калашами или чем похуже и с наскоку выносили блокпосты. Я не слышал о таком по телевизору и в интернете, но откуда мне знать? Может быть, фольклор, а может быть, и нет… После этой истории я решил себя немного приструнить. Какой-то юношеский раж, ну его нахуй.
***
Когда Влада поправилась, к нам как-то приходила Вита и принесла гостинец – по палке домашней кровяной и печеночный колбасы по особому рецепту. Влада пробовала, когда мы были у них в гостях еще раньше, и ей очень понравилось. Еще она сказала, что не может оторваться от Владиной книжки, и стала у нее, между прочим, спрашивать, где она такие редкие и необычные украинские слова берет, а она, улыбнувшись, сказала ей:
- Это Богдан переводил. Она на русском изначально.
- Правда? – удивилась Вита.
- Там близко к оригиналу, – фыркнул я.
Влада засмеялась, а Вита смотрела на меня удивленно. И мне это было приятно, признаюсь. Тогда же они заговорили о маникюре – Вита делала Владе еще до болезни, когда мы были у них, прикольные такие ноготочки, типа морские волны, только разноцветные, крч. Я помню, что отошел от них на кухню, что ли, и в какой-то момент мне показалось, что они шепчутся, лукаво на меня поглядывая, но я не обратил внимания особо, тем более что как раз вскорости пропал свет. Оказалось, кацапы разбомбили какую-то подстанцию, в Ахтырке, что ли, и света не было некоторое время. Даже Илья вытаскивал из гаража бензиновый генератор – Саша просил его на случай накачать водонапорную башню, а то воды в селе не будет.
Где-то на второй или третий день после этого, когда свет пропадал еще несколько раз, мне позвонили квартиросъемщики и сказали, что они сейчас тоже в селе, но электроприборы в квартире не выключили. Да, тут надо сказать, что когда Влада еще болела, в области был первый гуманитарный коридор, и люди выезжали из Конотопа. Мы думали, не отправить ли Владу, Илья упрашивал меня, чтобы я ехал с ней, но сами понимаете, короче – я не знаю… Иногда мне казалось, что я почти готов ехать, чтобы забрать отсюда Владу, иногда я за это потом себя ругал – как же я брошу Илью? Ну, и вообще, я почему-то прикипел к этим местам, как уже говорил, они как будто давали мне силы – что бы я делал где-то на западной или вообще за границей? Не знаю. Решило то, что коридор прошел очень внезапно, мне написала, кстати, о нем Катя – она им ехала, рано утром, и мы телились, еще обсуждая это с Ильей, а Влада сказала, что она больна, ей еще плохо (и действительно еще была температура). И вот типа болезнь послужила поводом, чтобы она осталась с нами, чтобы я остался, ну, короче. У Саши похожая ситуация вышла, к слову говоря, – он сам выталкивал Виту с малой, но та упиралась, потому что он больной, а тут как раз в тот день еще и малая затемпературила, как будто специально. Ну и вот тут потом этот свет, квартиранты, и еще то, что Витя в городе остался один – он отправил Свету коридором и, короче, по ходу забухал, почти что сразу. Мне хотелось его навестить, а тут еще квартиранты. Илья немного приболел, хотя далеко не так сильно, как Влада – даже на дежурства ходить не перестал, Саша как раз тоже вышел, еще немного сопливый. И мы, короче, с Владой вдвоем решили съездить в город на квартиру. Сказали, что купим Илье еще лекарств, решим эти вопросы, навестим Витю. Илье как раз с Сашей выпало дежурить в этот день, перед утром. Он немного переживал, но вообще мы расслабились чуток. С нашей стороны от Ромнов как будто постепенно наползало какое-то сопротивление – тероборона оттуда делала к нам вылазки, и даже вроде бы на трассе подбила русский танк из джавелина или чего-то такого, а в том селе, что возле поворота, был стрелковый бой, отзвуки которого мы даже слышали. Короче, нам казалось, что наши рядом, тем более об этом и говорили в том же Конотопе, Сашины друзья из теробороны, да много кто. И мы с Владой поехали. Туда проехали вообще спокойно. Видели опять эту «копейку» на холме при выезде, разбитый мост и мотолыгу, украинский броневик сельчане оттащили подальше, чтобы кацапы не гатили по нему всякий раз, проезжая. Но зато на самом повороте валялся новый выгоревший остов – там накануне подорвали «ланос», что ли, водителю потом ампутировали ногу, я слышал. Но мы проехали спокойно, Влада все крутилась, правда.
- Ты для книжки запоминаешь? – спросил я.
Какая ирония, что сам теперь об этой хуите пишу. Короче, мы проехали, наши, как оказалось, заняли уже блокпост возле Подлипного, немного его дооборудовав, понарывав окопов… Тот блокпост возле сельхозтехники теперь пустовал.
День наш тот прошел как-то сумбурно. Сначала порешали с той квартирой (ничего там такого не было, просто квартиранты кипишные, молодая семья из деревни), потом скупились немного, потом позвонил Илья и сказал, чтобы мы сегодня посидели в городе. Мы еще хотели ехать, признаться. Но потом еще и Саша позвонил – видно, Илья его просил. Короче, слух прошел такой, что кацапы выходят из-под Чернигова, и все же через наши головы. Как раз типа завели ту новую технику и части прикрывать их.
- На дороге стрельба, – просто сказал мне Саша. – Посидите.
Мы, конечно, очень переживали за Илью, но Саша успокоил, как мог:
- Тут щас вообще тихо, это у вас там может быть.
Делать было нечего, поехали к Вите. Потом Влада поехала попробовать заправиться, а я сидел с ним. Он был уже хороший. Я немного выпил с ним, но так, чисто для вида. Без Светы он как-то действительно сдал.
- Ты понимаешь, что мы можем умереть в любой момент? – все говорил он мне заплетающимся языком.
- Понимаю, – кивал я.
- И что делать с этим?
- Жить, – говорил я.
Ничего другого в голову и не приходило.
Владе удалось заправиться с какого-то раза, и она приехала за мной. Мы поехали к себе – то есть на квартиру Ильи. Я чего-то запомнил эту сто раз виденную и хоженую дорогу возле мемориала, ту самую, на которой я, пьяный, признавался Кате в любви и думал о том, что моему внутреннему бесу нравятся концлагеря и бассейны с разложившимися трупами. Дорога была относительно безлюдна, и резко бросались в глаза эти надписи на билбордах баллончиком: «Солдаты РФ – вам здесь не рады!»
***
Еще почему-то запомнил, как мы с Владой курили на балконе вечером. Был какой-то синюшный весенний закат, и до нас доносились отзвуки боев под городом.
- Я никогда бы не подумала, что мне придется пережить то, с чем столкнулись мои предки во времена Освенцима и Бухенвальда, – помню, сказала она, и добавила: – Почему мир такой неисправимый?
- Почему же? – сказал я. – Мы сейчас немного даем сдачи – это ли не прогресс?
Она грустно улыбнулась, я обнял ее, и она прислонилась ко мне.
***
Мы, помню, долго не могли заснуть, я увидел, что Илья онлайн и написал ему, типа, «может нам следовало бы приехать, как ты там?»
Он ответил:
- Успокойся, нас освободили.
- Что? Как?
- Наши уже в селе, бегаем с Сашей, расселяем. Может, и к нам поселим, только они пока дальше поехали. Я перезвоню.
Я ничего не понимал, мы с Владой подорвались, выпили кофе. Илья позвонил и сказал, запыхавшись, что село заняла 72-я бригада, но они погнались за кацапами дальше и сейчас зачищают близлежащие деревни. Мы заснули перед утром и мне, помню, снился странный сон. Как будто я в далеком детстве, еще в старом доме на Загребелье играю с маленьким пушистым утеночком. Он такой хорошенький, пушистый, и я помню, подношу его к своей щеке и так вот глажу носом, глажу. Он попискивает, и вдруг, я вижу, промелькивает быстро какая-то мохнатая тень. Это какой-то темный мохнатый кот, он ухватил утенка прямо у меня в руках и вонзил в него когти, я хватаю этого кота за шкирки и выбрасываю прочь куда-то далеко, смотрю на утенка… И у него вот этот зоб и шейка обнаженные и все в крови… Я как бы пытаюсь все это скрепить, и в этот миг понимаю, что утенок не дышит, он мертв. И я начинаю рыдать. И кричать, задрав голову вверх «Господи, за что? За что? За что? За что? За что?»
***
Утром, когда мы уже выехали, мне позвонил Саша и попросил забрать на путепроводе слободского пацана, который тоже вчера застрял в городе. Я его впервые видел, но пацан был такой уматовый, с прибаутками, он всю дорогу травил какие-то стори с заднего сидения. На блокпосту возле Подлипного мы разминулись с несколькими вооруженными пикапами теробороны, едущими со стороны Слободы и Ромнов. Пацан стал рассказывать, что кацапы, убегая, охраняли не столько друг друга, сколько налутанный в деревнях и райцентрах скарб. Мы под эти стори подъехали к злополучному перекрестку. С дубовязовской дороги медленно поворачивала колонна бронетехники во главе с БТРом, на котором колыхался украинский флаг. Мы переглянулись с Владой.
- Ты видишь? – едва ли не шепотом спросила она.
Я видел. Я видел, и слышал, и чувствовал, как унылое пространство наполняется русаловыми песнями. Как в тумане зацветает чар-трава, как загораются костры на Лысых Горах. Как ведьмины глаза моей любимой девушки блестят и чаруют меня, как красивый чернобровый перелесник ждет меня в этот миг в заколдованном доме, как посвистывает ветер в проклятых церквях в лесной глуши, как просыпается к весне вечная степь, как выученные в детстве заговоры останавливают кровь, как Божья Матерь покрывает омофором этот край. Я до сих не понимаю, как медленно ползущий БТР был в состоянии тянуть это все за собой. Но он тянул, и родина возвращалась.
XXVI
Ильи дома не было, но он практически сразу, как только мы вошли, позвонил и попросил достать матрасы из шкафа. Сказал, что приведет трех человек – разведчиков, которые только что вернулись из ночной зачистки сел вдоль трассы. Мы с Владой, раскладывая эти матрасы и одеяла, размышляли, что, может быть, вообще нам отсюда уехать, пусть живут – чтоб не мешать им. Тут опять позвонил Илья и велел нам приготовить что-то жрать, желательно побольше. Ну, раз так, то посидим пока – Влада готовила яичницу, я варил картошку, достал хлеб и консервы. Затем Илья написал мне «веду», я вышел. Они шли со стороны второго коттеджа, Илья и трое пацанов, военных, в пикселе, касках и брониках, с оружием и рациями, у двоих были синие повязки на рукавах, а у одного вместо повязки завязанный узлом синий одноразовый пакетик. Я смотрел на этот пакетик и почему-то думал: «Или думаете вы, Я не могу воззвать к Отцу Моему, и Он не пошлет Мне на помощь больше двенадцати легионов ангелов?»
***
Пацан с пакетом вместо повязки был самым старшим из них, ему было около сорока, но на лицо он казался еще старше, и только худощавая, какая-то даже высушенная, что ли, фигура издали казалась юношеской. Я его запомнил, потому что он поздоровался со мной первым. Позже я узнал, что он не только был самым старшим из всех, но и, пожалуй, самым опытным – он воевал с четырнадцатого года, был в Донецком аэропорту, был многажды ранен, контужен, оперировался в заграничных клиниках и вновь законно и незаконно возвращался в армию, пока в 2019 году был чуть ли не насильно комиссован из-за этих всех увечий. Он позже показывал мне свой солдатский жетон и объяснил, что их было два, но один из них, как и положено, сорвали с цепочки, когда его окровавленное тело бросили в турповозку к мертвецам, где он не сразу, но пошевелился и пришел в себя. Его признали мертвым и даже уведомили об этом старую мать, у которой от этого случился сердечный приступ, а потом он «ожил». Он был киевлянином и до войны работал школьным учителем математики, был женат, но жена ушла от него, когда он был на Донбассе. После увольнения он, как я понял, жил у матери и страшно пил. 24 февраля часть, в которой он раньше проходил службу, была далеко, и рано утром он, собранный, пришел в ближайший военкомат, а когда, посмотрев его документы, ему начали говорить, что он комиссован и нездоров, он вытащил ручную гранату и сказал, что не уйдет отсюда. Он немного отличался от других пацанов, которые в основном были кадровыми военными из Белой Церкви. Он дольше всех привыкал у нас, постоянно шарахаясь от новых звуков, везде с собой таская автомат и пару дней то и дело оглядываясь в сторону шоссе, когда там проезжала гражданская машина или автобус. Я осторожно говорил ему:
- Там трасса за леском.
Но он, кажется, меня не слушал в этот миг. Он мне рассказывал, как у его соседа по квартире на балконе оторвался листок тонкой жести, и от ветра иногда он типа дребезжал, но так, что трудно понять, откуда звук и в целом не очень громко, но Юра, так звали парня, после увольнения несколько раз просыпался от того, что во сне прыгал и, перекатившись по полу, вжимался в противоположную от окна стену. Он называл то, что с ним происходило, «афганский синдром».
- От этого и жена ушла, – говорил он, грустно улыбаясь.
У него была очень правильная и довольно красивая русская речь, у единственного среди наших пацанов – те были украиноязычные. Рассуждая, он говаривал:
- Конечно, в СМИ, образовании и госучреждениях должен быть только украинский, тут вопросов нет! Но так-то я коренной киевлянин, что ж… У меня все бабушки на нужных кладбищах лежат…
Это казалось шуткой, которой я, впрочем, не понимал. Юра мог показаться очень разговорчивым, но его истории имели ту особенность, что практически всегда возвращались к теме войны. Сколько у него ранений и какого они характера, он рассказал мне почти сразу, как бы в виде представления. Когда мы курили, он несколько раз вспоминал историю, как он впервые закурил после ранения в легкое, и из-под окровавленных бинтов на груди струился дымок – его очень эта история веселила, как ребенка. К моим увечьям он тоже проявил сдержанный интерес, но сейчас же переключившись на свои – только он услышал слово «тазобедренный сустав», он, весело улыбнувшись, перебил меня:
- О, у меня тоже был перелом, только бедренной кости, а не сустава, туда осколок попал, так и остался… – махнул он рукой.
Потом взглянул на меня, как бы вспомнив, что я здесь, и спросил:
- Так а что приключилось?
- Выпал из окна, ребенком, – махнул рукой и я.
- А, понятно, – кивнул Юра.
Иногда, очень редко и очень быстро Юра смотрел на меня таким, я не подберу другого слова, испуганным взглядом, как будто видя меня впервые и не понимая, кто я. И в эти мгновения в его глазах я видел самый последний и страшный ледяной круг Дантового ада с его вмерзшим во льды Люцифером. Была одна деталь, которая, пожалуй, больше всего отличала Юру от остальных. Например, Игорь с позывным Яша, который был в той первой тройке подошедших, практически мой ровесник, двадцати восьми лет, часто говорил о всяких чисто бытовых делах, например, о том, что его контракт закончился буквально за неделю до 24 февраля и он очень собирался купить деревенский домик на окраине Белой Церкви.
- Я, чтоб как в селе, люблю, понимаешь? – говорил он. – Чтобы курочки там, и утята… В центре не люблю, бетонки эти.
Он тоже был на Донбассе, несколько ротаций, но он казался именно профессиональным военным, самостоятельно избравшим эту специальность сильно позже после 2014 года – в силу разных причин и вообще будучи ею довольным. В его рассказах было вот это «ебаная русня, блядь, хотел дом купить…», как будто эта русня – заведшиеся в его доме тараканы или же клопы. О боевых действиях он рассказывал как о работе и, не побоюсь этого слова, какой-то рутине, что ли.
- Я, блин, понять не могу, – потрясал он кружкой с дымящимся какао. – По дороге через поле движется кацапская колонна… Мы сидим в лесочке, колонна едет как попало, пехота хуй зна де в хвосте плетется. Ну, ебать, мы по джавелину в головную и хвостовую коробку хуяк, навели артиллерию.. Ладно. Едет ВТОРАЯ колонна – и все то же самое. Ну, я не понимаю, у них офицеры че, не по тем же книжкам учились, что и мы? Ебать.
Или об авиации.
- А хули эти сушки, только что вместо индексов новые цифры прилепили, все равно модификации Су-27. Ну, я, слава богу, от пока еще ихней авиации вообще не видел, один раз видел, как наш Су-24 на бреющем кацапскую колонну расхуярил…
Или о Донбассе.
- Хули тот Бахмут, понять не могу? Я там служил же несколько раз – там агломерация сплошная, понимаешь? Ну, хорошо, взяли они, допустим, этот Бахмут – дальше шо? Ебать. Шо они хотят, я не пойму вообще…
И в этом всем было вот это – ебаная русня, и дом не купил даже. А вот от Юры было трудноуловимое ощущение того, что после нескольких лет мучительного отсутствия он наконец-то вернулся домой. Но в этом «вернулся» было и еще кое-что. Я почему-то запомнил историю с продуктами. Где-то через неделю их жизни у нас снабженцы на специальной машине привезли им провизию. Меня сначала удивила хозяйственность Юры в этом вопросе. Остальные парни восприняли это событие без особого интереса, а Юра тут же снарядил с собой Яшу и мехвода их БМП с позывным Рэмбо, чтобы таскать эти продукты в дом. И у меня было впечатление, что он не провизию получает, а грабит этих снабженцев, ведя себя с ними довольно дерзко и надменно.
- Масло давай! – аж как-то шипел он на снабженца.
- Та там не масло, маргарин, считай, – смеялся тот.
- Давай, говорю.
И взяв вот этот огромный куб масла, отрубил своим тактическим ножом половину этого куба, потом, правда, посмотрел искоса на снабженца и спросил недружелюбно:
- Пойдет?
- Та бери, господи.
- Консервы еще тащи, да ты не жмись, блядь!
- Да они правда хуевые, Юр, ими кацапов накормить, чтобы пообсирались…
- Ну, давай хоть одну упаковку, посмотрим.
Я даже слышал, как Яша с Рембо вроде бы как-то перебросились между собой, неся эти баулы:
- О дед дорвался…
Ну, что-то тип такого. А в доме Илья начал освобождать холодильник, перетаскивая, что можно, наше в морозильную камеру, он сказал Юре:
- Поставьте тут, чтобы вам долго не искать…
Юра поставил упаковку консервов на стол, посмотрел на Илью и сказал:
- Это вам продукты, мы все равно с собой не заберем, и вообще, нам новые дадут.
- Та в смысле? – опешил Илья.
- Вот и смысл, не спорь со мной, – он снова взял консервы, чтобы отнести в чулан.
Когда они уезжали, Юра собирался дольше всех, годы и ранения, видимо, брали свое, пока он надевал тот броник, завязывал берцы… Он как раз на кухне завязывал берцы, уже снаряженный, с автоматом, в каске, и Влада сказала несмело:
- Дядь Юр, ну, может быть, хотя бы колбасу возьмете?
- Это вам, – сказал он, не поднимая головы.
- Вон сколько вы нам оставили.
- И ешьте на здоровье.
- Ну, вы же Украину защищаете! – воскликнула Влада, у нее бывают вот такие реакции, несколько взвинченные, хоть и редко, думаю, вы уже поняли.
Юра встал и посмотрел на нее. Потом сказал:
- Мы защищаем Украинское государство. А Украинское государство – это вы.
***
В тот первый день мы остановились у крыльца, и Юра, крутнув головой, сказал:
- Забыл, куда тут идти…
Илья уже проводил Яшу и Малыша к дому, обернулся.
- Ты к бехе, что ли? – спросил Яша.
- Ну, да… – кивнул Юра. – Скажу Рембо, пусть масло не выливает.
- Там в просеке… – задумался Илья. – Щас проведу.
- Давай я, – спросил у него я. – А куда вести?
- В нашу просеку возле лагеря.
- А, хорошо.
Я отвел его в просеку, и оказалось, что там стоит замаскированная в кустах их БМП, аккуратно окрашенная в пиксель и вообще какая-то новенькая такая, они все были такие, позже Яша объяснил мне, что это, конечно, БМП-2, но сильно модернизированные, с тепловизорами и еще там чем-то, ну, какой-то электроникой. Открытый десантный отсек был набит под завязку разнообразным добром, мешки там какие-то были, и еще я заметил такие характерные тубусы, спросил потом у Юры, не джавелины ли это, он сказал – NLAWы. Мехвод Рембо еще с одним пацаном, который у нас не жил, а приходил только, возились, что ли, с двигателем. Оказалось, что Юра хотел оставить Илье отработанное масло, что ли, как я понял, хотя Илья отказывался – типа зачем оно нам. Ну и еще он там взял что-то в десантном отсеке, какие-то продукты, что ли. Идя обратно, мы, помню, еще покурили у крыльца, и Юра, оглянувшись, сказал:
- А вашей деревне повезло, все целое… Ну, я тут деревень не знаю так, вот едем – хутор, одна улица, все снесено вчистую, еще хутор – то же самое. Это они как выходили, развлекались.
- Они сюда не очень заезжали, – сказал я. – По трассе в основном.
- Я одного вот понять не могу, – затянулся Юра. – Зачем им ношенные трусы?
Я посмотрел вопросительно.
- Сам заходил в дома, село почти разрушено. И мне хозяева шкафы разбитые показывали, говорят, забрали все трусы, и все ношенные.
- Нищета такая? – пожал плечами я.
- Бог их знает, – философски вывел Юра. – Ну, хотя бы б новые…
***
Пожалуй, хочу рассказать еще всего одну историю из нашей жизни с солдатами. Впрочем, мы с ними не то чтобы именно жили, в тот же день, как они заселились, после того, как мы с Юрой покурили, помню, мы зашли – Яша мылся в душе, а Малыш, уже помытый, хавал за столом в одной майке и камуфляжных штанах. Юра представился Владе:
- Юра, позывной Призрак.
Он слегка пожал ей руку.
- Я еще подушку вам под голову не нашла, сейчас, пока поедите, я найду… – улыбнулась она.
- У меня своя есть, – непосредственно улыбнулся и он.
- С собой носите, что ли?
- Вот! – он постучал по каске.
- Ну вот еще!
Она ушла наверх искать подушку, а Илья подозвал меня и сказал, что еще двое незаселенные – этот Рембо и второй пацан, то ли стрелок-наводчик, то ли тоже разведчик…
- Так мы с Владой в город поедем, – кивнул я. – Или ты с нами?
- Не, я останусь с ними – там помочь что-то, покормить.
- Ну, давай, щас разберемся.
Короче, мы проторчали там до вечера, располагая их – двоих положили наверху, троих внизу, Илья расположился на диванчике, перетянув его к стенке кухни. Мы поехали вечером, со всем разобравшись, Господи, какое счастье – ездить по дорогам, как и раньше. Впрочем, одиночных кацапов еще изредка ловили, но в основном там со стороны Самборов. Одну группу, мне Юра рассказывал, поймали будто бы на кукурузном поле, закутанных в краденые одеяла…
***
Мы поначалу приезжали почти каждый день, потом стали ездить через день, когда увидели, что наша помощь не особо нужна, ну и чтобы не смущать солдат своим присутствием. Хотя они, наоборот, стеснялись, что нас потеснили. Юра не раз говорил, чтобы мы не уезжали и ложились, например, наверху, а они типа на матрасах лягут внизу. Но мы объясняли, что у нас же квартира есть в городе. Как-то вечером мы ужинали втроем на кухне – мы старались есть, когда уже солдаты поедят, и Юра подошел к нам и сказал, что его мама нас благодарит и что мы хорошие люди – он ей по телефону о нас рассказал.
В тот первый день мы уехали вечером, а Илья потом рассказывал, что солдаты проспали около двенадцати часов. Они думали, что их передислоцируют с утра, но в результате прожили в деревне еще больше двух недель. На второй неделе часто с ними на ночь оставался я – магазин Ильи опять заработал и у него появились заказы, они с Владой стали жить в его квартире, приезжая сюда вот так – когда каждый день, когда через день. Мне, честно сказать, норм было, реально. Я варил солдатам еду, кого надо, развлекал разговорами, а когда делать было нечего, сидел в интернете или читал книги с телефона, играл в свитч или одевался и не спеша гулял деревней. Это довольно сложно объяснить, но было что-то очень забавное, милое в этом всем движе – военные грузовики и мотолыги, БМП торчат из каждого куста, ходят солдаты и селяне, порознь и вместе, на околице утробно урчат танки. Иногда мне казалось, что запорожцы, находясь тут, как бы смывали скверну, принесенную кацапами.
Как-то ночью я долго читал, лежа на диванчике, и из мансарды спустился сонный Яша.
- Не хоч какао выпить? – улыбнулся он.
Мы просидели за этим какао со сгущенкой, помню, часа полтора, выпили кружек по пять, наверное, он травил какие-то стори – кажется, ему хотелось пообщаться с новым человеком. Кроме всего прочего, он рассказал, что недалеко от нас в разрушенной деревне к ним подошел дед, вылезший из подвала. Он повел их в разрушенную кухню едва державшегося кучи дома и показал там пол.
- Прикинь, в натуре линолеум срезали, – удивлялся Яша. – Причем еще так неаккуратно. Дед говорил, что свернули в рулон и прицепили к бетеру. Ебать.
Утром я проснулся поздно – солдаты хавали на кухне, еще извинялись, что разбудили, я говорю – не разбудили…
Влада приехала какая-то одухотворенная и почти сразу показала мне изображение на телефоне. Короче, это были фотки и эскизы мужского маникюра, причем в качестве рисунков на ногтях должны были размещаться астрологические глифы – Солнце, Меркурий, Венера, Луна, Марс, Юпитер, Сатурн (семь алхимических планет-элементов с соответствующими символами) и три уже современно стилизованных – Уран, Нептун и Плутон. Черные четкие символы на мутном полупрозрачном лаке.
- Как тебе? – вся аж светилась Влада. – Это я сама придумала, я считаю, тебе будет очень идти.
Поймите, сначала я, конечно же, застеснялся – но эти ее блестящие глаза, улыбка, она так старалась, и реально ж потрясающая идея с этими глифами, как будто подтверждение, что я для нее колдун… Короче, несмотря на стеснение, это меня растрогало. И тут она сказала:
- Короче, мы уже все обсудили с Витой, щас пойдем!
- В смысле – с Витой? – опешил я. – Ну, то есть… и как она отнеслась?
- Ты думаешь, она впервые делает маникюр мальчику?
- Ну…
- Так, перестань! Я что, зря старалась? Убери эту мину с лица.
- Нет, я… Блин, Влада, это так трогательно. Будто внутри что-то переворачивается.
Она поцеловала меня в щеку.
***
Вита вообще все сделала отпадно. Не только технически, но и психологически, если хотите. Делала все так, как будто в этом ничего особенного не было (а может быть, и вправду не было?), и будто я каждый день хожу к ней на маникюр в числе прочих. Они с Владой болтали обо всем на свете, пока она трудилась надо мной. И даже на вероятное покраснение моего лица не обращали никакого внимания.
- Опять гудут? – между прочим, спросила Влада, жуя баранку и запивая чаем. – Слушай, мы ехали, так танки к вам к ангару поворачивали, нас пропустили… Они у вас в огороде там стоят?
- Танкисты у тети Оли живут, а стоят – да, там, где был колхозный сад, знаешь, ну да, почти что в огородах. А снаряжение у нас в ангарах, мне Саша показывал. Там ОЗК в кучу сваленные, я и зашла с сигаретой, вроде так и надо, а он мне показывает ящики, целые стеллажи, тут, говорит, зажигательные, а тут фугасные… Я чуть не родила, стоя с той сигаретой.
- Танковые снаряды? – спросила Влада.
- Ну да.
Было долго, нудно, но почему-то и прикольно так сидеть. Вот Вита терпеливо профессионально трудится над моими ногтями, Влада попивает чай с баранкой, и они обсуждают танковые снаряды. Потом я ждал Владу и вышел покурить. Смотрел в закатном свете на свои ногти. Опять раздался утробный рокот, и силуэт танка промелькнул между ангаров. Простая мысль – я сделал себе эти ногти, потому что я люблю себя. Влада придумала мне эти ногти, потому что меня любит. Я сфоткал одну руку, выпрямил пальцы и отправил Илье, затянувшись сигаретой. Он ответил почти сразу:
- Слушай, классно. Мне очень нравится.
- Ты знал?
- Конечно же) Нормально, что меня возбуждают твои ногти?)
- Дурак!
Я улыбнулся. Он заигрывает со мной, потому что меня любит.
***
- Понимаю, что пошло, но мне захотелось.
Влада показала мне свои ноготочки с украинскими флагами, кстати, очень стильно сделанными, такими как бы развевающимися. Я взял ее руку в свою, пытаясь лучше рассмотреть, она погладила мой палец своим. Мы выпрямили пальцы и соприкоснулись руками, смотрели на наш маникюр.
- Дай сфоткаю, – сказала Влада. – Не убирай.
Что-то как бы шевелилось во мне, казалось, ну, всего лишь любоваться с любимой девушкой вашими только что сделанными ноготочками – но почему мне сейчас так хорошо?
***
Мы несколько раз любовались своими ногтями, и когда шли назад, танки вдалеке все еще утробно урчали, потом заглохли. Нам захотелось взяться за руки, мы взялись и скрепили пальцы замком, так и шли. Навстречу нам от магазина расслабленно шагал долговязый солдат с болтающимся за спиной автоматом. Он бросил на нас осторожный, немного стеснительный взгляд, бросил еще один и, как бы не специально, сам про себя, как-то так дружелюбно тепло улыбнулся и, проходя, сказал нам:
- Здравствуйте.
- Здравствуйте, – ответили Влада и я почти синхронно и тоже улыбнулись.
Естественно, мы его знать не знали и даже, кажется, впервые видели.
***
Яша с Малышом в полной амуниции и с автоматами курили на крыльце.
- Эй, вы куда? – не понял я.
- Да щас вернемся, – затушил окурок Яша в пепельнице. – Тренироваться будем зачищать населенные пункты. А то тоже, бывали тут случаи…
- А ужинать? – спросила Влада.
- Это полчаса, ну, может, час, вернемся к ужину, – Малыш тоже затушил окурок.
БМП взревела в лесочке.
- Ладно, побежали…
Я пошел внутрь, Влада осталась посмотреть, как будет ехать БМП. В доме я еще рассматривал свои ноготки на кухне.
- Илья, ты наверху? – спросил.
- Да, решил убраться, пока хлопцев нет, чтоб не тревожить тут.
- Иди посмотришь.
- Щас.
- Слышь, а кто на морозилке рацию забыл?
- Призрак, наверно, надо позвонить. Он вчера при входе автомат забыл – я об него споткнулся. Говорю, чей это, он кричит – ой еб, забыл…
- Понятно.
XXVII
Ну, и в общем это все, что я хотел вам рассказать. На самом деле можно было бы рассказывать что-то еще, например, о том, что было дальше. О том, как мы провожали ребят всем селом, чуть не плача (а некоторые и плача), о том, как тетя Оля из магазина, плача, говорила нам с Владой, Ильей, Витой и Сашей:
- Куда они едут? О Господи, куда же они едут? Что он наделал, этот карлик, эта тварь? Что, Украину захотел? Та пусть бы подавился в своем бункере!
Можно было бы рассказать о том, как Влада почти случайно узнала, что ее отец, в начале вторжения отвезя жену на Ивано-Франковщину, вернулся в Киев и вступил в тероборону. Или о том, как вот недавно, летом 2023-го, он приезжал сюда в недельный отпуск, и они с Владой вдвоем все эти дни прожили в Ведьмином доме (мы с Ильей жили в его квартире в это время), и Влада потом, плача, нам говорила, что это были одни из самых счастливых дней в ее жизни. Как они с отцом говорили о ее книгах, о ее жизни, как отцу все это было неимоверно интересно, как он извинялся перед ней за то, что «впустую потратил сколько времени» и вместе с тем обещал, что наверстает, потому что только сейчас понял, что она, Влада, всегда была самым главным смыслом его жизни и самым дорогим, что у него есть. Как они открывались друг другу, как он рассказывал ей о покойной матери, о себе сколько такого, что он никогда ей не рассказывал, и как она рассказывала ему о себе такое, что никогда бы не подумала, что скажет. Как они вдвоем рыбачили на Сейме, прям на нашем месте, как они ездили в город в пиццерию и были на благотворительном фестивале в городском парке, где отец купил Владе сахарную вату, а потом несколько раз покупал мороженое. Как однажды в Ведьмином доме они проговорили до полуночи, сидя на диванчике внизу, и она буквально заснула у него на руках, а он отнес ее наверх так осторожно, что даже не разбудил. Я мог бы также рассказать, как меня радовало то, что теперь Влада каждый день вечерами созванивалась с отцом – он сейчас служит под Киевом в учебном центре. Еще я мог бы рассказать о том, что Владу уже много раз звали за границу на большие и не очень мероприятия, но она отказывается, потому что не хочет покидать нас и страну, пока идет война. Мог бы рассказать, как Влада помогает тут в волонтерской организации и спорадически привлекает к этому меня. Возможно, стоило бы рассказать о том, как и в какие периоды я писал эту книгу. Или, например, о том, как зимой 2022-2023-го я впервые показал ее Илье, послав ему под гребаный полуразрушенный Бахмут те первые главы о нашем с ним знакомстве, и как он горячо благодарил меня. Я тогда, застыдившись, немного кокетничал, а он сказал мне так серьезно:
- Бог, ты не представляешь, как сейчас для меня это важно. Спасибо тебе.
Наверное, я хотел бы вам рассказать о своих мучениях, о своих разговорах с Ильей тогда, уже в Сумах и в Конотопе – тут эти разговоры были многочасовыми. О том, что мне стыдно, о том, что я должен быть с ним или хотя бы в том же положении, что он, а не сидеть тут. Только теперь я начинаю понимать то, что мне пытался терпеливо втолковать Илья все это время (я говорил ему об этом) – что какие-то абсурдные представления о мужественности просто мешали мне понять, что быть любимым парнем – тоже мужественность, и, будучи любимым парнем, ждать любимого с войны – все так же мужественность. Можно было бы рассказать, как, исходя из этой своей боли, я порой набрасывался на Владу, виня ее во всех смертных грехах – я, например, желая быть с Ильей хоть в самом пекле, горячо протестовал при этом против запрета выезда для лиц моего пола из страны, считая его тогда и до сих пор ужасно дискриминационным, мерзким и ужасным. Хотя я при желании, казалось, мог бы выехать как инвалид, но дело было не в этом, а в принципе. Но я набрасывался на Владу, хотя она всегда в этом негодовании меня всецело поддерживала и чуть ли не в слезах мне говорила, что она ведь поддерживает меня, почему я говорю с ней так, как будто это она виновата во всем.
- Потому что ты девочка, – говорил ей я в ответ часто. – Прости меня, пожалуйста.
Мы обнимались и часто действительно начинали плакать, жалуясь друг другу, как мы скучаем по Илье. Это была тяжелая зима, когда он был там, а мы вдвоем здесь, в этой тьме, но эта книга помогала мне, как и мысль о том, что эта книга вдохновляет Владу дальше жить и о том, что я когда-то обязательно покажу всю книгу Илье. Я действительно, хвала Богу, показал ему всю книгу, по крайней мере, до этой маленькой заключительной главы (ее покажу завтра, когда он вернется с полигона). Надо бы рассказать, как мы жили в Сумах, когда Илья лежал там в госпитале – мы с Владой сняли там квартиру в многоэтажке и сидели возле него практически безвылазно, когда он окреп, мы гуляли по Сумам втроем и сидели в каких-то кафе. Боялся ли я ледяного ада, который Илья принес сюда с собой из того разрушенного города? Да не то слово. Почему-то до сих пор мне кажется, что я боялся этого больше всего – мне казалось, я справлюсь с любыми увечьями, любыми хворями или даже, не дай Бог, с чем-то страшным и необратимым, но с этим адом я не справлюсь, и знаете что? Эта книга помогла мне поверить в себя. Потому что только полюбив себя, я смог обрести силы и пусть смешную и юношескую веру в то, что я смогу своим сульфуром выжечь этот ад. Потому что если не для этого, то зачем вообще мой сульфур нужен? И знаете, когда Илья окреп, мы с Владой повели его на тот самый мост, где мы с ним целовались и где я ему рассказывал о мальчике, и знаете что – я вновь рассказывал ему о том далеком вечере (я как раз писал тогда ту главу), и рассказывал, как что-то в высшей степени материнское так меня тогда восхитило в Илье и очаровало. И знаете что? Я был так вдохновлен и горяч, что начал топить этот лед. На том мосту Илья расплакался при нас, но расплакался не так, как парни в госпитале – одними не останавливающимися слезами, а как ребенок, содрогаясь в рыданиях. Мы с Владой обнимали, ласкали и целовали его прямо там, на мосту, не обращая на прохожих внимания, да и кто рискнул бы прицепиться со своей ебанутой моралью к девушке и парню, целующим исхудавшего парня в военной форме? Он, заикаясь, простонал, практически прорыдал:
- Я даже не могу нормально говорить.
- Посмотри на меня, – сказал я ему. – Посмотри мне в глаза.
Я взял его за виски и поцеловал в губы.
- Ты любил мой паралич лица, хромоту, нелеченный ПТСР и мою захлебывающуюся речь. Ты любил такого урода, что невозможно даже вообразить, еще напоминая ему постоянно, что он не урод. Теперь моя очередь. Мне будет легче – ты хотя бы остался красавчиком.
Я завершил своим фирменным сексуализированным юмором и этим горжусь – было в тему. Влада уверяла меня потом, что я был великолепен.
- Очень исхудавшим, – с трудом выговорил он.
- Это мы поправим, – подмигнул я Владе. – И вообще, что такого? – сказал, когда двинулись дальше. – Вот посмотри на нее – ты же любишь ее шепелявость.
- Люблю, – сказал он не очень разборчиво, но таки улыбнулся.
- Ну, вот. Еще она весьма карланша, и у нее большая голова, ну разве нет? Вот посмотри. И, кстати, тоже исхудала – мне это не нравится.
У Влады было такое непередаваемое выражения лица, что Илья даже искренне рассмеялся. Мы (точнее Влада) позже применили кое-какие связи, чтобы свозить его на диагностику в Киев – нас беспокоила его печень, но я не стану тут конкретизировать – оно вам не надо. К счастью, в целом обошлось, и после госпиталей Илью перевели в Конотоп. Теперь мы жили, как и раньше, втроем в квартире, иногда выезжая в Ведьмин дом, когда могли, забирали с собой Илью. Этим летом мы, в частности, буквально заставляли его загорать с нами на реке, чтобы он меньше стеснялся шрамов (прямо там шрамы – у меня и то больше). Он, к счастью, за несколько месяцев вернулся в свой обычный вес и даже занимался физкультурой, не всем, чем раньше, но лечебной, это хорошо. Работа у него была теперь не слишком изнурительная. Мы все-таки в значительной степени это пережили. И даже находили своеобразный кайф в этой стирке его пикселя, готовке ему тормозков и каждодневном ожидании его. По крайней мере, он был дома, что будет дальше – доживем, увидим. В последнее время мы с ним часто обсуждаем эту книгу, и мне хочется думать, что и ему она в чем-то помогает. Знаю, что он будет меня ругать, но все же напишу – он сделался другим в постели. Я не хочу сказать «более страстным», это глупо и неправильно – он был страстен всегда, но… Я почему-то все больше узнаю в нем себя иногда, особенно себя в начале наших отношений. Такое ощущение, что я стал более спокойным, а он как бы наоборот. В нем появилась какая-то МОЯ обреченность, какое-то вот это «как в последний раз», которого в нем раньше вроде не было, но я не могу сказать, что мне это не нравится. Как и его шрамы. Я ему об этом говорил. Вот с Владой у него немного по-другому сделалось – они не то чтобы больше сроднились (это ведь было и раньше), они как-то душа в душу больше стали, вот какая-то такая теплая любовь взаимопонимания, а у нас с ним вспыхивает между нами, как в начале, вспыхивает. Впрочем, мне все это тоже нравится, признаться. Да и потом, я думаю, тут дело вот в чем. Я все о себе да о себе, как всегда, но так и не сказал про главный фактор его постепенного выздоровления, автором которого была Влада, ну ладно – мы оба, конечно же, коллегиально. Дело в том, что Влада вышла за Илью, прямо этим летом. Да – они муж и жена. А я их общий любовник – как всегда и мечтал, хаха. Но вообще это далось нам не очень просто. Щас это будет вновь сложно, но раз уж я начал… Короче, Илья хотел, чтобы она вышла за меня. Ну, блин, понятно, что если можно было бы нам двоим на ней жениться – было бы лучше всего, но это не получится. Но у Ильи проявилось немного странное (хоть и трогательное). Мы даже применили аргумент, что он военный, типа, ну, сам понимает, вот и в госпитале был, все дела. А он наедине как-то сказал мне, что хотел бы, чтобы я был с Владой мужем и женой, потому что с ней я типа счастлив.
- А с тобой я не счастлив, дурак?
- Ну, ты же не можешь на мне жениться.
- И что? Ты опять, что ли, нагонял себе, что она меня больше любит, чем тебя? Ты долбоеб, хоть и контуженный, я тебе так скажу.
- Богдан, ты не понимаешь… – он сделался немного мрачным. – Я там понял, что хочу лишь, чтобы ты был счастлив. Ты и Влада…
- Так, милый, – перебил я его. – Ты не находишь это каким-то дурновкусным закольцовыванием истории? Сначала я отправляю тебя на свидание к ней одного, теперь ты отправляешь меня одного на ней жениться.
- Люблю тебя таким, – он улыбнулся.
- Ценю, – ответил я.
Но так мы ничего и не решили, а когда Влада пришла домой, все рассказали ей, пересказали этот разговор.
- Так, а меня вы спросить не подумали? Скажите, пожалуйста, какие мыслители, блин.
- Ну а что ты скажешь? – несколько стушевался Илья.
Она посмотрела на него, так по-ведьмачьи, как я обожаю, и дальше выполнила вообще потрясный мув. Она как раз была немного официально одета – выступала там у волонтеров, в такой блузочке, юбчонке и капронках, кроссах. И вот, вся такая потрясная, она вдруг опустилась прямо в нашем коридоре на колено и сказала, глядя на Илью снизу вверх:
- Я скажу – женись на мне. Кольца, извини, нет. Что ты ответишь?
Он растерянно взглянул на меня.
- Отвечай, – сказал я
И указал рукой на коленопреклонную Владу.
- Ну? – спросила она строго.
- Да, – кивнул он очень решительно.
Я был свидетелем на их скромной росписи. Свидетельницей была военная медсестра с работы Ильи, как мне показалось, безответно влюбленная в него. Эта роспись – вообще одно из самых эротических впечатлений в моей жизни. Вы просто не представляете, что это такое – быть свидетелем на свадьбе своего любовника и любовницы. Ну, я думаю, не так много кто представляет, во всяком случае. И у нас была брачная ночь… Но вот знаете что – я вам о ней не расскажу. Должно же в тексте быть хоть какое-то умолчание. Можете сами погадать, что у нас было этой брачной ночью, но, держу пари, никогда в точности не отгадаете. Я, конечно, мог бы вам рассказать, но это будет уже совсем другая история. Как и история о моем отце, который бросил свою российскую семью и сейчас живет в Польше. Он все-таки связался со мной с другого номера и уверял меня, что хочет попасть в Украину, чтобы увидеться со мной. Но в Украину он все-таки не ехал, то ли у него что-то не получалось, то ли он опасался чего угодно – мобилизации, каких-то санкций за российский паспорт, может быть, моей реакции? Я сказал ему, что не занесу этот его номер в ЧС с одним условием – он не будет мне надоедать. И если хочет общения со мной, то пусть ждет, пока я для него созрею. Терпеливо ждет. Пока я не созрел. Он, в принципе, покамест ждал. Иногда спрашивал, как у меня дела – не более. Я вкратце отвечал. Кстати, об отцовстве. Когда после росписи мы втроем обедали в кафе (свидетельницу нам удалось сплавить), то Илья вдруг категорически заявил (он, правда, немного выпил, и это на его контузию быстро легло), что ребенка Влада родит от меня.
Тут уже я не выдержал первый:
- А ты у меня спросить не думал, умник? Или хотя бы у будущей матери?
Но, блин, не тут-то было, по ходу они это обсуждали.
Он посмотрел на Владу и спросил:
- Ты хочешь ребенка от Богдана?
- Да, – кивнула та.
Ну, пиздец.
- Так, что это за многоходовочки… стоп, – промямлил я.
Но они, что скрывать, застали меня врасплох.
- Богдан, я не буду настаивать. И спешить, – она накрыла мою руку на столе своей.
Во мне, не стану скрывать, взметнулась старая волна негодования. Что я суицидник, алкаш, инвалид и просто праздношатающийся никому не нужный ублюдок – и зачем такому продолжать свой род? Я искренне считал так много лет. Но в тот вечер в кафе… Я просто вдруг представил, что Она беременна. От меня. Что в ней неспешно зреет плод нашей любви. И, кажется, в тот миг я окончательно осознал, что мой великий эликсир работает. Хотите верьте, а хотите нет, но он работает. Ее прекрасные глаза, глядящие мне в душу. Ее чувственные губы, произносящие мое имя. Ее обтянутая платьем грудь, предназначенная для вскармливания младенцев, и в ней зреет молоко. Ее широкие бедра, предназначенные для того, чтобы рожать. Ее прекрасный организм, в котором, конкурируя друг с другом, каждый месяц зреют яйцеклетки в ожидании семени. Ее женская ласка, способная абсолютно на все и предназначенная для убаюкивания и ухода за дитям, а также за его отцом, чтобы он чувствовал себя на все способным. Ее пьянящий запах, чтобы он всегда был рядом с ней. Ее единый организм как смысл всего во мне, и мой единый организм как смысл всего в ней. Наш ребенок. Как соединение всего соединимого и несоединимого. Так неужели же все в мире действительно соединяет Любовь?
Я мог бы вам еще много чего рассказать, конечно. Но не буду. Скажу напоследок лишь одно, из самого последнего – Она беременна от меня. Я никогда не представлял, что ничего прекрасней этих слов во всей вселенной нету – она беременна от меня. Конечно, мы с ней обсудили все на свете, все, что только могли, и даже она приняла мой ультиматум (впрочем, без всяких споров), что она после родов, когда восстановится, то немедленно забеременеет от Ильи. Она не может забеременеть от нас двоих, это было бы лучше всего, но сейчас она беременна от меня, и Илья, надо сказать, лучше нее даже меня поддерживает в этом. В смаковании этого чувства, я бы так сказал. И повторюсь – кажется, ничего прекрасней я никогда не чувствовал. Но это, снова повторюсь, – уже все-таки другая история. И если вы уж очень захотите, то, возможно, я расскажу вам ее как-нибудь в другой раз. Договорились?
(2023)




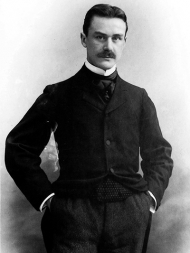
14 комментариев