Александр Хоц
"Здравствуй, Феон!"
 Есть тексты, в которых "мерцает" неявный смысл, и его скорее угадываешь, чем формулируешь. Особенно если это текст гения.
Есть тексты, в которых "мерцает" неявный смысл, и его скорее угадываешь, чем формулируешь. Особенно если это текст гения.
В 1832 году Пушкин переводит с французского эпитафию "Из Афенея" (Вольные переложения из античного сборника «Пир мудрецов», составленный греческим писателем Афенеем в III в н.э.).
Эпитафия - особый жанр философской лирики, где темы времени, смерти, памяти, ценности и смысла человеческой жизни - сочетаются в ёмкой поэтической формуле. Даже если это несколько строчек о человеке, высказывание о нём звучит в контексте Вечности.
Для Пушкина 30-х годов - тема естественная. С тем лишь отличием, что эпитафия Феону посвящена не просто музыканту-флейтисту, а юноше-гею. Самое удивительное в этом тексте – не просто добрый взгляд на собрата по Музам, воспевающего мужскую красоту, но и восхищение его любовным чувством, достойным – по мнению поэта – посмертной памяти.
Эллинская культура прекрасно воссоздана Пушкиным в шести строчках.
***
Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хоров
Старец, ослепший от лет, некогда Скирпал родил
И, вдохновенный, нарёк младенца Феоном. За чашей
Сладостно Вакха и муз славил приятный Феон.
Славил и Ватала он, молодого красавца: прохожий!
Мимо гробницы спеша, вымолви: здравствуй, Феон!
…
В традициях Эллинской культуры юный флейтист Феон славит «молодого красавца» Ватала, в которого, очевидно, влюблён. (Точнее говоря, которым «опьянён», если вспомнить образ Вакха).
Финал эпитафии отсылает читателя к важной мысли о достоинстве творческой жизни, заслуживающей памяти, - даже если это жизнь музыканта-гея, пленённого красотой друга. Выразительное двоеточие близко связывает два эти обстоятельства: «славная флейта», воспевавшая «красавца», достойна памяти об этой любви.
Пожелание «здравствуй!» звучит символично и трогательно. Это обращение к живому человеку. К тому, чьи чувства пережили физическое бытие. И в этом – лишнее напоминание о ценности Любви для поэта – независимо от гендера, социума и эпохи.
Говоря современным языком, Пушкин в 1832 году говорит об универсальности человеческих чувств, утверждает «социальную ценность однополых отношений», приглашая «прохожего» (и нас вместе с ним) приветствовать любовь Феона к прекрасному Ваталу.
(В нынешней России это выглядит примером «гей-пропаганды», а то и “экстремизма”. Не ждёт ли Пушкина новое цензурное вмешательство 200 лет спустя?)
С точки зрения поэта, ценность человеческой жизни составляет не статус, не брак, не положение в обществе, а именно чувство – как таковое, обращённое к любимому. Именно оно заслуживает последнего упоминания на могильном камне. Солидарность Пушкина с Феоном – это прежде всего, солидарность с певцом любви и собратом по «славной флейте».
Странным - казалось бы - образом, влюблённость юного гея становится близка и понятна гетеросексуалу Пушкину. (Не только с «горем», оказывается, поэты «чувствуют солидарность» - но и с любовью).
Точно так же, поэт сочувствует «арзамасцу» Филиппу Вигелю, рекомендуя ему в заштатном Кишенёве «милых трёх красавцев» для романтических отношений. Творческая и дружеская близость для Пушкина - выше гетеро-нормативности (освящённой законом, традицией, культурой и церковью).
В этом - корни человеческой солидарности с флейтистом Феоном, влюблённым в юношу. (Солидарности - поверх традиций и «общественной морали»).
Пушкин приветствует далёкого античного мальчишку, любуясь его искренним чувством, достойным уважения и памяти (а не позора и забвения). Приглашая к этому и нас - друзей, читателей и общество (1832 года или 2025-го – не важно):
«Мимо гробницы спеша, вымолви: здравствуй, Феон!»



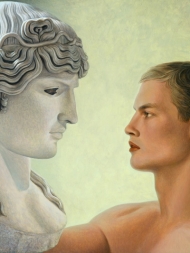
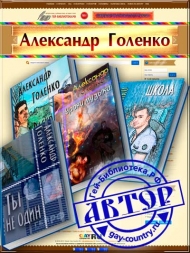
2 комментария