Cyberbond
Сашок
Аннотация
Самое грустное время года! И смеяться можно только над прошлым…
Самое грустное время года! И смеяться можно только над прошлым…
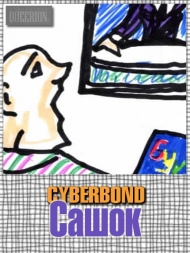 Сашка — он же Сашок — явился в наш класс в октябре, в день солнечный и прохладный. Не так уж и важно, когда именно это случилось. Мы все в классе были ре-но-ви-рованы, мы все прожили уже несколько жизней. Но медицина нынче творит чудеса: в нас заменили, обновили всё, кроме сознания. С прошлым нас связывала теперь лишь память.
Сашка — он же Сашок — явился в наш класс в октябре, в день солнечный и прохладный. Не так уж и важно, когда именно это случилось. Мы все в классе были ре-но-ви-рованы, мы все прожили уже несколько жизней. Но медицина нынче творит чудеса: в нас заменили, обновили всё, кроме сознания. С прошлым нас связывала теперь лишь память.И вот мы снова каждый в своем детстве. Шестой или седьмой, может, класс. А может, и пятый, и третий.
Так случилась, так стряслась в нашей сонной обычной жизни очередная Новация, и я тотчас насторожился. Синь небес полыхала в окнах совершенно свирепая, оглашенная; остатки золота там на ветках ходуном ходили и трепетали, и плавились, непокорные. Его привели посреди урока, он стоял на пороге, вжав голову в плечи, точно хотел бы сбежать. Урок продолжился: Екатерина Семеновна недовольно его продолжила, звонко щелкнув ладонью по столу на наш было шум, щелкнула как бы по лбу коллективному. Мы замерли. И я понял: Сашок — это о н!
Не сказать, чтобы я испугался. Ну мало ли: ре-но-вировали. Было бы странно, если б не ре-но-вировали, — это его-то!
На Екатерине Семеновне было, как обычно, красное платье, она русая, в буклях, с грубым красным же и мужским лицом. Шутки с ней исключались навсегда и заранее — не потому что могла наказать, а потому что просто мы понимали: лучше не надо с ней, это излишнее. От нее не шло ничего, никакой эмоции, только чистое знание: «жи-ши» пиши с буквой «и», после «ж» и «ш» всегда пишется «и», сказано вам, даже если «ы» кому-то (нерадивому, ненормальному) слышится.
Новенького, СашкА, посадили в угол, далеко от меня, от окна, но я чувствовал: о н, о н, о н! Он был незаметный и какой-то он был, что ли, бежевый: кожа смуглая, чуть желтушная, волосы шатенистые, оттенка орехового. На свои портреты в прежней жизни, на вечный веский его телеоблик, на это хитро-вредное лицо злоумышленника-поганца Сашок теперь вовсе не походил. Только стАтью: был — не хочу сказать «маленький», скорее, миниатюрненький. Ладненький и компактный, заранее как бы собранный. Пистолетик дамский — но дамский по виду лишь.
Прозвенел звонок, все метнулись в коридор после Екатерины-то, после Семеновны. И только я остался стирать «жи» и «ши» с доски, ибо был дежурным, то есть, немножко пленником и изгоем на этот день.
Я вяло водил сухой пыльной тряпкой, размахивая мраморные разводы по всей поверхности, уныло готовя на чумазой этой пустыне плацдарм для новых правил и законов, без которых как же вроде б и жить.
И вдруг он сказал (я его спиной-то не видел) — из своего угла тихо, но внятно он произнес:
— Послушай, Брутик, ты ее н а м о ч и сперва. А то грязь одна.
Я был поражен не столько его преступной (подхалимской в отношении учебного процесса, а значит, почти позорною) домовитостью — сколько тем, что он уже знал мое погонялово. Почему меня прозвали во втором еще классе Брутиком, одному черту известно, но ведь прозвали! Откуда же он узнал? Как успел-то уже узнать?!..
Впрочем, Сашок всегда так, и в прошлой ведь жизни: всё про всех он знал, но как-то исподтишка — и знанье это внезапно, как петлю, на человека накидывал. Спокойно бросал — и точнехонько.
Почти в шуточку.
Но главное, какой ведь хитрец: не вышел со всеми в коридор, где была бы ему типа «прописка», на излом испытанье от пацанов, а остался незаметно в классе. И сразу нашел друга в моем лице. И вот он уже был не один здесь — он заранее с п л а ч и в а л!
Мне он был неприятен сейчас (да и всегда), но чем именно, я бы не выразил. Мутное ли предчувствие или такое ж воспоминание плавало в моей душе насчет чего-то-там-в-нем, до ре-но-вации. Я бы и не хотел его, такого, в друзья.
В конце концов я намочил тряпку в раковине в углу класса. А он всё говорил, тихо вел речь, ровным, спокойным голосом, будто навевал колыбельную — но не мне всему, а части какой-то во мне. Я собрался, было, молчать, именно сгруппировался тут мысленно, но он задавал вопросы, всё дельные, всё невинные — про Екатерину Семеновну, про других ребят. Было глупо не отвечать.
Конечно, «прописки» он все же не избежал, но я вовсе не помню, кто там кого толкнул, кто лягнул, кто в кого плюнул дерзко, обидно, с козюлиной.
Помню зато, что вышли мы с ним из школы после уроков вместе. Белое солнце октября горело над крышами, горело отчаянно, как бы в последний раз, золотые брызги палой листвы взметывал ветер и гнал от нас прочь.
Он говорил:
— Да, именно. Только так. А ты как думал — люди рождаются?
— Из мам, — по-домашнему, соплежуйно ответил я. Этот вопрос меня мало еще занимал. И вообще, как можно т е р е т ь с я п и с ь к а м и?
Но он вещал тоном увещевающего католического священника:
— Все мы так…
— «Ужас какой!» — подумал я. Нет, но тереться письками — это как?!.. Чушь какая-то… (Было во мне смятение, однако еще неглубокое).
Тогда он был добр ко мне — терпелив уж, во всяком случае. Я ему нравился, простодушный глупый котенок, изласканный «хорошей» семьей.
Он ведь знал уже: жизнь дачей и ёлкой в Кремле не кончается. Но иногда она начинается именно так — и это везенье; везенье, ему пока не доступное. Однако он может уловить душу того, кто счастливее, пока беззаботней его. Он может удержать чужую судьбу за хвост, подчинить себе!
Из такого «котенка» лепи, кого хошь.
В сущности, он не был ни злым, ни коварным — он был ж и в у ч и м.
Сейчас, когда срок прошел, я могу легко, до некоторой даже и наглости, вспомнить его прошлое до ре-но-вации — в первую очередь, детство-отрочество-юность, которые только ленивый в свое время не описАл и, пардон пур лэкспрессьон, не опИсал. Но это само обстоятельство — что ты как бы забор, на котором отмечается всяк и по-всяк — есть плата за славу. Оно ведь и справедливо: как же без воздаяния?
Вспоминаю из прессы мордатого его папахена, который драл СашкА, как Сидорову козу, регулярно и с интересными для себя вывертами. Вспоминаю мамахен, всегда в мелко-цветасто-сизом, цвета свежего синяка, боявшуюся всего и сына жалевшую всякий раз постфактум, исподтишка. Вспоминаю ребят у него во дворе, которые, может, за ним одно время даже охотились.
Было, было с чего ему сделаться тихим аспидом!
Быть вредным (местами и временами) ему даже в зрелом возрасте очень нравилось. Такие люди не бьют наотмашь — такие люди отщипывают почти инкогнито, но кусочек именно что отдирают уже насовсем, унося с собой. И кусочков этих у них со временем горы ведь копятся!
Человек-копилка, и весь вам сказ!
В новой, в нашей вот этой после ре-но-вации жизни у него была мать-одиночка, что ли, — корректорша. Жили они бедняцки, но мать хотела, чтоб было всё прилично у них, «как у людей». И она старалась, и вид у нее был смиренный, а голос ехидно-упрашивающий. Она думала о других, наверно, хронически печально и очень в целом недобро, нехорошо, и в этом нехорошем находила для себя чаемую отдушину (не скажу: отраду). Она очень одобрила нашу — как бы сказать — вот дружбу: п о л е з н у ю Сашику, прежде всего!
Я ни разу не был у него дома, а он у меня бывал, и часто, и всегда такой подчеркнутый, ироничный пай-мальчик — даже и не пай-, а именно ветерок почти незаметный, но чужеродный (что ощущалось мной с некоторой тревогой и непонятно-с-чем, однако же несогласием). И словно он подкрадывался к вещам, местами вполне дорогим. (Но это я со злости теперь додумываю; он любовался ими пока почти бескорыстно, почти по-музейному).
Ох, что-то повело меня в психологию, в социальное, в мистику, а я ведь, как всегда, о письках хотел! Мимо писек ни один ведь мальчишка не пролетает без последствий глубинных, но не всегда очевиднейших и для самого него. Был грех и меж нами с Сашком. Грех был наивный, но сладкий, и сам Сашок делался при этом серьезным, деловитым, требовательным, д о т о ш н ы м. Такими бывают ревизоры, которым нечто непременно найти п о р у ч е н о, и футбольные болельщики во время матча.
Мы ловили особый кайф заниматься нашими письками полупублично, в дрожащей темноте кинозалов. Даже если зрителей почти не было, даже если ряды кресел были редко-редко усеяны чьими-то головами и далековато от нас. Увлекал самый факт возможной опасности. Так, однажды лента оборвалась, поднялся ор и свист, слепым ударом бича вспыхнул свет, и с задних, более высоких рядов могли увидеть, что между ног у каждого из нас что-то светлеет, портным не предусмотренное — точней, предусмотренное, но тоже как бы лишь про запас, как бы инкогнито. Уф, пронесло — в переносном смысле бодрого, игривого этого, блин, словца!
Но однажды и в этом веселом, с оскоминой детской наглости, деле мне случилось открытие.
Обычно нам было не так уж важно, какой там фильм на экране торчал. Но вот как-то мы сунулись на странную историю про мальчишку и взрослого, что ли, шофера, ничего себе симпатичного — отметилось тотчас мне. История была сентиментальная просто до ужаса: мальчишка оказался сиротой, чуть ли не беспризорником, и этот что ли шофер, бывший солдат, форму еще не снявший, его пригрел. Нормальная советская мелодрама, к тому же ч/б.
Я рассупонил мотню деловито, свободную руку положил Сашику между ног. И тут он толчком бедер, а после и рукой стряхнул мою ладонь — то ли с досадой, то ли и с гневом уже. Я испуганно огляделся: наш ряд был пустой! И снова положил ладонь ему на колено. Колено нетерпеливо дернулось. Я посмотрел на Сашку. В дрожащем отсвете экрана серело его узенькое лисье лицо. И оно блестело! Щеки, глаза.
Сашка плакал — я впервые увидел плачущим этого человечка, который казался мне раньше весь сделанным из упругой пружинки. Но он сейчас да — он плакал!
Я воззрился на экран, удивленный и не довольный, что кайф наш вроде почти срывается. Из-за чего-о?!..
Там, на экране, случился, что ли, конфликт между ними, потерял ли шофер полусынка или что-то еще. Я снова воззрился на Сашку. Тот упорно сочился слезой: рожей блестел и носом пошмыгивал.
После фильма мы вышли из зала на улицу. Из кино всегда выходишь в первые мгновения как бы оглоушенный, какую бы ерунду ни смотрел. И мне тоже пришлось сперва осознать этот промозглый ноябрьский вечер-день, низкое небо цвета валенка, снегодождь и грязные размывы вчерашней поземки на обочине тротуара.
Сашка шел тихий и равнодушный, будто меня рядом не было. Кажется, он не замечал меня. Я молчал, странно, удивленно заинтригованный. Сочувствие и некоторая доля злорадства (почему-то) боролись во мне, рождая тревогу, сумятицу чувств. Слабость другого совсем не всегда рождает сочувствие, но часто — соблазн лягнуть.
— А этот водила — ничего себе, — вякнул я, желая восстановить всё же мосты. Кстати, вякнул, норовя поддакнуть, а не поддеть.
Он засопел, и я не вдруг понял, что следом произошло. Я отлетел от него в грязь обочины. Он совсем недавно стал ходить в спортивную секцию — и вот нате вам, п р и м е н и л!
Я разъярился и испугался одновременно. А он уходил, уходил, уходил.
Всю следующую неделю он в мою сторону не посмотрел. Я приуныл: радости интима прикончились. Во мне горели обида, но и сознание, что я теперь сам его за что-то такое ухватил, обнаружил его слабину. Как бы и я овладел душою его — и душой, мне сейчас без причины враждебной.
Потом он с чего-то, из-за совпаденья каких-то «улик», решил, что я разболтал про его «слабость». Он стал мстить. Слухи обо мне поползли самые стыдные. Это с его стороны было даже и глупо: он-то лучше, что ли? В такой его неуклюжей «мсте» была, как понимаю теперь, некая беззащитность.
Слава богу, шпаны в нашем классе не водилось — зимние каникулы, их снежный, морозный, нарядный антракт смыл память об этих слухах. Третья, самая длинная, самая нудная четверть началась с новой строки.
Наши отношения с Сашком восстановились почти в прежнем объеме. Видно, и ему одиночество было невмоготу. Хотя простить мне свою слабость — что я был ее свидетелем — он, пожалуй, так и не смог. И сейчас, по прошествии стольких лет, удивляюсь я сложности души человеческой: он мечтал об ином отце, мечтал о душевном тепле и мужской настоящей дружбе, и простить не мог тому, кто про это прознал ненароком! То есть, я был заведомо негодный для этого всего, для мечты его, человек.
Наши отношения сделались теперь только знакомством; не дружбой, а лишь товариществом. «От делать нечего друзья».
Было бы опрометчиво считать, что я тогда уже г о р ь к о осознавал свое одиночество. Мне было с собой интересней, чем с другими. Пожалуй, интереснее, чем даже с Сашком. Эта его тихая спокойная властность и даже игра в письки поднадоели обоим. Мы из такого неожиданно, стремительно выросли.
И тут я, конечно, должен немного подробней сказать вам о ре-но-вации, потому что словцо это торчит в моем тексте, как гвоздь в башмаке: посторонне-чувствительно.
Не желая распространяться о переменах в «этой стране» (потому что они, «премены», живут здесь независимо от времени нашей жизни: они, придурковатые, бесхозно мстительны), я должен отметить, что мы с Сашком разминулись классе, что ли, в седьмом и, кажется, к обоюдному облегчению.
Наши отношения зашли в никуда, наши характеры ломались, как голоса, в прошлое мы еще не умели оглядываться, будущее было нам незнакомо. Было одно текущее настоящее, но настоящим (то есть, стоящим) оно-то как раз и не было; оно пролетало чередой невнятных по смыслу буден, слишком серых, чтобы их хотя бы впрок как-то отметить в памяти.
Просто однажды Сашок исчез.
Затем потекла дальнейшая жизнь, уже без него. Текла-текла, да и вся почти, гадина, вытекла. Помнится, на пенсии я пристрастился гулять перед сном — чтобы моционом сон укрепить, разумеется.
И вот, как-то в начале осени, еще лиственной и пока почти сплошь пестро-зеленой, я бродил по темным и теплым улочкам вокруг дома. Ветерок шуршал листвой, как живой, и под ногами и над башкой: к близким мокрым переменам уже, наверно, готовился. Между тем, теплынь стояла летняя, бездонно, обманчиво щедрая — попробуй такую сдвинь! Даже показалось: не будет никакой зимы, будет вечное э т о в о т.
Я вдруг подумал, что в гармонии старости есть что-то ужасно печальное, какое-то беспризорное, бессмысленное равновесие духа беспомощное. Вот именно: «жизнь в никуда» — и какой-то обман, потому что зима ведь придет, и придет непременно, любая и по-всякому гадкая.
Сделалось горько, что умозрительного опыта прошлого в нас с годами все больше — его больше нашей текущей вот сейчас, сейчас выпавшей радости! И только я подумал об этом, некто хлопнул меня по плечу и густо из тьмы низких ветвей осведомился:
— Брутик?
Я опешил: кто мог помнить мою эту кличку, ну к т о?!..
А между тем, крепкие руки, пахнувшие чем-то приторным, стиснули меня, как кутенка, и вжали в нос мне нечто ледяное, дурно-душное, мокрое…
…Я очнулся среди белых, как скатерть, стен, однообразных, как снег в степи. Я лежал на кушетке, что ли, передо мной во всю стену горел экран телевизора, — плоская панель светилась синим бесстрастным светом, и в нем мерно двигался человечек. Он, видно, в кресле на шарнирах сидел, он чуть покручивался в нем с видом скучающего хозяина, но терпеливо что-то внушал почти безгласному собеседнику. И сквозь маску его подтянутого лица я узнал Сашка!
Что он там говорил, я не помню, я никогда такое не слушаю, но это был о н.
Тут вдруг и доктор вошел — молодой на лысо бритый человек в стильных очках, спортивный, подтянутый — и сказал очень бодро:
— Ну, и как теперь самочувствие?
Он явно гордился моим самочувствием, словно оно было его достижением.
— Доктор, — сказал я, — выключите, пожалуйста, э т о.
— А что вам не так? — удивился он. Но спохватился, экран погас.
— Так как самочувствие после ре-но-вации? — настаивал он с какой-то панибратской профессиональной полукорректностью.
— Я слышал об этом, — ответил я, — я должен спасибо сказать?
Он пожал плечами, показалось, обиженно.
Тело мое пело, оно хотело встать. Но я не давался ему.
— Почему вы не спрашиваете, х о ч у ли я? — спросил я.
— Да вы молодой теперь! Хоть вон в ЗАГс! — почти прикрикнул с упреком доктор.
— Молодой человек, не орите на меня. Я н е х о ч у, — понимаете?
Но он сорвал с меня одеяло:
— Вы э т о — видите? Вы когда это видели в последний-то раз? Лет десять тому?
— Хотите меня з а б р и т ь? — догадался вдруг я.
— А стоило б! — отрезал он с всё той же ликующей, победоносной обидой. — Но приказано только вас ре-но-вировать. Включу-ка я телевизор, а то вы какой-то все-таки не проснувшийся…
Я подумал: как Сашок разболтал их всех!..
Мне стало занятно, но горестно.
15.09.2025



2 комментария