Антон Ромин
Урод
Рассказ о превратностях судьбы. Как порой невероятно образуется связь. Между странным, тяжелым, неприятным человеком и чистым, открытым, доверчивым и нежным.
Страсть необъяснима и имеет очень долгую власть над людьми. Но рано или поздно ее пагубное влияние приходит к концу...
 – Я три телевизора из окна выбросил!– Зачем?
– Я три телевизора из окна выбросил!– Зачем?
– А вот такой я! Вот такой! Я нервный!
Шизик – было первой мыслью. Шизика звали Аликом.
Познакомились мы в поезде. Теснота купе, храп сверху, навязчивая проводница, кряхтящая бабушка по обмену, – весь антураж. Нас словно приплюснуло в этой тесноте друг к другу.
Знаю, что мое первое мнение о человеке – правильное, а потом следует деликатный компромисс с самим собой. Разглядев поближе смуглого, лысоватого парня с густыми сросшимися бровями и крючковатым носом, я решил: а он ничего.
Алик возвращался в город от дальних родственников – злой, как черт. Надеялся, что помогут найти работу и уговорят остаться, но они ничем не помогли. Без работы Алик маялся уже полгода, с тех пор как его вышибли из кафе, где он был вышибалой. Конфликтный нарисовался малый. Еще и с неприятной внешностью – низкого роста, дерганый, с колючим, недоверчивым взглядом. Бывший каратист.
Его резкие манеры и вызывающая, ничем не обоснованная дерзость произвели на меня какое-то странное, тягостное, болезненное впечатление. Под конец нашей поездки я уже чувствовал что-то вроде зависимости. Он жаловался на несправедливость мира и непонимание окружающих, а я искренне сочувствовал, хотя и сам мог бы просветить попутчиков по всем этим вопросам.
В городе мы расстались, но я оставил ему номер телефона. То есть мы не расстались.
Я должен был пробыть там до сентября – до сдачи дизайнерского проекта – и поселился в общежитии. А он жил в однокомнатной квартире на другом краю города – вместе с бабушкой и на бабушкину пенсию. Бабушка Алика вела активный образ жизни – работала горничной в богатом особняке, там и ночевала, а домой наведывалась регулярно в шесть утра, чтобы контролировать образ жизни непутевого внука. Подозревала она его, кажется, в пьянстве…
Квартиру ту я помню отлично. Повсюду лежали белые ажурные салфетки – на службе бабуля успевала мастерски орудовать крючком. Я разглядывал их на свет, как тонкую паутину, в которую влип неожиданно, но добровольно. Мы немного выпивали, смотрели из окон на закат, а потом стаскивали на пол бабкин матрац.
Я принял ритм его жизни, ритм его дерганых движений, ритм его колючих взглядов и даже звонок будильника в пять утра.
– Собирайся, собирайся!
Это был наш ритуал. Мы подхватывались, как по команде, сталкивались в темноте, хватали с полу свои вещи, тащили обратно матрац и застилали ее кровать.
– Она же ничего не подумает. Она же бабушка. Скажешь, что друг ночует, просто, – я прислонялся к нему около двери.
– Идем, идем.
Он всегда провожал меня до автобусной остановки, а потом возвращался и ложился досыпать – на своей тахте, в кухне. Бабушка приходила, приносила ему продукты, спрашивала, как продвигается поиск работы.
Поиск никак не продвигался. Целый день он названивал мне с вопросами:
– Где ты, урод? С кем ты? Когда ты уже придешь?
Удовлетворить его любопытство при посторонних было невозможно. Он нервничал, сатанел, звонил снова. Поначалу ревность мне даже льстила, потом стала утомлять. Я вообще не думал о проекте, не понимал, где нахожусь, не замечал города. Все мысли были заняты Аликом. После работы я ехал к себе в общагу – принимал душ, брился, потом покупал еду и возвращался к нему. Однажды пропустил его остановку, шел обратно пешком, не мог разобраться с перекрестками, и чувствовал, что каждый миг теряю что-то безумно важное, бесценное, кусок сердца.
К вечеру его ревность уже зашкаливала. Он бросался ко мне, хватал из рук пакеты с продуктами, а сам продолжал выговаривать за то, что я совсем потерял совесть и ни во что его не ставлю.
Он знакомил меня со своими друзьями, а потом допытывался, встречался бы я с кем-то из них, и чем эти козлы лучше него. Мы ссорились сто раз за ночь, сто раз я порывался уходить, и тогда мимо меня летали стаканы и пепельницы, разбивались о стены и выпадали осколками и окурками на ажурные салфетки. Хорошо, что телевизора в квартире уже не было.
Потом он снова встречал меня на автобусной остановке и подозрительно смотрел исподлобья. Помню, однажды нам под ноги бросилась огромная крыса. Я остановился. Крыса юркнула в водосток и втянула длинный лысый хвост. Алик оглянулся.
– Что?
– Так ни разу меня и не поцелуешь?
– Здесь?
– Почему бы и не здесь?
– Ты с ума сошел? У меня голова пухнет! Я работу найти не могу! Меня бабка прессует!
Он отлично готовил. Но пока готовил, материл бывших работодателей, которые его унижали, бывших друзей, которые его предавали, и соседей, которые могли меня видеть и донести бабке.
– Хочешь, я уйду? Если тебя это так волнует…
– Совсем нюх потерял?! Никуда ты не можешь от меня уйти! Никогда!
Я отчетливо понимал, что вполне могу схлопотать по морде. Но странная, патологическая зависимость от этого человека не позволяла мне протестовать. Я терпел его насмешки над моей деловой одеждой, его приступы ревности, его бесконечные жалобы, а прозвища, которые он мне давал, уже воспринимал как проявление невероятной нежности с его стороны.
Иногда я просыпался с мыслью, что моя привязанность к Алику дошла до предела, и я смогу порвать с ним, но он звонил, просил прощения, и я, как зомби, шел по знакомому адресу. А потом просыпался с мыслью, что эта привязанность затягивается удавкой на шее…
Кто знает, как все решилось бы, но однажды, когда мы поссорились, и я остался ночевать в общежитии, он – совершенно пьяный – влез ко мне на четвертый этаж и стал колотить в балконную дверь.
Во-первых, не было никакой необходимости лезть по трубе: общежитие было семейным, не режимным. Во-вторых, он вполне мог дождаться утра, чтобы извиниться. Но – не мог. В глазах стояли слезы.
– Что? Зачем ты? – недоумевал я. – Что-то случилось?
– Мне работу нашли в Германии, документы оформили. Я улетаю.
Удавка затянулась мгновенно. Улетает. Навсегда. Все кончено. И тогда я уже совсем не помнил о том, что он садист и шизофреник. Я не мог выговорить ни слова. Он плакал…
– Я же люблю тебя, люблю…
Не Бог весть, какая была работа – помощником повара в русском ресторане. Но родственники пожалели его бабушку и приложили все усилия к тому, чтобы освободить ее от обузы. Договоренности были серьезные. Не лететь он не мог. Помню, тогда он остался ночевать у меня, так и не придя в себя после всего выпитого и выплаканного. И я тоже лежал в беспамятстве, глядя в черный потолок и плохо понимая, где нахожусь.
Утром мы молчали. Я взял отгул и помог ему собрать дорожную сумку. Каждая вещь падала в дешевенький «адидас», как на дно колодца:
– Это конец.
В аэропорт я его не провожал. Он запретил. Да я и не выдержал бы.
Потом ломало. Навалилась жуткая, безжалостная депрессия в совершенно чужом городе. За все время, проведенное с Аликом, я не запомнил ни одной улицы, ни одного маршрута, кроме его улицы и маршрута к нему. Стояла середина лета. Я задыхался в своей комнате от жары и сигаретного дыма, выходил только на работу, ничего не ел и каждое утро пробивал в ремне новую дырку.
По нескольку раз на день Алик звонил из Германии:
– Как ты, урод? С кем трахаешься? Не хватает тебе моего члена? Соскучился?
Ночью я лежал поперек кровати и курил. В то лето мне исполнилось двадцать семь, и никогда до этого я не испытывал такой боли.
Иногда заходили его друзья (те самые, которые не раз его предавали) – компания, которую я получил в наследство. Мое состояние удивляло их не на шутку.
– Ты чего? Переживаешь? Правда, переживаешь? Не знаешь его что ли? Сбежит скоро. Он дольше месяца нигде не работал.
Я не мог поверить.
– Это навсегда. Навсегда.
Они не смеялись надо мной, но смотрели странно. И совсем не были похожи на людей, которые могут предать.
Прошел месяц. Он стал звонить реже, но я сам набирал его номер – с мобильного, с таксофона, с рабочего, с телефона-автомата в холле общежития – все деньги тратил на то, чтобы услышать:
– Ну, как ты, урод? Не можешь меня забыть? Ни дня не можешь без меня обойтись?
Я был уверен, что он страдает и душит свое страдание.
Через два месяца стало легче. Я, действительно, стал отвыкать от его тела, от его кроличьих повадок, от его садистских причуд. Сходил с его приятелями в клуб, даже потанцевал, выпил, захотелось есть.
Потом бросил курить, и наваждение прошло окончательно. Обозначились прежние контуры мира, вернулась ирония, и я перестал звонить в Гамбург. Вспоминая прошлую связь, даже удивлялся самому себе: как я мог? что на меня нашло? И перед знакомыми Алика мне было стыдно.
Чтобы стереть этот стыд и доказать самому себе собственную нормальность, я даже переспал с одним его другом, ощутив всю легкость связи без надрыва, но ничего никому не доказал, как обычно, а стыда даже прибавил.
– Я тогда говорил Алику, что лучше тебя нет человека, – признался Игорь, словно речь шла уже не обо мне.
В конце августа ночью в балконную дверь снова постучали.
Он бросил работу и вернулся неожиданно – неизвестно, с целью застать меня с кем-то или сделать мне сюрприз.
И снова я его видел как впервые – маленьким, лысым, угловатым, дерганым, нервным, озлобленным.
– Развлекаешься тут без меня, да? Думаешь, я ничего не знаю? Мне уже давно позвонили в Германию и все рассказали, – шипел он. – Это ничего. Я там тоже с Элиной замутил. Но я же вернулся, да? Я же вернулся. И мы же теперь вместе будем, да, урод? Ты же останешься?
Мне было смешно.
– Лыбишься?
– Не хочу больше.
– Что? Прошла любовь?
Еще с месяц он таскался ко мне в общагу со своими упреками. И какую-то ночь мы даже провели вместе. Было все довольно гадко, но дало ему право смотреть на меня с еще большим презрением.
Я не мог дождаться окончания проекта. Наконец, сдал свою часть работы и решил ехать раньше. История этого города была полностью перечеркнута моей историей с Аликом. Я не находил ни одного здравого объяснения: как я мог влипнуть в это, всохнуть?
Провожали меня его друзья, и Игорь тоже. Алик пришел к самому отбытию поезда, отозвал меня:
– А я бы... Я бы ради тебя… Мы бы…
И я винил себя в том, что ничего не чувствую больше, что сердце, еще недавно переполненное нашими отношениями, оказалось совершенно пустым.
Вдогонку получил несколько его смс, на которые не ответил. В сознании отчетливо отчеканилось: не связываться с садистами. Но, вспоминая ту квартиру, бабушкины вязаные салфетки, звонок будильника в пять утра, автобусную остановку и предрассветную темноту, в которой он ни разу меня не поцеловал, я всегда думаю о том, что виноват ровно настолько, насколько виноват он, и что мы всегда заслуживаем своих френдов, как бы потом ни недоумевали по поводу своего выбора.


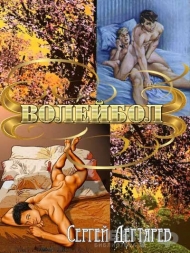

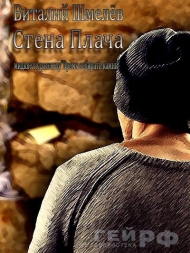
3 комментария