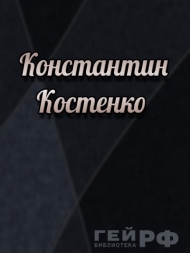Сергей Розенблат
Заживо погребённые
Аннотация
Всё в этом городе всё готовило Его к этой встрече. Встрече всей Его никчемной, пустой и трусливой жизни...
За свои тридцать с небольшим Он впервые ощутит все краски мира. Этот серый город откроет Ему что-то большее, чем двери в могильную коммунальную комнату, в которой Он пытается как-то существовать, покажет улыбки и слёзы счастья, затаившиеся в грязных подворотнях и мрачных арках мёртвых домов.
Он сделает свой выбор и решит свой шанс, который Он заслужил и выстрадал.
Всё в этом городе всё готовило Его к этой встрече. Встрече всей Его никчемной, пустой и трусливой жизни...
За свои тридцать с небольшим Он впервые ощутит все краски мира. Этот серый город откроет Ему что-то большее, чем двери в могильную коммунальную комнату, в которой Он пытается как-то существовать, покажет улыбки и слёзы счастья, затаившиеся в грязных подворотнях и мрачных арках мёртвых домов.
Он сделает свой выбор и решит свой шанс, который Он заслужил и выстрадал.
Но, примет ли Он правильное решение... Один Бог Ему судья.
Промозглый северный ветер с рыхлой моросью уже который день испытывали всё живое и неживое в городе. Деревья совсем захирели, обессилили, и их длинные серые ветки трепались, словно мокрые кудлы странного, забытого Богом, скитальца. Дома и постройки крепились и силились, едва ли их хватило бы ещё на несколько дней. Вытянувшись в струны, как-то вдруг остолбенев, они казались лишь мрачными тенями некогда величественных созданий.
Бродячие собаки, косматые и неизменно мертвецки тощие, сновали, изредка появляясь в одной арке какого-нибудь покосившегося дома, исчезали в другой. Вот уж точно, ни за что не распознаешь возраст этих сирых, рождённых для вечного скитания, тварей, и всегда представляется, что им уже по меньшей мере лет сто…Единственными, кто, казалось бы, не обращал никакого внимания на происходящее, были люди. Они абсолютно не вписывались в картину, путая натуральный сценарий, привнося хаос в окружающий мир. Наверное, без надобности им бы и не следовало покидать своих жилищ, но так уж повелось, расплодившись от большого ума, теперь они были вынуждены искать способы плодиться дальше, для чего приходилось выдумывать себе великое множество занятий, порой настолько странных и витиеватых, что их смысл и вовсе терялся для большинства из них самих.
Эта была мрачная и суровая пора.
«Что-то должно случиться, непременно произойти. Никогда меня так не пробирало, и, в то же время, не выжигало изнутри».
Собака, грязная, с перебитой лапой и, уж наверно, слепая, похромав мимо, вдруг остановилась, повернула морду и как-то исступлённо посмотрела в Его сторону. Может быть она прочла Его смелые для такой погоды мысли, а может быть просто, не особенно на это рассчитывая, всё же надеялась получить скудный харч. Через несколько мгновений, потупившись, она растворилась в сизых красках сырой осени.
Странное, появившееся ниоткуда животное, заставило Его на секунду остановиться. Он хотел было уж что-то и сказать бродяге, но неожиданно потеряв её из вида, как-то виновато осмотрелся по сторонам, и повернул в серый тупик. Нужно было недурно ориентироваться, чтобы в грязной палитре аспидно-серых тонов окружавшего мира обнаружить необходимое направление, повернуть именно туда, куда следует…
Провернув дважды ключом, подтолкнув мокрым ботинком видавшую виды дверь, Он вошёл в квартиру. Хотя, квартирой это назвать можно было едва ли. Жилище скорее напоминало конуру, представляло маленькую жилую комнату с таким же крохотным окном, и нишей, в которой каким-то образом умудрялись сосуществовать старый чугунный унитаз и нержавеющая мойка-умывальник. Весь натюрморт помещения составляли пара деревянных резных стула, изъеденных шашелем, круглый тиковый стол о трёх ногах, обшарпанный лакированный комод и кровать с палисандровым бюро у изголовья. Стены были оклеены обоями с рисунком «вырви глаз», к тому же линялые и рыжие от постоянной течи с потолка. Развешенные по периметру стен убогие книжные полки, напоминавшие миниатюрные могильные плиты, и репродукция «Утопленницы» Перова не оставляли никакой надежды на лучшее. Комната казалась ещё меньше и печальнее, чем была на самом деле. На старом паркете распласталась облезлая циновка с когда-то ярким и величественным восточным орнаментом по краям. В комнате было довольно сыро, пахло плесенью и рыбой. Тусклый свет люстры-абажура придавал и без того мрачному помещению совершенно казённый вид.
Бросив ключи на книжную полку, Он щёлкнул выключатель, разбудив червлёный абажур, и повернул тумблер громкоговорителя, примостившегося за тюлем на подоконнике. Голос неизвестного исполнителя наполнил комнату густым басом, довольно ободряющим и перманентно весёлым.
Тёмно-зелёная штормовка отправилась сохнуть на кованную вешалку в форме огромного канделябра на пару с вязаным свитером; ботинки поменялись местами с домашними тапочками, истекая дождевой водой. Нужно было их непременно высушить до утра, иначе они и вовсе расползутся, несмотря на то, что им не было ещё и трёх лет.
Дышать стало легче. Он почувствовал себя наконец-то дома…
Никогда Ему не приходило в голову, что в этом, по сути, подвале можно было чувствовать себя неуютно и одиноко. Это был Его дом, Его пристанище, в которых Он был самим собой, был таким, какой Он есть и каким Ему быть хотелось. Это была внутренняя свобода. Место, где не нужно было ни с кем разговаривать и объясняться. Не нужно было выслушивать чужие хитросплетения судеб, трагедии и драмы.
Улыбнувшись про себя, Он вышел за дверь, поставить на плиту чайник. Горячий крутой чай – это всё, чего Он хотел сейчас. Кухня была общая, на восемь квартир, в пятиэтажной коммуналке почти в самом сердце старого города. Здесь никогда не бывало пусто, и всегда кипела жизнь. На это раз Ему повезло. Возле засаленной плиты возилась только толстая, лоснящаяся баба. На голове у неё был огромного размера тюрбан, сооружённый из махрового рыжего полотенца. Одета она была в старый ситцевый халат «по мотивам японских гейш», в зубах держала папиросу на манер заправского забулдыги, что-то мурлыкала себе под нос, бульварно виляя при этом внушительного размера бёдрами. Это была Циля Абрамовна Кох, мать семерых сыновей, таких же некрасивых и болезненных, как и их отец. Убогий, ещё совсем нестарый, Ицхак Семёнович боготворил свою супружницу, несмотря на то, что она его ненавидела и старалась унизить при любом удобном и неудобном случае. Одной рукой помешивая варево в ведре, второй она умудрялась перелистывать страницы прошлогоднего журнала, в котором описывалась жизнь иностранных знаменитостей-единственное развлечение хозяйки. Прошлым летом она вытащила его из-за пазухи старшего сына, который прятал его, само собой, от матери, и с тех пор разноцветные матовые эпизоды красивой жизни всецело принадлежали Цецилии Кох! Ещё долго Натан вспоминал вырванный клок волос со своей головы разъярённой матерью, и полгода, каждый день, после занятий в институте, сношался с сокурсницей, обладательницей пятого размера груди, небритых подмышек и поражающего зловония изо рта, Верой Б. Зная трусливую натуру Натана Коха, она воспользовалась безвозвратной потерей идиотского журнала, который презентовала почитать, и запугала бедного юношу, пригрозив, что пожалуется старшим братьям на невероятной наглости воровство и угрозы с его стороны, а те уж за ценой не постоят. Впрочем, ещё немного и не понадобился бы и журнал. Она так страстно желала этого астеничного, почти что прозрачного мальчика, что уже вынашивала план изощрённого принуждения к близости. Все намёки, а затем и откровенные предложения заставляли Натана багроветь и покрываться сыпью. Вдруг случился журнал, и решение проблемы пришло, само собой. Она была уверена в своей победе ещё до того, как объявила об условии компенсации за потерю. Впрочем, уже на второй раз Натанчик вошёл во вкус и оказался довольно выносливым, напористым и даже наглым любовником, что никак не писалось с его внешностью больного малярией. Ей нравилось, когда он делал это долго, жёстко, сотрясая её жирные ляжки, пять складок на животе и роскошные спелые груди. Нравилось, когда он её душил, плевал и мочился на неё, заставлял лизать свой анус и кончал в рот…
Всё закончилось потерей интереса Верочки Б. и триппером Натана.
Он подошёл ко второй плите, поставил медный чайник и зажёг огонь. Благо, плиты было две, иначе остальные жильцы померли бы с голода, пытаясь потеснить (и проиграли бы таки эту битву) Цецилию Кох с места её постоянного обитания. Похлёбки и борщи, всевозможные каши, картошка во всех её проявлениях, котлеты, голубцы, жаркое, диковинное фирменное блюдо из саго, и много чего ещё сменяло друг друга под чутким руководством еврейской мамы, всю свою жизнь мечтавшей о судьбе заводчицы лошадей. Такой тайной страстью она любила этих благородных животных, и каждую ночь видела сны, как она в окружении вороных, буланых и саврасых бежит по васильковому полю и плачет от счастья.
- Добрый вечер, Циля Абрамовна, - мягко и низко произнёс Он, - чем сегодня радуете своих мужчин?
- Белладонна. Угостишься? - резко бросила женщина, очнувшись от мыслей о том, какие же худые эти актрисы со страниц причинного журнала.
- Здравствуй, мой дорогой, - уже спокойно, почти нежно поприветствовала она Его, - жрут, как свиньи на откорм, а всё одно, гниды, тощие, как французская проститутка! Гнилая натура их отца, жалкого и ничтожного человека. Будь он проклят сто раз! Поешь с нами?
- Спасибо, я сыт, - с улыбкой ответил Он, - думаю я не настолько голоден.
- Как знаешь. Тогда заваривай свой чай и убирайся!
Он ещё раз улыбнулся про себя, налил крутого кипятка в большую алюминиевую кружку и вышел из кухни.
Из громкоговорителя басовито радовался всё то же мужской голос, в окно настойчиво стучали мелкие капли дождя, требуя впустить их в комнату. Он присел за большой старый стол, сделал глоток из кружки с выбитой на ней номером 51027, и опять начал думать о том, что же, наконец, Его сегодня так встревожило, заставило так неестественно волноваться, обожгло его изнутри? И, уж конечно, это был не чай. Чувство не давало ему сосредоточиться.
Неплохо было бы принять горячий душ и отдохнуть, как следует. Тем более, пока душевая была свободна, и завтра тяжёлый день…
Горячая вода из покосившегося латунного крана струилась по Его молодому, крепкому телу. Клубы густого пара окутали душевую, разнося аромат хвои по всей ванной комнате. Намылившись лыковым мочалом, стоя с ног до головы в белоснежной пене, Он тщательно, начиная от самых пальцев ног, втирал такой приятный и расслабляющий аромат хвойного мыла.
Поднимаясь всё выше, Он задержался на сильных икрах, наклонившись так, что струя воды тупо била по пояснице. Скользнув вверх, нервно прошёлся по упругим ягодицам, животу, мощной груди. Кровь ударила в голову. Соски тут же напряглись до ощутимой боли. Одно прикосновение к ним валило с ног. Через мгновение Он запустил правую руку ниже живота, обхватил вздыбившийся, мощный, как у молодого племенного животного, член, и начал уверенно и плавно водить ладонью, время от времени лаская свои, по-настоящему достойные мужчины, яички, налившиеся сладковато - пряной страстью. Яростно стучало в темени, дыхание стало частым и глубоким. Стоять больше не было ни сил, ни желания. Сам того не заметив, Он опустился на прогретый водой кафель, поднял ноги на стену и раздвинул ягодицы. Всё увереннее и смелее он водил ладонью, изгибаясь на лопатках и глухо стонал. Внезапно пальцы сползли к расслабленному анусу. Как-будто электрический разряд поразил Его в этот момент! Резко и громко, практически обречённо, Он вскрикнул! Это заставило Его задыхаться от охватившего экстаза. Член напрягся до предела, раскачиваясь в такт движения руки между раздвинутыми напряжёнными бёдрами…
- Кто там полощется? Выходи, давай! Мне половик постирать надо, - противный косноязычный голос затрещал по другую сторону деревянной двери душевой кабины.
Громоздкая, нескладная с неестественно жёлтым цветом лица, соседка из второй квартиры ненавидела каждого в этой коммуналке и, пожалуй, во всём белом свете. Впрочем, белый свет и соседи отвечали ей тем же.
Ничто и никогда до этого момента не приводило Его в такой ужас, как этот отвратительный лай за дверью душа. В один момент Он вскочил на ноги, поскользнулся и упал на мокрый кафель, сильно ударив колено. Держась за стенку, Он поднялся, выключил воду и спешно начал одеваться.
Присев на кровать, Он почувствовал, как всё тоже неясное волнение опять начало нарастать и множиться в Нём. Но вовсе не внезапное появление треклятой чахоточной жилички с её воплями так нарушало Его спокойствие и выводило из себя. Это было то, чего Он боялся пуще Судного дня.
Как?! Как посмел Он допустить эту слабость, нарушить все клятвы и обещания, данные самому себе! Что происходило сегодня с Ним с того момента, когда презренная дрожь охватила Его на серой мокрой улице? Ни руки, развязавшиеся в душе, волновали и пугали Его сейчас. Мысли. Это мысли, которых Он боялся и ненавидел себя за них! Ненавидел и стыдился себя, своих желаний, своей натуры. Так разблажиться! Никогда Он не примет себя таким, никогда не согласится с собой! Никогда! Никогда.
В свои тридцать два года Он оставался невинным, как белый голубь. Никогда Он не был близок с женщинами, тщетно преследовавшими Его в помыслах, как минимум, родить от Него ребёнка. Ему (как это всё невозможно) нравились мужчины.
За что это проклятье от рода своего? Что не так, в чём вина? Мерзость и скверна. Вся Его жизнь подчинилась разрушающим мыслям, медленно тлела и разлагалась. Тайное влечение разъедало изнутри, не давало покоя. Он чувствовал себя прокажённым, грязным, отвратительным созданием дна общества, даром, что не папертный богомолец, поросший лепрой.
Жить было очень тягостно. Невозможно. Временами хотелось броситься в незримую пропасть, словно стадо свиней, обуреваемых бесом. Поэтому, несколько лет назад Он дал зарок всеми силами избегать сиих мыслей, вытравить чёрную натуру, подавить, уничтожить сидящую внутри химеру. Для этого Ему пришлось крепко потрудиться, и со временем стало легче. Нарочно изжить самого себя. В этом была суть. Сгинуть, чтобы выжить и продолжать крепиться…
Жизнь стала ровной и спокойной. Он сумел покрыться этой ризой, спрятать себя от видимого мира и собственного Бога.
Конечно, временами прорывало, но сегодня пробрало по-настоящему. Животная сила, неподдающаяся никакой управе и уму, свалила Его на кафель и требовала наружу, грубо желая разорвать плоть на кровавые угли обжигающего, осязаемого света.
Влечение к подобным себе и неспособность побороть это чувство сделало его замкнутым и через чур аскетичным. Но это для окружающих. Наедине с собой он был блажен и спокоен. Когда Его ничего не волновало, и дурные мысли не лезли в голову. Боже, как же тяжело всё-таки было с этим справляться. Но что в последнее время так волновало и тревожило. Какое-то тайное ожидание томилось внутри, какой-то секрет хотел открыться.
Так хотелось по-настоящему кончить.
В это утро Он проснулся на час раньше обычного. Жившая напротив старуха-книгоноша, страдающая падучей болезнью, померла. Плакальщицы-товарки разбудили Его, как, впрочем, и всех соседей. Один лишь студент медицинского, снимавший комнату у старого плешивого жида, нанимавшего две комнаты на этаже, мертвецки спал. Измучанный тяжёлой наукой, безденежьем и житьём впроголодь, одной его радостью был сон. После занятий он подвизался рыть могилы на городском кладбище, а по ночам занимался. Спал он мало.
Жид проснулся в предвестье нечаянной выгоды, случившейся со смертью старухи-соседки. Он тут же взялся организовать гроб, могилу и сумел-таки сбыть какой-то плакальщице дюжину восковых свечей, оставшихся после похорон отставного генерала, в конец спившегося, и оставившего за собой большие долги. Благо, бедный студент оказался кстати. Через него-то он и выхлопотал всё, что нужно, пообещав юноше случайный заработок, и уж, конечно, обнёс горемыку барышом, оставив в дураках.
Завывания старух и громкие старания жида дополняли проклятия Цецилии Кох, разносящиеся непонятно в чей адрес, так что надежны ещё немного поспать канули в воду. Он сделал утреннюю зарядку, принял душ, выпил крепкого чая и вышел на работу.
База Рыбхоза уже во всю бурлила и жила своей повседневной жизнью. Пьяные грузчики, вороватые кладовщики, вечно спешащие водители, как разноцветные камни в калейдоскопе менялись перед глазами в течение рабочего дня. Он был начальником рыбкомплекса, самого крупного во всей области. Работа была трудная и ответственная. Его заместитель, пятидесятилетняя Валентина Ивановна, была женщиной бойкой, хваткой и решительной. Она была настоящим тылом и опорой. Одним уверенным прикладом своей руки она была способна в момент отрезвить любого, мучавшегося похмельем, рабочего, запросто могла поколотить, тащившего всё, что плохо лежит, кладовщика, и в простой и очень доступной манере могла объяснить любому, что она о нём думает, где его место, и что таких, как они, она, если будет нужда, свернёт в бараний рог и скрутит в три погибели. В общем, она была в своём праве, сама умела крепко выпить, но только в свои табельные дни, и по-матерински любила Его. Никогда Он не давал повода заподозрить Его в вещах, которые мучали и преследовали Его всю жизнь, но Валентина Ивановна очень уж чувствовала, что есть какая-то страшная тайна у этого молодого мужчины, заставлявшая Его оставаться до сих пор холостым, слишком уж правильным, так сказать, в своём уме, и приносящая Ему адовы муки. Сама того не понимая, она чувствовала Его душу, как душу собственного ребёнка, но никогда не задавала лишних вопросов, не пыталась ничего выведать и выпытать. Лишь иногда, тайно от чужих глаз, роняла скупую слезу, зная, какая несладкая доля выпала этому парню. Хотя Он и сам был очень строгим управляющим, Валентина Ивановна при любом удобном случае всегда вступалась за Него в борьбе с алкашами, тунеядцами, тупыми поставщиками, экспедиторами, таксировщиками, торгашами и прочими деятелями продовольственного рынка.
Именно в этот день она должна была помочь Ему, защитить, как мать защищает своё дитя, уберечь от самого страшного – разбитого сердца. Но, увы, это было не в её силах. Потом, много позже, она, переживая Его трагедию и боль, сидя одна в своём загородном доме, выпив слишком много вина, уснёт, и больше никогда не проснётся, угорев, закрыв печную заслонку с тлеющим чадом в печи.
Проверка из Министерства нагрянула, как обычно, не вовремя и некстати. Инвентаризацию провести не успели из-за покалеченного погрузчиком кладовщика-пьянчужку третьего дня, накладные на товар не успели разнести по учёту, да и Катя, сегодняшняя кладовщица, вышла на смену с хорошего бодуна. Она так нарезалась накануне с новым очередным волокитой, что была до сих пор во хмелю, помятая, как и вся её одежда, да и разило от неё, как от сапожника. Всё одно к одному! Но ревизия, как известно, неумолима.
Инспекторов было трое. Синий чулок лет сорока пяти с паклей на голове, в твидовом костюме «прощай молодость», плешивый и жалкий мужичок в побитом молью пиджаке, ситцевой рубашке с засаленными манжетами и чемоданом размером с хороший сундук, и Он…
Это было совершенно неземное создание. Нет, нельзя сказать, что этот юноша был красив той красотой, от которой предательски теряешься и перехватывает дыхание. В нём не было ничего от древних богов, бравых офицеров и описанных восторженными писателями щёголей и всеобщих любимцев. Но Он был прекрасен…
Он весь сиял и светился, был весь как будто прозрачный и соткан из воздуха. Русые кудри лишь слегка вились и были зачёсаны как-то старомодно, яркие, зелёные глаза делали его взгляд умиротворяющим и манящим, словно смертельные песни Сирен, верхняя губа была немного подёрнута, от чего казалось, что он постоянно на всё смотрит немного свысока и с усмешкой. Движения были плавными, почти кошачьими. От него пахло васильковой водой и свежей выпечкой. Аккуратная, неброская и, по всей видимости, выписанная из-за границы, замшевая курточка нежно-зелёного цвета была расстёгнута до уровня груди, из-под неё виднелась кипенно - белая сорочка с изумрудными пуговицами. Брюки были прямые со стрелками, нежного песочного цвета, мягко облегали совсем юное тело. Ботиночки были тёмно-коричневые, кожаные, такого же цвета был небольшой портфель с изящной медной застёжкой. Как же он не вписывался в это окружение, и как же всё вокруг него выглядело убого и аляповато. И эта нескладная женщина с резким лавандовым ароматом, и отчего-то постоянно чавкающий потный мужик с огромным чемоданом, и рыбный запах, и серые стены замшелой базы с её грязными мрачными сотрудниками.
Видимо, он только совсем недавно вступил в ряды суровой проверяющей братии, и ещё не успел потянуться дряхлой паутиной их стоической профессии. А, может быть, он совершенно случайно оказался в их рядах, перепутав двери заведения, куда его распределили после окончания учебного заведения? В любом случае, он был здесь, и его присутствие не предвещало ничего хорошего. Так подумала Валентина Ивановна, увидев юношу в дверях своего кабинета. На своём веку она повидала всяких проверяющих, и с каждым годом своей работы её отношение к ним менялось от священного трепета к ненависти, и, наконец, к жалости, смешанной с брезгливостью. Её, понятно, не испугало появление ни женщины, ни ревизора с чемоданом. Это всё приходящее. Но, отчего-то, она крепко насторожилась, увидев этого мальчика. Это чувство она пока не могла разгадать в себе.
В момент появления этих трёх посланников казначейского отдела Министерства пищевой промышленности в кабинете была она одна. Он, директор базы и её тайный подопечный, уехал в комитет, занимающийся разбирательствами травм, полученных работниками на производстве. Нужно было как-то попытаться утрясти дело с кладовщиком, попавшим под погрузчик, отделаться малой кровью.
Валентина Ивановна уже усадила ревизоров, предложила им чай, от которого с деланой строгостью те отказались, и попросила подождать немного, пока приедет начальник. Она знала все тонкости ревизий, и хорошо разбиралась не только в обязанностях инспекции, но и в своих правах. А пока предложила зарегистрироваться в журнале учёта инспекций, попросила показать удостоверяющие документы. Всё время, пока ждали директора, она то и дело искоса поглядывала на молодого служащего, так таинственно волновавшего её сердце. Однако, в нём не было ничего явного, такого, что могло бы заставить тревожиться или переживать. Более того, с того момента, как он появился в этом кабинете, он не произнёс ни слова, при этом как-то лукаво щурясь. Этот ангел смотрел прямо и открыто, вселяя пугающую уверенность, что именно он здесь самый главный, даже судьбоносный персонаж.
Только когда, спустя полчаса, в кабинет вошёл Он, тридцатидвухлетний, такой сильный и красивый, немного возбуждённый, она всё поняла. Всё стало для неё ясно и понятно, как белый день: почему Он был всегда таким выдержанным и отстранённым; почему Она никогда не задавала Ему лишних вопросов; почему так трепетно заботилась о каждом Его вздохе и взгляде, и почему её так терзало появление этот мальчика, внезапно, буревестником, ворвавшегося в их пропахший рыбой, суровый мир пьяных грузчиков, вороватых кладовщиков и очерствевших сердец.
В этот вечер Он не находил себе места. Возвратившись с работы, Он метался в своей комнате, как загнанный зверь. Не пил чай, не принимал душ, не слушал радио, не читал книг. Всё рушилось на глазах, ничто не поддавалось объяснению и контролю. Ни внезапная ревизия так вывела Его из себя. Он тоже, как и Валентина Ивановна, был не новичком и не робкого десятка. Не случилось ничего такого, чего Он не смог бы уладить, не произошло ничего, угрожающего Его честному имени, профессии и безопасности. Он встретил Его.
Войдя в кабинет, Он сей же момент понял, что все Его старания, труды и обеты рухнули в одночасье. Он не видел никого кроме него, но ни взглядом, ни словом не показал своего волнения и падения. Никто, кроме Валентины Ивановны и белокурого юноши, не заметил Его смятения и страшного метания, бушевавшего внутри. Ни одна живая душа не могла теперь помочь Ему.
Всю ночь Он не сомкнул глаз. Борьба с сами собой больше не имела для Него смысла, не виделась Ему целью, которую Он преследовал всю свою жизнь. Одновременно хотелось рыдать от беспомощности, и в то же время какое-то новое чувство переполняло Его неким сладким ядом, лёгким, почти невесомым, словно густой фимиам, подступало комом к горлу и заставляло бешено биться сердце.
Он запомнил каждую черту лица, каждое движение, нежный, едва уловимый, аромат кожи и тепло молодого тела, которое, уж наверно, грело Его и теперь. Казалось, юноша только однажды взглянул на Него в тот момент, когда Он уверенно вошёл в комнату, слегка раскрасневшимся от ядреного осеннего воздуха. Хотя, возможно, и не однажды? Просто Он нарочно всеми силами старался избегать смотреть в его сторону, потому как знал, что этот взгляд не предрекал ничего хорошего, был опасен. Был опаснее всего.
Вдруг в комнате стало натурально невыносимо находиться от запаха васильковой воды, зелёного яркого света и почти осязаемого тепла. Весь в лихорадке, одним движением Он сорвал с себя сорочку, и, откинувшись на спинку деревянного стула, принялся медленно расстёгивать ремень брюк, представляя под собой юное тело. Ему чудился сахар нежных алых юных губ на своих губах, слегка небритых щеках, шее. Руки с напрягшимися досиня венами, сопротивляясь, сдерживали под бельём мощный член, напрягшийся до неистовой боли: мощный и упрямый, он так хотел оказаться в нём, обладать им, стать одним целым, почувствовать его тепло не только снаружи, но и изнутри…
Желание было столь велико и болезненно, что уже через несколько мгновений мощная, тёплая струя сладковатой спермы ударила Ему в лицо, затем попала в рот и, наконец, оросила обнажённую грудь, медленной струйкой стекая на влажный живот. Он жадно проглотил густое, немного обжигающее семя, чувствуя, как оно обволакивает горло, медленно проникает внутрь вероломным, непознанным, но, в то же время таким настоящим, существом.
Это он…. Он подлинно проник в Него так смело и бесстрашно! Так просто, бесцеремонно вставил в Его незнающий наслаждений влажный рот свой молодой член, заставил задыхаться и захлёбываться желанием. Это он так по-взрослому, совсем по-хозяйски, кончил в него.
Как же Ему хотелось, чтобы это действительно был он…
Серый и мокрый рассвет Он встретил, лёжа на холодном полу, абсолютно голый весь в горячке. Один чёрт знает, во сколько Он уснул, что с Ним происходило той ночью, и какие сны Ему снились.
И лишь одинокий ночной мотылёк, приютившись на старинном абажуре, почти до самого утра сиротливо наблюдал погибающего молодого мужчину, а утром покинул эту остывшую комнату, чтобы не возвращаться сюда больше никогда.
На базу Он пришёл совершенно не выспавшись, опрокинутым и раздражённым. На душе было настолько тяжело, что каждое движение давалось с огромным трудом. Все Его мысли теперь занимал Он. И не бессонная ночь, и жесткое ложе заставляли Его сердце разрываться в груди, а как раз этот мальчик, так вдруг объявившийся, и так вдруг исчезнувший из Его жизни.
В течение всего дня Он практически ни с кем не разговаривал. Валентина Ивановна, понимая, что произошло, полностью взяла в свои руки всё руководство, стараясь, как можно меньше сталкиваться с Ним, вовсе не заходила в кабинет, в свободные минуты отсиживаясь либо в подсобке кладовщиков, либо курила в дряхлой беседке.
Ничего особенного проверка не выявила, нарушения были пустяки, поэтому колоритная вчерашняя троица обернулась за день и была такова. Ещё никогда Он так не жалел о том, что ревизия не продлилась. Он был готов даже намеренно совершить какое-нибудь служебное преступление, лишь бы теперь в Его кабинете опять пахло васильками и замшей. Готов был даже простоять весь день за дверью, только бы он сейчас был по её другую сторону.