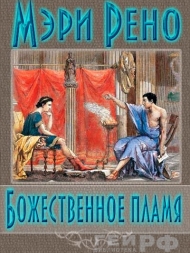Мэри Рено
Божественное пламя
Аннотация
Это книга о детстве и юности Александра Македонского, которые прошли на фоне бесконечных интриг и жестокого соперничества его родителей, царицы Олимпиады и царя Филиппа, склонявших сына каждый на свою сторону. Характер будущего полководца закалялся в солдатских казармах и на поле брани. Мудрости и философии его учил сам Аристотель. А верный Гефестион дарил ему любовь и нежность... Множество исторических подробностей, закрученный сюжет, достоверные и выпуклые образы, любовная линия выписанная без пошлости, без излишней восторженности или осуждения - неоспоримые достоинства романа. "Божественное пламя" - первый роман из трилогии про Александра Македонского, которая легла в основу знаменитого фильма Оливера Стоуна "Александр" (2004).
Перевел с английского Георгий Швейник
Это книга о детстве и юности Александра Македонского, которые прошли на фоне бесконечных интриг и жестокого соперничества его родителей, царицы Олимпиады и царя Филиппа, склонявших сына каждый на свою сторону. Характер будущего полководца закалялся в солдатских казармах и на поле брани. Мудрости и философии его учил сам Аристотель. А верный Гефестион дарил ему любовь и нежность... Множество исторических подробностей, закрученный сюжет, достоверные и выпуклые образы, любовная линия выписанная без пошлости, без излишней восторженности или осуждения - неоспоримые достоинства романа. "Божественное пламя" - первый роман из трилогии про Александра Македонского, которая легла в основу знаменитого фильма Оливера Стоуна "Александр" (2004).
Перевел с английского Георгий Швейник
Малыш проснулся от того, что вокруг тела обвилась змея. Проснулся испуганный: она мешала дышать, и ему успело присниться что-то нехорошее. Но едва понял, что это такое, - страх прошёл. Он просунул обе руки в кольцо змеиного тела, и змея зашевелилась. Под спиной прокатился тугой желвак; потом обруч ослаб, перестал давить, а от плеча вдоль шеи скользнула змеиная голова и пощекотала возле уха дрожащим языком.
На подставке слабо мерцает лампа-ночник... Лампа старая, сейчас такой росписи не делают; там мальчишки катают кольца и смотрят петушиный бой. А темнота, при которой он засыпал, ушла... Через высокое окно льётся холодный, резкий свет луны, и от него жёлтый мраморный пол кажется голубым...
Он сбросил одеяло, посмотреть: вдруг змея не такая, как надо. Мама говорила, что если на спине узор - вроде вытканной наймы - тех трогать нельзя, никогда. Но нет, всё в порядке. Эта - бледно-коричневая, с серым животом, гладкая как полированная эмаль.
Когда ему исполнилось четыре, - почти год назад, - ему поставили настоящую мальчишью кровать, в три локтя длиной. Однако ножки сделали низкими, чтобы не ушибся, если упадёт; так что змее легко было забраться. Все остальные крепко спят... Его сестра Клеопатра - в колыбели возле няни-спартанки. А поближе к нему, на самой красивой кровати, из резной груши, его собственная няня Гелланика. Наверно уже полночь, но слышно как в Зале поют... Взрослые дяди пели громко и нескладно, смазывая концы куплетов; он уже знал, отчего так бывает.
Змея - это секрет. Его собственная тайна, больше ничья. Даже Ланика, лежащая совсем рядом, не видит и не слышит их беззвучного разговора. Храпит себе... Хорошо храпит. Его однажды отшлёпали за то, что он сравнил этот звук с пилой камнерезов. Ланика не простая нянька. Она из царского рода - и по меньшей мере дважды в день напоминает ему, что только ради его отца согласилась на эту работу.
Храп поблизости и пение вдали - это только подчёркивает, насколько он один сейчас. Не спят только он и его змея, да ещё часовой в коридоре; совсем недавно доспехи брякали, когда мимо двери проходил.
Малыш повернулся на бок, поглаживая змею; радуясь тому, как мощно её полированная упругость переливается сквозь пальцы на его обнажённое тело. Она положила плоскую голову ему на грудь, прямо над сердцем, словно прислушиваясь. Раньше она была холодной, и это помогло ему проснуться, а теперь согрелась об него и вроде задремала сама. А вдруг совсем заснёт и останется до утра? Что скажет Ланика, когда увидит? Он чуть не рассмеялся, но подавил смех, чтобы не потревожить змею. Ведь если даже потихоньку - всё равно затрясёшься, и она уползёт... Жалко!... Никогда прежде он не слышал, чтобы она уползала так далеко от маминой спальни.
Он прислушался, не послала ли она своих женщин на поиски. Её змей знал своё имя, Главкос. Но слышно было только, как двое мужчин что-то кричат друг другу в Зале; потом их обоих заглушил голос отца.
Он представил себе, как мама ищет своего змея. Она наверно в том белом шерстяном халате с жёлтой каймой, что всегда надевает после ванны, и волосы распущены, а рука прикрывает лампу и просвечивает красным... И тихо зовёт:"Главкос-с-с!" Или, быть может, играет змеиную музыку на маленькой костяной флейте?... А женщины, наверно, лазают повсюду - среди подставок для гребней и горшочков с притираниями, и в окованных сундуках с одеждой, от которых пахнет кассией... Он однажды видел такое, когда серьга потерялась. Они должно быть перепуганы, и неуклюжи от этого, а она сердится... Снова донёсся шум из Зала, и он вспомнил, что отец не любит Главкоса. Даже рад будет, наверно, если тот потеряется насовсем.
И тогда он решил, что отнесёт змея маме. Вот прямо сейчас. Сам.
Решено - надо делать!... Малыш поднялся. В голубом лунном свете стоял он на жёлтом мраморном полу, змея по-прежнему обвивала его тело, а он только чуть придерживал руками. Чтобы не потревожить её, он не стал одеваться. Только взял с табурета плащ и завернулся, одной рукой. Так хорошо, Главкос не замёрзнет.
Он задержался подумать. Надо пройти мимо двух часовых; даже если окажется, что это друзья, - в такой час они его все равно остановят. Прислушался...
Коридор заворачивает, за углом кладовая. Ближний часовой охраняет обе эти двери. Шаги удалялись. Он отодвинул засов, приоткрыл дверь и выглянул в щелку. Получится?... На углу стоит бронзовый Аполлон, на цоколе из зеленого мрамора. За него еще можно спрятаться, пока не вырос. Когда часовой прошел в другую сторону, он бросился туда. А дальше всё было просто; пока не добрался до небольшого дворика, откуда поднимается лестница в царскую опочивальню.
Стены по обе стороны от лестницы расписаны деревьями и цветами. Наверху - небольшая площадка и полированная дверь с кольцом в львиной пасти, это ручка такая. Мраморные ступени ещё почти не истёрты. До царя Архелая здесь был крошечный портовый городок у лагуны Пеллы. Теперь это настоящий город, с большими домами и храмами; а на пологом склоне над ним Архелай построил свой знаменитый дворец, на диво всей Греции. Дворец слишком был знаменит, чтобы стоило в нем что-нибудь переделывать. Хотя мода и изменилась за эти полвека, всё было великолепно; Зевксий не один год потратил тогда, расписывая стены.
У подножья лестницы второй часовой, из царских телохранителей. Сегодня это Агий. Стоит вольно, опершись на копьё... Малыш выглянул из тёмного бокового прохода, подался назад в темноту и стал ждать, наблюдая за ним.
Агию лет двадцать. Он сын управляющего царскими землями, и прислуживает царю за столом. А сейчас на нём парадные доспехи: на шлеме гребень из красного и белого конского волоса, подвесные нащёчники шлема украшены чеканкой - львы, - а на щите красиво нарисован бегущий кабан. Щит должен быть на плече; снимать нельзя, пока царь не будет в постели. Но и потом надо, чтобы до него рукой дотянуться в любой момент. А в правой руке копьё, в четыре локтя длиной.
Малыш не сводил со стражника восхищённых глаз, хотя змея и отвлекала: потихоньку шевелилась под плащём. Агия он прекрасно знал. Сейчас здорово было бы выскочить с воплем, чтобы тот вскинул щит и подставил копьё навстречу; а потом поднял бы его на плечо, чтобы можно было потрогать высокий гребень... Но Агий на посту. Если сейчас показаться ему - это он постучит в дверь и отдаст Главкоса прислужницам, а самому придётся возвращаться к Ланике и укладываться спать. Он уже пробовал пройти к маме ночью. Хоть это бывало и не так поздно, как теперь, ему каждый раз говорили, что входить нельзя никому кроме царя.
Пол в коридоре сделан из галечной мозаики, в чёрную и белую клетку. Ноги уже заболели стоять на гальке, да и холодно, - но Агий не двигался. Пост у него был особый: он охранял только эту лестницу.
Малыш уже начал подумывать, что надо выйти из укрытия, поговорить с Агием и возвращаться к себе, - но змея снова зашевелилась на груди и напомнила: он же собирался к маме, он должен её увидеть! Если очень сосредоточиться на том, чего хочешь, - всегда появляется возможность какая-нибудь, да и Главкос ведь тоже волшебный...
Он погладил змею возле головы и беззвучно прошептал:
- Агасфодемон, Сабазевс-Загревс, отошли его прочь куда-нибудь. Ну, давай!... - И добавил заклинание, которое слышал от мамы во время её колдовства. Хоть он и не знал, для чего оно, но попробовать стоило.
Агий отвернулся от лестницы и посмотрел в противоположный коридор. Там, совсем близко, изваяние сидящего льва. Агий прислонил к этому льву копьё и щит, а сам зашёл за него. По местным понятиям, он был трезвее камня; но перед выходом на пост выпил всё-таки больше, чем можно удержать до смены. Все часовые ходили за льва. К утру рабы подотрут.
Но едва он двинулся в ту сторону - ещё до того, как снял оружие, малыш понял, что сейчас будет, - рванулся на лестницу и беззвучно взлетел по гладким холодным ступеням. Когда он бывал со сверстниками, его всегда удивляло, как легко их обогнать или поймать. Просто не верилось, что они на самом деле стараются убежать.
Агий за львом свои обязанности помнил. Едва раздался лай сторожевой собаки, он тотчас поднял голову. Но звук этот доносился с другой стороны, да и прекратился почти сразу же... Он поправил на себе одежду, взял щит и копье... На лестнице никого не было.
Малыш тихонько притворил за собой тяжелую дверь и потянулся закрыть щеколду. Она и отполирована и смазана отлично, так что закрылась без звука... Теперь можно дальше, в спальню.
Горит одна-единственная лампа; высокая подставка из блестящей бронзы обвита позолоченным виноградом и опирается на позолоченные оленьи ноги. В комнате тепло, и вся она полна какой-то странной жизнью. Не только люди, нарисованные на стенах, но и занавеси из темносиней шерсти тоже, кажется, дышат, и огонек лампы дышит... А мужские голоса, приглушенные тяжёлой дверью, кажутся здесь не громче шопота.
Густо пахнет душистыми маслами, ладаном и мускусом; углями смолистой сосны из бронзовой жаровни; румянами и притираниями из афинских флаконов; чем-то едким, что она сжигала для колдовства, её телом и волосами... Ножки её кровати, инкрустированные слоновой и черепаховой костью, опираются на резные львиные лапы... А сама она спит, волосы разметались по вышитой наволочке. Никогда раньше он не видел, чтобы она так крепко спала; а она спит так сладко - вроде и не теряла Главкоса...
Он остановился, наслаждаясь своим тайным и безграничным обладанием. Сейчас он здесь хозяин, единственный.
Вот на туалетном столике из оливы горшочки и бутылочки; всё вычищено и закрыто... Позолоченная нимфа держит мерцающую луну серебряного зеркала... На табурете сложена шафрановая ночная рубашка... А из задней комнаты, где спят её женщины, доносится тихое похрапывание.
Его взгляд скользнул к незакрепленной плите пола возле очага, под которой живут запретные вещи. Ему часто хотелось поколдовать самому. Но Главкос может убежать, надо отдать его маме...
Он подошёл тихо-тихо. Он сейчас невидимый страж и властелин её сна. На груди у неё мягко колышется покрывало из куньего меха, обшитое пурпуром с золотой каймой... На гладкой коже лба темнеют тонкие брови; веки почти прозрачны, так что сквозь них, кажется, просвечивают дымчато-серые глаза... Ресницы зачернены, плотно сжатые губы цвета разбавленного вина... А прямой нос словно нашептывает что-то при дыхании, почти совсем беззвучно. Ей двадцать один год сейчас.
Покрывало на груди чуть-чуть сдвинулось с того места, где в последнее время почти всегда лежала головка Клеопатры. Теперь Клеопатра ушла к своей няне-спартанке, и его царство снова принадлежит только ему.
Её густые тёмнорыжие волосы словно струились с подушки ему навстречу и играли сполохами, отражая мерцающий огонёк лампы. Он потянул прядь своих волос и положил их рядом с мамиными. У него они, как золото без полировки, тяжёлые и тусклые. Ланика по праздникам всегда ворчит, что они не держат завивку, а у мамы упругие локоны... Спартанка говорит, что у Клеопатры будут такие же, но сейчас там у неё вообще какой-то пух непонятный. А то бы он её возненавидел, если бы она стала похожа на маму больше, чем он сам. Но, может быть она ещё умрёт?... Ведь маленькие часто умирают. А там, где тень, - там её волосы совсем другие, очень тёмные...
Он оглядел огромную фреску на внутренней стене: разорение Трои. Её Зевксий сделал для Архелая, люди там в натуральную величину. Где-то вдали громоздится Деревянный Конь; ближе - греки вонзают в троянцев мечи, бросаются на них с копьями или уносят на плечах женщин с кричащими ртами; а на самом переднем плане старик Приам и младенец Астианакс корчатся в собственной крови. Такой цвет вокруг них. Насмотревшись, он отвернулся. Он родился в этой комнате, так что в картине нет ничего нового.
Главкос опять зашевелился под плащем; ну да, рад что домой вернулся... Малыш ещё раз глянул на лицо матери, потом сбросил свой простой наряд, потихоньку приподнял край покрывала и - по-прежнему обвитый змеей скользнул в постель.
Она обняла его, замурлыкала тихонько, зарылась носом и губами в его волосы... И дышать стала глубже... А он подвинулся так, что прижался макушкой к её подбородку, втиснулся между грудями, и прильнул к ней всем телом, до самых кончиков пальцев на ногах. Змее стало тесно между ними, она забеспокоилась и уползла.
Он почувствовал, что мама проснулась. А когда поднял голову - увидел её открытые серые глаза. Она поцеловала его и спросила:
- Кто тебя впустил?
Он приготовился к этому вопросу, когда она ещё спала, а сам он лежал, купаясь в блаженстве. Агий его не заметил, солдат за это наказывают. Полгода назад он видел из окна, как на учебном плацу одного гвардейца убивали другие, тоже гвардейцы. Уже столько времени прошло - он забыл, чем тот провинился; а может быть и тогда не знал. Но очень хорошо помнил маленького человечка вдали, привязанного к столбу; и людей, стоявших вокруг, тоже маленьких из-за расстояния, с дротиками у плеча; и пронзительную резкую команду, а потом одинокий вскрик; а потом - поникшую голову и густой красный дождь, когда они окружили его, вытаскивая свои дротики.
- Я сказал, что ты меня звала.
Имён называть не надо. Он любил поболтать, как все малыши, но очень рано научился придерживать язык.
Кожей головы он ощутил, как шевельнулась её щека: она улыбалась. Когда она разговаривала с отцом, он почти каждый раз замечал, что она где-то лжёт; и считал это её особым искусством, вроде змеиной музыки на костяной флейте.
- Мам, а ты поженишься со мной? Не сейчас, а когда вырасту? Когда мне будет шесть?
Она поцеловала его шею возле затылка и провела пальцами вдоль спины.
- Когда тебе будет шесть, спросишь меня ещё раз. Четыре - это слишком мало для помолвки.
- В месяце льва мне уже пять! И я тебя люблю!...
Она ещё раз поцеловала его, без слов.
- Мам, а правда ты меня любишь больше всех?
- Я тебя очень-очень люблю. Может быть даже съем.
- А больше всех? Ты любишь меня больше всех?
- Когда ты хорошо себя ведёшь.
- Нет!... - Он сел на неё верхом, обхватив коленями, и стал колотить по плечам. - Взаправду больше всех! Всех-всех! Больше, чем Клеопатру!...
- Ещё чего! - Но в голосе её было больше нежности, чем упрёка.
- Да, да! Любишь!... Ты любишь меня больше, чем царя! - Он редко говорил "отец", если мог без этого обойтись; и знал,что это её вовсе не сердит и не огорчает. И сейчас ощутил её беззвучный смех.
- Может быть, - сказала она.
Ликуя, он скользнул вниз и снова прижался к ней.
- Если пообещаешь, что любишь больше всех, я тебе что-то дам... Хорошее...
- Ой, тиран! И что же это будет?
- Смотри. Я нашёл Главкоса, он приполз ко мне в кровать.
Он откинул одеяло и показал змею. Та снова обвилась вокруг его талии, ей там понравилось, было уютно. Полированная голова оторвалась от белой груди мальчика, приподнялась и тихо зашипела на Олимпию.
- Вот это да!... Где ты его взял? Это же не Главкос. Главкос такой же, верно, но этот гораздо больше...
Они оба смотрели на свернувшуюся змею. Мальчика переполняла тайная гордость. Он погладил поднятую шею, как учили, и змеиная голова снова опустилась ему на грудь.
Губы Олимпии приоткрылись, а зрачки расширились так, что серые глаза стали черными. Ему показалось, что в этих глазах колышется мягкий шелк. Она выпустила его из объятий, чуть отодвинулась и неотрывно смотрела на него.
- Этот змей тебя знает, - прошептала она. - Сегодня он пришел к тебе не в первый раз, будь уверен. Он и раньше приходил, когда ты спал. Смотри, как он льнет к тебе, он хорошо тебя знает... Это твой демон, Александр.
Мерцала лампа; в жаровне головешка упала на угли и взметнула голубое пламя... Змея быстро сжала его, словно делилась каким-то секретом. Её чешуйки струились, как вода.
- Я буду звать его Тюхе, - сказал малыш. - И буду давать ему молоко из моей золотой чашки. А он станет говорить со мной?
- Откуда мне знать? Но это твой демон, наверняка. Послушай, я тебе расскажу...
Приглушенные шумы громко вырвались из Зала: там раскрыли двери. Мужчины кричали друг другу "доброй ночи", перекидывались шутками или пьяными насмешками... Этот шум нахлынул на них, и запертое убежище уже не казалось таким безопасным.
Олимпия смолкла, теснее прижала его к себе. Потом тихо сказала:
- Не обращай внимания. Он сюда не придёт.
Но малыш чувствовал, как она замерла, напряжённо прислушиваясь. Послышался звук тяжёлых шагов, потом ругань - это он споткнулся, -потом стук и шлёпанье сандалий - это Агий резко поставил копьё на пол и взял на караул...
Тяжёлые шаркающие шаги поднялись по лестнице, дверь распахнулась. Царь Филипп захлопнул её за собой и, не глядя в сторону кровати, начал раздеваться.
Олимпия натянула покрывало до подбородка. Малыш на какой-то миг обрадовался, что лежит спрятанный; глаза его округлились от страха. Но потом - хотя с одной стороны его грел мягкий мех покрывала, а с другой душистое тело матери, - ему стало не по себе: так он не мог не только встретить, но даже увидеть угрозу. Он чуть-чуть смял покрывало, чтобы получилась щелочка: лучше знать, чем гадать.
Царь стоял совсем голый - одна нога на мягком табурете возле туалетного столика - и развязывал ремешок сандалии. Чернобородое лицо склонено на бок, чтобы видеть, что делает; а к кровати обращён слепой, пораненный глаз.
Уже больше года малыш бегал возле борцовской площадки, когда кто-нибудь из надёжных людей забирал его от женщин. Одетое тело или обнажённое - это было ему безразлично; разве что можно было посмотреть на боевые шрамы. Однако нагота отца, которую он видел не так уж часто, всегда внушала ему отвращение. А теперь, с тех пор как при осаде Метоны ему повредили глаз, он стал просто страшен. Сначала он закрывал этот глаз повязкой, из-под которой беспрерывно текли слезы, подкрашенные кровью, оставляя дорожку вниз к бороде. Потом слезы кончились, и повязка исчезла. Веко, пробитое стрелой, стянуто теперь красным рубцом, а ресницы склеены жёлтым гноем. Ресницы чёрные; такие же чёрные, как здоровый глаз, как борода, как густые волосы на ногах, на руках и на груди... И такие же чёрные волосы проходят дорожкой вниз по животу, к густым зарослям, словно в паху растёт ещё одна борода. Руки его и шея, и ноги покрыты толстыми рубцами - белыми, красными, лиловыми... А сейчас он еще и рыгал, наполняя воздух запахом винного перегара и обнажая щербину во рту. Малыш, прильнувший к своей смотровой щели, вдруг понял, на кого похож его отец. Это же великан-людоед, одноглазый Полифем, который похватал моряков Одиссея и сожрал их живьём!
Мама приподнялась на локте, попрежнему укрытая до подбородка.
- Нет, Филипп, не сегодня. Сейчас не время.
- Не время?... - Он ещё не отдышался от лестницы, подниматься после такого ужина было тяжко. - Ты это говорила полмесяца назад. Ты что думаешь, сука молосская, я считать не умею?
Малыш почувствовал, как ладонь матери, до сих пор обнимавшая его, сжалась в кулак. Когда она снова заговорила, голос был драчливый.
- Это ты считать умеешь, бурдюк несчастный? Да ты сейчас зиму от лета не отличишь! Иди-ка ты к своему дружку, у него все дни одинаковы!
Малыш ещё почти ничего не знал о таких вещах, но как-то чувствовал, о чём речь. Нового отцовского друга он не любил: тот был заносчив, и ощущалось, что их с отцом связывает какая-то мерзкая тайна, Всё тело матери, с ног до головы, напряглось и отвердело. Он затаил дыхание.
- Ты, кошка дикая!... - рявкнул Филипп.
Малыш увидел в щелочку, как он бросился на них, словно Полифем на свою жертву. Он ощетинился, всё на нём стояло дыбом; даже писька, висевшая в чёрной мохнатой промежности, поднялась сама собой, стала громадной и торчала вперёд; это было непонятно и страшно. Он подошёл и откинул покрывало с простыней.
Малыш лежал, прижавшись к матери, прикрытый её рукой. Отец его с проклятием отшатнулся и вытянул руку - но показывал не на них: в их сторону до сих пор был обращён его слепой глаз. И малыш понял, почему мама не удивилась, почувствовав рядом с собой змею. Главкос был уже там, в постели. Спал наверно.
- Как ты смеешь?... - хрипло выдохнул Филипп. Для него это был тошнотворный удар. - Как ты смеешь затаскивать эту мерзость в мою постель? Ведь я запретил!... Колдунья!... Варварка!... Ведьма!...
Голос его оборвался. Взгляд, притянутый ненавистью в глазах жены, обратился наконец в их сторону, и он увидел ребёнка. И вот они смотрели друг на друга. Два лица. Одно - грубое, покрасневшее от вина и от ярости, а теперь ещё и от стыда; другое - яркое, как драгоценный камень в золотой оправе, сероголубые глаза распахнуты и неподвижны, кожа прозрачна, тонкие черты мучительно напряжены...
Бормоча что-то невнятное, Филипп инстинктивно потянулся за одеждой, чтобы прикрыть свою наготу, но в этом уже не было надобности. Жена его обидела, оскорбила, выставила на посмешище, предала... Если бы под рукой у него был меч, он сейчас мог бы её убить.
Живой пояс мальчика, встревоженный светом и шумом, снова зашевелился и поднял голову. До сих пор Филипп его не замечал.
- Это что такое?! - Его указующий перст дрожал. - Что это на мальчишке? Одна из твоих тварей?! Теперь ты и его хочешь превратить в сельского мистагога, чтобы выл и плясал со змеями?... Этого я не потерплю, запомни мои слова, нето пожалеешь!... Клянусь Зевсом, я не шучу. Мой сын - грек, а не горец!... Не один из твоих варваров-конокрадов...
- Варваров?!... - Голос её зазвенел, а потом спустился на свистящий шопот; так Главкос шипел, когда сердился. - Мой отец... Слышишь ты, крестьянин?... Мой отец - потомок Ахилла, а мать из царского рода Трои. Мои предки правили уже в те времена, когда твои ещё батрачили в аргосских деревнях!... Ты в зеркало смотрелся когда-нибудь? Ведь сразу видно, что ты фракиец! И уж если мой сын грек - так это от меня, у нас в Эпире чистая кровь!
Филипп заскрипел зубами. От этого подбородок стал квадратным, а скулы и без того широкие - ещё шире. Несмотря на смертельное оскорбление, о присутствии ребёнка он не забыл.
- Я не унижусь до того, чтобы отвечать тебе, - сказал он. - Если ты гречанка, то и веди себя как гречанка, будь хоть чуточку пристойнее. - Из постели смотрели две пары глаз, и отсутствие одежды его стесняло. Греческое образование, греческое мышление, греческие манеры... Я хочу, чтобы у мальчика всё это было, как у меня...
- О, Фивы!... - Она швырнула это слово, будто ритуальное проклятие. Опять ты о своих Фивах, да?... Но ведь я уже о них знаю, более чем достаточно. В Фивах тебя сделали греком, в Фивах ты научился манерам... В Фивах!... Ты никогда не слышал, что говорят о твоих Фивах афиняне? Это же притча во языцех по всей Греции, образец грубости и бескультурья!... Неужто ты сам не понимаешь, насколько смешон?!
- Афиняне - болтуны. Им бы лучше постыдиться говорить о Фивах.
- Это тебе бы лучше постыдиться! Вспомни, кем ты там был...
- Да, заложником был, пешкой в чужой политической игре. Ну и что с того?... Я что - виноват в этом?... Я, что ли, заключал тот договор?... Мой брат так решил, а ты меня попрекаешь! Мне ж и было-то всего шестнадцать... Но ко мне там относились - я от тебя ничего похожего ни разу в жизни не видел. И они научили меня воевать... Чем была Македония, когда умер Пердикка, ты не помнишь?!... Ты не знаешь, что он проиграл иллирийцам?!... Что вместе с ним полегло четыре тысячи человек?!... У нас же долины были не паханы, люди боялись спуститься из горных крепостей... Ничего уже не оставалось, кроме овец, только в овечьи шкуры и одевались, да и овец едва могли прокормить... Ещё немного - иллирийцы и последнее отобрали бы, Барделий уже готовился напасть!... а теперь - ты сама знаешь, кем мы теперь стали и где теперь наши границы. И это всё благодаря Фивам! Благодаря тем людям, которые сделали меня солдатом, там! Это они дали мне возможность прийти к тебе царём! Твоя родня была тогда мне рада, скажешь нет?!...
Малыш, прижавшись к матери, почувствовал, как она втягивает воздух, и понял, что с хмурого неба вот-вот грянет невиданная буря. И буря грянула:
- Так они там сделали тебя солдатом, да?!... А кем ещё?!... Кем ещё?!... - Он чувствовал, как она дрожит от ярости. - Ты уехал на юг в шестнадцать лет, но к тому времени уже вся страна была полна твоих ублюдков! Думаешь, я их не знаю?... А эта блядь - Арсиноя, Лагова жена, - она тебе в матери годилась!... А потом великий Пелопид научил тебя всему, чем славятся просвещённые Фивы!... Всему, верно?... Всему!! Битвы и мальчики!!!...
- Умолкни!!! - Филипп кричал, словно на поле боя. - Ты хоть бы ребёнка постеснялась!... Что он видит здесь у тебя?!... Что слышит?!... Я сказал, мой сын будет воспитываться по-гречески! И если мне придется...
Но его перебил её смех. Она приподнялась, опершись на обе руки, и подалась вперёд. Рыжие волосы упали на обнажённую грудь, на лицо мальчика, широко раскрывшего рот и глаза... А она хохотала взахлёб, пока всё помещение не заполнилось эхом.
- Твой сын?! - воскликнула. - Твой сын!...
Царь Филипп дышал так, словно только что пробежал длинную дистанцию. Он шагнул вперёд, поднял руку...
Малыш, до сих пор лежавший совершенно неподвижно, во мгновение ока сбросил с себя покрывало материнских волос и вскочил на ноги. Теперь он стоял на постели, с побелевшим ртом, а серые глаза, расширившись, казались чёрными. Он ударил отца по занесённой руке, и тот от неожиданности отдёрнул руку.
- Уходи! - закричал мальчик, дрожа от неистовой ярости, словно дикий кот. - Уходи! Она тебя не любит, ты ей не нужен, уходи! Она поженится со мной!...
Долгие три вдоха Филипп стоял, как вкопанный, словно его оглушили дубиной. Потом нагнулся вперёд, схватил малыша за плечи, подбросил, подхватил одной рукой, - а другой распахнул громадную дверь и вышвырнул его наружу. Застигнутый врасплох, окаменевший от неожиданности и ярости, мальчик не пытался сопротивляться. Он упал на край лестничной площадки и покатился вниз по ступеням.
Агий с грохотом бросил копьё, выдернул руку из ремней щита и кинулся наверх - через три-четыре ступени за шаг, - чтобы подхватить ребёнка. Он поймал его на самом верху, на третьей ступеньке, и поднял на руки. Голова вроде не ушиблена, глаза открыты... А царь Филипп стоял на площадке, придерживая дверь рукой. Он не закрыл её, пока не убедился, что всё в порядке; но малыш этого не видел.
Змея, подхваченная вместе с ним, испуганная и ушибленная при падении, отцепилась от него и скользнула вниз по лестнице, исчезнув в темноте.
Агий, придя в себя, понял, что произошло. Тут было о чём подумать. Он снёс малыша вниз, сел на ступеньку лестницы, положил его себе на колени и оглядел при свете факела, воткнутого в кольцо на стене. На ощупь мальчишка был, как деревянный, а глаза закатились кверху, так что не было видно зрачков.
"Во имя всех богов подземных, - думал Агий, - что мне теперь делать? Если оставлю пост - мне не жить; капитан об этом позаботится. Но если его сын умрёт у меня на руках - позаботится царь..." В минувшем году, до того как началось правление нового фаворита, Филипп положил было глаз на него; но он прикинулся, будто не понял. А теперь вот увидел много лишнего... "Ну и везёт мне, - думал он, -нечего сказать. Теперь за мою жизнь и мешка бобов никто не даст."
Губы мальчика посинели. В дальнем углу был брошен толстый шерстяной плащ, на случай холодных ночей. Агий подобрал плащ, проложил между ребёнком и своим нагрудником, а потом обмотал вокруг себя.
- Ну... - сказал он. - Ну, смотри, ведь всё хорошо!...
Кажется, мальчишка не дышит. Что делать? Пошлёпать его по щекам, как делают с женщинами, когда у них припадок смеха?... А вдруг он вместо того умрёт?... Но глаза мальчика задвигались, появились зрачки, напряжённый взгляд... Он хрипло вдохнул - и вдруг яростно закричал.
Вздохнув облегчённо, Агий распустил плащ, чтобы дать свободу бившемуся ребёнку; а сам стал разговаривать с ним, словно с испуганным конём, держа его не слишком крепко, но чтобы тот чувствовал сильные руки. Сверху из-за двери доносились громкие проклятья его родителей... Через какое-то время Агий его не считал, у него впереди была ещё большая часть ночи, - через какое-то время эта ругань затихла. Малый заплакал было, но не надолго; он уже пришёл в себя и скоро успокоился - только кусал нижнюю губу, сглатывая последние слезы и глядя вверх на Агия. А тот вдруг начал вспоминать, сколько же лет малому.
- Такие дела, мой юный командир, - мягко сказал он, тронутый почти взрослым страданием на детском лице. Он вытер это лицо своим плащом и поцеловал, пытаясь представить себе, как будет выглядеть это золотое дитя, когда дорастёт до возраста любви. - Давай, милый. Мы с тобой подежурим вместе. И друг другу поможем, верно?
Он снова закутал малыша, погладил... Через какое-то время покой и тепло, и неосознанная чувственность ласки молодого воина, и неясное сознание, что тот больше восхищается им, чем жалеет, - всё это начало залечивать громадную рану, в которую превратилось было всё существо малыша. Рана стала затягиваться, боль отходила. Вскоре он выглянул из-под плаща и огляделся.
- А где мой Тюхе?
Что имеет в виду этот странный мальчуган, призывая свою судьбу? Но малыш, увидев озадаченное лицо Агия, добавил:
- Мой демон, змей, куда он делся?
- А-а! Твой змей... - Агий считал всё это царицыно зверьё невыносимой мерзостью. - Он пока спрятался. Скоро вернется. - Он укутал мальчика поплотнее, тот начал дрожать. - Ты не принимай всё это слишком близко к сердцу, знаешь?... Отец твой вовсе так не хотел, у него нечаянно получилось, это вино в нем буянит. Мне от моего еще не так доставалось.
- Когда я вырасту большой... - Малыш умолк и стал считать на пальцах до десяти. - Когда вырасту, я его убью.
Агий тихо охнул, прикусив губу.
- Тс-с-с!... Не говори такого, никогда. Боги проклинают тех, кто убивает оца своего. Насылают Фурий... - Он начал описывать их, но остановился, увидев, как раскрылись глаза мальчугана; это было слишком страшно для него. - А все эти удары, что мы получаем, пока маленькие, - они нам только на пользу, дорогой мой! Так мы учимся переносить боль, раны переносить когда на войну пойдем... Глянь-ка. Повыше, вот здесь. Посмотри, как мне досталось. В самом первом бою, мы тогда с иллирийцами сражались.
Он приподнял край красной шерстяной юбочки и показал длинный шрам на бедре, с ямкой на том месте, где наконечник копья прошел почти до кости. Мальчуган с почтением посмотрел на шрам и потрогал его пальцем.
- Вот видишь, - сказал Агий, опуская юбочку. - Сам понимаешь, как это больно. А почему я не закричал и не осрамился перед товарищами? Что меня тогда удержало? Да отцовские оплеухи, вот что. Потому что к боли привык. Тот парень, что меня проткнул, - он не успел никому похвастаться. Это был мой первый. А когда я принёс домой его голову - отец подарил мне пояс для меча, а детский мой поясок принес в жертву. И устроил пир для всей нашей родни.
Он посмотрел в тёмный коридор. Неужто никто не придёт забрать мальчонку и уложить его в постель?
- Ты моего Тюхе не видишь? - спросил малыш.
- Он где-то близко. Он же домашний, а они далеко от норы не уходят. Он придёт за своим молоком, вот увидишь. А ты молодец!... Не каждый мальчик может приручить домашнего змея. Наверно в тебе кровь Геракла, не иначе.
- а как звали его змея?
- Когда он только-только родился, ну совсем новорожденный был, к нему в колыбель заползли две змеи.
- Две? - Малыш нахмурился, сдвинув тонкие брови.
- Да. Но то были плохие змеи. Это Гера, Зевсова жена, их наслала, чтобы задушили его насмерть. Но он схватил их возле головы, по одной в каждую руку...
Агий умолк, проклиная свою болтливость. Теперь мальчишку будут мучить кошмары... Или - ещё того хуже - пойдёт душить какую-нибудь змею, что из этого получится?...
- Нет, ты послушай! Это так случилось только потому, что он был сыном бога. Понимаешь? Он считался сыном царя Амфитриона, но это Зевс зачал его на царице. Понимаешь? Вот Гера и ревновала...
Малыш разволновался.
- И ему пришлось столько работать! - сказал он. - А почему он работал так много и так трудно?
- Ну, Эврисфей, следующий царь, завидовал... Потому что сам-то он был хуже Геракла, понимаешь?... Ведь Геракл был герой, наполовину бог... А Эврисфей был смертный, понимаешь?... Это Геракл должен был стать царём. Но Гера сделала так, что Эврисфей родился первым. Потому Гераклу и пришлось совершать свои великие труды.
Мальчик кивнул, словно всё уже ясно.
- Надо было их совершить, чтобы доказать, что он лучше, да?
На эти слова Агий не ответил. Он услышал наконец шаги начальника ночной стражи, совершавшего очередной обход.
- Тут никто не появлялся, - объяснил он. - Не пойму, что нянька делает. Малый бегает по дворцу в чём мать родила, посинел от холода... Говорит, что ищет своего змея.
- Вот сука ленивая!... Ладно, я растолкаю какую-нибудь рабыню, чтобы пошла подняла её. Царицу беспокоить не время, поздно слишком.
Он зашагал прочь, звеня оружием. Агий поднял малыша на плечи и похлопал по попке.
- Сейчас пойдёшь спать, Геракл. Давно пора.
Малыш соскользнул вниз и обнял Агия за шею. Агий не сказал, как его обидели. Не выдал! Такому другу можно отдать всё... Но у него ничего не было кроме тайны, и он поделился этой тайной:
- Если мой Тюхе вернётся, скажи ему где я. Он знает, как меня зовут.
Птолемей, сын Лага (во всяком случае так полагалось думать), ехал на своём новом коне в сторону озера Пеллы. Конь гнедой, отличный конь, ему надо двигаться побольше... А там, вдоль берега, хорошее ровное место, есть где разгуляться. Коня подарил сам Лаг. В последние годы он стал получше относиться к сыну, а детство Птолемея было совсем безрадостным.
Птолемей - крупный юноша восемнадцати лет, смуглый, с сильным профилем, который с годами огрубеет. Он уже взял на копьё своего первого вепря, так что сидит теперь за столом вместе с мужчинами; и убил первого врага в одной из пограничных стычек, так что сменил мальчишечий поясной шнурок на красный кожаный пояс для меча. В прорези пояса кинжал с рукоятью из рога... Все говорят, что Лаг может гордиться таким сыном. И они прекрасно ладят друг с другом, и оба ладят с царём.
Между озером и сосняком он увидел Александра и поехал навстречу: тот махал ему рукой. Он очень любил этого странного мальчугана, так непохожего на всех остальных. Для семилетнего он слишком развит, хотя ему ещё и нет семи; а в сравнении с более старшими ребятами слишком мал... Сейчас он бежал навстречу по илистой почве, запекшейся летом в твёрдую корку вокруг чахлого тростника; а его громадный пёс раскапывал полевых мышей и время от времени догонял его, чтобы сунуть запачканный нос ему в ухо. Он мог это сделать, не отрывая передних лап от земли.
- Хоп! - Юноша подхватил мальчика и посадил перед собой на ковровый чепрак. Они ехали рысью; искали, где можно будет пустить коня в галоп. - А этот пёс твой, он ещё растёт?
- Да!... Ты посмотри, какие у него лапы громадные. Он ведь ещё не дорос до них, правда?
- Ты был прав. Он настоящий молосский с обеих сторон, точно. У него и грива отрастает...
- Как раз на этом самом месте, где мы сейчас, тот дядька собирался его утопить.
- Если не знаешь, от кого щенки, не всегда окупается их выращивать...
- Тот сказал, он никуда не годится. Уже и камень привязал!
- Но в конце концов кого-то покусали, так я слышал. Мне бы не хотелось, чтобы такой пёс меня укусил, честное слово.
- Он тогда слишком маленький был кусаться. Это я укусил. Смотри, здесь можно поскакать!
Пёс, радуясь возможности вытянуть длинные лапы, помчался рядом с ними вдоль широкой лагуны, соединявшей Пеллу с морем. Они неслись во весь опор, пугая птиц громким топотом коня. Из камыша с криком, хлопая крыльями, взлетали чайки, дикие утки, длинноногие цапли и журавли... А мальчик громко распевал пеан гвардейской конницы: неистовое крещендо, специально подобранное к аллюру кавалерийской атаки. Лицо его пылало, волосы развевались, серые глаза стали голубыми, - он сиял.
Птолемей придержал коня - пусть отдохнёт - и начал его расхваливать. Александр ответил так, как мог бы выражаться опытный конюх... Птолемей часто чувствовал себя в ответе за него, то же самое почувствовал он и теперь.
- Отец твой знает, что ты проводишь столько времени с солдатами?
- Да, конечно! Он сказал, что Силан может поучить меня бросать в мишень, а Менест может брать с собой на охоту. Я бываю только с друзьями.
Да, пожалуй лучше было не трогать эту тему... Птолемею уже не раз доводилось слышать, что царь предпочитает видеть мальчика даже в самой грубой компании - только бы не оставлять его с матерью целыми днями. Он послал коня легким галопом, и так они двигались, пока в копыто не попал камень. Пришлось спрыгнуть вниз и заняться этим, а Александр остался наверху. И вдруг спросил:
- Птолемей, а это правда?... Ты на самом деле мой брат?
- Что?!
Он так вздрогнул, что выпустил коня, и тот зарысил прочь. Мальчик тут же подхватил поводья, твердо придержал коня, конь пошёл шагом... Но Птолемей, смущённый, не стал подниматься, а шагал рядом. Мальчик, заметив что-то неладное, серьёзно сказал:
- Так говорили в караулке.
Они двигались молча. Александр чувствовал, что Птолемей не так сердит на него, как чем-то напуган; и терпеливо ждал. Наконец Птолемей ответил:
- Говорить они могут, меж собой. Но мне они этого не скажут, и ты не говори. Мне пришлось бы убить того, кто скажет такое.
- Почему?
- Ну, так надо. Вот и всё.
Мальчик молчал. Птолемей с тревогой понял, что очень обидел его. Об этом-то он не подумал, и в голову не пришло!...
- Ну, - сказал он неловко, - ну что ты? Такой большой уже мальчишка и не знаешь почему?... Ты ж пойми, я бы рад был, чтобы мы с тобой были братья, ты тут не при чём, не в тебе дело. Но моя мать - она жена отца моего отца, так?... Значит, если я твой брат, то я байстрюк, так?...Ты знаешь, что это такое?
- Да, - сказал Александр. На самом-то деле он знал только, что это смертельное оскорбление, но не знал почему.
Чувствуя неловкость, с трудом подбирая слова, взялся Птолемей выполнять свой братский долг. На все прямые вопросы Александр получил прямые ответы. Все нужные слова он уже знал - слышал в караулках от своих взрослых друзей, - но плохо представлял себе, что они значат. Казалось, он до сих пор думал, что для рождения ребёнка нужно ещё какое-то волшебство. Птолемей, управившись с этой темой, удивился, что мальчик так долго и сосредоточенно молчит.
- Ты что? Вот так мы все родились, и ничего постыдного тут нет - такими нас создали боги... Но женщина должна это делать только со своим мужем, иначе ребёнок получается байстрюком. Как раз потому тот дядька и хотел утопить твоего пса: боялся, чтоб не испортилась порода.
- Да, - сказал мальчик; и снова задумался.
Птолемею было не по себе. В детстве, когда Филипп был всего лишь младшим сыном, да ещё и заложником к тому же, его нередко заставляли страдать; но он давно уже перестал стыдиться своего происхождения. Будь его мать не замужем, царь теперь мог бы признать его своим сыном, и ему было бы вовсе не о чем жалеть. Тут был только вопрос приличий; и он чувствовал, что нехорошо обошёлся бы с малым, не растолковав ему всё до конца.
Александр смотрел прямо перед собой. Запачканные мальчишечьи руки по-хозяйски держали поводья и делали всё сами, не отвлекая его от мыслей. Умная ловкость и сила этих крошечных ручонок казалась сверхъестественной, от нее оторопь брала. А сквозь детскую мягкость его лица уже проглядывал чёткий профиль, который переживёт тысячелетия.
"Вылитая мать, от Филиппа вовсе ничего," - подумал Птолемей.
И тут его пронзила мысль, словно молния сверкнула. С тех пор как оказался за одним столом с мужчинами, он постоянно слышал разговоры о царице Олимпии. Чего только о ней не рассказывали!... Непонятная, неистовая, жуткая; дикая, словно фракийская менада; может на тебя Глаз наложить, если встанешь у нее на пути... С царем наверно так и получилось, когда он впервые увидел ее при свете факелов в пещере, во время мистерий на Самофраке. Он же с первого взгляда голову потерял. Даже не успел узнать, откуда она, какого рода... Правда, он тогда привез ее в свой дом с триумфом, с ценным союзным договором... Говорят, в Эпире женщины еще совсем недавно правили сами, без мужчин. А в ее сосновом бору кимвалы и бубны звучат иногда всю ночь напролет, и из комнат ее часто флейту слышно, звуки странные такие... Говорят, она совокупляется со змеями... Это, конечно, бабушкины сказки, - но что происходит там, в соснах?... Быть может, мальчик, до сих пор бывший при ней неотлучно, уже знает больше чем надо?... Или до него только сейчас дошло?...
Словно он отвалил камень от устья пещеры, что ведёт в Преисподнюю, и выпустил на волю рой теней, - перед его мысленным взором носились тучи кошмарных, кровавых историй, уходивших в глубину веков. Это были рассказы о борьбе за Македонский престол. О том, как племена сражались друг с другом за Верховное Царство; о том, как убивали родню свою, чтобы стать Верховным Царём. Бесконечные войны, отравления, массовая резня и предательские копья на охоте; ножи в спину, в темноте, на ложе любви... Он не был лишён честолюбия, но мысль о том, чтобы нырнуть в этот поток, заставила содрогнуться. Опасная догадка!... И где, какие могут быть доказательства?... Но вот рядом мальчик, ребёнок, и ему надо помочь. Только это и надо, а всё остальное - забыть!
- Послушай, - сказал он. - Ты умеешь хранить тайну?
Александр поднял руку и старательно произнёс клятву, подкрепленную смертным проклятием.
- Это самая сильная, - сказал он под конец. - Меня Силан научил.
- Даже слишком сильная. Я тебя от неё освобождаю, ты с такими клятвами поосторожней. А теперь слушай. Меня мать на самом деле от твоего отца родила. Он тогда совсем мальчишкой был, всего пятнадцать ему было. Это ещё до того, как он в Фивы уехал.
- Фивы, - эхом отозвался Александр.
- В этом смысле он очень взрослым был для своих лет, и все это знали. Ты не расстраивайся, ничего плохого тут нет. Мужчина не может ждать до свадьбы. Я тоже ждать не стал, если хочешь знать. Но моя мать уже была замужем, за отцом. Так что если говорить об этом - это их бесчестит, понимаешь? Есть вещи, за которые мужчина обязан убить; и вот такие разговоры - одна из них. Понимаешь ты или нет сейчас, почему это так, - это не важно. Так оно есть, и всё тут.
- Я не буду говорить, - пообещал Александр. Глаза его, уже сидящие глубже чем обычно у детей, неподвижно смотрели вдаль.
Птолемей теребил в руках ремень уздечки и горько размышлял: "Ну а что мне оставалось делать? Что я мог ему сказать? Ведь всё равно узнал бы от кого-нибудь другого..." Но тут мальчишка, ещё сохранившийся в нём, пришёл на помощь отчаявшемуся взрослому. Он остановил коня.
- Послушай. А вот если бы мы поклялись в кровном братстве - это мы могли бы говорить хоть кому. - И добавил с умыслом: - Но ты знаешь, что нам придётся сделать?
- Конечно знаю! - обрадовался мальчик. Собрав поводья в левой руке, он вытянул правую и отогнул наружу сжатый кулачок, так что на сгибе прорезалась голубая вена. - Давай! Сейчас же, сразу!
Любуясь, как мальчик светится гордостью и решимостью, Птолемей вынул из-за пояса новый острый кинжал.
- Постой, Александр. Это очень серьёзное дело, подумай. Твои враги будут моими, а мои твоими, до самой смерти нашей. И мы никогда не поднимем оружия друг на друга, даже если родня наша будет воевать. А если я умру в чужой земле - ты исполнишь для меня все обряды, и я для тебя сделаю то же. Вот что значит побратимство, понимаешь ты это?
- Клянусь! Давай, режь.
- Так много крови не нужно. Погоди.
Он не стал трогать подставленную вену, а сделал легкий надрез по белой коже. Мальчик не дрогнул. Улыбался. Резанув себя возле ладони, Птолемей приложил свою рану к ране Александра.
- Ну всё, дорогой! Вот мы и братья!
"Как здорово, - подумал он. - Это какой-то добрый демон меня надоумил. Теперь никто не сможет подойти и сказать, что он всего лишь царицын байстрюк, а я царёв, так что мне надо заявлять свои права."
- Садись, брат, - сказал мальчик. - Он уже отдышался. Сейчас как поскачем!...
Царские конюшни на широкой площади построены из кирпича, оштукатурены, с каменными пилястрами. Сейчас там почти пусто: царь проводит учения. Как всегда, когда у него появляется новая тактическая идея.
Вообще-то Александр как раз на эти учения и шёл, - хотел посмотреть, но по дороге задержался возле кобылы с новорожденным жеребёнком. И рядом не было никого, кто мог бы сказать, что она опасна в такой момент, - везет же иногда!... Он проскользнул к ней, приласкал сначала её саму, а потом стал гладить жеребёнка; а её тёплые ноздри шевелили ему волосы. Потом она подтолкнула его головой, - хватит, мол, - он выбрался от них и пошёл дальше.
На утоптанном дворе - где пахнет конской мочой и соломой, кожей, воском и дёгтем, - только что появились три чужих коня. Их протирали конюхи-чужеземцы, в длинных штанах. А сбрую чистил свой, раб из конюшни. Уздечки очень интересные, украшены диковинно: на оголовьях золотые пластинки и султаны из красных перьев, а на удилах крылатые быки. И кони замечательные - рослые, сильные, свежие... Понятное дело, раз ведут с собой подменных.
Дежурный офицер дворцовой стражи заметил конюшему, что варварам придётся долго ждать, пока царь вернётся.
- Фаланга Бризона, - вмешался в разговор мальчик, - никак не управится до сих пор со своими сариссами. Их научить - много времени уйдет. - Сам он пока что мог поднять это гигантское копьё только за один конец.- А эти кони откуда?
- Из самой Персии. Послы от Великого Царя приехали. За Артабазом и Менаписом.
Эти сатрапы бежали в Македонию после неудачного мятежа. Царь Филипп считал их полезными для себя, а мальчику было интересно с ними.
- Но они же гости, - удивился он. - Отец не отдаст их Великому Царю, чтобы тот их убил. Скажи этим людям, чтоб не ждали.
- Нет, Александр. Как я понимаю, их простили, они могут свободно вернуться домой. Но послов принять надо в любом случае, с чем бы они ни приехали. Иначе просто нельзя...
- Но отец до полудня точно не вернётся. Наверно даже позже, из-за гвардейской пехоты. Они ещё не научились сомкнуто-расчленённому строю. Сходить мне за Менаписом и Артабазом?
- Нет-нет, что ты! Послов сначала царь должен принять. Пусть, эти варвары увидят, что и мы тут знаем, как что делается. Аттий, этих лошадей разместишь отдельно, чужеземцы вечно какую-нибудь болячку завозят.
Мальчик всласть насмотрелся на коней и на сбрую - и задумался. Потом вымыл ноги под водяной трубой, оглядел свой хитон, пошёл к себе и надел новый, чистый. Он часто слышал, как люди расспрашивали сатрапов, и те рассказывали о роскоши Персеполя. Тронный Зал с виноградом и деревьями из чистого золота; лестница, по которой может подниматься целая кавалькада; ритуалы странные какие-то... Ясное дело, они там привыкли к церемониям. Он причесался - насколько мог без посторонней помощи, превозмогая боль, - и решил, что готов.
Зал Персея, где принимают гостей, - это шедевр Зевксия. Сейчас здесь два фригийских раба, украшенные синей татуировкой, под присмотром дворецкого ставят на низенькие столики печенье и вино... Послы сидят в почётных креслах, а на стене над ними Персей спасает Андромеду от морского дракона. Он - один из предков; но говорят, что и Персию тоже он основал. Похоже, что те его потомки сильно изменились. На самом Персее нет ничего кроме крылатых сандалий, а послы одеты с головы до ног; в мидийское платье, которого их изгнанники здесь не носили. Только лица и кисти рук открыты, а всё остальное тело сплошь закрыто одеждой, а одежда - шитьём. Круглые чёрные шляпы усеяны блёстками... Даже бороды, завитые в мелкие колечки, похожие на раковины улиток, тоже кажутся вышитыми; туники с длинными рукавами обшиты бахромой... А ноги упрятаны в штаны, сразу видно что варвары.
Кресла три, но сидят только двое бородатых. Третий, молодой помощник, стоит за спиной старшего из послов. У него длинные, иссиня-чёрные шелковистые волосы; кожа цвета слоновой кости, лицо надменное и тонкое, и тёмные яркие глаза.
Старшие были заняты беседой, потому молодой первым увидел мальчика, стоявшего в дверях, и засиял навстречу чарующей улыбкой.
- Да продлятся дни вашей жизни, - сказал мальчик, входя в зал. -Я Александр, сын Филиппа.
Бородатые лица повернулись к нему; оба посла тотчас встали и призвали солнце светить на него; дворецкий, придя в себя, представил их Александру.
- Пожалуйста, сядьте. Вы должно быть устали с дороги. Отдыхайте...
Он часто слышал эти слова, так что тут ошибки быть не может, но они почему-то стоят... Потом он понял: они ждут, чтобы он сел первый! Такого с ним никогда прежде не случалось. Он вскарабкался на кресло, поставленное для царя. Носки сандалий не доставали до пола; дворецкий подозвал раба, чтобы подставил под ноги скамеечку.
- Я пришёл развлечь вас, потому что отец занят. Он армейские учения проводит. Мы ждём его к полудню, но может и задержаться. Это от гвардейской пехоты зависит, как они освоят сомкнуто-расчленённый строй. Сегодня они уже должны быть получше, очень серьёзно работали в последние дни.
Послы свободно говорили по-гречески - как раз поэтому их и выбрали для этой миссии, - но теперь оба напряжённо подались вперёд. Они не совсем были уверены, что правильно поймут македонский диалект, со своеобразными дорийскими гласными и жёсткими согласными. Но мальчик говорил очень чисто и ясно.
- Это сын кого-нибудь из вас? - спросил он.
Старший из послов учтиво ответил, что это сын друга, и представил его. Юноша снова улыбнулся, глубоко поклонился, но сесть отказался - стоял и смотрел на него, сияя глазами.
Послы восхищённо переглянулись. Прелестный сероглазый принц, крошечное царство, провинциальная наивность... Ведь это же просто очаровательно - царь сам обучает войска! И ребёнок хвастается этим. Быть может, он похвастается ещё и тем, что царь сам себе еду стряпает...
- Почему вы не кушаете печенье? Я тоже возьму... - Он откусил совсем маленький кусочек; не хотел, чтобы рот был полон. Но его представления об этикете были не настолько обширны, чтобы включать в себя беспредметный светский разговор, потому он сразу перешёл к делу: - Менапис и Артабаз будут рады узнать, что их простили. Они часто о доме вспоминают. Я думаю, они никогда больше не восстанут, и вы можете сказать это царю Окию.
Старший из послов всё понял, несмотря на странноватый язык. Он улыбнулся в чёрные усы и сказал, что передаст, непременно.
- А как насчёт генерала Мемнона? Его тоже простили?... Мы думали, должны простить, раз его брат Ментор выиграл войну в Египте.
Посол замигал, словно глазам своим не веря, - потом сказал, что родосец Ментор, конечно же, очень ценный наёмник, и Великий Царь без сомнения благодарен ему.
- Мемнон женат на сестре Артабаза. Знаете, сколько у него детей?... Двадцать один! И все живы! Здорово, правда?... У них всё время двойняшки получаются. Одиннадцать мальчиков и десять девчонок! А у меня только одна сестра... Но, по-моему, это вполне достаточно.
Оба посла сочувственно кивнули. Они знали о домашних неурядицах царя Филиппа.
- Мемнон говорит по-македонски, знаете?... Он мне рассказывал, как проиграл свою битву.
- Мой принц, - улыбнулся старший посол. - Военному делу надо учиться у победителей!
Александр задумчиво посмотрел на него. Его отец никогда не жалел времени на то, чтобы разобраться, где проигравший сделал неверный ход. Вообще-то, Мемнон обманул его друга при покупке коня, так что сейчас хорошо было бы рассказать, как он проиграл свою битву. Но этот дядька как-то противно разговаривает, как с маленьким. Вот молодому он бы рассказал...
Дворецкий отослал рабов, а сам остался; на случай, если надо будет вмешаться. Мальчик грыз понемножку свое печенье, обдумывая самые важные вопросы: на все могло времени не хватить.
- А сколько людей в армии Великого Царя?
Этот вопрос поняли оба посла, и оба улыбнулись. Правда может быть только на пользу: мальчуган наверняка запомнит всё сказанное сейчас на всю жизнь.
- Неисчислимо, - сказал старший. - Как песок у моря или звезды в безлунную ночь.
Они рассказывали ему о мидийских и персидских лучниках; о кавалерии на крупных конях из Нисайи; о воинах из внешних пределов империи, киссийцах и гирканийцах; об ассирийцах - у них шлемы бронзовые, с накладками, а палицы с железными шипами; о парфянах - у них луки и кривые сабли; об эфиопах в леопардовых и львиных шкурах, которые перед боем раскрашивают себе лица красным и белым, - у них стрелы с наконечниками из камня; об арабских верблюжьих отрядах, о бактрийцах... И так далее, до самой Индии. Мальчик сидел, широко раскрыв глаза, как любой ребёнок, слушающий рассказы о чудесах, пока они не умолкли.
- И все они должны сражаться, когда Великий Царь призовёт их?
- Каждый. Под страхом смерти.
- Но сколько же времени нужно, чтобы всех их собрать?
Возникла неожиданная пауза. Прошло уже сто лет со времени похода Ксеркса, так что ответа они и сами не знали. Потом сказали, что Великий Царь правит обширными владениями и народами многих наречий... Из Индии, например, дорога до побережья может длиться целый год... Но войска есть повсюду, где они могут понадобиться.
- Выпейте ещё вина. А до самой Индии проложена дорога?
Их беседа длилась уже довольно долго, и слух о ней разлетелся по дворцу; так что теперь возле дверей толпились люди. Послушать.
- А каков в бою царь Окий? Он храбрый?
- Как лев, - разом ответили послы.
- Каким крылом кавалерии он командует?
Вот так вопрос! Ужас, что за мальчишка!... Послы заговорили уклончиво. Мальчик откусил усочек побольше... Он знал, что с гостями нельзя быть слишком настойчивым, и потому сменил тему:
- А если солдаты приходят из Аравии, из Индии, из Гиркании - и не знают персидского, - как же он говорит с ними?
- Говорит с ними?... Царь?... - Это было просто трогательно, как маленький стратег снова задавал младенческие вопросы. - Видишь ли, сатрапы в тех провинциях подбирают им таких командиров, чтобы умели говорить на их языке.
Александр склонил голову набок и свёл брови.
- Солдаты любят, чтобы с ними говорили перед боем. Они любят, чтобы ты знал их по имени...
- Не сомневаюсь, - сказал второй посол с чарующей улыбкой. - Чтобы ты знал их по имени, они любят. - И добавил, что великий Царь беседует только с друзьями.
- С ними мой отец беседует за ужином!
Послы пробормотали в ответ что-то невнятное, не решаясь посмотреть друг на друга. Македонский двор прославился своим варварством. Ходили слухи, что царские пиры больше смахивают на пирушки горных бандитов, занесенных снегом вместе с добычей своей, чем на званые обеды государя. Один грек из Милета рассказывал им - и клялся, что сам это видел, - будто царь Филипп, не задумавшись, встаёт со своего ложа, чтобы принять участие в общей пляске... Однажды во время спора, который шёл на крике через весь зал, он швырнул гранат в голову одному из своих генералов... Но это ещё не всё! С бесстыдством своей лживой расы, этот милетец до того договорился, будто тот генерал кинул в ответ ломоть хлеба - и жив остался!... Даже остался генералом!... Если верить, хотя бы половине - всё равно, лучше промолчать.
Александр тем временем боролся с тяжкой проблемой. Рассказал это Менапис; но он не поверил и теперь хотел убедиться. Изгнанник мог постараться представить Великого Царя в дурацком виде. Но эти люди на него донесут - и его распнут, когда он вернётся домой. Нельзя же предавать гостя!... И потому он сказал так;
- Один мальчик мне рассказывал, что когда люди приветствуют Великого Царя - они должны ложиться на землю. Но я ему сказал, что он дурак.
- И совершенно напрасно, мой принц. Наши изгнанники могли бы объяснить мудрость этого обычая. Наш повелитель правит не только многими народами, но и многими царями. Хотя мы называем их сатрапами, многие из них по крови цари; их предки когда-то правили сами, пока те страны не вошли в состав империи. Поэтому Великий Царь должен быть так же возвышен над другими царями, как те цари над своими подданными. Простираясь перед ним, люди должны испытывать не больше стыда, чем падая ниц перед богами. Если бы он казался не достоин такого поклонения - не долгим было бы время его власти.
Мальчик выслушал и понял. И ответил учтиво:
- Ну ладно. Только мы здесь не падаем ниц перед богами. Так что и вам не надо падать перед моим отцом. Он к этому не привык. Он не рассердится.
Послы с трудом сдержались, чтобы не рассмеяться. Мысль о том, чтобы пасть ниц перед этим варварским вождём, предок которого был вассалом Ксеркса - и вероломным вассалом, кстати говоря, - эта мысль слишком была нелепа, чтобы оскорбиться.
Дворецкий, решив что пора, шагнул вперёд, поклонился мальчику - тот вполне это заслужил по его мнению, - и сочинил какое-то дело, которое здесь объяснить нельзя. Соскользнув со своего трона, Александр попрощался со всеми, назвав каждого по имени.
- Мне очень жаль, что не смогу вернуться к вам. Надо идти на учения, у меня есть друзья в гвардейской пехоте. Сарисса - очень хорошее оружие в плотном строю, так отец говорит; но надо сделать этот строй подвижным, вот в чем штука... Так что он будет работать с ними, пока у них не получится. Надеюсь, вам не придется ждать слишком долго. Пожалуйста, распоряжайтесь здесь, как у себя дома. Вам принесут всё, чего захотите.
Выходя из Зала, он обернулся, увидел, что юноша провожает его взглядом, - и задержался, чтобы помахать ему рукой. Послы, взволнованно говорившие по-персидски, были слишком заняты, чтобы увидеть, как они улыбнулись друг другу.
В тот же день, под вечер, он был в дворцовом парке. Вокруг стояли резные эфесские вазы с редкостными цветами, которые погибают суровой макдонской зимой, если не занести их под крышу, - но это было не интересно. Он учил своего пса находить брошенные вещи, когда увидел, что сверху, от дворца, к нему идет отец.
Он подозвал пса к ноге, и так они ждали, стоя бок о бок; оба напряженные, настороженные.
Филипп сел на мраморную скамью и показал сыну место рядом с собой, со зрячей стороны. Слепой глаз уже зажил; только бельмо на нем указывало место, куда попала стрела. Попала на излете, потому он и остался жив.
- Ну-ка, иди, иди сюда, - сказал он, обнажив в улыбке крепкие белые зубы. - Расскажи-ка, что они там тебе говорили... Я слыхал, ты задал им несколько трудных вопросов - расскажи, что они ответили. Так сколько воинов будет у Окия, если ему придется воевать?
Обычно он разговаривал с сыном по-гречески, чтобы тот учился языку, но сейчас говорил по-македонски. Это подкупило мальчика, и он начал рассказывать. Про десять тысяч Бессмертных, про лучников и пращников, про бойцов с дротиками и топорами; про то, как атакует верблюжья кавалерия и как индийские цари выезжают на чёрных безволосых зверях, таких громадных, что несут целые башни у себя на спине... Здесь он покосился на отца: не хотел показаться слишком легковерным. Филипп кивнул:
- Знаю, слоны. Про них говорили люди, проверенные на честность, так что это правда. Давай дальше, всё это очень полезно.
- А ещё они сказали, что люди, которые приветствуют Великого Царя, должны ложиться на землю лицом. А я им сказал, что перед тобой так не надо. Я боялся, что кто-нибудь не выдержит и рассмеётся - а они обидятся.
Филипп хлопнул себя по колену, закинул голову назад и расхохотался так, что всё тело заходило ходуном.
- Так они не стали этого делать? - спросил мальчик.
- Нет. Но ты же их от этого уволил!... Всегда превращай необходимость в собственную добрую волю - увидишь, что тебя ещё и благодарить будут за это... Ну, им с тобой повезло. Они от тебя отделались легче, чем послы Ксеркса от твоего тёзки в Эгах.
Он устроился поудобнее, вроде собрался рассказывать. Мальчик нетерпеливо подвинулся, потревожив пса, державшего нос у него на ноге.
- Когда Ксеркс навёл переправу через Геллеспонт и привёл свои орды, чтобы проглотить Грецию, - он прежде всего разослал послов по всем народам. "Землю и воду" требовал. Горсть земли за поля и фляжку воды за реки; это как обряд. И обет подчинения, понимаешь?... По дороге на юг, нас он проходил мимо; но мы оставались у него за спиной, так что он хотел обезопаситься. Вот он и прислал семерых послов. Это было, когда царствовал первый Аминт.
Александру хотелось спросить, был ли этот Аминт его прадедом, но он знал, что спрашивать без толку. Никто никогда ничего не скажет прямо о твоих предках - кроме самых первых, героев и богов. Пердикка, старший брат его отца, погиб в бою и оставил после себя сына-младенца. Но македонцам нужен был кто-то, кто мог бы отразить иллирийцев и править царством; потому они попросили отца стать царём вместо того малыша. Это он знал. А что было раньше - ему всегда отвечали, что узнает, когда подрастёт.
- В те дни здесь, у Пеллы, никакого дворца ещё не было. Только крепость наверху, в Эгах. Мы тогда держались из последних сил. Западные вожди, в Орестиде и Линкастиде, полагали, что они сами цари; иллирийцы, фракийцы и пеоны каждый месяц переходили границу, угоняли скот и уводили людей в рабство... Но по сравнению с персами это были забавки детские; а Аминт, насколько я знаю, к защите не подготовился. Пеонов можно было бы призвать в союзники, - но к тому времени, когда явились послы, Пеонию персы уже покорили. Так что он не стал сопротивляться, а принёс вассальную присягу. Ты знаешь, что такое сатрап?
Пёс вскочил, ощетинившись, и свирепо огляделся вокруг. Мальчик успокоил его.
- Сына Аминта звали Александр, как и тебя. Ему было тогда лет четырнадцать-пятнадцать, у него уже своя гвардия была. Аминт устроил послам пир в Эгах, в крепости, и он тоже там был, Александр.
- Значит, он уже убил кабана?
- Откуда я знаю?... Но это ж был государственный приём, наследник должен там присутствовать.
Мальчик знал Эги почти так же, как Пеллу. Все храмы богов, где устраиваются празднества в их честь, были наверху, в Эгах. И все царские усыпальницы тоже там. Древние курганы, на которых растёт только трава - их постоянно очищают от всего другого, - а под ними входы, как пещеры, с массивными дверями из узорчатой бронзы и мрамора. Было поверье, что если царя Македонии похоронят где-нибудь в другом месте, не в Эгах, то линия царей оборвётся. Когда летом в Пелле становилось слишком жарко, они перебирались наверх, за прохладой. Ручьи там никогда не пересыхают. Сбегают из поросших папоротником горных ущелий, холодные от снегов наверху; вприпрыжку скатываются по камням, мимо домов, через двор крепости; потом сливаются вместе и низвергаются высоким водопадом, закрывающим священную пещеру словно завесой... А крепость старая, мощная, с толстыми стенами, - не то что легкий, окруженный колоннами дворец... В большом зале круглый очаг, а в крыше над ним отверстие для дыма... Когда люди шумят там во время пира, все звуки отдаются эхом... Он представил себе, как персы с завитыми бородами и в усыпанных блестками шляпах осторожно идут по неровному полу.
- На пирах, как ты знаешь, пьют. И то ли послы не привыкли к вину, как мы пьем; то ли просто обнаглели - решили, что теперь могут делать что угодно, раз получили без хлопот всё за чем пришли... Так или иначе, один из них спросил, где же придворные дамы. Сказал, что в Персии принято, чтобы они присутствовали на пирах.
- Персидские дамы остаются на пьянку?!
- Это была наглая ложь. Он и не ждал, что ему поверят, просто куражился. Персидские женщины показываются на людях еще меньше, чем наши.
- Так наши мужчины стали драться?
- Нет. Аминт послал за женщинами. В Пеонии женщин уже не осталось: всех угнали рабынями в Азию, потому что их мужчины не покорились Ксерксу. По правде сказать, он тоже ничего не смог бы. Армии у него, считай не было; как мы её понимаем. Только дружина из его собственных владений, да племенные ополчения. А вожди обучали их, как хотели, - если хотели, - а могли и вовсе не привести, если не захотят. Это не он взял гору Пандей с золотыми рудниками. Я это сделал. Золото, мальчик мой, - это мать армий. Я плачу своим людям круглый год - война или не война, - и они дерутся за меня, под моими офицерами. А на юге их распускают во время затишья; и наёмники сами ищут себе работу, где кто найдёт. Так что они сражаются за своих бродячих генералов; а те часто бывают хороши - ничего не скажешь, - но всё равно, наёмник остается наемником. В Македонии я сам генерал. И как раз потому, сынок, послы Великого Царя не приходят больше требовать землю и воду.
Мальчик задумчиво кивнул. Бородатые послы были вежливы по этикету, по обязанности; но молодой - нет, с молодым по-другому...
- И дамы на самом деле пришли?
- Пришли. Как ты понимаешь, пришли оскорблённые; чтобы причесаться или ожерелье какое надеть - об этом у них и мысли не было. Думали показаться на момент и сразу уйти...
Александр представил себе мать, чтобы её вызвали таким вот образом. Он сомневался, что она показалась бы там, даже чтобы спасти весь народ от рабства. Но уж если бы пошла - обязательно причесалась бы и надела бы все драгоценности, какие есть у неё.
- Когда они узнали, что должны остаться, - продолжал Филипп, - прошли, как подобает порядочным женщинам, к дальним скамьям, у стены...
- Это где пажи сидят?
- Ну да. Один старик, которому его дед рассказывал, показал мне, как всё это было. Мальчики встали, чтобы уступить им место. Послы начали им разные комплименты выкрикивать, чтобы лица открыли... Если бы их собственные женщины позволили себе такое перед чужими - они бы им носы пообрезали. Да-да!... Ещё и похуже сделали бы, можешь мне поверить!... И вот в таком унижении видел свою мать и сестёр своих, и всех своих родственниц юный Александр. Он в такой был ярости, что даже упрекнул отца. Но если персы это и заметили - не придали значения. Кто обращает внимание на щенка, если пёс молчит?!... А один сказал царю:"Мой македонский друг! Лучше бы ваши дамы не приходили совсем, чем сидеть вот так мучением для наших глаз. Наши дамы беседуют с гостями... Не забывай, ты отдал нашему царю землю и воду - так привыкай жить по нашим обычаям!"
- Сказал он это - и меч из ножен потянул, слегка так. Можешь себе представить, какая настала тишина. Царь подошёл к женщинам, развёл их и рассадил в ногах у персов, на их ложах застольных. В южных городах так флейтистки и танцовщицы сидят. Персы начали руки распускать... Принц это видел, так что друзья его еле сдерживали... Но он вдруг успокоился. Подозвал к себе ребят из своей охраны, выбрал семерых, безбородых ещё, и отослал. Потом подошёл к отцу - а тому, конечно, тошно было, если в нём хоть капля стыда ещё оставалась, - подошёл и говорит: "Государь, ты устал. Тебе не обязательно сидеть до конца, оставь гостей на меня. Они всё получат, что им причитается, слово даю".
- Ну, у Аминта появилась хоть какая-то возможность спасти лицо своё... Он, правда, предупредил сына, чтобы тот не учинил чего-нибудь опрометчиво, но сам извинился и ушёл. Послы конечно решили, что теперь уж вообще всё дозволено. А принц вроде и не сердился больше... Подошёл - сплошная улыбка обошёл все ложа... "Дорогие гости, - говорит, - вы оказали честь нашим матерям и сестрам. Но они так рвались проявить свои чувства, так торопились, что теперь им просто неловко перед вами за свой вид. Давайте отошлём их пока. Пусть выкупаются, прикрасятся, оденутся как подобает... Когда они вернутся, вы сможете сказать, что здесь, в Македонии, вас приняли по заслугам".
Александр сидел напряжённо, с сияющими глазами. Он уже догадался, что затеял принц.
- У послов было вино, да и вся ночь впереди, так что они возражать не стали. А потом в зал вошли семь женщин, в покрывалах, но в роскошных платьях. Вошли и разошлись по кругу; по одной на ложе к каждому послу. Но даже тогда - хотя они своей наглостью уже лишили себя всех прав, какие имеют гости, - даже тогда он ещё подождал; смотрел, как они будут дальше себя вести. А когда всё стало ясно - подал сигнал. Парни в женских платьях выхватили кинжалы... И покатились те послы по блюдам, по раздавленным фруктам и пролитому вину. Считай, без единого крика. И пикнуть не успели.
- Вот здорово! - обрадовался мальчик. - Так им и надо!
- У них конечно была какая-то свита в зале - так двери заперли. Чтобы в Сардисе ничего не узнали, в живых нельзя было оставить никого. А потом можно было сказать, что они попали в руки бандитов, когда возвращались через Фракию. Когда всё было закончено, их зарыли в лесу. Как рассказывал мне тот старик, юный Александр сказал тогда: "Вы пришли за землёй и водой - хватит с вас одной земли".
Филипп закончил свой рассказ и теперь любовался реакцией сына. С тех пор как научился говорить, мальчик всю свою жизнь, постоянно слушал рассказы о мести. В Македонии не только в каждом древнем роду, но и в каждом крестьянском селении были свои истории такого рода. Он всегда воспринимал их, как театральные представления; и теперь на его пылающем лице отражались видения, проносившиеся перед глазами.
- Значит, когда царь Ксеркс пришёл, Александр стал воевать с ним?
Филипп покачал головой.
- Нет. К тому времени он уже стал царем, и знал что ничего не сможет сделать. Так что пришлось ему повести своих людей за Ксерксом, вместе с другими сатрапами. Но перед великой битвой под Платеями он сам поехал ночью в лагерь греков и рассказал им расположение персидских войск. Может быть, как раз это и решило исход.
Мальчик покраснел и нахмурился с отвращением. Потом сказал:
- Ну что ж. Он, конечно, умно сделал. Только я бы лучше сразился с персами.
- Вот как? - улыбнулся Филипп. - Я, пожалуй, тоже. Если живы будем кто знает!...
Он поднялся со скамьи и оправил на себе отбеленную мантию с пурпурной каймой.
- Во времена моего деда спартанцы вступили в союз с Великим Царем, чтобы удержать свою власть на юге. А тот взял за это греческие города в Азии, которые до того были свободны. И с тех пор никто еще не смыл этого позора с лица Эллады. Никто не смог бы выстоять против Артаксеркса и спартанцев, когда они вместе. И я вот что тебе скажу. Эти города не освободить, пока все греки не объединятся вокруг общего вождя. Быть может, Дионисий Сиракузский был подходящий человек, но ему хватало хлопот с Карфагеном; а сын его - дурак, растерял всё что было... Но еще придет время!... Ладно, поживем-увидим. - Он улыбнулся и мотнул головой. - Слушай, неужто ты не мог найти никого получше, чем этот чудовищный урод? Я поговорю с нашим охотником и подыщу тебе настоящую собаку, хорошей породы.
Мальчик вскочил и загородил собой пса, ощетинившего загривок.
- Я люблю его!
В голосе Александра звучала не слабость, а смертельный вызов.
- Ну ладно, ладно, - сказал Филипп, пряча разочарование. - Этот зверь твой, и никто на него не покушается. Я просто подарок тебе предлагал.
Мальчик ответил не сразу, но в конце концов произнес:
- Спасибо, отец. Только я думаю, он будет ревновать и убьёт другого. Он ведь очень сильный.
Пёс уткнулся носом ему подмышку, и так они стояли рядом, не-разлей-вода. Филипп пожал плечами и пошёл во дворец.
А Александр со своим псом затеяли возню на траве. Пёс наскакивал и толкал его осторожно, словно играл с подрастающим щенком. Потом они упали рядом и задремали, обнявшись. Пригревало солнце. Перед глазами Александра снова проносились картины из отцовского рассказа. Зал в Эгах; разбросанные кубки, блюда, подушки; и персы валяются в запекшейся крови, как троянцы на стене у мамы... В дальнем углу зала, где убили челядь, сопровождавшую послов, ещё сражается тот юноша, что приехал сегодня. Он ещё жив, один, и держится против десятка нападающих... "Стойте! - закричал принц. - Не смейте его убивать, это мой друг!..." Когда пёс разбудил его, начав чесаться, - они как раз уезжали верхом на конях, украшенных перьями. Уезжали в Персеполь.
Нежаркий летний день клонился к вечеру. На солёное озеро Пеллы упала тень островной крепости, где сокровищница и тюрьма; в окнах вверх и вниз по городу засветились лампы; дворцовый раб вышел со смоляным факелом зажечь большие чаши, что держат сидящие львы у подножья парадной лестницы; с равнины доносилось мычание коров, их домой загоняли; а вдали на горах, обращённых к Пелле затенёнными восточными склонами, заискрились в серой мгле первые костры.
Мальчик сидел на крыше дворца и глядел вниз: на город, на лагуну, на маленькие рыбачьи лодки, возвращавшиеся к своим стоянкам... Ему пора было укладываться спать; поэтому он и прятался от няньки, надеясь повидаться с матерью. Быть может, она позволит ему не ложиться? А рабочие, чинившие крышу, ушли, не убрав лестниц. Разве можно упустить такой случай!...
Он сидел на черепице из пентеликского мрамора, что привез когда-то морем царь Архелай. Под бёдрами водосточный желоб, между коленками антефикс в форме горгоньей головы, краски ее поблекли под ветрами и дождем... Ухватившись за ее волосы-змеи, он глянул вниз, осваиваясь с высотой, с которой придется спускаться. Высоко. А страшно-то как!... Это, наверно, земные демоны пугают снизу. Но всё равно придется смотреть в их сторону на обратном пути, так что лучше сладить с ними заранее...
Вскоре они поддались. Эти твари всегда так, если сам не поддаешься. Он съел кусок черствого хлеба, который стащил себе вместо ужина. На ужин было горячее молоко с вином и медом, запах - ну до того заманчивый был!... Но даром ничего не дается: за ужином всегда ловят и отправляют спать.
Снизу донеслось блеяние. Значит черного козла уже привели. Теперь еще чуть-чуть - и пора. А заранее разрешения спрашивать - ну уж нет: никто никогда ничего не разрешает. Но уж если он будет там, она ж его не прогонит!...
Он начал осторожно спускаться по лестнице. Перекладины разнесены широко, в расчете на взрослого... Но побежденные земные демоны держались поодаль, так что он пел - не вслух, конечно - победный пеан. Ну вот, теперь с нижней крыши на землю... Там никого не было, кроме нескольких рабов, закончивших все дела и возвращавшихся к себе. Во дворце его наверняка ищет Гелланика, так что надо обойти снаружи... Она уже не могла с ним управиться; так мама говорила, он сам это слышал, своими ушами.
Зал был освещен. Внутри кухонные рабы болтали по-фракийски и двигали столы. А снаружи, прямо перед ним, обходил свой участок стражник. Это Менест шел навстречу, его издали можно было узнать по роскошной рыжей бороде. Мальчик улыбнулся ему и помахал рукой.
- Алекса-андр!... Алекса-андр!...
Голос Ланики донесся из-за угла, откуда он сам только что вышел, значит она сама пошла его искать. Вот-вот она его увидит, деваться некуда... Он кинулся бежать, но в то же время думал, искал выход. Есть выход - Менест!
- Быстро! - прошептал он. - Спрячь меня под щитом!
Не дожидаясь, пока Менест его поднимет, он вскарабкался на него и обхватил руками и ногами. Жесткая борода щекотала шею.
- Обезьяныш! - проворчал Менест, подавляя смех.
Он прижал его щитом, а сам привалился спиной к стене. И как раз вовремя. Гелланика прошла мимо, сердито ворча; но слишком хорошо была она воспитана, чтобы обращать внимание на солдат.
- Куда ты подевался?! Мне что, делать нечего?!...
Мальчик сжал на прощание шею Менеста, соскользнул на землю и умчался.
Он шёл кратчайшим путём, стараясь не вляпаться в грязь, - нельзя же приходить на богослужение запачканным! - и благополучно добрался в тот угол сада, где задний выход из покоев матери. Снаружи на ступенях уже ждали женщины; пока не много, и факелы ещё не зажжены. Он не стал подходить к ним, а спрятался за живой изгородью: он вовсе не хотел, чтобы его увидели, пока не придут в лес. А дорогу он и сам знал.
Неподалеку святилище Геракла, его предка по отцовской линии. Внутри маленького портика синяя стена темнеет в вечерних сумерках, но бронзовая статуя ярко блестит, и её агатовые глаза отражают последний свет. Царь Филипп освятил эту статую вскоре после того как вступил на престол. Ему было двадцать четыре тогда; а скульптор знал, как обращаться с заказчиком, - и сделал Геракла примерно того же возраста, только безбородого, по южной моде. Волосы статуи и львиная шкура позолочены... Клыкастая морда льва надета капюшоном на голову Геракла, а остальная часть шкуры плащом свисает на спину... Эту голову скопировали потом и стали чеканить на монетах Филиппа.
Здесь никого не было. Александр поднялся к святилищу и потёр большой палец на правой ноге героя, над краем пьедестала. Только что, на крыше, он взывал к нему - и Геракл сразу пришёл усмирить демонов; надо его отблагодарить... Этот палец был ярче всех остальных, его часто терли.
Из-за миртовой изгороди доносились тихие перезвоны систров и бромотанье бубна, когда по нему легонько проводили пальцами. Потом в распахнутых дверях появился горящий факел и превратил сумерки вокруг в чёрную ночь. Александр подполз к изгороди. Теперь подошли уже почти все. На женщинах были яркие тонкие платья; они собирались только плясать перед богом. На Дионисиях, уходя из Эг наверх в горы, они надевают настоящие платья менад, и держат в руках тростниковые тирсы с наконечниками из сосновых шишек и венки из плюща. И тех пятнистых одеяний, тех оленьих шкур больше уже не увидишь: их выбрасывают, когда они заляпаны кровью. А маленькие шкурки, надетые сейчас, хорошо выделаны и заколоты золотыми пряжками; тирсы - изящные жезлы, позолочены и украшены ювелирной работой... Вот появился уже жрец Диониса, за ним следом мальчик ведёт козла... Теперь все ждали, когда выйдет мать.
Она появилась, смеясь чему-то, вместе с Гирминой из Эпира. На ней шафрановое платье и позолоченные сандалии с гранатовыми пряжками; в волосах плющовый венок из золотых листьев - тонкие веточки дрожат, сверкая в свете факела, стоит ей шевельнуть головой, - а тирс её обвит маленькой змейкой из эмали. Одна из женщин, шедших следом, несла корзину с Главкосом; его всегда брали на эти пляски.
Девушка с горевшим факелом обошла по кругу всех остальных. Взметнулись снопы огня - и в ярком свете засияли глаза; и краски платьев - зелёные, красные, синие, жёлтые, - засверкали, как самоцветы. А из темноты выступала и словно парила в воздухе - будто подвешенная маска - чёрная козлиная морда. Печальная, мудрая, мерзкая; с позолоченными рогами, и глаза как топазы... На шее у него висел венок из молодых зелёных гроздьев винограда. Жрец и его мальчик-служка повели козла к бору; но козёл шёл впереди, словно сам вел за собой всех остальных. Женщины пошли следом, потихоньку разговаривая между собой. В такт их шагам мягко позванивали систры; в ручье возле фонтана квакали лягушки...
Они поднялись на открытый склон над дворцовым парком. Тропа вилась меж кустами мирта, тамариска и дикой сливы. Позади всех, держась в темноте, но видя дорогу в свете факелов спереди, бесшумно двигался мальчик.
Вот впереди показался лес - словно чёрная стена смутно проглядывала сквозь темноту, - мальчик сошёл с тропы и осторожно заскользил среди кустов. Рано попадаться на глаза.
Вот вошли в лес, подошли к поляне... Там они разошлись по кругу и закрепили свои факелы на стойках, воткнутых в землю. А мальчик залёг в ложбинке меж сосен, - на упругом ковре из сухой хвои, - лежал и смотрел.
Площадка для плясок убрана, алтарь увит гирляндами... Возле него поставлен нестроганный стол с чашами для вина и смесительным кратером, и со священными опахалами... А чуть дальше стоит на своём пьедестале Дионис; как всегда ухоженный, очищенный от птичьих следов, вымытый и отполированный так, что чуть коричневатое мраморное тело светится, словно живая плоть.
Олимпия привезла его сюда из Коринфа, где его изваяли под её надзором. Он был почти в человеческий рост. Юноша лет пятнадцати, светловолосый, с изящной мускулатурой танцора. На нём богато украшенные красные сандалии, и леопардовая шкура на плече... В правой руке длинный тирс, а в левой золочёная чаша: предлагает её, приглашая взять. А улыбается он не так, как Аполлон. Тот говорит: "Человек, познай себя, этого достаточно для краткой жизни твоей." А эта улыбка завлекает, манит - призывает разделить её тайну...
Они там встали в круг и запели призыв к богу; перед тем как принесут козла в жертву. С тех пор как здесь в последний раз проливалась кровь, алтарь отмыли дожди, так что козёл подошёл без боязни; только один раз закричал - дико, страшно, - когда нож уже вонзался в него. Кровь его собрали в плоскую чашу и смешали с вином для бога. Мальчик смотрел на это спокойно, опершись подбородком на руки. Жертвоприношений он видел много; и в общественных храмах и здесь, в бору. Его приносили сюда, когда он был ещё совсем маленьким; во время плясок он спал на хвойной подстилке, под грохот бубнов и пение флейт.
Вот зазвучала музыка... Девушки с бубнами и систрами, и ещё одна с двойной флейтой, начали мягко раскачиваться в такт собственной мелодии. Раскачивался и Главкос, подняв голову из открытой корзины. Музыканты играли всё громче, всё быстрее; руки танцовщиц сплелись на талиях, женщины били землю ногами, тела их изгибались то вперёд то назад, волосы разметались... Для плясок Диониса вино не разбавляют: ведь после жертвоприношения пьют вместе с богом! Скоро можно будет выйти к ним, теперь его уже ни за что не отошлют назад.
Девушка с кимвалами подняла их высоко над головой, они зазвенели раскатистой трелью... Он пополз вперёд, почти выбрался под свет факелов, но его ещё никто не видел. Хоровод двигался ещё медленно, чтобы хватало дыхания петь. Они славили триумф бога.
Мальчику почти всё было слышно, но он и так знал этот гимн: уже не раз слышал его здесь. После каждого куплета звенели кимвалы и раздавался припев, с каждым разом всё громче: "Эвой, Вакх! Эвой! Эвой!"
А запевала гимн его мама. Она звала бога сыном Семелы, рождённым от огня. Глаза её, и щёки, и волосы ярко сияли; а золотой венец и жёлтое платье отражали свет факелов, словно и сама она пылала огнем.
Гирмина из Эпира, размахивая чёрной гривой волос, пела, как младенца-бога прятали на острове Наксос, чтобы спасти от ревнивой Геры; как его охраняли поющие нимфы. Мальчик подполз поближе, к самому столу с винными чашами. Потом поднялся на ноги и заглянул на стол. Кубки и кратер были старинные, на них картины нарисованы... Он снял со стола один кубок и стал его рассматривать. Оказалось, что там есть ещё немного вина, на донышке. Он вылил пару капель на землю - возлияние богу, он знал, как себя надо вести, а остальное выпил. Неразбавленное вино было крепко, но сладко; ему понравилось. Похоже, богу тоже понравилось, что он его почтил: факелы стали ярче, а музыка и вовсе волшебной. Он почувствовал, что скоро тоже пойдет плясать, но пока отошел назад, в сосны.
А они тем временем пели, как дитя Зевса принесли в лесное убежище старого Силена. Тот учил его мудрости, пока малыш не превзошел своего учителя, открыв источник могущества в пурпурных гроздьях. Тогда все сатиры стали боготворить его за тот неистовый восторг, что он держал в руке своей. Песня вихрилась, хоровод крутился, словно колесо на хорошо смазанной оси... Мальчик начал отбивать такт ногой и хлопать в ладоши; пока один, сам с собой.
Бог вырос в юношу. Он стал прекрасен, - грациозен, словно девушка, - но горел тем пламенем молний, что было повитухой у матери его. Он вышел к людям, осыпая своими дарами всех, кто уверовал в его божественность. Но тех, кто его не принимал, он карал, словно лев пожирающий. Слава его разрасталась; он стал слишком заметен, чтобы можно было его и дальше скрывать от ревнивой Геры. По блеску и могуществу она узнала его и наслала на него безумие.
Музыка закручивалась спиралью, всё выше и быстрее; музыка звучала, словно предсмертный крик жертвы в ночном лесу, звенели кимвалы... А мальчик уже успел проголодаться, и пить тоже хотелось, - напрыгался в пляске своей, - он снова подбежал к столу, потянулся на цыпочки и взял ещё один кубок. На этот раз дыхание не перехватило; вино было словно пламя небесное, о котором пелось в гимне.
Безумный бог пошел через Фракию и Геллеспонт, через Фригийские горы на юг, в Карию... Его приверженцы, делившие с ним радости его, пошли за ним, чтобы разделить и его безумие... Это безумие приносило им восторг, потому что даже оно было божественным; и они не покинули бога. Азиатским берегом он прошёл в Египет... Тамошний мудрый народ принял его радушно; и он задержался там, чтобы познать их мудрость и научить их своей. Потом, исполненный божественного безумия, он двинулся по неизмеримым просторам Азии, на восток. Он шел и плясал - всё дальше и дальше, - обращая людей в свою веру, как огонь распаляет огонь. Он пересёк Ефрат, пройдя по мосту из плюща; он переплыл Тигр на спине тигра... И всё шёл и плясал - через равнины, через реки, через горы, высокие как Кавказ, - пока не пришёл в землю Индии, на самом краю мира. Дальше не было уже ничего; только Поток Океана, что опоясывает землю. Здесь проклятие Геры иссякло. Индийцы тоже стали поклоняться ему, дикие львы и пантеры кротко пришли влачить его колесницу... И так он вернулся со славой в эллинские земли, Великая Мать очистила его от всей крови, какую он пролил в безумии своем, и он наполнил радостью сердца людей.Cнова грянул припев, и на этот раз мальчик запел вместе со всеми. Голос его был пронзителен, как флейта рядом с ним. Хитон свой он сбросил, жарко было; от пляски, от факелов, от вина... Под ним крутились колеса колесницы, а ее везли львы; для него звучали пеаны, и реки поворачивали вспять, а народы Индии и Азии плясали под его песню... Его призывали менады - и он спрыгнул со своей колесницы, чтобы плясать вместе с ними. Они разомкнули свой вихрящийся хоровод, смеялись, что-то кричали ему... Потом круг снова сомкнулся, так что он смог очертить свой алтарь... И под их песню плясал он вокруг этого алтаря - топтал росу, творил колдовство своё, - пока весь лес не начал крутиться, так что он уже не знал, где небо, где земля. Но тут перед ним появилась Великая Мать, в венке из света, подхватила его на руки и принялась целовать; а он увидел на её золотой юбке красные следы от своих окровавленных ног. Это он, танцуя, наступил на то место, где приносили жертву, и ноги были теперь такими же красными, как сандалии у статуи бога.
Его завернули в плащ, уложили на мягкий хвойный ковёр, снова поцеловали... И тихо сказали, что даже богам надо спать, пока они ещё маленькие. Он должен остаться здесь и быть умницей, а скоро все-все пойдут домой.
В душистой хвое, в мягкой шерсти плаща было тепло; тошнота прошла, и факелы больше не качались... Теперь они, вроде, стали пониже, но горели по-прежнему ярко и дружелюбно. Выглянув из-под плаща, он увидел, что женщины уходят в лес, в сосны, обнявшись или взявшись за руки. Потом, через годы, он старался вспомнить, слышал ли тогда другие голоса, чтобы отвечали женщинам в лесу. Но воспоминания были обманчивы и каждый раз - при каждой попытке вызвать их - говорили разными голосами. Во всяком случае, ему не было ни страшно, ни одиноко: поблизости слышался шепот и смех. И последнее, что он видел, закрывая глаза, - танцующее пламя.
2
Ему исполнилось семь, в этом возрасте мальчиков забирают из-под женской опеки. Пора делать из него грека.
Царь Филипп снова был на войне; на северо-восточном, халкидийском побережье. Считалось, что он защищает свои границы, хотя на самом деле это означало их расширение. Семейная жизнь его легче не стала. Ему часто казалось, что женился он не на женщине, а на сильном и опасном вожде-сопернике: воевать с ним теперь не станешь, а его шпионы знают всё. Из прежней девочки она выросла в женщину красоты ослепительной; но его всегда привлекала и возбуждала именно юность и свежесть, независимо от пола. Какое-то время он удовлетворялся мальчиками; потом - по обычаю предков завёл себе юную наложницу из хорошего рода, дав ей статус младшей жены. От уязвлённой гордости, от ярости Олимпии дворец дрожал, словно от землетрясения. Однажды ночью её видели возле Эг; шла с факелом к царским могилам. Это было древнее колдовство: написать проклятие на свинце и оставить духам, чтобы довершили дело. Говорили, что ребёнок был при этом с нею. При следующей встрече Филипп присмотрелся к своему сыну. Дымчато-серые глаза встретили его взгляд, не мигая. Чужие, немые... Когда он уходил чувствовал эти глаза на спине у себя.
Война в Халкидиках неотложна, но и мальчишку нельзя оставить!... Он был невелик для своих лет, но во всём остальном опережал сверстников до чрезвычайности. Гелланика научила его буквам и счёту; его высокий голос был чист, а слух безупречен; солдаты в гвардии и даже в армейских казармах, к которым он убегал едва не каждый день, обучили его своей крестьянской речи... Чему еще - об от этом можно было только гадать... Ну а чему он успел научиться у матери, об этом лучше было и вовсе не думать.
Когда македонские цари уходили на войну, они берегли спину; это было у них в крови. На западе иллирийцы были покорены в первые годы его правления. Теперь он собирался заняться востоком. Но оставались старые опасности, свойственные всем племенным царствам: заговоры в собственном доме и кровная вражда соседей. Если, уходя на войну, он заберёт мальчика у Олимпии и назначит ему воспитателем кого-нибудь из своих мужчин, - наверняка придётся иметь дело и с тем и с другим...
Филипп всегда гордился тем, что умеет увидеть, где можно обойти противника без боя. Подумав, что утро вечера мудренее, он заснул с нерешённой проблемой, а проснулся с мыслью о Леониде.
Это был дядя Олимпии - но ещё больший эллин, чем сам Филипп. В молодости, увлекшись скорее самой Грецией, чем её идеями, он поехал на юг; прежде всего в Афины. Там он приобрёл чистую аттическую речь, изучил ораторское искусство; и занимался в разных философских школах достаточно долго, чтобы решить, что все они способны лишь подорвать здоровые традиции и помешать поискам здравого смысла. Как это вполне естественно для человека с его происхождением, он приобрёл там друзей среди аристократов, среди потомственных олигархов, которые часто вспоминали добрые старые времена, оплакивали их и - как их предки во время Великой Войны - восхищались обычаями Спарты. Естественно, что оттуда Леонид поехал в Спарту. Но к этому времени он уже привык к возвышенным и роскошным развлечениям Афин: к драматическим фестивалям; к музыкальным конкурсам; к священным процессиям, обставленным как великолепные представления; к вечерним клубам, где за ужином сочинялись стихи, где состязались в остротах... Лакедемон показался ему безнадёжно провинциальным. Леонид был князем у себя в Эпире, был глубоко привязан к своей земле и своим обычаям, - расовое господство спартиатов над илотами было ему чуждо и противно. А фамильярная откровенность спартиатов друг с другом - и с ним тоже - произвела на него впечатление грубой невоспитанности. Здесь тоже величие было в прошлом, как и в Афинах. Словно старый пёс, побитый молодым, - который зубы ещё скалит, но держится подальше, - Спарта была уже не та, с тех пор как фиванцы подходили к её стенам. Меновая торговля отошла в прошлое, появились деньги, и стали цениться как везде; богатые скупили громадные земельные участки, бедные не могли больше вносить свою долю за общественную трапезу за общим столом и опускались до уровня нахлебников, - а вместе с гордостью теряли и отвагу свою... Но в одном отношении они остались такими же, как прежде. Они ещё не разучились воспитывать дисциплинированных мальчиков - смелых, закаленных и уважительных, - которые делали, что им скажут, сразу же и не спрашивая зачем; вставали при появлении старших; и никогда не заговаривали первыми, пока к ним не обратятся. Аттическая культура и спартанские обычаи, - думал он, но дороге домой, - если соединить их в податливой душе юноши - это даст совершенного человека.
Вернувшись в Эпир, он стал ещё более влиятелен: теперь не только его ранг уважали, но и восхищались эрудицией, привезенной из дальних странствий. К его мнению продолжали прислушиваться и тогда, когда все его знания давно уже устарели. Царь Филипп, имевший своих агентов во всех греческих городах, знал больше. Однако, поговорив с Леонидом, он обнаружил, что его собственный греческий звучит слишком по-беотийски; а у Леонида в безупречную аттическую речь совершенно естественно вплетались и эллинские афоризмы. "Ничего сверх меры", "Хорошее начало - половина дела", "Честь женщины в том, чтобы о ней не говорили ни плохого, ни хорошего"...
Здесь был отличный компромисс. С одной стороны, он окажет честь родне Олимпии. А с другой - Леонид, страстный поборник порядка обожающий поучать, вынудит ее вести себя, как подобает высокородной даме; да и самому Филиппу не помешает его придирчивый взгляд... С Леонидом ей будет труднее совать нос не в свое дело, чем с самим Филиппом!... И для мальчишки он подберет подходящих учителей через своих друзей-гостеприимцев, - у самого царя не было времени на это, - таких учителей, насчет которых можно не сомневаться в отношении политики и морали... Они обменялись письмами... И Филипп уехал со спокойной душой, распорядившись, чтобы Леониду был оказан приём как почётному гостю.
В тот день, когда Леонид должен был появиться, Гелланика достала самую лучшую одежду Александра и послала своего раба приготовить ему ванну. Когда она тёрла его мочалкой, вошла Клеопатра. Это была теперь плотная, приземистая девчушка, с рыжими волосами матери и коренастым сложением Филиппа. Она часто горевала из-за того, что мама любит Александра больше, чем её, и по-другому, - а когда горевала, всегда ела что-нибудь, ради утешения.
- Ты теперь уже школьник... - сказала она. - Теперь тебе нельзя в женские комнаты!...
Когда он видел, что ей плохо, он всегда утешал её: развлекал, веселил или давал что-нибудь. Но когда она начинала напоминать ему, что она женщина - и поэтому ближе к маме, - тут он её ненавидел.
- Я буду заходить, когда хочу. Кто это, по-твоему, меня не пустит?
- Твой учитель...
Она начала приплясывать вокруг ванны и распевать: "Твой учитель, твой учитель!..." Он выскочил, залив пол водой, схватил её и закинул в ванну, во всей одежде. Гелланика уложила его поперёк колена, мокрого, и отлупила своей сандалией. Клеопатра стала дразниться - тогда и ей досталось тоже; она с рёвом кинулась бежать, но служанка поймала её, раздела и завернула в полотенце.
Александр не плакал. Он очень хорошо понимал, почему приезжает его двоюродный дед. Ему не надо было объяснять, что если он не станет слушаться этого человека - мать его проиграет какую-то битву в своей войне; не надо было объяснять, что тогда следующая битва будет вестись за него. В душе его уже были шрамы от таких битв. Когда возникала угроза новой - шрамы эти болели, как старые раны перед дождём.
Гелланика начала расчёсывать ему спутанные волосы - он стиснул зубы. Он легко мог заплакать, услышав старую военную песню, где друзья, поклявшись, умирали вместе; или нежную мелодию флейты... Он плакал полдня, когда заболел и умер его любимый пёс... Он уже знал, что значит оплакивать павшего, - всё своё сердце выплакал по Агию, когда тот погиб... Но плакать из-за собственных ран - за это Геракл отказался бы от него. Такое условие давно уже входило в их тайный договор.
Но вот он выкупан, причёсан, наряжен, - его отвели в Зал Персея, где Олимпия с гостем сидели в почётных креслах. Мальчик ожидал увидеть старого учёного, но это оказался мужчина лет сорока с небольшим - чёрная борода едва тронута проседью, - похожий на генерала, который, правда, оставил службу, но готов хоть завтра вернуться в строй. Мальчик много чего знал об офицерах, в основном от их подчинённых. Но друзья хранили его секреты, - он их секретов тоже не выдавал.
Леонид был сердечен, поцеловал его в обе щеки, крепко взял за плечи, сказал, что уверен - он не посрамит своих предков... Александр учтиво всему этому подчинился. По его понятиям, он должен был это вытерпеть, как солдат на параде. Леонид и не надеялся, что спартанская подготовка начнётся так легко и гладко. Мальчик хоть и слишком красив, чтобы можно было оставлять его без надзора, - это рискованно, - но на вид здоровый и бодрый; и нет сомнений - очень толковый, так что учиться сможет отлично.
- Ты вырастила замечательного ребёнка, Олимпия. Судя по этой одежде, ты очень внимательна к нему... Но ведь это же всё для младенца, надо одеть его как большого.
Александр посмотрел на маму, которая своими руками вышивала его тунику из мягкой вычесанной шерсти. Она сидела очень прямо. Чуть-чуть кивнула ему и отвела глаза.
Леонид расположился во дворце, в отведенных ему покоях. Переговоры о подходящих учителях займут достаточно много времени: абы кого приглашать просто нельзя, а у достаточно видных людей собственные школы - их так сразу не бросишь... К некоторым надо будет еще присмотреться на предмет опасных мыслей... Но сам он должен начинать немедля: он видел, что давно уже пора.
Вышколенный вид оказался обманчивым. Мальчишка делал, что хотел. Поднимался с петухами или вовсе не спал дома; мотался с другими мальчишками, или даже со взрослыми, неизвестно где... Надо было признать, что несмотря на жуткую избалованность он отнюдь не маменькин сынок, - но речь его была просто ужасна. Мало того, что он почти не знал греческого. Но где он научился такому македонскому? Можно подумать, его зачали под стенами казармы!
Ясно, что одними уроками тут не обойдёшься. Всю его жизнь надо взять под жёсткий контроль, с утра и до ночи.
Теперь каждое утро, ещё до восхода, начиналось с зарядки. Два круга по беговой дорожке, упражнения с грузами в руках, прыжки и метания. Когда наконец подходило время завтракать - есть оказывалось почти нечего. Если он говорил, что остался голодным, ему предлагали сказать то же самое на хорошем греческом; а потом отвечали - на хорошем греческом, - что лёгкий завтрак полезен для здоровья.
Одежду ему поменяли на домотканую, шершавую, без всяких украшений. Царских сыновей в Спарте такой наряд вполне устраивал. Наступала осень, становилось всё холоднее и холоднее, а его закаляли - заставляли ходить без плаща. Чтобы согреться, приходилось всё время бегать; от этого голод становился ещё невыносимее, но есть давали не больше прежнего.
Леонид видел, что мальчик, подчиняется ему нехотя; без единой жалобы, но со стойким и нескрываемым отвращением. Было яснее ясного, что он сам и его режим - ненавистное наказание, которое Александр терпит только ради матери, собрав в кулак всю свою волю и гордость.
Леониду это не нравилось, но он не мог пробить возникшую стену. Он был из тех людей, у которых роль отца, взятая на себя однажды, напрочь стирает все воспоминания детства. Это могли бы ему сказать его собственные сыновья, если бы им хоть когда-нибудь удалось заговорить с ним. Он был готов выполнить свой долг в отношении Александра; и не представлял себе, что кто-нибудь другой мог бы сделать это лучше.
Начались уроки греческого. Вскоре выяснилось, что на самом деле Александр знает его очень прилично. Просто не любит. Но это же позор, сказал ему учитель, - раз отец его говорит так хорошо. Он моментально восстановил всё, что знал раньше; быстро научился писать; но постоянно мечтал о том, что как только выйдет из класса - снова окунётся в македонское просторечие и в жаргон фаланги.
Когда он понял, что придётся говорить по-гречески весь день, - ему трудно было в это поверить. Ведь даже рабам позволялось говорить друг с другом на родном языке!
Правда, у него бывали передышки. Для Олимпии северный язык был неиспорченным, сохранившимся наследием героев, а греческий - выродившимся диалектом. Она разговаривала на нём только с греками - это была её вежливость по отношению к низшим, - но ни с кем больше. А у Леонида бывали и другие дела, во время которых его пленник мог исчезать. Если ему удавалось попасть в казармы во время обеда, там всегда хватало каши и для него.
Одной из немногих радостей оставалась верховая езда, но вскоре он лишился своего любимого спутника. Это был молодой офицер из гвардии, которого он по привычке поцеловал, когда тот снимал его с коня. Леонид увидел это со двора конюшни. Александра отослали в сторонку, он ничего не слышал, - но увидел, как пунцово покраснел его друг, и решил, что дело зашло слишком далеко. Он вернулся и встал между ними.
- Я сам его поцеловал! А он никогда и не пытался меня трахнуть!
Терминология у него была казарменная, другой он просто не знал.
После долгой, тяжелой паузы Леонид увел его в класс, и там - все так же молча - избил. Его собственным сыновьям доставалось гораздо хуже; здесь его сдерживали положение Александра и возможная реакция Олимпии; но это была настоящая мальчишья порка, не детские шлёпки. Леонид не признавался себе, что давно уже ждал случая посмотреть, как выдержит это его подопечный.
Кроме ударов - других звуков он не услышал. После порки он собирался приказать мальчишке повернуться и посмотреть ему в лицо, но тот его опередил. Он ожидал увидеть только спартанскую выдержку или жалость к себе... А увидел сухие, широко раскрытые глаза с расширенными зрачками, добела сжатые губы, раздувшиеся ноздри, - пылающую ярость, которую молчание делало ещё ярче. На какой-то момент ему стало по-настоящему страшно.
Здесь, в Пелле, он был единственным, кто знал Олимпию с детства. Уж она-то наверняка кинулась бы царапаться; у ее няньки всё лицо было в шрамах от её когтей. Но сын вёл себя совершенно иначе. Это была такая сдержанность - страшно становилось, как бы её не прорвало.
Первым побуждением было схватить мальчишку за шиворот и выбить из него эту дерзость. Но как бы ни был он ограничен - в меру своих способностей он был справедлив, и отличался хорошей самооценкой. И кроме того, его позвали сюда, чтобы воспитать боевого царя Македонии, а не сломленного раба! А мальчик не вышел из себя, уже хорошо...
- Ты молчал, как солдат, - сказал Леонид. - Уважаю мужчин, умеющих переносить свои раны. Сегодня мы больше не работаем.
В ответ он получил только взгляд, выражающий невольное уважение к смертельному врагу. Когда мальчишка выходил, Леонид увидел пятно крови на спине его домотканого хитона. В Спарте это было бы вполне нормально; но он вдруг обнаружил, что жалеет: зря это он так, надо было полегче.
Маме Александр ничего не оказал, но она увидела рубцы. В её комнате, где они много раз делились секретами, она обняла его и расплакалась; и он вдруг расплакался тоже. Он успокоился первый; подошёл к свободному камню у очага, вытащил из-под него восковую куклу, которую уже видел там раньше, и попросил, чтобы она заколдовала Леонида. Она быстро отобрала, сказала что нельзя это трогать - и потом это вообще для другого дела... У куклы фаллос был проткнут терновым шипом, но с Филиппом это не помогало, хотя она пробовала уже не раз. Она не знала, что ребёнок видел.
Слёзы облегчили его ненадолго, и облегчение оказалось обманчивым. Придя к Гераклу в парке, он почувствовал себя преданным. Он ведь плакал не от боли, он по утраченному счастью плакал; если бы она его не размягчила - он бы сумел сдержаться... Раз так - в следующий раз она ничего не узнает.
И всё же они были в заговоре. Она так и не примирилась со спартанской одеждой, она любила его наряжать. Воспитанная в доме, где дамы сидели в Зале, как гомеровские царицы, - и слушали песни бардов о предках-героях, она презирала спартанцев. Этот народ безликой массы дисциплинированных пехотинцев и немытых женщин, про которых не знаешь что и сказать: то ли они тоже солдаты, то ли племенные кобылы. Что ее сына заставят походить на этот серый, плебейский народ - это привело бы ее в бешенство, если бы она хоть на миг могла поверить, что такое может получиться. Но - возмущенная этой попыткой - она купила ему новый хитон с красно-синей вышивкой; и сказала, укладывая в сундук с его одеждой, что нет никакой беды, если он будет выглядеть как благородный человек, пока ее дядя в отлучках. Чуть погодя, она добавила еще коринфские сандалии, хламиду из милезийской шерсти и золотую наплечную брошь.
В хорошей одежде он снова чувствовал себя самим собой. Сначала он был осторожен; но, приободрившись, выдал себя какой-то беззаботной выходкой. Леонид, знавший откуда это идет, промолчал. Просто подошел к сундуку и забрал оттуда всю новую одежду, вместе с лишним одеялом, которое там нашел.
Наконец-то он бросил вызов богам, - подумал Александр, - теперь ему конец!... Но она только улыбнулась печально и спросила, как же это он позволил себя разоблачить. Леонида надо слушаться, а то он оскорбится и уедет к себе... "И тогда, дорогой мой, может случиться, что у нас с тобой начнутся настоящие беды."
Игрушки это игрушки, а власть - власть, и за всё приходится платить... Потом она подбросила ему другие подарки. Он стал более осторожен - но и Леонид более бдителен... А в конце концов он принялся проверять сундук постоянно, как будто так и надо.
Но вот более взрослые подарки можно было оставлять. Один друг сделал ему колчан; маленький, но совсем настоящий, с перевязью через плечо. Оказалось, что он висит слишком низко, и Александр, сидя на ступенях дворца, расстёгивал пряжку. Язычок на пряжке был неудобный, кожа жёсткая... Он уже собрался идти во дворец искать шило, чтобы подцепить, когда подошёл мальчик побольше и встал рядом, загородив свет. Красивый, коренастый, бронзово-золотистые волосы, тёмно-серые глаза... Он протянул руку и сказал:
- Дай я попробую.
Держался он уверенно, а его греческий был явно лучше того, что приобретается только в классе.
- Новый, оттого и жёсткий, - сказал Александр. Он уже отработал дневной урок по греческому, так что ответил на македонском.
Незнакомец присел рядом на корточки.
- Слушай! Совсем как настоящий!... Это тебе отец сделал?
- Нет конечно. Сделал Дорей, критянин. Он не может сделать мне критский лук: там рог, его только взрослые могут натянуть. Лук сделает Кораг.
- А зачем ты его расстёгиваешь?
- Ремень слишком длинный, болтается.
- Мне кажется, нормально... А-а, нет, ты же поменьше. Давай я сделаю.
- Я мерил. Надо на две дырочки перецепить.
- Ну да... А подрастёшь - отпустишь обратно... Ремень конечно жёсткий, но я сейчас сделаю. А мой отец у царя...
- Чего ему там надо?
- Не знаю... Велел подождать его здесь.
- Он что, заставляет тебя говорить по-гречески весь день?
- А у нас в доме все так говорят. Мой отец друг царя, гостеприимец. Я когда вырасту, мне придётся быть при дворе.
- А тебе не хочется?
- Не очень. Мне дома нравится. Глянь вон на ту гору. Нет, не на первую, на вторую. Те земли все наши. А ты вообще не умеешь по-гречески?
- Умею, когда хочу. Но когда от него тошнить начинает - тогда не умею.
- Послушай, ты же говоришь почти не хуже меня. Так чего ж ты выступаешь?... Люди ж за крестьянина тебя будут принимать!
- Мой воспитатель заставляет носить эти тряпки, чтобы я был похож на спартанца. У меня и хорошая одежка есть, я её по праздникам надеваю.
- А в Спарте всех мальчиков бьют...
- О!... Он однажды меня до крови высек. Но я не плакал.
- Он не имеет права тебя бить. Должен только отцу сказать, и всё. Сколько за него заплатили?
- Это дядя матери моей.
- А-а!... Тогда конечно. А мне отец купил педагога, специально для меня.
- А знаешь, когда бьют это неплохо. Это учит терпеть раны, когда на войну пойдёшь.
- На войну? Так тебе ж всего шесть лет...
- Вовсе нет. В будущий месяц льва мне уже восемь исполнится. Это же видно!
- Ни капельки не видно. Мне вот восемь, а ты совсем не похож. Тебе с виду не больше шести.
- Знаешь что, дай-ка сюда! Слишком долго ты возишься что-то.
Он выхватил перевязь, ремень заскочил обратно в пряжку. Незнакомец закричал сердито:
- Дурак дурацкий! Я ведь почти уже сделал!...
Александр ответил казарменным македонским. Тот широко раскрыл рот и вытаращил глаза - слушал, как завороженный. Александр умел поддерживать такую беседу довольно долго, и сейчас - почувствовав уважение к себе блеснул всем, что только знал. Колчан по-прежнему был между ними, но они забыли и о предмете своей ссоры, и о самой ссоре, - только позы их, в каких замерли, остались драчливыми.
- Гефестион!... - донесся голос из колоннады.
Мальчишки отпрянули друг от друга, словно подравшиеся псы, на которых плеснули ведро воды.
Князь Аминтор, выйдя от царя, с досадой увидел, что его сын, - вместо того чтобы ждать, где ему было велено, - вторгся на игровую площадку принца, да ещё и игрушку у него отобрал. В этом возрасте с них нельзя спускать глаз ни на миг... Аминтор проклинал своё тщеславие. Он любил похвастаться сыном тот и на самом деле был хорош, - но глупо было тащить его сюда. Сердясь на себя самого, он подошёл, схватил мальчишку за шиворот и дал ему оплеуху.
Александр вскочил на ноги. Он уже забыл, что у них едва не дошло до драки.
- Не смей его бить! Он мне не мешает, он пришёл мне помочь!...
- Я рад это слышать, Александр. Но он не послушался меня.
Пока виновного утаскивали прочь, мальчики успели обменяться взглядом, делясь своим ощущением людской несправедливости.
Они встретятся снова только через шесть лет.
- Ему не хватает прилежания и дисциплины, - сказал Тимант, грамматик.
Почти никто из учителей, которых вызвал Леонид, не выдерживал пьянки в Зале; слишком много там было всего. С извинениями, забавлявшими македонцев, они уходили оттуда, - кто спать, а кто в комнату к коллеге, поболтать.
- Может быть, - ответил Эпикрат, учитель музыки. - Но конь стоит больше уздечки.
- Когда ему что-нибудь нравится, - сказал Навкл, математик, -прилежания у него больше чем достаточно. Поначалу он просто насытиться не мог, всё было мало. Он умеет вычислить высоту дворца по полуденной тени; если его спросить, сколько воинов в пятнадцати фалангах, - ответит почти сразу... Но я так и не смог добиться, чтобы он ощутил красоту чисел. А ты, Эпикрат?
Музыкант, смуглый эфесский грек, улыбнулся и покачал головой.
- У тебя он извлекает из чисел какую-то пользу, а у меня только чувство... Ведь музыка - предмет этический; а мне царя обучать, не концертного исполнителя.
- У меня он дальше не продвинется, - пожаловался математик. - Я бы сказал, я вообще не знаю, чего ради сижу здесь. Только не надеюсь, что вы мне поверите.
Из Зала донёсся рёв непристойного хохота. Там какой-то доморощенный поэт переделывал старую сколию. И снова грянул припев, уже в седьмой раз.
- Да, платят нам хорошо, - согласился Эпикрат. - Но в Эфесе я мог бы зарабатывать не меньше, на учениках и на выступлениях. И зарабатывал бы чистой музыкой... А здесь я чародей, заклинатель. Мечты вызываю. Приехал я сюда не для этого, но это меня держит. А тебя, Тимант?
Тимант презрительно фыркнул. Он находил сочинения Эпикрата слишком вычурными, слишком эмоциональными. Сам он был афинянин. Он прославился чистотой стиля, и в своё время учил самого Леонида. Чтобы приехать сюда, он закрыл свою школу, решив, что в его годы вести её становится слишком обременительно, и радовался возможности обеспечить себя на остаток жизни. Он прочитал уже всё, что стоило прочесть; и ещё в молодости понял, что такое поэзия.
- Мне кажется, - сказал он, - здесь в Македонии им вполне достаточно страстей. В мои школьные годы много говорили о культуре Архелая... Похоже, что последние войны за наследство вернули эту страну в состояние хаоса. Не скажу, что при дворе нет ни одного воспитанного человека, но в общем-то мы здесь среди дикарей. Вы знаете, что юноша здесь становится мужчиной, лишь когда убьет первого кабана и первого человека?... Можно подумать, что мы вернулись во времена Трои.
- Это облегчит тебе работу, когда вы перейдёте к Гомеру, - пошутил Эпикрат.
- Для Гомера нужна система. И прилежание. У мальчика отличная память, но он не всегда хочет её загружать. Сначала он прекрасно заучивал свои задания. Но ему не хватает системы, он постоянно разбрасывается. Ему объясняешь конструкцию, приводишь подходящий пример - ну выучи ты, запомни!... А он вместо того: "А почему Прометея приковали, к скале?... ", или "А кого оплакивала Гекуба?... "
- Ты ему сказал? Царям не мешало бы научиться жалеть Гекубу...
- Цари должны учиться самодисциплине. Сегодня утром он сорвал мне урок. "Семеро против Фив". Я ему дал несколько строк оттуда ради синтаксиса - вы бы послушали, что тут началось!... Почему, видите ли, там было семь генералов? кто командовал кавалерией? кто фалангой? кто лёгкой пехотой, стрелками?... "Это к делу не относится, - говорю я ему, - сейчас у нас синтаксис". Так он набрался наглости ответить мне по-македонски!... Пришлось стегнуть его ремнём, по руке.
Пение в Зале прервали драчливые пьяные крики, захрустела глиняная посуда... Потом заорал царь, шум стих, началась новая песня.
- Дисциплина, - с нажимом произнёс Тимандр. - Выдержка, самообладание, уважение к закону... Если мы его этому не научим, то кто же?... Его мать?...
Наступила пауза. Навкл, в чьей комнате происходил этот разговор, беспокойно подошёл к двери и выглянул наружу.
- Если ты хочешь состязаться с ней, Тимант, то надо и тебе подслащать свои лекарства, как я это делаю, - посоветовал Эпикрат.
- Он должен стараться, должен какие-то усилия прилагать. Ведь это основа всякого обучения.
- А я не понимаю, о чём вы все говорите, - неожиданно вмешался Деркил, учитель гимнастики.
Он лежал, откинувшись поперёк кровати Навкла и закрыв глаза. Все думали, что он спит, но он просто следовал своей системе: чередовать усилие с расслаблением. Ему было за тридцать. Овальная голова, короткие кудри восторг всех скульпторов, - изумительное тело... Он не жалел трудов на поддержание формы; сам он всегда говорил, что это для примера ученикам, но завистливые школьные учителя были уверены, что конечно же из тщеславия. Он мог по праву гордиться целым списком увенчанных победителей, но на особую интеллектуальность не претендовал.
- Мы говорим о том, - сказал Тимант, свысока, - что мальчишке не мешало бы прилагать чуть больше усилий.
- Это я слышал. - Атлет приподнялся на локте и выглядел теперь величаво, почти угрожающе. - Вы тут наболтали кучу лишнего. Не к добру. Сплюньте на счастье.
Грамматик пожал плечами. Навкл спросил резко:
- Уж не скажешь ли нам, Деркил, что и ты не знаешь, зачем ты здесь?
- Как раз я - знаю. Похоже, у меня самые серьёзные основания. Чтобы он не убил себя слишком рано, вот зачем. Быть может мне удастся его удержать. У него тормозов нет, вы разве не заметили?
- Боюсь, - сказал Тимант, - что термины палестры для меня слишком сложны, мне не понять.
- Я не знаю, как вы все жили до сих пор, - сказал Деркил. - Но если кто-нибудь из вас видел кровь во время боя или пугался до умопомрачения тот может вспомнить, как в нём проявлялась сила, какой он никогда и не предполагал в себе. На состязаниях эта сила не проявляется, нельзя её наружу вытащить. Она под замком, который природа заперла или мудрость богов. Это запас, на самый крайний случай...
- Я помню такое, - сказал Навкл. - В землетрясение, когда рухнул наш дом и мать завалило - я такие брусья ворочал!... А потом даже пошевелить их не мог.
- Эту силу из тебя природа исторгла. Очень мало рождается таких людей, кто может сделать это своей волей. И наш малыш как раз из этих немногих...
- Очень может быть, что ты прав, - согласился Эпикрат.
- Но я боюсь, что каждая такая вспышка забирает что-то у человека, сокращает ему жизнь. Мне за ним уже сейчас приходится присматривать. Он недавно сказал мне, что Ахилл сделал выбор между славой и долгой жизнью.
- Что?... - возмутился Тимант. - Но мы же едва начали первую книгу!...
Деркил посмотрел на него молча, потом тихо сказал:
- Ты забыл о предках его матери.
Тимант прищёлкнул языком и начал прощаться. Навкл тоже забеспокоился, сказал, что ему пора спать. Музыкант с атлетом вдвоём вышли в парк.
- С ним разговаривать бесполезно, - сказал Деркил. - Но я очень сомневаюсь, чтобы парня кормили досыта.
- Ты шутишь?
- Нет, не шучу. Этот Леонид, осел упрямый, такой режим установил!... Я каждый месяц проверяю его рост - и вижу, что малый растёт слишком медленно. Конечно, нельзя сказать, чтобы он совсем голодал; но всё съеденное он сжигает вмиг, мог бы съесть ещё столько же. Соображает он очень быстро. И телу приходится не отставать от головы, никакого отказа малый не потерпит!... Ты знаешь, что он попадает дротиком в цель на бегу?
- Ты доверяешь ему боевое оружие? В таком возрасте?
- Хотел бы я, чтобы все взрослые обращались с оружием так же аккуратно. Это его дисциплинирует даже, он сдержаннее становится... А что его так преследует всё время?
Эпикрат огляделся. Они были на открытом месте, поблизости никого.
- Его мать нажила себе много врагов. Она здесь чужая, из Эпира. Её считают колдуньей. Ты никогда не слышал сплетен о его рождении?
- Было такое однажды. Но кто посмел бы сказать что-либо подобное ему?
- Мне кажется, что он знает; и это его гнетёт. Знаешь, музыку он любит... Он наслаждается ею, утешение в ней находит что ли... Я немного изучал эту сторону своего искусства.
- Mне придётся ещё раз поговорить с Леонидом об этой идиотской диете. В прошлый раз он мне ответил, что в Спарте мальчишкам дают есть всего один раз в день, а остальное пусть берут где хотят. Ты пожалуйста меня не выдавай, но иногда я сам его подкармливаю. Я иногда практиковал это в Аргосе, с хорошими ребятами из бедных семей. А эти истории - ты им веришь?
- Не особенно. Он не похож на Филиппа ни лицом ни характером, но способности у него явно отцовские. Нет, однако, не верю... Ты знаешь старую песню про Орфея?... Как он играл на лире, на склоне горы, и увидел, что возле него лев пристроился: свернулся калачиком музыку послушать. Я знаю, что я не Орфей, но львиные глаза иногда вижу. А куда подевался тот лев, когда музыка кончилась? Что с ним стало?... Об этом история умалчивает...
- Ну, сегодня ты работал получше, - сказал Тимант. - К следующему уроку выучишь восемь строк. Вот они. Перепишешь их на воске, на правой стороне диптиха. На левой стороне выпишешь архаичные формы. Обрати внимание, чтобы они были записаны верно. Следующий урок начнём с них. - Он протянул Александру табличку и начал укладывать свиток в кожаный ларец, дрожащими негнущимися руками. - Да, на сегодня всё. Ты можешь идти.
- А можно мне взять книгу? Ну пожалуйста!...
Тимант поднял глаза, удивлённо и сердито.
- Книгу?... Конечно же, нет; это слишком ценный список. А зачем она тебе понадобилась?
- Но мне же интересно, что дальше будет. Я её в шкатулке буду держать, и каждый раз буду руки мыть, честное слово!
- Конечно. Всем нам хочется бегать ещё до того, как ходить научимся. Выучи свой отрывок и обрати внимание на ионийские формы. У тебя до сих пор слишком дорийский выговор. Это, Александр, не развлечение к ужину - это Гомер!.. Сначала надо усвоить его язык, а уж потом только можно говорить о чтении.
Он завязал шнурки ларца.
В строках, о которых говорил Тимант, мстящий Аполлон нисходит с вершины Олимпа, гремя стрелами за спиной. В классе эти строки прорабатывались по отдельности, словно список припасов, составленный кухонными рабами; но едва мальчик остался один - слились воедино. Величественная картина звенящего мрака, освещённая погребальными кострами. Олимп он знал. И теперь представлял себе мертвенный свет затмения, высокую шагающую тьму, а вокруг неё - тонкую каёмку пламени. Такую, как бывает, говорят, у закрывшегося солнца; способную ослепить человека. "Он вниз сошёл ночною тьмой..."
Вечером он бродил по лесу над Пеллой - и слышал низкий дрожащий звук тетивы и посвист стрел - и переводил это на македонский. А на следующий день, когда начал пересказывать свои строки наизусть, в них нечаянно выскочили македонские слова. Тимант долго и подробно объяснял ему, насколько он ленив, невнимателен и не заинтересован в работе, - а потом усадил его переписывать этот отрывок двадцать раз подряд. А если будут ошибки - их особо, снова.
Александр сидел ковырялся со своим воском. Его видение поблекло и рассыпалось. Тимант, которого что-то заставило поднять голову, увидел напротив себя серые глаза, изучавшие его холодным, отрешённым взглядом.
- Очнись, Александр. О чём ты задумался?
- Ни о чём...
Он снова склонился над восковой дощечкой. И размышлял, есть ли какой-нибудь способ убить Тиманта. Решил, что нету. Просить друзей было бы нечестно: их могли за это наказать, да они и за позор посчитали бы убивать такого древнего старца... И у мамы неприятности были бы, это тоже...
На следующий день он исчез.
Уже послали на поиски охотников с собаками, когда его привёз, под вечер, дровосек. Привёз на старом осле. Мальчик был весь покрыт синяками и кровавыми ссадинами - со скал падал несколько раз, - и нога распухла у лодыжки, не мог на неё наступить. Дровосек рассказал, что он пытался ползти на четвереньках, - но лес ночью полон волков, так что это неподходящее место для молодого господина, чтобы он в одиночку там...
Александр заговорил - но только чтобы поблагодарить дровосека и приказать, чтобы того накормили и дали ему осла помоложе; это он пообещал по дороге. Когда пошли выполнять его приказ, он умолк. Даже врачу не удалось вытянуть из него ничего кроме "да" или "нет", да ещё дёрнулся он, когда ногу пошевелили. Наложили компресс и шину... К нему пришла мать - он отвернулся.
Она подавила злость свою - злость была от других причин, - принесла ему на ужин всего, что запрещал Леонид, и прижимала к груди, пока он пил сладкое подогретое вино. Когда он рассказал ей всё, что произошло, - так, как он сам это понимал, - она его поцеловала, укутала и вышла, яростно готовая к схватке с Леонидом.
Дворец сотрясла гроза - такая, как бывало при схватках богов над Троянской равниной. Но то оружие, что верно служило ей против Филиппа, здесь не помогло. Леонид был очень корректен, совсем по-афински. Он предложил, что уедет, - но расскажет отцу, почему это сделал. Когда она вышла из его кабинета - слишком разъярена была, чтобы вызвать его и ждать у себя, - когда вышла из его кабинета, все попрятались, чтобы не попадаться ей на глаза. Но издали видели, что она в слезах.
Старый Лизимах ждал ее с тех пор, как она выскочила от сына и промчалась мимо, не заметив его. Теперь, на обратном пути, он ее поприветствовал и спросил - совсем просто, словно она была какой-нибудь крестьянкой из его родной Акарнании:
- Ну как там мальчишка?
На Лизимаха никто не обращал внимания. Он всегда был где-то поблизости - но как бы посторонний: гость во дворце, с самых первых дней царствования Филиппа. Он поддержал Филиппа при вступлении на престол, когда насущна была любая поддержка, и оказался приятным собеседником и сотрапезником, - и в качестве награды получил руку одной наследницы, которую царь опекал. Это принесло ему состояние, земельные и охотничьи угодья... Но боги не дали ему детей; не только с женой, но и со всеми другими женщинами, с которыми лежал он. Этот упрёк, этот камень был под рукой у каждого, кто захотел бы в него швырнуть; потому он полагал, что излишнее внимание может только повредить ему, и держался незаметно. Единственной его привилегией была работа в царской библиотеке. Филипп обогатил прекрасное собрание Архелая и относился к нему очень ревниво; не каждому позволил бы там хозяйничать. Из глубины читальной кельи часто допоздна слышался голос Лизимаха, который бормотал над свитками, подбирая слова и рифмы; но из этого так ничего и не вышло - ни трактата, ни поэмы, ни трагедии. Наверно, дух его был так же бесплоден, как и чресла.
Олимпия, взглянув на его квадратное, грубоватое лицо, поседевшие русые волосы и бледно-голубые глаза, вдруг ощутила, что он свой, и позвала к себе в гостиную. Пригласила его сесть, он сел. Она яростно ходила вокруг и говорила, говорила... А он вставлял что-нибудь успокаивающее каждый раз, как она останавливалась перевести дух. Наконец она убегалась до изнеможения. Тогда он сказал:
- Дорогая моя госпожа, мальчик уже вышел из того возраста, когда ему нужна была нянька. Ты не думаешь, что может быть нужен педагог?
Она повернулась так резко, что зазвенели ожерелья.
- Никогда! Ни за что! И царь знает, что я этого не допущу. Кого они хотят из него сделать?... Чиновника, торговца, дворецкого?... Мой сын чувствует, знает, кто он такой. А все эти неотёсанные педанты всё время стараются сломить его дух. У него нет ни единого часа, от подъёма утром и до ночи, - пока не упадёт, - ни единого часа, когда душа его могла бы распрямиться. Он что, так и должен жить?!... Словно вор в тюрьме?!... И чтобы его постоянно конвоировал раб?!... Я об этом и слышать не хочу! И чтобы при мне никогда никто об этом не заговаривал!... А если это царь тебе поручил - уговорить меня, - ты ему скажи, Лизимах, что прежде чем моему сыну придётся терпеть такое - я кого-нибудь убью! Да-да, клянусь Троицей Гекаты, будет кровь!...
Он подождал какое-то время. Потом, решив, что теперь она его уже услышит, сказал:
- Мне тоже было бы крайне прискорбно увидеть такое. Но вместо того я сам мог бы стать его педагогом; именно об этом я и хотел попросить, госпожа. Собственно, ради этого я и пришёл.
Она села на своё высокое кресло. Он терпеливо ждал. Он знал: она молчит не потому что спрашивает себя, с какой стати благородный человек предлагает себя на рабскую должность. Она сомневается, что он действительно справится с этим.
- Ты знаешь, мне часто кажется, что Ахилл явился снова, - сказал он. В нём, в твоем сыне. А если так - ему нужен Феникс... "Сыном тебя, Ахиллес, подобный богам, нареку я. Ты, помышлял я, избавишь меня от беды недостойной..."
- Вот как?... Когда Феникс говорил эти слова, его уже выдернули из Фтии, хоть он и стар был, и притащили под Трою. И того, что он просил, Ахилл не обещал ему...
- Если бы пообещал, это могло бы избавить его от многих бед. Быть может, его душа помнит всё это? Ведь, как известно, пепел Ахилла и Патрокла смешали в одной урне; даже никто из богов не смог бы отсеять одного от другого. И вот Ахилл вернулся... Такой же гордый и неистовый, но с чувствительной душой Патрокла. Те оба страдали по-своему, каждый за себя; наш мальчик будет страдать за обоих.
- Это ещё не всё, - сказала она. - Придёт время - все узнают.
- Не сомневаюсь... Но пока довольно и этого. Позволь мне попробовать с ним. Если ему со мной будет плохо, я оставлю его в покое.
Она снова поднялась на ноги и сделала, круг по комнате. Потом сказала:
- Да. Попробуй. Если ты сумеешь отгородить его от этих идиотов - я у тебя в долгу.
В ту ночь Александра лихорадило, и большую часть следующего дня он проспал. А на другое утро, когда Лизимах вошёл к нему, он сидел на окне, свесив ногу наружу, и окликал кого-то. Оказалось, только что появились два офицера гвардейской конницы, приехавшие из Фракии по царскому делу, и он хотел узнать новости о войне. Новости они ему рассказали, - но отказались взять покататься верхом, узнав, что для этого предстоит поймать его, когда он спрыгнет с верхнего этажа. Помахав на прощанье, они со смехом тронулись прочь со двора, застучали копыта... Мальчик вздохнул, отвернулся - и увидел Лизимаха. Тот подошёл, забрал его из окна и отнёс обратно в постель.
Он подчинился легко, потому что знал Лизимаха от самого рождения. Едва научившись ходить, он уже забирался на колени к этому дядьке послушать его рассказы. Тимант, правда, говорил Леониду, что Лизимах не столько учёный, сколько переучившийся школьник... Но мальчик всегда был рад его видеть; и теперь доверчиво рассказал ему всё-всё о своем злополучном дне в лесу; не без того, конечно, чтобы прихвастнуть.
- Так ты только что ходил уже на побитой ноге?
- Нет, не могу. Я прыгал.
Он сердито нахмурился, глядя на ногу: болела проклятая. Лизимах осторожно подложил подушку.
- Ты с ногой поаккуратнее. Лодыжка была слабым местом Ахилла, знаешь?... Мать держала его за лодыжку, когда окунала в Стикс, а потом забыла, что её тоже надо смочить.
- А в книге есть про то, как Ахилл умер?
- Нету. Но он знает, что умрёт, потому что исполнил свою смертную судьбу.
- Так значит предсказатели его предупреждали?
- Конечно. Его предупредили, что он умрёт сразу после Гектора... Но он всё равно его убил. Он мстил за Патрокла, друга своего, которого Гектор убил.
Мальчик напряжённо думал. Потом спросил:
- А Патрокл был его самый-самый друг?
- Да. Ещё с детства. Они росли вместе, когда ещё мальчишками были.
- А почему же тогда Ахилл сразу его не спас?
- Он забрал своих людей из боя, потому что Верховный Царь оскорбил его. Грекам без него очень туго пришлось; точь-в-точь как ему бог пообещал. Но Патрокл, когда увидел, как его старые товарищи гибнут, пришёл а Ахиллу в слезах... Он очень чувствительный был, Патрокл, знаешь ли. И вот он пришёл к Ахиллу и попросил: "Дай мне твои доспехи. Они подумают, что это ты вернулся. Этого будет достаточно, чтобы их напугать". Ну, Ахилл ему позволил, и он совершил много славных подвигов, но...
Потрясённый взгляд мальчика остановил его. Он умолк.
- Нельзя же было этого делать! Он же был генерал! А послал младшего офицера, когда сам идти не хотел... Это из-за него Патрокл погиб, он виноват был!
- Да, конечно. Он и сам это знал. Потому и исполнил свою смертную судьбу.
- А как царь его оскорбил? С чего всё началось?
По мере того как разворачивалась история, Александр с удивлением обнаруживал, что всё это могло случиться и в Македонии, в любой день.
Безрассудный младший сын едет в гости к могущественному гостеприимцу и уводит у него жену, а потом тащит ее - и месть следом - в дом своего отца... Любой древний род Македонии и Эпира мог бы рассказать не один десяток таких историй. Верховный Царь стал собирать своих подданных и вассалов... Царь Пелей, уже совсем старик, послал вместо себя своего сына, рождённого матерью-богиней... Когда он появился на Троянской равнине, ему было только шестнадцать, но ему уже не было равных среди воинов...
А сама война была точь-в-точь похожа на межплеменную заварушку в горах. Знатные воины с гиканьем носились где попало и вызывали друг друга на поединки, никого не спросясь... Пехота, похоже, толпами шлялась за своими хозяевами... Он слышал о доброй дюжине таких войн, от тех, кто видел их своими глазами, даже участие в них принимал. Одни начинались из-за вспышки старой родовой вражды; другие разгорались из-за свежей крови, пролитой в какой-нибудь пьяной ссоре, из-за передвинутого межевого камня, из-за неотданного выкупа за невесту, из-за того что на пиру посмеялись над обманутым мужем...
Лизимах рассказывал всё так, как ему это представилось в юности. С тех пор он успел прочесть рассуждения Анаксагора я максимы Гераклита, историю Фукидида, философию Платона, трагедии Эврипида и романтические пьесы Агафона - но Гомер всегда возвращал его в детство; когда он сидел на отцовских коленях и слушал барда, и любовался, как его старшие братья бряцают мечами у бедра (в то время по улицам Пеллы ещё ходили так).
Мальчик всегда думал об Ахилле не слишком хорошо, раз тот устроил такой скандал из-за какой-то девчонки. Теперь он узнал, что то была не просто девчонка: то была награда за доблесть - и царь забрал эту награду, чтобы его унизить!... Тут совсем другое дело. Теперь понятно, почему Ахилл так разгневался... А Агамемнон представлялся ему приземистым дядькой с жесткой черной бородой.
И вот, Ахилл сидел в шатре у себя, удалившись от славы своей, и играл на лире Патроклу - единственному, кто мог его понять, - когда к нему пришли царские послы. Греки были в отчаянном положении, так что царю пришлось нахлебаться грязи. Ахиллу и девушку его отдадут; а кроме того он еще и на дочке Агамемнона жениться может, и огромное приданое получит землями и городами, и даже одно только приданое может взять, если захочет, без неё...
Как и всем при кульминации трагедии, - хотя и знают, чем всё закончится, - мальчику очень хотелось, чтобы на этот раз всё было хорошо. Пусть Ахилл смягчится, пусть они вместе с Патроклом пойдут в бой, вместе, плечо к плечу, пусть будут счастливы, пусть победят... Но Ахилл отвернул лицо своё. Они слишком много хотят, сказал он. "Потому что моя богиня-мать сказала, я несу в себе две смертных судьбы. Если останусь под Троей и буду сражаться, то не вернусь домой, но завоюю бессмертную славу. А если уеду домой, в любимую отчизну, то слава будет не так велика, зато у меня останется длинная жизнь, смерть не скоро ко мне придёт". Теперь его честь уже восстановлена - он выберет вторую судьбу и поплывёт домой...
Но третий посол ещё не говорил. Теперь он вышел вперёд; старый Феникс, знавший Ахилла, когда тот ещё ребёнком у него на коленях сидел. Когда собственный отец выгнал Феникса из дому и проклял, царь Пелей его усыновил. У Пелея ему было хорошо, но отцовское проклятие действовало, и он был бездетен. И он выбрал себе в сыновья Ахилла, чтобы когда-нибудь тот смог избавить его от бед. Теперь, если Ахилл отплывёт - он уедет с ним. Он ни за что не оставил бы Ахилла, даже за то, чтобы снова стать молодым. Но тут он стал умолять Ахилла, чтобы тот уважил его просьбу и повёл греков в бой.
Мальчик отвлёкся от рассказа и ушёл в себя. Он не хотел откладывать, ему не терпелось, он хотел тотчас же наградить Лизимаха подарком, о котором тот всегда мечтал. И ему казалось - он сможет.
- Я бы сказал "да"! Если бы ты меня попросил - я бы сказал "да"!... Почти не замечая боли в растянутой ноге, он повернулся и обхватил Лизимаха за шею. Лизимах обнял его, не скрывая слез. Мальчика они не расстроили: такие слезы Геракл дозволяет.
Иметь под рукой нужный подарок - это большое счастье; и подарок этот был настоящий. Он вовсе не обманывал, он на самом деле любил Лизимаха, хотел бы быть вместо сына ему и отвести от него все беды. Если бы Лизимах пришёл к нему, как Феникс к Ахиллу, - он согласился бы на всё; он бы повёл греков в бой, он бы выбрал первую из судеб - никогда не вернуться домой в любимую отчизну, никогда не дожить до старости... Всё это было правдой - и счастьем!... Так надо ли говорить, что всё это он сделал бы вовсе не ради Феникса? Он бы это сделал ради вечной славы.
Большой город Олинф, на северо-восточном побережье, сдался царю Филиппу. Сначала в город вошло его золото, солдаты потом.
Олинфийцы давно уже с тревогой смотрели, как растёт его могущество. Долгие годы они укрывали двоих его незаконнорожденных братьев, претендовавших на трон; стравливали его с афинянами, - когда это было им выгодно, - а потом заключили с Афинами союз.
Сначала он позаботился о том, чтобы подкупленные им люди в городе разбогатели и показали это остальным. Их партия росла и усиливалась. На юге, на Эвбее, он разжигал восстание, чтобы афинянам хватало забот у себя дома. И всё это время он вёл бесконечные переговоры. Посылал в Олинф своих послов и принимал их послов у себя, долго и подробно обговаривая условия мира, - а сам пока захватывал земли вокруг.
Когда это было сделано, он предъявил им ультиматум. Кто-то должен был уйти - или он, или они, - и он решил, что уйдут они. Если бы они сдались, то могли уйти с охранной грамотой. А их союзники-афиняне уж конечно позаботились бы о них.
Но, вопреки партии Филиппа, Олинф проголосовал за войну. Они дали несколько сражений, которые ему недёшево обошлись, прежде чем его клиенты сумели проиграть пару битв, а потом и открыть ему ворота.
Теперь он решил предупредить всех остальных, чтобы никому больше не хотелось доставлять ему столько хлопот. Пусть Олинф послужит примером. Мятежные полубратья умерли на копьях гвардейцев... А вскоре после того через всю Грецию потянулись на юг караваны скованных цепями рабов. Их вели профессиональные работорговцы - или те люди, чьи заслуги Филипп хотел вознаградить. Города, с незапамятных времён привыкшие к тому, что всю трудную работу делают фракийцы, эфиопы или широкоскулые скифы, теперь с возмущением смотрели, как мужчины-греки таскают тяжести под кнутом, а девушек-гречанок продают в бордели на невольничьих рынках. Глас Демосфена призывал всех порядочных людей объединиться против этого варвара.
Македонские мальчишки смотрели, как мимо них проходят бесконечные колонны отчаявшихся людей; как плачут ребятишки, бредя в пыли, цепляясь за подолы материнские... В этом зрелище было древнее предостережение: вот оно, поражение, - не напрашивайся на него.
У подножья горы Олимп, у моря, - город Дион, священная скамеечка под ноги Зевсу-Олимпийцу. Здесь, в священный месяц бога, Филипп устроил празднества в честь своей победы; с таким великолепием, какого и сам Архелай не знавал. Со всей Греции съехались на север почётные гости; а кифаристы и флейтисты, рапсоды и актёры состязались за золотые венки, пурпурные ризы и кошели, набитые серебром.
Собирались ставить "Вакханок" Эврипида. Когда-то Эврипид поставил их впервые на этой самой сцене. Теперь декорации с фиванскими холмами и с тамошним царским дворцом писал самый знаменитый театральный художник из Коринфа. Каждое утро было слышно, как трагики на своих квартирах тренируют голоса, от божьего грома до девичьих нежных трелей. Даже у всех учителей были выходные дни, каникулы. А у Ахилла и его Феникса (прозвище прилипло тотчас) был свой собственный порог Олимпа, и картины празднества тоже свои. Феникс рассказывал Ахиллу свою собственную "Илиаду", о которой Тимант и понятия не имел. Увлечённые своей игрой, они никому не причиняли хлопот.
А в день бога, что празднуется ежегодно, царь задал грандиозный пир. Александр должен был там появиться; но чтобы ушёл раньше, чем начнут пить. На нём был новый голубой хитон с золотым шитьём; тяжёлые волнистые волосы завиты в кудри... Он сидел на трапезном ложе в ногах у отца, а рядом был собственный серебряный кубок. Зал сверкал огнями бесчисленных ламп; сыновья вождей и царские телохранители ходили меж царём и его гостями, разнося подарки.
Там было и несколько афинян, из тех что хотели мира с Македонией. Мальчик заметил, что отец следит за своей речью. Пусть афиняне помогали его врагам, пусть они опустились до заговора с персами, - хотя их предки под Марафоном сражались, - но они из всех греков греки, а отец мечтал стать греком.
Царь кричал в Зал - спрашивал одного из гостей, что это он невесел. Это был Сатир, великий афинский комедиант. Добившись чего хотел - обратив на себя внимание, - он теперь очень забавно изобразил испуг - и сказал, что вряд ли осмелится признаться, чего бы ему хотелось. "Только скажи, - крикнул царь, протянув к нему руку. - Скажи!"
Оказалось, что он хочет свободы для двух юных девушек, которых увидел в толпе рабынь; это дочери его друга-гостеприимца из Олинфа. Он хотел их избавить от этой судьбы и дать им приданое. Это просто счастье, - закричал царь, - выполнить столь великодушную просьбу. Раздался шум рукоплесканий, в зале словно потеплело. Гостям, по дороге сюда проходившим мимо загонов с рабами, есть стало чуточку полегче.
Начали вносить гирлянды; и большие тазы со снегом, принесенным с Олимпа, чтобы охлаждать вино. Филипп повернулся к сыну, смахнул назад влажные, уже потерявшие завивку волосы с его горячего лба, поцеловал этот лоб под восхищённый ропот гостей и отослал его спать, бегом. Александр соскользнул на пол, попрощался с гвардейцем у дверей - тот был другом его и помчался в покои к матери, всё-всё ей рассказать.
Он ещё не успел коснуться двери, когда ощутил какое-то предупреждение изнутри.
В комнате был тарарам. Женщины жались друг к другу, словно испуганные куры. Мать его, всё ещё одетая в то самое платье, какое надела, чтобы петь с хором, шагала из угла в угол. Туалетный столик был перевёрнут; одна из девушек стояла на четвереньках, подбирая иголки и булавки. Когда открылась дверь, она уронила кувшин и пролила краску для век. Олимпия, шагнула к ней и так ударила по голове, что та рухнула на пол.
- Убирайтесь отсюда! Все убирайтесь!... Суки!... Раззявы... Дуры!... Убирайтесь все, оставьте меня с сыном!...
Он вошёл. С лица его градом катился пот - вытекала жара в зале и то разбавленное вино, что успел выпить за едой, - а в желудке было нехорошо, тяжесть. Он молча направился к ней. Женщины убежали; она бросилась на кровать и начала кусать и бить подушки. Он подошёл и встал рядом на колени. Когда погладил ей волосы - свои руки показались холодными... Он не спрашивал, в чём дело.
Олимпия резко обернулась и схватила его за плечи, призывая всех богов в свидетели её обид. Пусть отомстят за неё!... Она прижала его к себе; теперь они оба качались взад-вперёд. Да не допустят небеса, - кричала, - чтобы он хоть когда-нибудь узнал, что ей приходится выносить от этого подлейшего из людей!... В его возрасте нельзя такого знать!... С этого она начинала всегда. Он чуть повернул голову, чтобы можно было дышать. На этот раз не парнишка, - подумал он. - На этот раз должна быть женщина.
В Македонии уже бытовала поговорка, что в каждой войне царь берет по жене. Надо сказать, что эти браки - всегда подкрепленные пышными ритуалами, чтобы ублажить родню, - были хорошим способом приобрести надежных союзников. Но мальчик знал только то, что видел. Теперь он вспомнил, что отец словно лоснится, как бывало уже и раньше.
- Фракийка!... - кричала его мама. - Грязная, в синих разводах!...
Значит, всё это время девушку прятали где-то в Дионе. Гетеры ходили открыто, их все видели.
- Мне очень жаль, мама, - сказал он. - Отец женился на ней?
- Не называй этого человека отцом!...
Она держала его на расстоянии вытянутых рук и смотрела ему в лицо. Ресницы у нее склеились, веки в синих и черных разводах, глаза расширились так, что белки было видно и сверху и снизу. Платье сползло с плеча, густые темно-рыжие волосы торчали вокруг лица и падали, спутавшись, на обнаженную грудь. Он вспомнил голову Горгоны в Зале Персея - и со страхом отогнал от себя эту мысль.
- Твой отец?!... - кричала она. - Загревс свидетель, в этом тебя никто обвинить не может!... - Пальцы ее так впились ему в плечо, что он стиснул зубы от боли. - Придет день!... Да, придет!... Он узнает, сколько в тебе от него!... О, да-да, он узнает, что перед ним был более великий, не ему чета!...
Она отпустила его, упала назад, опершись на локти, и расхохоталась.
Она каталась в своих рыжих волосах, смеясь взахлёб, с хриплым вскриком при каждом вдохе; смех становился всё громче, всё пронзительней... Мальчик никогда прежде такого не видел, ему стало страшно. Стоя возле нее на коленях, он схватил ее за руку, целовал залитое потом лицо, кричал ей в ухо, чтобы перестала, чтобы сказала ему что-нибудь... Вот он здесь, с ней, её Александр... Пусть она не сходит с ума, ну пожалуйста, а то он умрёт!...
Наконец она затихла; глубоко, со стоном, вздохнула и села. Обняла его и прижалась щекой к его голове. Ему уже не было страшно, он расслабился и прильнул к ней, закрыв глаза.
- Бедный ты мой! Бедный малыш! Напугался, да?... Это всего лишь припадок истерики, вот до чего он меня довёл. Перед другими мне было бы стыдно, а перед тобой - нет. Ведь ты знаешь, что мне приходится терпеть. Смотри, родной мой, вот видишь, я тебя узнаю, я вовсе не сошла с ума... Хотя он, конечно, был бы рад такому. Тот человек, кто называет себя твоим отцом.
Он открыл глаза и сел рядом.
- Когда я вырасту большой, я позабочусь, чтобы тебе отдавали должное.
- А ведь он и не догадывается, кто ты. Но я-то знаю... Я - и ещё бог.
Он не стал ничего спрашивать. Хватало и того, что увидел. Но потом, ночью, когда его вытошнило и он лежал пустой-пустой, с пересохшими губами, и слушал доносившийся издали шум пира, - ему вдруг вспомнились эти её слова.
На следующий день начались Игры. Двуконные колесницы мчались кругами, а колесничные пехотинцы спрыгивали на ходу, бежали рядом и вновь вскакивали наверх. Феникс успел заметить пустые глаза мальчика и догадался о причине; и теперь рад был видеть, что гонка его увлекла.
Он проснулся чуть раньше полуночи, с мыслью о маме. Выбрался из постели, оделся... Только что ему приснилось - она звала его из моря, как богиня-мать звала Ахилла. Надо было пойти к ней и спросить, что она имела в виду прошлой ночью.
В её комнате было пусто. Только одна древняя старуха из домашних рабынь копошилась, прибирая вещи; её все забыли. Она посмотрела на него покрасневшими слезящимися глазами и сказала, что царица ушла в храм Гекаты.
Он выскользнул в ночь, среди перепившихся гостей и шлюх, солдат и воров. Ему надо было увидеть её; увидит ли она его - это не важно. А дорогу он знал.
В честь праздника ворота города были открыты. Далеко впереди виднелся факел, и в его свете чёрные плащи. Ночь безлунная, настоящая ночь Гекаты. Они не видят, как он крадётся за ними следом. Ей приходится самой бороться за себя, потому что у неё нет взрослого сына, который мог бы ее защитить. То, что она сейчас делает, - она делает за него...
Она оставила женщин ждать, а сама пошла дальше, одна. Он проскользнул следом, мимо кустов олеандра и тамариска, до самого храма, где трехликая статуя богини. Мать была там, в руках у нее кто-то скулил и хныкал. Факел свой она воткнула в закопченный каменный стакан возле алтарной плиты. Она была вся в черном; а что держала - это оказался черный щенок. Она взяла его за загривок и резанула ножом по горлу. Он забился, завизжал, в свете факела блестели его глаза... Теперь она взяла его за задние лапы и держала так, вниз головой; а он дергался и кашлял, и кровь текла струей... Когда у щенка начались судороги, она положила его на алтарь, а сама встала на колени перед статуей и начала бить кулаками землю. Он слышал то яростный шепот, - тихий, словно шипенье змеи, -то такой вой, что его мог бы издать и тот щенок, если бы жив был... Незнакомые слова заклинаний, знакомые слова проклятий... А ее длинные волосы свисали в густую кровь на алтаре; и когда она поднялась на ноги - концы волос жестко слиплись, а на руках запеклись черные пятна.
Когда всё кончилось, он прошел вслед за ней до самого дома; всё время держась позади, чтобы не заметила. Теперь она снова уже не выглядела чужой. Но хоть и шла она среди своих женщин, ему не хотелось упускать ее из виду ни на миг.
На следующий день Эпикрат сказал Фениксу:
- Сегодня ты должен уступить его мне. Я хочу взять его на музыкальный конкурс.
Раньше он собирался пойти со своими друзьями, с которыми можно поговорить о музыке, о сегодняшнем исполнении, - но вид мальчика его встревожил. Он ведь тоже слышал разные разговоры, как и все остальные.
Состязались кифаристы. Собрались все видные мастера. В самой Греции и в греческой Азии, в городах Италии и Сицилии - вряд ли нашелся бы хоть один, кого сейчас не было здесь. Неведомая доселе красота захватила мальчика; он забыл о своем настроении, он был в экстазе. Так Гектор, ушибленный камнем Аякса, оглянулся на голос, от которого у него волосы на голове зашевелились, - и увидел, что возле него стоит Аполлон.
После того жизнь пошла почти по-прежнему. Иногда мать многозначительно вздыхала или смотрела на него, чтобы напомнить, - но самый сильный шок был уже позади. Телом он был здоров, и возраст брал своё. Он искал исцеления так, как подсказывала ему природа: вместе с Фениксом ездил верхом по каштановым рощам на склонах Олимпа и распевал Гомера - строка по строке сначала по-македонски, потом по-гречески.
Феникс был бы рад держать его подальше от женских покоев. Но если бы царица хоть раз усомнилась в его верности, он потерял бы мальчика навсегда. Нельзя было заставлять её тщетно искать своего сына. Но теперь казалось, по крайней мере, что мальчик выходит от неё не в таком скверном настроении, как прежде.
В последнее время она была увлечена каким-то планом, и даже повеселела. Поначалу Александр ждал со страхом, что она придёт в полночь с факелом и поведёт его к святилищу Гекаты. До сих пор она ни разу ещё не предлагала, чтобы он сам призвал проклятие на отца; в ту ночь, когда они ходили к могиле, он только стоял рядом и держал, что ему дали.
Шло время. Становилось ясно, что ничего такого не будет, - и в конце концов он даже спросил её. Она улыбнулась; под скулами мелькнули мягкие тени. Он узнает, когда придёт время, - он изумится... Это служение, которое она пообещала Дионису... И ещё сказала, что он тоже там будет и увидит сам. На душе у него стало полегче. Наверно это опять будут какие-нибудь пляски в честь бога. Последние два года она говорила, что он уже слишком большой для женских таинств. Ему уже было восемь. Горько было думать, что скоро вместо него с ней будет повсюду ходить Клеопатра.
Как и царь, она принимала у себя многих чужеземных гостей. Знаменитый трагик Аристодем приехал не выступать; он прибыл в качестве посла, - эту роль часто доверяли известным актёрам, - прибыл улаживать выкупы за афинян, захваченных в Олинфе. Изящный, стройный, элегантный, Аристодем владел своим голосом, словно изысканной флейтой; почти видно было, как он играет этим голосом. Александр восхищался, слушая, как умно мама говорит с послом о театре. Потом она принимала Неоптолема со Скироса, ещё более знаменитого протагониста, который теперь ставил "Вакханок" и сам будет играть бога. На этой встрече мальчика не было.
Он не знал бы, что мать колдует, если бы не услышал однажды, через дверь. Хотя двери и толстые, какую-то часть заклинаний он разобрал. Прежде он такого не слыхал - что-то про убийство льва на горе, - но смысл был всё тот же, что и всегда. Так что он ушёл, не постучавшись.
Феникс разбудил его на заре, чтобы идти в театр. Он был ещё слишком мал, чтобы сидеть на почетных креслах; когда вырастет, будет сидеть там с отцом... А пока он спросил у мамы, можно ли ему быть рядом с ней, как это было еще в прошлом году. Она сказала, что смотреть пьесу не будет, - у нее в это время другие дела, - но он ей после расскажет, как всё было и как ему понравилось.
Театр он любил. Любил вот таким, просыпающимся на рассвете к радости, которая скоро начнется; со свежими утренними запахами. Тут и пыль, прибитая росой; и трава, примятая множеством ног; и дым от только что потушенных факелов, при которых работали ночью ... Он любил смотреть, как расходится по рядам народ, как суетятся внизу, на почетных местах, со своими ковриками и подушками; любил слушать, как гудит наверху толпа солдат и крестьян, как воркуют женщины на своей половине; а потом, вдруг, первые ноты флейты - и все остальные звуки замирают, кроме пения утренних птиц.
Пьеса началась мрачно, ещё в рассветных сумерках. Бог, в облике прекрасного белокурого юноши, приветствовал огонь на могиле матери своей и замышлял месть фиванскому царю, который презрел его обряды. Мальчик заметил, что юным голосом бога искусно говорил мужчина, а у его менад были плоские груди и звонкие мальчишьи голоса; но он отодвинул это знание и отдался иллюзии.
Темноволосый юный Пентей зло говорил о менадах; о том, каковы обряды у них. Бог должен был убить его за это. Сюжет он знал уже заранее, друзья рассказали. Смерть Пентея была самой ужасной, какую только можно себе представить; но Феникс пообещал, что показывать её не будут.
Когда слепой пророк упрекнул царя, Феникс шепнул на ухо, что этот старый голос из-под маски принадлежит тому же самому актёру, который играл молодого бога; таково было искусство трагика. А когда Пентей умрёт за сценой, этот актёр опять сменит маску и будет играть безумную царицу Агаву.
Царь запер бога в тюрьму, но бог вырвался землетрясением и огнём. Театральные эффекты, поставленные афинскими мастерами, испугали и восхитили мальчика. Обречённый на гибель Пентей, пренебрегая чудесами, так и не признал божество. И пропал его последний шанс: Дионис опутал его смертельным волшебством и отобрал у него разум. Он видел два солнца в небе; и решил, что может передвигать горы... Но позволил насмешливому богу нелепо замаскировать его под женщину, чтобы подсмотреть обряды менад. Мальчик смеялся вместе со всеми, и это веселье обострялось предчувствием грядущих ужасов.
Царь ушел умирать, пел хор, потом явился Посланник с вестью. Он рассказал, что Пентей забрался на дерево, чтобы подсматривать оттуда, но менады увидели его и - исполненные ниспосланной богом безумной силы вырвали его дерево с корнями; и тогда его обезумевшая мать, решив, что перед нею дикий зверь, первая набросилась на него, а потом и другие менады, и они разорвали его на куски. Всё это уже произошло - Посланник только рассказывал, как это было, - показывать этого не стали, как и обещал Феникс. Но и одного рассказа было вполне достаточно. А теперь вот-вот появится Агава, - кричал Посланник, - появится с трофеем своей охоты.
Менады вбежали на сцену в окровавленных одеждах; Агава несла голову, насаженную на копье, как это делают охотники. Голова сделана из маски Пентея и парика сзади, а в середину что-то набито, и красные тряпки снизу висят... А на царице была ужасная безумная маска, с истошным выражением лица, с глубоко ввалившимися напряженными глазами и неистово искаженным ртом. И такой из этого рта вырвался голос - что при первых же звуках его Александр тоже словно два солнца увидел. Он сидел совсем близко от сцены, а зрение и слух у него были остры... Парик над маской был светлый, но сквозь его распущенные пряди проглядывали живые волосы, и видно было, что волосы рыжие. И руки царицы были обнажены - и он узнал эти руки, и даже браслеты на них.
Актеры, разыграв изумление и ужас, отступили, чтобы дать ей место на сцене. Публика загудела. После бесполых мальчиков, все тотчас услышали, что это настоящая женщина. Кто это?... Что?!...
Мальчику показалось, что он уже много часов сидит здесь один со своим знанием, а потом по толпе побежало слово. Оно разлеталось, как лесной пожар; зоркие настойчиво убеждали тех, кто видел хуже; звонкий щебет и возмущенный шепот женщин; низкий прибойный рокот мужчин наверху; а с почетных мест напряженная, мертвая тишина.
Мальчик чувствовал себя так, словно это его собственная голова насажена там на копье. А мать его взмахнула волосами и показала на кровавый трофей. Она вросла в эту ужасную маску, маска стала ее лицом!... Он обломал себе все ногти, вцепившись в каменную скамью.
Флейтист дул в свои дудки, а она пела:
Я возвеличена над всей землей
Пусть люди меня восхваляют
Эта охота была моя!
За два ряда перед собой мальчик видел спину отца; тот повернулся к гостю, сидящему рядом. Лица видно не было.
Проклятье на могиле, кровь чёрного щенка или кукла, проткнутая терновым шипом, - то всё были тайные обряды. А здесь - заклинание Гекаты при свете дня, жертвоприношение во имя смерти!... На копье у царицы была голова её собственного сына.
Голоса вокруг вырвали его из этого кошмара, но повергли в другой. Голоса поднялись, как жужжанье мух, потревоженных на мертвечине, почти заглушив декламацию актёров.
Это о ней все говорили, а не о царице Агаве из пьесы. Они говорили о ней!... Южане, называвшие Македонию варварской страной, князья и простолюдины... Солдаты...
Пусть бы они называли её колдуньей - богини должны быть волшебницами, но здесь было другое, он знал эти голоса. Так люди из фаланги говорят в караулках о женщине, с которой половина из них переспала; о деревенской девке, родившей байстрюка...
Феникс тоже страдал; он соображал не слишком быстро, и поначалу был просто оглушен. Даже от Олимпии не ожидал он подобной дикости. У него не было сомнений, что она пообещала это Дионису, потеряв голову от вина, танцуя при своих обрядах.
Царица Агава очнулась; её безумие сменилось отчаянием; над ней появился неумолимый безжалостный бог, завершить пьесу. Хор запел заключительные строки:
Боги многолики и, чтобы исполнить волю свою.....
Бог приносит то, о чём не думалось,
Как мы видели это здесь.
Всё кончилось, но никто и не пошевелился уходить. Что она будет делать?... А она поклонилась статуе Диониса на площадке для хора - и ушла, вместе с остальными. Ясно было, что больше уже не покажется. Кто-то из статистов подобрал и унёс голову... С высоты, из безликой толпы, раздался долгий, пронзительный свист...
Протагонист снова вышел на сцену принять рассеянные аплодисменты. Причуда царицы ему помешала, так что сегодня он сыграл не лучшим образом, однако представление удалось, он не зря старался.
Мальчик поднялся, не глядя на Феникса. Вздёрнув подбородок, глядя прямо перед собой, он прокладывал себе дорогу через медлительную, болтающую толпу. При их приближении разговоры стихали, но не настолько быстро, чтобы их можно было не услышать. Сразу за порталом театра он повернулся, посмотрел в глаза Фениксу и сказал:
- Она была лучше актёров!
- Да, конечно, её бог вдохновлял. Она же своё выступление ему посвятила, чтобы почтить... Дионис очень любит такие приношения.
Они вышли на утоптанную площадь перед театром. Женщины, укоризненно переговариваясь, расходились по домам; мужчины не уходили, собирались группами. Неподалеку от выхода стояла стайка нарядных гетер, дорогих девушек из Эфеса и Коринфа, что обслуживали офицеров в Пелле. Одна сказала нежным звонким голосом:
- Бедный мальчонка! Видно, как он переживает!...
Мальчик не обернулся, будто не слышал.
Они уже почти выбрались из толпы. Феникс уже начал дышать посвободнее и тут вдруг обнаружил, что малыш исчез. Ещё этого не хватало!... Но нет, он оказался рядом, в нескольких шагах, возле группы каких-то мужчин. Феникс услышал, как они рассмеялись, бросился туда, - но опоздал.
Человек, произнесший последние недвусмысленные слова, ничего плохого не ожидал. Но другой, стоявший к мальчику спиной, ощутил рывок: кто-то, вроде, быстро дёрнул его за пояс. Оглянувшись в расчёте на свой рост, он не сразу понял в чём дело, и едва успел ударить мальчишку по руке. Кинжал резанул шутника вскользь, по боку, вместо того чтобы вонзиться прямо в живот.
Всё произошло так быстро и бесшумно, что никто из окружающих даже не оглянулся. А эта группа замерла, словно окаменев: раненый, со струйкой крови, сбегающей по бедру; хозяин кинжала, что схватил было мальчика, но теперь понял, кто перед ним, и беспомощно смотрел на окровавленное оружие в его руке; Феникс за спиной мальчика, положивший руки ему на плечи; и сам мальчик, глядевший в лицо раненому: оказалось, что он его знал. А человек, зажавший тёплую струйку у себя на боку, смотрел на него с изумлением и болью, а потом - не сразу - к этому добавился и испуг: узнал.
Все замерли, казалось никто не дышал. Но прежде чем хоть кто-нибудь успел сказать хоть слово, Феникс поднял руку, как будто на войне. Его квадратное лицо набычилось, его почти нельзя было узнать.
- Для всех вас лучше забыть о происшедшем, - сказал он.
И - пока те нерешительно переглядывались - потянул мальчика за собой, увёл его прочь.
Не зная другого места, где можно было бы его укрыть, он забрал его к себе на квартиру; на единственной приличной улице этого маленького городка. В небольшой комнатке было душно от старой шерсти, старых свитков и старой постели; и от мазей, которые Феникс втирал в свои негнущиеся колени. На постели лежало одеяло в красную и синюю клетку - мальчик упал на него вниз лицом, и так лежал, без единого звука, без единого движения. Феникс похлопал его по плечу, погладил голову... А когда он разразился судорожным плачем начал его утешать.
Он не задумывался сейчас ни о чём, что будет после, важен был только вот этот миг. Он убедился, что любовь его не только беспола, но и безгранична, самоотверженна. Он не задумавшись отдал бы всё, что у него есть; он кровь свою отдал бы по капельке... Но сейчас было нужно гораздо меньше - только утешение и целящее слово.
- До чего же грязный тип!... Невелика потеря, если б ты его и убил: ни один человек чести не снёс бы такого. Только безбожный мерзавец может потешаться над посвящением богу. Ну перестань, мой Ахилл. Разве можно расстраиваться из-за того, что в тебе проснулся воин?... Он поправится, хотя и не заслужил этого, - и никогда, никому, ничего не скажет. Если, конечно, не совсем дурак. А от меня никто и слова не услышит...
Мальчик с трудом глотал слезы, уткнувшись ему в плечо.
- Он же мне лук сделал!...
- Выкинь. Я тебе лучше достану.
Они помолчали.
- Он же не мне это сказал!... Он не знал, что я там...
- Но кому нужен такой друг?
- Он не ждал удара.
- Ты тоже не ждал услышать такое!
Очень мягко и осторожно - заботливо и учтиво - мальчик освободился от его рук и снова лёг ничком, уткнувшись в одеяло. Потом вдруг сел и вытер рукой нос и глаза. Феникс смочил полотенце из кувшина, отжал, и стал протирать ему лицо. Мальчик не противился; сидел неподвижно, с напряжённым взглядом, вроде и внимания не обратил.
Феникс достал из-под изголовья самый лучший свой серебряный кубок и вино, оставленное на завтрак. Мальчик выпил - чуть поупирался, но выпил, - и сразу порозовел. И лицо, и шея, и грудь... Потом сказал:
- Он оскорбил мой род. Но он не ждал удара.
Вскинув голову, так что взметнулись волосы, он одёрнул измятый хитон и завязал распустившийся ремешок сандалии.
- Спасибо, что приютил меня в своём доме. А теперь я пойду.
- Сейчас это неразумно. Ты же ничего ещё не ел.
- Есть я не хочу. Спасибо. До свидания.
- Так подожди, я переоденусь и поеду с тобой.
- Нет, спасибо. Я хочу один.
- Ну подожди! Давай, отдохнём немного; почитаем или погуляем пойдём... - Феникс положил руку ему на плечо
- 0тпусти!...
Рука Феникса отдернулась сама собой, словно у испуганного ребенка.
Позже он обнаружил, что на месте нет верховых сапог Александра и учебных дротиков; лошадки тоже не оказалось. Феникс кинулся выяснять, не видел ли кто-нибудь, куда он поехал. Оказалось, его видели над городом: он верхом поднимался по склонам Олимпа.
До полудня оставалось еще несколько часов. Феникс дожидался его возвращения и слушал, что говорят вокруг. Все соглашались, что царица совершила этот чудной поступок как бы в посвящение богу. Ведь эпирцы - они мисты от рождения, они это с молоком материнским всасывают... Но у македонцев это ей чести не прибавит, нет. Царь, ради гостей, постарался сделать вид, будто ничего особенного не произошло, и с трагиком Неоптолемом обошелся милостиво... Да, а где юный Александр?...
А-а, он поехал верхом покататься, - отвечал Феникс, пряча всё возраставший страх. Что это на него нашло?!... Позволил ребёнку уйти одному, словно взрослому... Он ни на мгновение не должен был глаз с него спускать!... Ехать искать теперь бессмысленно: на огромном массиве Олимпа две армии друг от друга укрыться могут. Там отвесные стены и бездонные ущелья; там медведи, волки, леопарды, даже львы еще попадаются...
Солнце садилось. Крутые восточные склоны, под которыми стоит Дион, потемнели; часть гор скрылась в клубящихся тучах. Феникс ехал верхом, прочесывая открытую местность над городом. У священного дуба он спешился и воздел руки к освещенной солнцем вершине, к трону Царя Зевса, что купается в чистом эфире. Молился со слезами, обещал жертвы... Ведь когда настанет ночь - скрывать правду будет уже невозможно!...
Громадная тень Олимпа переползла линию берега и погасила вечернее сияние моря. Дубраву заполнили сумерки, а дальше в лесах было уже черно. Но вот на границе сумерек и тьмы что-то, вроде, шевельнулось... Феникс вскочил на коня - а в суставах будто ножи! - и поехал в ту сторону.
Мальчик спускался по склону меж деревьев, ведя свою лошадку под уздцы. Лошадка, измученная до полусмерти, брела рядом с ним, припадая на одну ногу; и так они ковыляли вниз по прогалине, одинаково уставшие. Увидев Феникса, мальчик поднял руку в приветствии, но ничего не сказал.
Дротики были привязаны поперёк чепрака, колчана для них у него ещё не было. Лошадка, словно заговорщик, прижималась щекой к его щеке. Одежда на нём была изорвана, колени ободраны и заляпаны засохшей грязью, руки и ноги покрыты царапинами; заметно было, что он исхудал с утра; а хитон спереди был пропитан кровью, снизу доверху... Но он мирно шёл меж деревьев - глаза широко раскрытые и пустые, - шёл легко, будто плыл, с нечеловеческим спокойствием и безмятежностью.
Феникс спешился рядом с ним, схватил его за плечи, начал ругать, спрашивать... Мальчик погладил лошадке морду и сказал:
- Охромел, вот, мой конь.
- Я тут метался, чуть с ума не сошёл от страха! Что ты с собой сделал? Откуда кровь? Где ранен? Где ты был?...
- Я не ранен. - Он вытянул руки, отмытые в каком-то горном ручье. Под ногтями была кровь. Глаза его погрузились в глаза Феникса, но остались непроницаемы. - Я алтарь поставил, устроил святилище и принес жертву Зевсу. - Он поднял лицо к небу. Белый лоб под упругой шапкой волос казался прозрачным, почти светился. Широко раскрытые глаза сияли. - Я принес жертву богу, и он заговорил со мной. Он говорил со мной!
3
Царь Архелай очень любил свой кабинет, так что отделан он был ещё роскошнее, чем Зал Персея. Здесь царь принимал поэтов и философов, которых привлекали в Пеллу его богатые дары и щедрое гостеприимство. На сфинксоголовых подлокотниках египетских кресел покоились в своё время руки Агафона и Эврипида.
Это помещение посвящено было музам; они пели вокруг Аполлона на громадной фреске, покрывающей внутреннюю стену. Аполлон, игравший на лире, загадочно смотрел со стены на полированные стеллажи с драгоценными книгами и свитками. Тиснёные переплёты, позолоченные и украшенные каменьями ларцы; накладки из слоновой кости, агата и сардоникса, шёлковые закладки с золотым кружевом... От царя к царю переходило это бесценное наследство; даже во время междоусобных войн за царство, специально обученные рабы следили за ним, увлажняя воздух и убирая пыль. Прошло уже целое поколение с тех пор, как кто-нибудь брался читать эти книги: слишком они были драгоценны. То что для чтения - хранилось в библиотеке.
В кабинете стояла изысканная бронзовая статуя Гермеса, изобретающего лиру, - её купили у какого-то банкрота в последние годы величия Афин, огромный письменный стол опирался на львиные лапы и был инкрустирован ляписом и халцедоном; а возле него возвышались от самого пола две лампы в виде колонн, обвитых лавровыми ветвями. Всё это почти не изменилось со времён Архелая. Но в читальной келье, что за дальней дверью кабинета, расписные стены спрятались под стеллажами и полками, которые были забиты управленческой документацией; а ложе и читальный столик уступили место заваленному рабочему столу, где секретарь царя каждый день обрабатывал по целому мешку писем.
Стоял морозный, яркий мартовский день, с северо-восточным ветром. Резные ставни были закрыты, чтобы бумаги не раздувало, но холодное солнце, слепящее острыми лучами, пробивалось сквозь щели; а вместе с ними залетали и струйки ледяного воздуха. Секретарь держал под плащом нагретый кирпич, руки греть; его писец, завидуя ему, дул себе на пальцы, но потихоньку, чтобы царь не услышал. а царю Филиппу было хорошо. Он только что вернулся из Фракии, из похода; и после тамошней зимы дворец казался ему Сибарисом роскоши и комфорта.
При том что власть его неуклонно подступала к древней хлебной дороге Геллеспонта, кормившей всю Грецию; при том, что он окружал колонии Афин, склонял к измене их вассальные племена и брал в осаду города их союзников, одной из самых горьких своих обид южане считали то, что он нарушил честный, достойный древний обычай прекращать войну зимой, когда даже медведи залегают в берлогах.
Сейчас он сидел у огромного стола. В загорелой руке - потрескавшейся на морозе, покрытой шрамами, мозолистой от поводьев и копья - был зажат серебряный стилос; он ковырял им в зубах. Рядом, на табурете, сидел писец и держал на коленях табличку; ему предстояло записывать послание вассальному князю в Фессалии.
Домой царя привели южные дела; и он уже знал, как за них приниматься. Наконец-то можно начинать. В Дельфах нечестивые фокийцы, измученные войной и сознанием вины своей, набросились друг на друга, словно бешеные псы. Они хорошо попользовались деньгами, которые чеканили, переплавляя храмовые сокровища, чтобы платить солдатам. А теперь далекоразящий Аполлон добрался-таки до них. Ждать он умел; но в тот день, когда они полезли за золотом под самый Треножник, - он послал им землетрясение. а потом - панику, яростные взаимные обвинения, высылки, пытки... Проигравший вождь с остатками своих сил удерживал теперь только опорные пункты у Фермопил. Он уже сейчас в отчаянном положении, скоро с ним можно будет управиться. Афинские подкрепления гарнизону своему он отослал назад, хотя это были союзники: боялся, что его выдадут победившей партии. Скоро он окончательно дозреет. Царь Леонид там наверно корчится под своим могильным курганом, - думал Филипп.
"Путник, проходящий мимо, ты пойди скажи спартанцам..." Ты пойди скажи им всем, что через десять лет вся Греция будет подвластна мне, потому что ни города друг с другом договориться не могут, ни люди; никто не верит никому. Они забыли даже то, чему учил их ты, Леонид: как надо сражаться и умирать. Мне их и побеждать не придётся; они уже побеждены завистью и жадностью. Они пойдут за мной - и будут гордиться этим; под моим владычеством они вернут себе гордость. Они будут рассчитывать на меня, чтобы вёл их; а их сыновья на моего сына...
Эта мысль напомнила ему, что он посылал за мальчиком уже довольно давно. Он конечно придёт, когда его отыщут; нельзя ждать от девятилетнего мальчишки, чтобы тот постоянно сидел у себя. Филипп снова вернулся мыслями к письму.
Он ещё не успел закончить с письмом, когда услышал из-за дверей голос сына: тот здоровался с его телохранителем. Сколько десятков - или сотен людей знает мальчик по имени? Этот-то в гвардии всего пять дней!...
Открылись высокие двери. Меж ними он казался совсем маленьким. Яркий, ладный; босые ноги на холодном мраморном полу; руки привычно сложены под плащом - но не для того, чтобы их согреть, а в хорошо заученной позе скромного спартанского мальчика, которой научил его Леонид... В этой комнате, рядом с бледными книжниками, отец и сын смотрелись - будто дикие звери среди ручных. Смуглый солдат, выдубленный почти до черноты, - на руках шрамы, на лбу светлая полоса, оставленная кромкой шлема, слепой глаз смотрит молочно-белым пятном из-под полуприкрытого века, - и мальчик у двери: на загорелой шелковистой коже ссадины и царапины мальчишьих приключений, а рядом с его взъерошенной густой шевелюрой позолота Архелая кажется тусклой и запыленной. Домотканая одежда его, когда-то мешавшая, давно уже выцвела и стала мягкой от многочисленных стирок, покорилась хозяину; и теперь смотрелась совсем естественно, как будто он сам её выбрал, с нарочитой надменностью. А серые глаза, освещённые холодным заходящим солнцем, скрывали какую-то тайную мысль.
- Войди, Александр.
Он и так уже входил; Филипп сказал это только для того, чтобы быть услышанным, негодуя на отчуждённость во взгляде. Но Александр подумал, что ему позволили войти, будто слуге. Румянец от ветра на улице схлынул с его лица; кожа казалось посерела, потемнела... Только что, возле двери, он успел подумать, что Павсаний, новый телохранитель, красив той красотой, на которую так падок его отец. Если из этого что-нибудь последует, то какое-то время новой девушки не будет. Бывает такой взгляд - когда тебе смотрят в глаза или наоборот, не смотрят, - что сразу узнаёшь, это уже случилось, или ещё нет. Тут ещё нет.
Он подошёл к столу и остановился, руки по-прежнему под плащом. Но один элемент спартанских манер Леонид так и не смог в него вколотить: он не должен был поднимать глаз, пока старший к нему не обратится.
Филипп, встретив его неподвижный, пристальный взгляд, почувствовал укол знакомой боли. Даже ненависть была бы лучше. Он видел такие глаза у людей, которые скорее умрут, чем сдадут город или перевал. И это не вызов противнику, это внутри, в душе. За что мне такое? - подумал он. Всё ведьма виновата. Это она приходит со своей отравой и крадёт у меня сына, стоит лишь мне отвернуться.
Александр собирался спросить отца о боевых порядках фракийцев. Рассказывали по-разному, а он хотел знать... Однако, как видно, сейчас не получится.
Филипп отослал писца и подозвал мальчика на табурет, покрытый красной овчиной. Сын сел слишком уж прямо, и Филипп тотчас почувствовал, что он уже раздумывает, как бы уйти.
Врагам Филиппа нравилось думать, что все его люди в греческих городах попросту подкуплены. Любовь слепа, но ненависть ослепляет еще хуже. Те, кто ему служил, на самом деле приобретали много; но было среди них немало таких, кто вообще ничего не взял бы, не будь они покорены его обаянием.
- Глянь-ка, - сказал он, доставая блестящий узел выделанной кожи. Угадай, что это такое.
Мальчик стал распутывать; его длинные пальцы тотчас принялись за работу, продевая ремни вверх и вниз, вытягивая, выпрямляя... По мере того как из хаоса возникал порядок, угрюмость на его лице сменилась сосредоточенностью, а потом серьезной взрослой радостью.
- Праща и сумка для камней. На пояс цепляется, через вот эти прорези. Где делают такое?
На сумке были нашиты рельефные золотые пластинки, вырезанные в форме стилизованных, округлых быков.
- Её нашли на убитом фракийском вожде, - сказал Филипп. - Но она с дальнего севера, из травяных равнин. Это скифская.
Александр внимательно разглядывал этот трофей с окраины Киммерийской пустыни, размышляя о бескрайних степях за Истром, о сказочных погребениях тамошних царей, окружённых кольцом мёртвых всадников, которых привязывают к столбам, так что кони и люди засыхают в сухом холодном воздухе. Ненасытная любознательность оказалась слишком сильна - он оттаял, и в конце концов задал все свои вопросы. Разговор получился довольно долгий.
- Ну, давай, - сказал отец, ответив на всё. - Испытай свою пращу, я ведь её для тебя привёз. Посмотрим, что ты сумеешь сбить... Только не уходи слишком далеко, скоро афинские послы приедут.
Праща лежала у мальчика на коленях, но он забыл о ней, только руки помнили.
- Про мир говорить?
- Да. Они высадились в Галесе и попросили, чтобы их пропустили через границу, не дожидаясь глашатая. Похоже, что торопятся.
- Дороги там плохие.
- Да, им надо будет отогреться, прежде чем я стану с ними говорить. Когда буду их принимать, ты можешь прийти послушать. Встреча будет серьёзная; пора тебе посмотреть, как дела делаются.
- Я буду возле Пеллы. И обязательно приду.
- Наконец-то они кончили болтать, и взялись хоть что-то сделать. А то всё гудели, как разбитый улей, с тех самых пор, как я Олинф взял. Последние полгода обхаживали южные города, лигу против нас собрать пытались... Ничего у них не вышло из этого, только пятки оттоптали.
- Неужто все боятся?
- Не все. Боятся не все. Но - ни один не верит другому, ни один!... А некоторые верят тем людям, которые верят мне. И я им за эту веру воздам.
Тонкие золотистые брови мальчика сошлись почти в сплошную линию, подчеркнув тяжёлые надбровья над глубоко сидящими глазами.
- Неужто даже спартанцы не станут сражаться?
- Под командой афинян, что ли? Возглавить борьбу они больше не могут, сыты по горло, а следовать за кем-нибудь - на это они никогда не пойдут. Он улыбнулся про себя. - К тому же, они совсем неподходящая аудитория для оратора, который со слезами бьёт себя в грудь или брюзжит, будто баба базарная, которой обол недодали.
- Когда Аристодем приезжал в прошлый раз договариваться о выкупе за Ятрокла - он мне сказал, он думает, что афиняне проголосуют за мир.
Такие сведения давно уже перестали удивлять Филиппа.
- Ну да, - согласился, он. - И чтобы поощрить их на это, я отпустил Ятрокла безо всякого выкупа; да так, что он оказался дома раньше самого Аристодема. Ладно, пусть шлют мне послов. Если думают, что смогут вовлечь в свой союз Фокиду - или даже Фракию - они попросту дураки. Но тем лучше. Пусть они там голосуют, а я буду действовать. Никогда не мешай своим врагам попусту тратить время... Одним из послов будет тот самый Ятрокл, и Аристодем тоже с ним. Это нам не повредит.
- Он, когда был здесь, Гомера декламировал за ужином. Про Ахилла и Гектора перед их боем. Но он слишком старый уже...
- Старость штука такая, что ко всем приходит. Да!... Филократ, разумеется, тоже в посольстве. - Он не стал тратить время на объяснения, что это его главный агент в Афинах: был уверен, что мальчик и так знает. - С ним будут обращаться, как со всеми остальными. Дома ему не пойдёт на польэу, если мы станем его как-то выделять. А всего их десять человек.
- Десять? - Мальчик изумился. - Для чего? И все они будут речи говорить?
- Знаешь, афинянам все они нужны, чтобы следили друг за другом. Речи произносить будут все, тут ты угадал. Ни один не согласится, чтобы его обошли. Но будем надеяться, что они договорятся заранее и поделят темы, чтобы не повторяться. Но по крайней мере одно стоящее представление мы увидим. Демосфен приезжает.
Мальчик навострил уши, будто собака, которую гулять позвали. Филипп увидел, как у него засветились глаза. Неужто каждый его враг - герой для сына?
А Александр вспоминал красноречие гомеровских героев. Демосфена он представлял себе высоким и смуглым, как Гектор, с голосом звенящим бронзой, и с пылающими глазами.
- Он храбрый? Как те мужи Марафона?
До Филиппа этот вопрос дошёл словно из другого мира. Он помолчал, пока собирался с мыслями, потом зло улыбнулся в чёрную бороду.
- Увидишь его - угадай. Только его самого не спрашивай.
Волна краски медленно пошла по лицу мальчика, от белокожей шеи до самых волос. Губы его плотно сжались. Он ничего не ответил. Рассердившись, он становился разительно похож на мать. Филиппа это всегда уязвляло.
- Ты что, шуток совсем не понимаешь? - спросил он. - Ты обидчив, как девчонка.
Как он смеет говорить мне о девчонках! - подумал мальчик. Его руки так сжали пращу, что золото впилось в ладони.
Ну вот, - подумал Филипп, - все труды насмарку. В глубине души он проклинал и жену, и сына, и себя самого. Заставляя себя говорить как можно мягче и спокойнее, он сказал:
- Ну ладно. Мы с тобой оба посмотрим. Я его знаю не больше, чем ты.
Это была не совсем правда: по донесениям своих агентов он знал того человека очень хорошо; казалось, что прожил с ним много лет. Но чувствуя себя обиженным, он позволил себе этот маленький обман. Пусть мальчишка остаётся при своих ожиданиях и надеждах.
Через несколько дней он послал за сыном снова. Это время у обоих было заполнено до отказа. У отца были дела; у сына - вечные поиски новых испытаний, которые требовали крайнего напряжения: прыгать со скальных уступов, кататься на необъезженных конях, бить рекорды в метаниях и беге... Ну а кроме того он разучивал новую пьесу на своей новой кифаре.
- К ночи они должны быть здесь, - сказал Филипп. - Утром будут отдыхать, потом будет официальный завтрак, потом я их приму... А на вечер назначен торжественный обед, так что время подожмёт и придётся им красноречия поубавить.
Его лучшая одежда хранилась у матери, Мать была у себя. Писала письмо брату в Эпир, жаловалась на мужа. Писала она хорошо: у неё было много таких дел, которые писцу доверить нельзя. Когда он вошёл, она закрыла свой диптих и обняла его.
- Мне надо нарядиться в честь афинских послов, - сказал он. - Я оденусь в синее.
- Я знаю, что тебе к лицу, дорогой мой.
- Нет, это должно быть подходяще для афинян. Я надену синее.
- Тс-с-с! Я повинуюсь, мой господин. Значит синее, брошь из ляписа...
- Нет, в Афинах только женщины носят украшения. Ничего, кроме колец.
- Но, дорогой мой, ты должен быть одет лучше их! Ведь они же ничтожества, эти послы.
- Нет, мама. Они считают украшения признаком варварства. Я их не надену.
В последнее время она уже слышала иногда этот новый голос. Он ей нравился. Но до сих пор сын никогда ещё не говорил таким голосом с ней самой.
- Ты будешь совсем как взрослый, господин мой.
Она сидела; и поэтому смогла прильнуть к его груди и посмотреть на него снизу вверх. Погладила его выгоревшие волосы и добавила:
- Когда пора будет одеваться, приходи ко мне. Ты одичал, как горный лев; я должна сама присмотреть, чтобы всё было как надо.
Вечером он сказал Фениксу:
- Я не хочу ложиться. Пожалуйста, позволь мне посмотреть, как приедут афиняне.
Феникс с отвращением глянул в окно на сгущавшиеся сумерки.
- Что ты надеешься увидеть? - проворчал он. - Проедет мимо кучка людей, в шляпах, нахлобученных до самых плащей... При нынешнем тумане ты слугу от хозяина не отличишь.
- Всё равно. Я хочу их видеть.
Ночь настала сырая, промозглая. С камышей возле озера капала вода; не смолкали лягушачьи трели, словно шум в голове... Неподвижный туман висел на осоке, окаймляя лагуну до самого моря, где его раздувал лёгкий ветерок. На улицах Пеллы грязные канавы смывали накопившиеся за десять дней мусор и отбросы вниз, к воде, покрытой оспинами дождя. Александр стоял у окна фениксовой комнаты, куда пришёл его будить. Сам он уже был одет в сапоги для верховой езды и в плащ с капюшоном. Феникс сидел с какой-то книгой возле лампы и жаровни, словно впереди у него была вся ночь.
- Смотри! Из-за поворота факелы показались, уже едут!...
- Прекрасно. Теперь они будут у тебя на виду, можешь любоваться. Я выйду на улицу только когда время подойдёт, ни на миг раньше.
- Дождик едва капает! Что ты будешь делать, когда мы пойдём на войну?
- Я берегу себя для этого, Ахилл. Не забывай, что кровать Феникса стояла возле огня.
- Слушай. Если ты не поторопишься, я сейчас тебе книгу подпалю! Ты ведь даже не обулся до сих пор!
Он высунулся из окна. В темноте далёкие факелы, размытые туманом, казались крошечными, словно светлячки, ползущие по камню.
- Феникс...
- Да-да, времени ещё достаточно...
- Феникс, он на самом деле хочет договориться о мире? Или только успокоить их хочет, на то время, пока не будет готов? Как олинфийцев.
- "О, Ахиллес богоравный, могучий, возлюбленный сын мой..." - Он искусно настроился на волшебный ритм. -"Будь справедлив ты к отцу, что своим благородством прославлен..."
Недавно ему приснилось, будто он стоит на сцене, одетый для роли Корифея в трагедии, для которой написана только одна страница. На воске всё остальное уже было, но ещё не переписано набело, и он попросил поэта изменить окончание; но когда попытался вспомнить это окончание вспоминались только собственные слезы.
- Ведь олинфийцы первыми нарушили договор. Они стакнулись с афинянами и впустили к себе его врагов. Это нарушение клятвы; а каждый знает, что нарушение клятвы лишает силы любой договор.
- Их кавалерийские генералы бросили в бою своих людей... - Голос мальчика зазвенел. - Он заплатил им, чтобы они это сделали. Заплатил!...
- Наверно, это спасло немало жизней...
- Они теперь рабы, ты понимаешь?... Рабы!... Я бы предпочёл умереть.
- Если бы все это предпочитали, рабов бы не было.
- Я никогда, ни за что не стану использовать предателей, когда стану царём. Если они придут ко мне - я их убью... И всё равно, кого они захотят мне продать. Даже если это будет мой злейший враг - я ему пошлю их головы. Я их ненавижу, как врата смерти. Этот Филократ - предатель!
- И при всём том, он может сделать много хорошего. Ведь твой отец желает добра афинянам.
- Если они согласятся на всё, что он скажет, да?
- Знаешь, его могут заподозрить в том, что он хочет установить тиранию. Когда спартанцы победили их во времена моего отца, у них на самом деле была тирания. Но чтобы хорошо знать историю, надо этого хотеть. Ещё со времён Верховного Царя Агамемнона у эллинов был военный вождь. Иногда какой-нибудь город, иногда человек. Как собрали войско под Трою?... Как отразили варваров в войне с Ксерксом?... Только нынче, в наши дни, эллины грызутся словно псы - а вождя нет, руководить некому.
- У тебя это звучит так, словно они и не стоят руководства. Но не могли же они так быстро измениться.
- За два последних поколения самых лучших перебили. Мне кажется, и афиняне и спартанцы навлекли на себя проклятие Аполлона, с тех пор как сдали внаём фокидянам свои войска. Они прекрасно знали, каким золотом им платят. Куда бы ни попадало это золото, оно приносило смерть и разрушение, и не было этому конца. Теперь твой отец взял на себя роль бога, взялся делать его дело; и посмотри, как он преуспел, об этом толкует вся Греция... Кто более его достоин скипетра вождя? А когда-нибудь этот скипетр перейдёт к тебе...
- Я бы пожалуй... - начал задумчиво мальчик. - Ой, гляди-ка, они уже проехали Священный Бор! Уже почти в городе!... Давай, собирайся.
Когда они садились на коней во дворе, Феникс проворчал:
- Опусти капюшон пониже. Когда они увидят тебя во время приёма - им вовсе незачем знать, что ты болтался на улице, чтобы на них поглазеть, словно простолюдин. Никак я в толк не возьму, зачем тебе это понадобилось, чего ты ждёшь от этой прогулки.
Проехав к Святилищу Героев, они отодвинулись с дороги на небольшую лужайку под деревьями. Листья на каштанах уже распускались, и теперь смотрелись узорчатой бронзой на фоне водянистых облаков, через которые сочился лунный свет. Факелы у всадников эскорта, сгоревшие почти до рукояток, плясали в неподвижном воздухе в такт поступи мулов и лошадей. В свете этих факелов был виден главный посол, рядом с ним ехал Антипатр. Александр узнал бы крупную фигуру и квадратную бороду генерала, даже если бы он и закутался, как все остальные; но тот только что вернулся из Фракии, потому считал эту ночь тёплой. Второй - это должно быть Филократ. Тело бесформенно в промокших одеждах: лютые глаза выглядывают в щель между шляпой и плащом как воплощение злобы. За ним следом ехал Аристодем; Александр узнал его по грациозной посадке. Ладно, с этими ясно. Глаза его обшаривали вереницу всадников, которые в большинстве своём старательно рассматривали дорогу из-под мягких шляп, пытаясь разглядеть, где могут оступиться их кони. Почти в самом конце ехал высокий, хорошо сложенный человек, сидевший по-солдатски прямо. Он казался не молод, но и не стар; свет факелов выхватывал из темноты его короткую бороду и рельефный, худощавый, профиль. Когда он проехал мимо, мальчик посмотрел вслед, сличая это лицо со своими снами. Только что он увидел великого Гектора, который не успеет состариться до тех пор, когда Ахилл подрастет.
Демосфен, сын Демосфена из Пеонии, проснулся на рассвете, приподнял голову с простыни и огляделся вокруг. Комната в царских покоях для гостей просто великолепна. Зелёный мраморный пол, у двери и окон пилястры с золочёными капителями, табурет для его одежды инкрустирован слоновой костью, ночной горшок италийской работы с рельефными гирляндами... Дождь кончился, но задувал порывами леденящий ветер. На нём было три одеяла, но он с удовольствием взял бы ещё столько же. Его разбудила потребность в горшке, но горшок был в дальнем углу, а ковра на полу не было. Вставать противно... Он помедлил, скрючившись и обхватив себя руками. Сглотнув, ощутил саднящую боль в горле. Его опасения, возникшие в дороге, сбывались: в этот великий день величайший из всех дней его жизни - у него начинается простуда.
Он с тоской подумал о своём уютном доме в Афинах, где Кикнос, его раб, перс, и одеял принёс бы побольше, и горшок поставил бы у самой постели, и приготовил бы горячего молока с травами и мёдом... Это смягчило бы ему горло и вернуло бы голос... А теперь он лежал, как великий Эврипид, который встретил здесь свою смерть, заболев среди варварской роскоши. Неужто ему суждено стать ещё одной жертвой этой суровой страны, родины пиратов и тиранов? Неужто и его погубит утёс этого чёрного орла, хищно нависшего над всей Элладой, готового наброситься на каждый ослабевший, истекающий кровью город? Но с крыльями, омрачавшими небо над ними, они боролись беспрестанно; несмотря на мелочную корысть и междоусобицы, вопреки всем предостережениям, знамениям и пророчествам... И вот, сегодня он должен встретиться с хищником лицом к лицу - а у него нос заложило!
На корабле, по пути сюда, он вновь и вновь проговаривал свою будущую речь. Он должен был говорить последним. Чтобы уладить спорный вопрос, кому за кем выступать, они согласились, что говорить будут, начиная с самых старших - и дальше по очерёдности возраста. В то время как все остальные выдвигали доказательства своего старшинства, он страстно заявил, что он самый младший; с трудом веря, что они на самом деле настолько слепы: не понимают, какую возможность дарят ему. Поверил только тогда, когда был составлен самый последний список.
От горшка, стоявшего вдалеке, взгляд его скользнул на вторую кровать. Его сосед Эсхин спокойно спал, раскинувшись на спине. Ну до чего ж здоров, смотреть противно! Теперь его длинные ноги торчали из-под одеял, а широкая грудь гудела в резонанс с храпом. Проснувшись, он всегда резво подбегал к окну и проделывал свои эффектные голосовые упражнения, которые не оставлял с тех пор как выступал на сцене. Если кто-нибудь предупреждал его, что снаружи холодно, он отвечал, что на том или том привале в армии было и похуже. Он должен был говорить девятым, Демосфен десятым. Но казалось - никакое благо не доходит к нему неподпорченным. У него было последнее слово, неоценимое в любом суде; его не купишь ни за какие деньги. Но некоторые из самых сильных аргументов уже будут изложены теми, кто выступит раньше; а потом ему придётся выступать вслед вот за этим человеком - а у него импозантная внешность, мощный голос и тонкое чувство времени; и память актёра, которая позволяет ему говорить без остановки, пока льётся вода из часов, ни разу не заглянув в записи; и - самый несправедливый дар богов - он может говорить экспромтом, если нужно.
А ведь совершеннейшее ничтожество! Воспитан в нищете; правда, отец его, школьный учитель, вколотил в него достаточно грамоты, чтобы дать ему жалованье мелкого чиновника, но мать - та и вовсе жрица какого-то жалкого, занюханного иммигрантского культа, запрещённого законом... Кто он такой, чтобы чваниться в Собрании среди людей, учившихся в ораторских школах?!... Нет сомнений, он держится только на взятках; но нынче без конца только и слышишь, что о его предках, - эвпатридах разумеется, - разорённых Великой Войной, и о его военных подвигах на Эвбее. Какая затасканная сказка!
Снаружи в сыром воздухе скрипуче прокричал коршун, над кроватью пронёсся очередной порыв холодного ветра... Демосфен закутал в одеяла своё тощее тело и с горечью вспомнил, как накануне вечером, когда он пожаловался на мраморный пол, Эсхин заметил бесцеремонно: "Никогда бы не подумал, что тебе это может не нравиться, при твоей-то северной крови." Уже много лет никто ему не напоминал, что дед его женился на скифке, дочери метэка; и только богатство его отца позволило ему выцарапать гражданство. Он-то думал, что всё это уже давно забылось... Теперь, воротя свой простуженный нос от спящего Эсхина и оттягивая хоть на несколько мгновений неизбежный поход к горшку, он злобно бормотал: "Ты был репетитором, а я учёным... Ты был прислужником, а я посвящённым.... Ты протоколы переписывал, а я прения вёл... Ты был третьеразрядным актёром, а я сидел в первом ряду..." На самом деле он никогда не видел Эсхина на сцене; но уж так хотелось, чтобы это было правдой, что он добавил: "Тебя освистывали, а я свистел".
Пол под ногами казался зелёным льдом, от струи шёл пар. Постель тотчас остыла; теперь оставалось только одеваться и двигаться, чтобы хоть как-то разогреть себе кровь. Если бы Кикнос был здесь!... Но Совет приказал им торопиться, остальные по-дурацки предложили обойтись без слуг... Если бы он один взял своего - это дало бы всем его врагам хороший повод для целой кучи нападок!...
Поднималось бледное солнце, ветер стихал. Снаружи должно быть теплее, чем в этом мраморном склепе... Мощёный двор был пустынен, если не считать какого-то бездельника, мальчишки-раба. Вот что, он сейчас возьмёт свой свиток и ещё раз прорепетирует речь. Но если заняться этим здесь, то Эсхина разбудишь; а тот начнёт удивляться, что ему до сих пор нужен написанный текст, и хвастаться, что сам он всё всегда выучивает сразу.
В доме никто ещё не проснулся, только рабы. Он посмотрел на каждого, в поисках греков. При осаде Олинфа было захвачено много афинян, и у всех послов были полномочия уладить дела с выкупом, где появится такая возможность. Он твердо решил выкупить каждого, кого найдёт, хотя бы и за свой собственный счёт. На лютом холоде, в этом мерзком, чванливом дворце, он согревал себе сердце мыслями об Афинах.
В раннем детстве его баловали, но школьные годы были ужасны. Отец богатый торговец - умер, оставив его на попечение нерадивых опекунов. Он был хилым парнишкой и ничьих желаний не возбуждал, зато сам возбуждался часто. В мальчишьем гимнасии это проявилось очень явно, и непристойное прозвище прилипло к нему на долгие годы. В отрочестве он узнал, что опекуны растаскивают его наследство; а у него не было никого, кто взял бы на себя ведение его судебных дел, - только он сам, заика несчастный. Он учился упорно; он занимался до изнеможения, в тайне, подражая актёрам и ораторам, пока не подготовился. Но когда, наконец, выиграл процесс - от денег осталось не больше трети. Он начал зарабатывать себе на жизнь единственным делом, в котором был искусен, и постепенно разбогател на полуприличной мелкой поживе; а в конце концов начал ощущать и крепкое вино власти, когда толпа на Пниксе стала слушать его, затаив дыхание, и верить каждому его слову. Все эти годы он защищал свою слабую, истерзанную гордость доспехами гордости Афин. Афины должны вернуть себе прежнее величие; это будет его трофей победителя такой, который сохранится до конца времен.
Он ненавидел очень многих - одних по достойным причинам, других из зависти, - но больше чем их всех вместе взятых ненавидел он человека, которого ни разу в жизни не видел, сидящего в этом старом кичливом дворце. Македонского тирана, готового превратить Афины в зависимый город. В коридоре татуированный синей краской раб-фракиец чистил пол. Сознание, что он афинянин,- что нет в мире племени выше, - вновь поддержало Демосфена, как и всегда. Царь Филипп должен узнать, что это значит. Да, он зашьёт рот этому человеку, как говорят в судах. Так он пообещал своим коллегам.
Если бы царю можно было бросить открытый вызов, то не было бы нужды в посольстве. Но можно напомнить о прежних узах - и тонко, но достаточно ясно показать, как он нарушал обещания, как раздавал заверения с единственной целью выиграть время, как натравливал одни города на другие, как стравливал разные партии, как оказывал поддержку врагам Афин - и в то же время соблазнял или уничтожал их друзей. Начало речи уже было отшлифовано; но у него есть наготове небольшой эпизод, который надо вставить после вступления; если его слегка подработать - очень хорошо пойдёт. Он должен произвести впечатление не только на Филиппа, но и на остальных послов; со временем кое-кто из них может стать более влиятелен, чем сегодня. И уж во всяком случае он опубликует свою речь.
На каменных плитах мощёного двора валялись ветки, оборванные ветром. Возле низкой стены стояли кадки с подрезанными, облетевшими кустами роз. Неужели они цвели здесь когда-то? Вдали виднелись бело-голубые горы, прорезанные чёрными ущельями; леса под ними густы, словно мех... По ту сторону стены пробежали двое молодых людей, оба без плащей, перекликаясь друг с другом на своём варварском наречии. Он колотил себя руками по груди, топал ногами, сглатывал слюну, в тщетной надежде что больное горло станет получше, - а в голову закралась невольная мысль, что люди, выросшие в Македонии, должны быть более закалёнными. Даже мальчишка-раб, которому конечно не мешало бы заняться обломанными ветками, казалось, ничуть не мёрз в своей единственной грубой одёжке, спокойно сидел на стене; ему было настолько тепло, что он мог и не двигаться. Однако, хозяину не мешало бы обуть его, по крайней мере...
Работать, работать... Он развернул свой свиток на втором абзаце и шагая, чтобы не замёрзнуть, - начал говорить, пробуя то так то эдак. Взаимосвязь модуляций и ритмов, подъёмов и спадов, обвинений и увещеваний превращала каждую произнесенную им речь в законченное произведение искусства. Если его перебивали и он должен был ответить - отвечал как можно короче: чувствовал себя уверенно только тогда, когда возвращался к написанному тексту. Только хорошо отрепетировав, мог он произнести свою речь поистине достойным образом.
- Таковы были, - читал он в пустом дворе, - многочисленные услуги нашего города отцу твоему Аминту. Но до сих пор говорил я о вещах, которых ты, естественно, помнить не можешь, поскольку в то время еще не родился. Позволь же напомнить о добрых делах, которых ты был свидетелем, которые относились уже к тебе самому!...
Он сделал паузу. Здесь Филипп должен заинтересоваться.
- И родичи твои, уже старые сегодня, подтвердят всё сказанное мною. Когда отец твой Аминт и дядя Александрос оба погибли; а вы с братом Пердиккой были малыми детьми; а мать ваша Эвридика была предана теми, кто клялся ей в дружбе; а изгнанник Павсаний возвращался, чтобы бороться за трон, воспользовавшись возникшими обстоятельствами и не без поддержки...
Он говорил, расхаживая по двору, и теперь не хватило воздуха закончить фразу. Переводя дыхание, он заметил, что мальчишка-раб спрыгнул со стены и идёт за ним. Ему вспомнились давние годы, когда его передразнивали, - он резко обернулся, чтобы поймать мальчишку на ухмылке или непристойном жесте. Но мальчик смотрел на него открыто и серьёзно, в ясных серых глазах не было и тени насмешки. Должно быть, его привлекла новизна жестов и интонаций, как какую-нибудь зверюшку привлекает флейта пастуха. Дома, когда репетируешь, слуги спокойно проходят мимо и внимания не обращают...
- ... когда, поэтому, наш генерал Ификрат пришёл в эти земли, Эвридика, мать твоя, послала за ним и - как утверждают все бывшие при этом - подвела к нему твоего старшего брата Пердикку, а тебя, совсем маленького, посадила к нему на колени и сказала: "Отец этих сирот, пока был жив, считал тебя своим сыном..."
Он остановился. Взгляд этого мальчишки сверлил ему спину. Чтобы крестьянское отродье глазело на тебя, словно на скомороха, - это начинает надоедать. Он угрожающе махнул рукой, будто отгоняя собаку.
Мальчик попятился на несколько шагов и остановился, глядя на него снизу вверх, чуть склонив голову набок. И сказал по-гречески, чуть высокопарно и с сильным македонским акцентом:
- Продолжай, пожалуйста. Продолжай про Ификрата.
Демосфен заговорил снова. Он привык обращаться к тысячным толпам, но теперь оказалось, что этот единственный, только что обнаруженный слушатель совершенно нелепо смущает его. И вообще, откуда он взялся?... Что бы это могло значить? Хоть он одет по-рабски, это не садовник. Кто его прислал, и зачем?
Присмотревшись внимательнее, он обнаружил, что мальчик чисто вымыт, даже волосы чистые. Нетрудно догадаться, что это значит. Особенно в сочетании с такой внешностью. Конечно же, это наложник хозяина своего; и мужчина использует его - хотя он и совсем ещё мал - для своих тайных поручений. Почему он всё время слушал?... Демосфен недаром прожил больше тридцати лет в бесконечных интригах. В мозгу у него моментально пронеслось несколько возможных вариантов. Быть может, кто-нибудь из людей Филиппа старается предупредить царя заранее?... Но слишком не похоже, чтобы для этого выбрали такого юного шпиона... Тогда что же?... Или это связной?... Но к кому?
Кто-то из их десятки наверняка подкуплен Филиппом. Пока они ехали сюда, эта мысль не давала ему покоя. Раньше он подозревал Филократа. Где взял он деньги на большой новый дом? Как смог купить сыну призового коня? И он стал вести себя как-то иначе, когда они приблизились к Македонии...
- Что с тобой? - спросил мальчик.
Демосфен вдруг осознал, что всё время пока был углублён в себя, этот маленький раб неотрывно следил за ним. Он разозлился. И медленно, чётко, на кухонном греческом, каким говорят с рабами-чужеземцами, спросил:
- Чего тебе? Кого ищешь? Кто хозяин?
Мальчик снова наклонил голову и, вроде, собрался ответить, но видимо передумал. Совершенно правильно и с меньшим акцентом, чем в первый раз, он спросил:
- Скажи пожалуйста, будь добр, Демосфен ещё не выходил?
Даже себе самому он не признался, что почувствовал себя уязвлённым. Привычная осторожность заставила его ответить:
- Мы, послы, все одинаковы. То, что хотел сказать ему, можешь сказать мне. Зачем он тебе нужен?
- Просто так, - сказал мальчик, ничуть не смутившись тоном строгого допроса. - Хочу его увидеть.
Похоже, что скрываться не имело смысла.
- Я Демосфен. Что ты хотел мне сказать?
Мальчик улыбнулся такой улыбкой, какой хорошо воспитанные дети встречают неудачные шутки взрослых:
- Я знаю, какой он. А кто ты на самом деле?
Тут действительно что-то серьёзное! Быть может, он на пороге какой-то тайны, которой цены не будет!... Он инстинктивно огляделся вокруг. В этом здании может быть полно глаз; и рядом нет никого, кто мог бы ему помочь, придержать мальчишку, не дать ему закричать и всполошить это осиное гнездо. В Афинах он часто стоял возле дыбы, рядом с палачом, когда рабов допрашивали так, как дозволял закон. Чтобы рабы дали показания против своего хозяина, для них надо иметь что-то такое, чего они будут бояться больше, чем самого хозяина. Иной раз попадались и такие малыши, вроде этого; когда идет следствие, мягкость недопустима... Но здесь он был среди варваров и не имел под рукой никаких законных средств. Ладно, придётся постараться самому, он сделает всё, что сможет...
В этот момент из окна гостевых покоев раздались рулады громкого, сочного голоса. Эсхин стоял, выпятив грудь, его обнажённый торс был виден до пояса. Мальчик оглянулся на звук и воскликнул:
- Вот он!
Первым чувством Демосфена была слепая ярость. Он едва не взорвался от скопившейся зависти. Но надо сохранять спокойствие, надо думать, надо двигаться шаг за шагом... Значит, вот кто предатель! Эсхин! Ничего лучшего нельзя было и представить себе. Но нужно иметь хоть какое-то свидетельство, какую-то зацепку; явное доказательство - это уж слишком, об этом и мечтать нечего...
- Это Эсхин, сын Атромета, - сказал он. - До недавнего времени профессиональный актер. Он и делает актерские упражнения для голоса. В гостевых покоях тебе каждый скажет, кто он. Спроси, если хочешь.
Мальчик медленно переводил взгляд с одного из них на другого. Пунцовый румянец пополз от груди до самого лба, окрашивая чистую кожу. Он не произносил ни звука.
Ну, - подумал Демосфен, - теперь мы сможем узнать что-нибудь интересное... Но одно было совершенно несомненно - эта мысль ворвалась в сознание, несмотря на то, что он обдумывал свой очередной ход, - несомненно было, что он никогда в жизни не видел такого красивого мальчишки. Теперь, когда он покраснел, казалось, что вино налито в алебастровый сосуд и смотрится на просвет. Желание стало неотвязным, мешало думать. Потом, потом... Сейчас, быть может, всё зависит от того, удастся ли ему сохранить ясность мыслей. Он узнает, кто хозяин этого мальчишки, и быть может его удастся купить. Кикнос давно уже утратил красоту; он полезен - но и только... Надо будет действовать осторожно, найти надёжного агента... Но сейчас необходимо расколоть мальчишку, пока он не оправился от первого замешательства, сейчас нельзя думать ни о чем другом...
Демосфен сказал резко:
- А теперь говори-ка правду, не вздумай лгать. Зачем тебе нужен Эсхин? Давай, говори всё. Я уже достаточно много знаю.
Наверно, пауза получилась слишком долгой: мальчишка успел собраться и смотрел теперь без тени смущения, даже дерзко.
- Вряд ли ты что-нибудь знаешь, - сказал он.
- Ты пришел к Эсхину. С чем ты пришел? Давай, рассказывай! И не смей лгать!
- Чего ради я стал бы лгать? Я тебя не боюсь.
- Это мы посмотрим. Так чего ты от него хочешь?
- Ничего. И от тебя тоже.
- Ах ты, мерзавец бесстыжий! Не иначе, хозяин тебя балует и портит...
Он продолжил эту тему, пользуясь случаем, чтобы добиться чего-нибудь для себя, - и похоже, мальчик понял; если не слова по-гречески, то, во всяком случае, его намерения.
- Прощай, - сказал он коротко.
Это не годилось.
- Подожди! Не убегай, пока я не закончил свою речь. Кому ты служишь?
Невозмутимо, с легкой улыбкой, мальчик посмотрел на него и ответил:
- Александру.
Демосфен нахмурился. Похоже, среди македонцев из хороших семей Александром зовут каждого третьего. А мальчик тем временем помолчал задумчиво и добавил:
- И богам
-Ты зря транжиришь моё время, - воскликнул Демосфен, вновь охваченный своими чувствами. - Не смей уходить. Иди сюда!...
Мальчик уже отворачивался - он схватил его за кисть. Тот отодвинулся на всю длину руки, но вырваться не пытался. Только смотрел. Глубоко посаженные глаза сначала расширились, а потом, казалось, посветлели из-за сузившихся зрачков. Он сказал очень медленно, на очень правильном греческом:
- Забери с меня свою руку. Иначе ты скоро умрёшь. Это я тебе говорю.
Демосфен отпустил. Ужасный мальчишка, от него страшно становится! Ясно, что это фаворит какого-нибудь очень влиятельного вельможи. Угрозы его, разумеется, мало что стоят, но это Македония... Мальчишка был свободен, но не уходил, задумчиво разглядывая его. И у него в животе зашевелилось что-то холодное. Вспомнились засады, яды, ножи из-за угла в спину... К горлу подступила тошнота, и по спине поползли мурашки. А мальчишка стоял неподвижно и глядел на него из-под копны спутанных волос. Потом отвернулся, перепрыгнул через низкую стену - и исчез.
Голос Эсхина из окна то гудел в самом низком регистре, то возносился ради эффекта - тончайшим фальцетом. Подозрение, только подозрение! Ничего такого, что можно было бы пришпилить к обвинительному акту. А болезнь из горла добралась уже и до носа... Демосфен отчаянно чихнул. Просто необходимо выпить горячего отвара, даже если его приготовит какой-нибудь здешний невежда. Сколько раз говорил он в своих речах о Македонии, что в этой стране никогда ещё не удавалось приобрести ничего хорошего, даже порядочного раба.
Через окно вливается полуденное солнце, согревая комнату и украшая пол кружевом теней от распускающихся листьев. Олимпия на своём позолоченном кресле с резными розами, под локтем у неё кипарисовый столик, а сын сидит на низком табурете возле её колен. Зубы у него сжаты, но время от времени сквозь них прорывается едва слышный стон нестерпимой боли: она расчёсывает ему волосы.
- Самый последний узелок, дорогой мой.
- А ты не можешь его отрезать?
- Чтобы ты обгрызанным стал?... Ты хочешь выглядеть, словно раб?... Если бы я за тобой не следила, ты бы уже завшивел, честное слово. Ну всё. Закончили. Поцелую тебя за то, как замечательно ты держался, и можешь есть свои финики. Только платье моё не трогай, пока у тебя руки липкие. Дорис, дай щипцы.
- Они ещё слишком горячие, госпожа. Ещё шипят.
- Мама, не надо мне волосы завивать! Никто из мальчиков так не ходит...
- Ну а тебе-то что? Ты должен вести других, а не следовать за другими. Разве тебе не хочется быть красивым для меня?
- Возьми, госпожа. Теперь уже не обожгут.
- Замечательно. Ну, теперь не вертись, а то ошпарю. Я это делаю лучше цирюльников, правда? Никто не догадается, что кудри не настоящие.
- Но они ж меня видят каждый день! Все, кроме...
- Сиди спокойно. Что ты сказал?
- Ничего. Я думал про послов. Ты знаешь, я наверно всё-таки надену украшения. Ты была права, перед афинянами надо одеться по-настоящему.
- Конечно! Мы сейчас что-нибудь подберём. И одежду подходящую.
- И потом, у отца ведь тоже будут украшения.
- О, да! Но ты их носишь лучше.
- Я только что Аристодема встретил. Он сказал, я так вырос, что он едва меня узнал.
- Обаятельный человек. Надо пригласить его сюда. Мы сами это сделаем, без отца.
- Ему надо было уходить, но он представил мне ещё одного бывшего актёра, его зовут Эсхин. Он мне понравился, рассмешил меня.
- Его тоже можно пригласить. Он из благородных?
- У актёров это всё равно. Он мне рассказывал о театре. Как они ездят, и ещё - как избавляются от человека, с которым плохо работать.
- Надо быть поосторожнее с этими людьми. Надеюсь, ты не сказал ничего лишнего?
- Нет конечно. Я расспрашивал о партии мира и партии войны в Афинах. Мне кажется, он сам был в партии войны, но мы оказались не такими, как он себе представлял. Мы хорошо с ним поладили.
- Не давай никому из этих людей возможности похвастаться, что его как-то выделили из остальных.
- Он хвастаться не станет.
- Что ты имеешь в виду? Он что, фамильярничал с тобой?
- Нет конечно. Мы просто разговаривали, вот и всё...
Она запрокинула ему голову назад, чтобы завить локоны над лбом. Когда её рука оказалась на уровне его губ, он поцеловал её. В дверь постучали.
- Госпожа, царь велел сказать, что он уже вызвал послов. Он хочет, чтобы принц вошёл вместе с ним.
- Передай, сейчас будет.
Она огладила ему волосы, локон за локоном, и оглядела его. Ногти подстрижены, только что выкупан... Сандалии с золотыми бляшками стоят наготове... Она подобрала ему хитон из шафрановой шерсти, с каймой, которую сама вышивала в пять цветов, красную хламиду на плечо и большую золотую булавку. Поверх хитона начала застегивать пояс с золотой филигранью. Она не особо спешила: если одеть его слишком рано, то ему придется дольше быть с отцом, ждать послов вместе с ним.
- Ещё не всё? - спросил он. - Отец-то ждёт!...
- Он же только что за ними послал.
- Наверно, они уже подошли.
- Тебе ещё надоест слушать их занудные речи.
- Что поделаешь. Надо же учиться, как делаются дела... А я Демосфена видел...
- Того самого? Великого Демосфена? Ну и как он тебе понравился?
- Совсем не понравился.
Она посмотрела на него, отвлекшись от пояса, удивлённо подняв брови, и заметила усилие, с каким он повернулся к ней.
- Отец говорил мне, но я не верил. Однако он оказался прав.
- Надень плащ. Или хочешь, чтобы я тебя одевала, как маленького?
Он молча накинул плащ на плечо; молча, непривычными пальцами, она стала втыкать иглу пряжки в ткань, а та подалась слишком легко. Он не шелохнулся. Она спросила резко:
- Я тебя уколола?
- Нет.
Он встал на колено завязать сандалию. Ткань соскользнула с шеи, и она увидела кровь.
Она прижала к царапине полотенце и поцеловала завитую голову, чтобы помириться до того, как он уйдёт к её врагу. Когда он пошёл к Залу Персея, боль от иглы скоро прошла. А другая боль держалась так, словно он с ней родился. Он не мог вспомнить такого времени, когда бы не испытывал её.
Послы стояли перед пустым троном, за которым вздымалась гигантская фреска: Персей спасает Андромеду. У каждого за спиной было по жёсткому креслу; но даже самым ярым демократам было ясно, что сядут они только тогда - не раньше, - когда царь пригласит их сесть. Глава посольства, Филократ, с нарочитым интересом и беспокойством оглядывался вокруг, изо всех сил стараясь не показать, что он здесь свой человек. Как только определился порядок выступлений и их содержание, он составил краткий обзор и тайно послал его царю. Филипп славился своим умением говорить экспромтом, сильно и умно, но будет благодарен за такую возможность проявить себя в полном блеске. А его благодарность Филократу и так уже была достаточно весомой.
Демосфен стоял крайним слева (они расположились по порядку выступлений), с трудом сглатывая слюну и вытирая нос углом плаща. Стоило ему поднять глаза, он натыкался на яркий взгляд прекрасного юноши с крылатыми ногами, парившего в голубом воздухе. В правой руке у него был меч; в левой он держал за волосы ужасную голову Медузы, направляя её смертоносный взгляд на морского дракона в волнах под ним. Прикованная к заросшей скале распростёртыми руками, с телом, просвечивающим сквозь тонкое платье, и с волосами, раздутыми ветром, который поднял её герой, - Андромеда смотрела на своего спасителя безумными, влюблёнными глазами.
Это был шедевр. Такой же прекрасный, как роспись Зевксия на Акрополе, только ещё больше по размерам. Демосфену было горько, словно эту фреску отобрали в качестве трофея. Прекрасный смуглый юноша, в великолепной наготе (наверняка, для эскизов позировал кто-нибудь из афинских атлетов той великой эпохи), надменно взирал на наследников славы и величия своего города. Демосфен снова ощутил то испуганное замешательство, какое испытывал в давние дни в палестре, когда начинал обнажать своё тощее тело. Вокруг него небрежно расхаживали мальчишки, вызывавшие всеобщее восхищение, подчёркнуто не обращая внимания на публику, глазевшую на них, - а ему доставались только насмешки и то ненавистное прозвище.
Ты мёртв, Персей. Прекрасен, храбр - но мёртв. И нечего тебе так смотреть на меня. Ты умер от малярии на Сицилии, ты утонул в Сиракузской гавани, ты погиб от жажды, отступая без глотка воды. Под Козьей Речкой спартанцы связали тебя и перерезали тебе горло. Палач Тридцати Тиранов пытал тебя калёным железом, а потом задушил. Придётся Андромеде обойтись без тебя. Пусть ищет помощь, где найдёт, - ведь голова дракона вновь показалась меж волн...
Афина парила в небесах, стоя на облаке, и вдохновляла героя. Сероглазая Владычица Победы! Прими меня таким, каков я есть. У меня нет другого оружия кроме слов, но твоя мощь превратит их в меч и Горгону... Только дай мне отстоять крепость твою до тех пор, как она породит новых героев.
Афина ответила ему спокойным взглядом. Глаза у неё серые, как и должно быть... Ему показалось, что он снова ощутил рассветный холод, и пустой живот свело от страха.
Но вот у внутренней двери возникло какое-то движение. Вошёл царь с двумя генералами, Антипатром и Пармением: мощная троица закалённых, жестоких воинов, каждый из которых и сам по себе являл зрелище внушительное. Вместе с ними, почти незаметный рядом с царём, опустив лицо и глядя в пол, шёл белокурый, сверх меры наряженный мальчик. Они все расположились на почётных креслах; Филипп любезно поздоровался с послами и пригласил их сесть. Филократ произнёс свою речь, полную заявлений, которые могли оказаться полезны царю, хотя и были замаскированы показной твёрдостью. Подозрения Демосфена стали ещё сильнее. Общее содержание речи Филократа он знал заранее - рефераты были у всех, - но могут ли все эти слабые места быть только результатом небрежности? Если бы удалось сосредоточиться на этом, если бы глаза но обращались то и дело к царю!...
Он ждал, что Филипп окажется омерзителен; но никак не рассчитывал, что тот настолько выбьет его из колеи. Его приветственная речь была вполне учтива, но в ней не было ни единого лишнего слова. Эта краткость тонко намекала, что дымовые завесы многословия ничего не дадут. Стоило кому-нибудь из говоривших обернуться к остальным послам за поддержкой, Филипп оглядывал их всех по очереди. Демосфену казалось, что слепой глаз - такой же подвижный, как и зрячий, - смотрит ещё более злобно и пронзительно.
День тянулся медленно; солнечные пятна расползлись из-под окна поперёк зала. Ораторы один за другим излагали притязания Афин на Олинф и Амфиполис, на прежние сферы влияния во Фракии и на Херсонес; вспоминали Звбейскую войну и стычки на море; вытаскивали на свет божий давние дела, связанные с Македонией во время длительных и запутанных войн за трон; говорили о хлебном пути по Геллеспонту, о целях Персии и о кознях её прибрежных сатрапов... А Демосфен то и дело замечал, как на нём задерживаются яркий чёрный глаз и пронзительное бельмо.
Его - знаменитого врага тирании - здесь ждали, как ждут прославленного протагониста, который выйдет из-за расступившегося хора. Как часто, в судах и в Собрании, это ожидание разогревало ему кровь и обостряло ум!... Теперь ему пришло в голову, что никогда прежде он не обращался к единственному слушателю. Он знал каждую струну своего инструмента и мог соразмерить малейшее изменение каждого тона. Он умел превратить чувство справедливости в ненависть; умел играть на эгоизме так, что этот эгоизм даже себе самому начинал казаться самоотверженным долгом; он знал, как облить грязью, чтобы она прилипла к чистому человеку, и как отмыть запачканного. Даже среди юристов и политиков своего времени, когда профессиональные стандарты этого искусства были очень высоки, он был профессионалом первоклассным. Но он знал, что он не только отличный профессионал; он ощущал в себе нечто большее. В свои великие дни, когда он воспламенял всех своей мечтой о величии Афин, ему довелось изведать чистое вдохновение художника. Б эти моменты он достигал вершин своей мощи; он мог бы подняться и ещё выше... Но теперь ему стало ясно, что в качестве материала для его работы годится только толпа. А она, расходясь по домам, продолжала расхваливать его речи, но распадалась на многие тысячи отдельных людей, ни один из которых не любил его по-настоящему. Не было никого, кто сражался бы в бою с ним рядом, сомкнув щиты. А когда он хотел любви, это стоило две драхмы.
Дошла очередь до восьмого оратора, Ктесифона. Скоро ему предстоит говорить самому. Говорить не для привычного множества ушей, а вот для этого единственного испытующего глаза.
А нос опять заложило. Пришлось высморкаться в плащ: уж слишком здесь пол красивый. Вдруг снова потечёт, когда он будет говорить?... Чтобы отвлечь свои мысли от царя, он стал смотреть на краснолицего, коренастого Антипатра; и на Пармения, с широкими плечами, лохматой бородой и кривыми ногами кавалериста. Это было ошибкой: у них не было тех обязательств по отношению к ораторам, что у Филиппа, и они откровенно оценивали послов. Антипатр встретил его взгляд жёсткими синими глазами, напомнившими ему глаза филарха, под командой которого он проходил обязательную военную подготовку, будучи долговязым восемнадцатилетним юнцом.
Всё это время расфуфыренный маленький принц сидел на своём креслице неподвижно, не поднимая глаз. Любой афинский парнишка вертелся бы, оглядываясь вокруг. Быть может, это было бы и нескромно (увы, манеры ухудшаются повсюду), но по крайней мере естественно и живо... Спартанское воспитание. Спарта, символ прежней тирании и нынешней олигархии. Только этого и можно ожидать от сына Филиппа!...
Ктесифон закончил. Поклонился. Филипп произнёс несколько слов благодарности. Он умел внушить каждому послу чувство, что его заметили и запомнили. Глашатай объявил Эсхина.
Тот поднялся во весь свой рост (он был слишком высок, чтобы исполнять женские роли, что послужило одной из причин, почему он оставил сцену). Интересно, выдаст он себя? Нельзя упустить ни единого слова, ни единой интонации... И за царём тоже надо следить.
Эсхин начал своё выступление; и Демосфену ещё раз пришлось убедиться, что значит настоящее обучение. Сам он придавал большое значение жесту; по сути, он и ввёл жест в публичные выступления, называя принятые прежде неподвижные скульптурные позы пережитком аристократии; но, разогревшись, он обычно жестикулировал от локтя. А рука Эсхина, правая, свободно покоилась, чуть выглядывая из-под плаща. Он держался с мужественным достоинством, не пытаясь выглядеть большим солдатом чем трое знаменитых полководцев, сидящих перед ним, - но проявляя уважение к ним как человек, который знает лицо войны. Это была хорошая речь, по заранее продуманному плану. Конечно же, он ничего не выдаст, что бы ни замыслил... Демосфен разочарованно сдался, снова высморкал нос и принялся мысленно прогонять своё собственное выступление.
- ... и твои старшие родственники подтвердят, что я скажу. Ибо когда отец твой Аминт и дядя Александрос оба погибли, а вы с братом Пердиккой были малыми детьми...
Демосфен, в шоке, пытался собраться с мыслями. Слова были те самые. Но произносил их Эсхин, а не он.
- ... предана теми, кто клялся ей дружбе, а Павсаний возвращался из изгнания, чтобы бороться за трон...
Голос лился плавно, без усилий, убедительно, в искусном ритме... Возникла, но тут же исчезла дикая мысль о совпадении. Слово следовало за словом, подтверждая эту подлость:
- Ты сам был ещё совсем маленьким. Она посадила тебя ему на колени и сказала...
Прежние годы, когда он отчаянно боролся со своим заиканием, - когда учился говорить громко, но умерять пронзительность тонкого голоса своего, выработали у него потребность в самоуспокоении. Тихо, но вполне слышно, он снова и снова - со свитком в руке -репетировал свой пассаж по дороге сюда, на борту корабля и в постоялых дворах. Этот скоморох, разносчик чужих слов, конечно же, мог выучить их на слух.
Эсхин закончил его эпизод. Похоже, он произвёл впечатление на всех. На царя, на обоих генералов, на остальных послов, - на всех, кроме мальчика, который задвигался наконец после долгих часов неподвижности и начал чесать себе голову.
Демосфен оказался лишён не только самого впечатляющего пассажа. Хуже было другое: от этого эпизода он собирался перейти к главной теме своей речи. А теперь, в самый последний момент, приходилось переделывать её всю.
Он никогда не был силён в импровизации, даже если аудитория поддерживала его. А ожидающий глаз царя снова обратился к нему.
Он в отчаянии перебирал отдельные части своей речи, примеряя их так и сяк, чтобы составить нечто связное. Но раньше он совершенно не интересовался выступлением Эсхина, и теперь не имел ни малейшего понятия, сколько ещё тот будет говорить и что скажет; и как скоро настанет его очередь. Эта подвешенность мешала думать. Вспоминалось только, как он бывало пресекал неумеренные претензии этого выскочки, напоминая ему - и окружающим влиятельным людям, - что вышел он хоть и из знати, но из опустившейся; что в детстве растирал чернила для школы своего отца, что работал он писарем, а на сцене никогда не играл ведущих ролей. Кто мог рассчитывать, что он принесёт в благородный театр политики низкие трюки своей подлой профессии?
И ведь его нельзя будет обвинить в этом, никогда. Признать такую правду означало бы стать посмешищем в Афинах, до конца жизни...
Судя по интонации, Эсхин заканчивал. Демосфен ощутил холодный пот на лбу. Он ухватился за свой первый абзац; сейчас главное начать, а дальше, с разгона уже легче будет. Персей парил в воздухе, презрительно усмехаясь. Царь сидел, поглаживая бороду. Антипатр что-то шептал Пармению. Мальчик ворошил пальцами волосы.
Эсхин, закончив свою речь самым лучшим пассажем Демосфена, теперь с достоинством кланялся. Его благодарили.
- Демосфен, сын Демосфена, - объявил глашатай, - из Пеонии.
Он поднялся и начал. Очень осторожно, словно к краю пропасти подходил. Всё чувство стиля его покинуло; он был рад, что хоть слова вспоминаются. Почти перед самым концом к нему вернулась находчивость; он понял, как можно заполнить пробел... Но в этот момент взгляд его привлекло какое-то движение. Впервые за всё это время мальчик поднял голову.
Завитые кудри, обмякшие уже перед тем как он начал их чесать, превратились в спутанную гриву, упруго торчащую вокруг головы; серые глаза широко открыты... Он едва заметно улыбался.
- Чтобы рассмотреть вопрос со всех сторон... со всех сторон...
чтобы рассмотреть...
Голос застрял где-то в горле. Рот раскрывался и закрывался, но из него вылетало только дыхание.
Все выпрямились в креслах и смотрели на него. Эсхин поднялся и заботливо похлопал его по спине. А понимающие глаза мальчика были нацелены на него, ничего не упуская и ожидая, что будет дальше. Лицо его сияло ярко и холодно.
- Чтобы рассмотреть вопрос со всех сторон, я... я...
Царь Филипп, изумлённый, уловил, что сейчас может проявить великодушие.
- Уважаемый, - сказал он. - Не спеши. Не волнуйся. Ты сейчас всё вспомнишь.
Мальчик чуть-чуть наклонил голову набок, Демосфен узнал эту позу. И снова распахнулись серые глаза, измеряя его страх.
- Постарайся всё вспомнить постепенно, - добродушно сказал Филипп. - С самого начала. Не стоит отчаиваться из-за случайной заминки, как бывает с актёрами в театре. Уверяю тебя, мы никуда не торопимся...
Что это за игра в кошки-мышки? Ведь невозможно, невероятно, чтобы мальчишка не сказал отцу! Он вспомнил греческий, как в классе: "Ты умрёшь. Это я тебе говорю."
Среди послов раздался тихий ропот. В его речи была важная тема, которой никто из них не затронул. Хоть бы заглавия удалось вспомнить, основные темы хотя бы.... В панике, одурев от страха, он последовал совету царя буквально - и снова, запинаясь, начал со своего вступления. Губы мальчика беззвучно шевелились, мягко, с улыбкой. Голова у Демосфена стала пустой и лёгкой, словно высохшая тыква.
- Извините, - сказал он. И сел.
- В таком случае, господа, - сказал Филипп, сделав знак глашатаю, я дам вам мой ответ, когда вы отдохнёте и подкрепитесь.
Выходя из Зала, Антипатр с Пармением обсуждали, как бы выглядели эти послы в кавалерии. Филипп, направляясь к своему кабинету, где у него лежала заготовленная речь (он оставил несколько пробелов, на случай если возникнут новые темы), заметил, что сын смотрит на него. Он поманил кивком; мальчик пошёл за ним в парк; там они оба облегчились в задумчивом молчании.
- Ты бы мог выйти, - сказал Филипп. - Я просто не подумал, забыл тебя отпустить.
- А я ничего не пил перед приёмом. Ты меня предупреждал когда-то.
- Вот как? Ну, хорошо. Как тебе понравился Демосфен?
- Ты был прав, отец. Он трус.
Филипп оправил одежду и оглянулся. Что-то в голосе сына заставило его насторожиться.
- Что с ним стряслось? Быть может ты знаешь?
- Тот актёр, что говорил перед ним, украл кусок его речи.
- С чего ты взял?
- Я слышал, как он репетировал в парке. Он заговорил со мной.
- Демосфен?... О чём?
- Он принял меня за раба и решил, что я шпионю. Потом, когда я заговорил по-гречески, он решил, что я чей-нибудь постельный пацан. Казарменное словечко вспомнилось легче всего. - Я ему не сказал, кто я. Решил, что лучше подожду.
- Чего?
- Когда он начал говорить, я поднял голову, - и он меня узнал.
Мальчик радостно смотрел, как по отцовскому лицу расплывается смех. Сначала губы разошлись в улыбку с выбитым зубом, потом засмеялся здоровый глаз, и даже слепой.
- Но почему ты не сказал мне сразу?
- Он как раз этого и ждал. А теперь не знает, что думать.
Филипп посмотрел на него, сверкнув глазом.
- Он что, предлагал тебе?
- Не мог же он просить раба. Он только гадал, сколько я могу стоить.
- Ну, надо полагать, теперь он это знает.
Отец и сын обменялись взглядом. Это был момент совершенной гармонии: оба они были прямые потомки и наследники тех вождей, что когда-то, в прошлом тысячелетии, пришли на колесницах из-за Истра, вооружённые бронзовыми мечами. Одни повели свои племена дальше на юг, захватили те земли и переняли их обычаи; другие взяли эти горные царства и сохранили прежний язык и жизненный уклад, хороня своих мёртвых в склепах рядом с предками - чьи черепа были покрыты шлемами из клыков кабаньих, а кости пальцев сжимали рукоятки двойных топоров, - и передавая от отца к сыну утончённую щепетильность кровной вражды и мести.
За оскорбление отплатили человеку, которого нельзя было покарать мечом; да он и не стоил такого благородного наказания. Отплатили тонко, способом, скроенным по его собственной мерке. Это было не хуже, по-своему, чем та давняя месть в Эгах.
Условия мира обсуждали в Афинах долго и подробно. Антипатр и Пармений, приехавшие от имени Филиппа, с чрезвычайным интересом наблюдали диковинные южные обычаи. В Македонии голосование проводили только по поводу смертных приговоров, а все остальные дела решал царь.
К тому моменту, когда условия были приняты (чему очень поспособствовал Эсхин) и послы поехали назад ратифицировать договор, царь Филипп успел захватить крепость фракийского вождя Керсоблепта; и тот сдался, согласившись прислать в Пеллу своего сына в качестве залога верности своей.
Тем временем, в горных крепостях над Фермопилами, у изгнанника Фалека-Фокидянина, грабителя храмового, не осталось ни золота, ни продовольствия, ни надежды. Теперь Филипп вёл с ним тайные переговоры. Весть, что Македония захватила Горячие Ворота, поразила бы Афины, как землетрясение. Афинянам гораздо легче было бы простить фокидянам все грехи, чем перенести такое. Потому эти переговоры надо было скрывать до тех пор, пока мир не будет подтверждён священными и нерушимыми клятвами.
Со вторым посольством Филипп был очарователен. Эсхин оказал ему чрезвычайно важную услугу; и он не был куплен, а просто поменялся в сердце своём... Он с радостью принял заверения царя, что тот не замыслил никакого вреда Афинам, - это было искренне, - и что с фокидянами собирается поступить мягко - это тоже было похоже на правду. Фокида нужна была Афинам не только для того, чтобы держать Фермопилы, но и для того чтобы сдерживать главного врага - Фивы.
Послов приняли, как родных; надарили им дорогих, заметных подарков, - и все они приняли эти подарки, кроме Демосфена. На этот раз он говорил первым, но все его коллеги согласились, что ему недоставало его обычного огня. К тому же, они ссорились и интриговали всю дорогу от самых Афин. Подозрения Демосфена относительно Филократа превратились в твёрдую уверенность. Ему очень хотелось убедить остальных, но в то же время хотелось и обвинить Эсхина. Однако, если усомнятся в одном обвинении, то под сомнением окажется и другое... Горько размышляя об этом, он шёл обедать в Зал, где гостей развлекал юный Александр и ещё один мальчик: прощальные песни пели под аккомпанемент лиры. Поверх инструмента на Демосфена глядели, не отрываясь, холодные серые глаза. Быстро оглянувшись, он увидел улыбку Эсхина.
Торжественные обещания были подтверждены, послы поехали домой. Филипп сопровождал их на юг до самой Фессалии, не ставя их в известность, что ему это по пути. Едва они двинулись дальше, он свернул к Фермопилам и забрал у Фалека те горные крепости в обмен на охранную грамоту. Изгнанники ушли, преисполненные благодарности, и разбрелись, с тем чтобы сдавать внаём своё оружие в бесконечных междоусобных войнах по всей Греции, умирая где придётся, когда попадут под стрелу Аполлона.
Афины были в панике. Все ждали, что Филипп накинется на них, как некогда Ксеркс. На стены выставили охрану, в город стекались толпы беженцев со всей Аттики... Но Филипп только прислал письмо, в котором говорилось, что он хочет навести порядок в Дельфах, - а дела там были скандальные, - и приглашает афинян принять в этом участие, прислав вспомогательный отряд.
Демосфен произнёс пламенную речь, клеймившую вероломство тиранов. По его словам, Филипп хотел, чтобы отдали в заложники весь цвет афинской молодежи. Никакого отряда посылать не стали. Филипп искренне изумился; он был оскорблён, ему словно в душу наплевали. Он только что проявил милосердие, даже не пытаясь преследовать своих врагов, а ему никто и спасибо не сказал!... Оставив Афины в покое, он навалился на Фокиду. У него было благословение Священного Союза: государств, которые считались хранителями храма вместе с Фокидой.
Фракийские дела были уже улажены, так что теперь он мог задействовать здесь все свои силы. Фокидские крепости сдавались одна за другой. Вскоре всё было кончено, и Священный Союз собрался решать участь побеждённых. Фокидян все теперь ненавидели, за то что их награбленное, богом проклятое богатство губило всё на своём пути. Большинство делегатов хотело замучить их до смерти, или сбросить с Федриадских скал, или уж, по меньшей мере, продать всех в рабство, до последнего человека. Но Филиппа давно уже тошнило от ужасов войны, и он предвидел новые бесконечные войны за обладание этой землёй, если она опустеет. Он предложил пощадить их. В конце концов было решено расселить фокидян по их собственной стране, но в маленьких деревнях, которые нельзя будет укрепить. Им запретили восстанавливать стены и обязали платить ежегодные репарации храму Аполлона. Демосфен произнёс пламенную речь, осудив эти зверства.
Священный Союз послал Филиппу ноту с благодарностью за то, что очистил от богохульства наисвятейший храм всей Греции; и предоставил Македонии два места в Совете, которые прежде принадлежали Фокиде. Он уже успел вернуться в Пеллу, когда за ним прислали двух вестников, приглашая председательствовать на ближайших Пифийских Играх.
После официального приёма он стоял в одиночестве у окна своего кабинета, наслаждаясь счастьем своим. Это было не только великое начало. Это был итог многотрудных дел, о котором он мечтал долгие-долгие годы: его, наконец-то, признали эллином.
Он полюбил Элладу с юности. Ненависть Эллады жгла его, словно бич. Она потеряла себя, она опустилась, - но ей нужно было только руководство, чтобы возвыситься снова, и в душе он чувствовал предназначение своё.
Эта его любовь родилась в горечи, когда чужие люди увели его из гор и лесов Македонии на унылую Фиванскую равнину. Фивы были живым символом поражения. Хотя его хозяева-тюремщики были учтивы с ним, многие фиванцы вели себя иначе. Он был оторван от друзей и от родни, от благосклонных девушек и от замужней любовницы, первой женщины в его жизни... В Фивах о свободных женщинах не могло быть и речи, потому что за каждым его шагом следили; а если он шёл в весёлый дом, то денег хватало только на таких шлюх, от которых его тошнило.
Единственное утешение он находил в палестре. Там никто не мог посмотреть на него сверху вниз: он проявил себя атлетом искусным, упорным и мужественным. Палестра приняла его; и дала ему понять, что тамошняя любовь его не отвергает. Поначалу это было только от одиночества и от нужды, но оказалось - утешает... А потом, постепенно, в городе, где такая любовь имела давние традиции и высокий престиж, она стала для него столь же естественной, как и любая другая.
Новые друзья ввели его в круг философов и учителей риторики; а в конце концов появилась возможность учиться и искусству войны, учиться у знатоков этого дела. Он постоянно мечтал о доме и был счастлив вернуться домой; но к тому времени он был уже посвящён в таинства Эллады и прикипел к ней на всю жизнь.
А алтарём Эллады, душой Эллады были Афины. Единственное, чего он хотел от Афин, - чтобы они вернули себе былую славу. Нынешние афинские вожди казались ему сродни фокидянам в Дельфах: недостойные люди захватили священный храм. В глубине души он знал, что для Эллады слава и свобода неразделимы; но вёл себя, как влюблённый, который уверен, что даже самую сильную черту в характере любимой можно изменить, стоит лишь справить свадьбу.
Все его политические шаги - даже самые нечестные, а это случалось нередко, - были в конечном итоге направлены на то, чтобы отворить её дверь. В крайнем случае он был готов и взломать эту дверь - всё лучше, чем потерять всякую надежду, - но мечтал, чтобы дверь открыла она сама. И вот он держал в руках изящный свиток из Дельф. Ключ. Пусть пока не от внутренних комнат, а только от калитки, - но ключ!...
В конце концов ей придётся его принять. Когда он освободит ионийские города - родичей её - от векового рабства, она откроет ему сердце своё. Эта мысль разрасталась в его душе. Недавно, словно знамение, пришло к нему длинное письмо от Изократа. Этот философ был настолько стар, что дружил с Сократом еще в те времена, когда Платон мальчишкой в школу бегал. Он родился ещё до того, как Афины объявили войну Спарте и начали то многолетнее кровопускание, обессилившее всю Грецию. Теперь, уже на пороге столетия своего, он всё ещё живо интересовался всем происходящим и убеждал Филиппа объединить греков и вести их за собой. Мечтая у окна, Филипп видел Элладу, которой юность вернёт не крикливый оратор, называющий его тираном, а настоящий Гераклит, не чета тем захиревшим и изболтавшимся спартанским царям. На Акрополе будет стоять его статуя; Великий Царь займёт место, подобающее всем варварам, - будет платить дань и поставлять рабов, - а Афины Филиппа снова станут Школой Эллады.
Его мысли нарушили юные голоса. Прямо под ним, на террасе, его сын играл в кости с маленьким заложником, сыном Тэра, царя фракийского племени агриан.
Филипп смотрел на них с раздражением. Что нашёл его сын в этом маленьком дикаре? Даже в гимнасий его с собой таскает. Это рассказал один из князей в гвардии; у того сын тоже туда ходил, и это ему не нравилось.
С ребёнком обходились вполне гуманно: он всегда был сыт и одет, его не заставляли работать или вообще делать что-либо не подобающее его рангу. Конечно же, ни в одной благородной семье принять его не захотели, как приняли бы какого-нибудь цивилизованного мальчишку из греческого города приморской Фракии. Пришлось найти ему место во дворце. А поскольку агриане народ воинственный и их подчинение долго длиться не может - к нему приставили стражу, на случай если вздумает бежать. Почему Александр, который мог выбирать среди самых достойных сверстников в Пелле, отыскал себе именно этого приятеля - просто непостижимо. Но нет сомнений, что скоро эта блажь пройдёт и увлечение забудется; так что тут и вмешиваться не стоило.
Два принца сидели на корточках на плитах террасы. Разговаривали они на смеси македонского и фракийского, помогая себе жестами, где не хватало слов. Впрочем, больше говорили по-фракийски, поскольку Александр учился быстрее. Охранник скучал, сидя на цоколе мраморного льва.
Ламбар был из рыжих фракийцев, потомок северных завоевателей, которые тысячу лет назад пришли на юг и основали свои горные княжества среди смуглых пеласгов. Он был на год старше Александра, а казался ещё больше: крупный парень. Копна огненных волос; на плече вытатуирована архаичная лошадь с крошечной головой, знак его царской крови, - как и каждый высокородный фракиец, он считал себя прямым потомком полубога Реза-Наездника, - а на ноге олень, знак его племени. Когда он вырастет настолько, что дальнейший рост не сможет ничего испортить, его должны разукрасить сложным орнаментом из символов, соответствующих его рангу. На шее у него, на засаленном кожаном шнурке амулет: грифон из жёлтого скифского золота.
Сейчас он держал в руке кожаный мешочек для игральных костей и бормотал заклинания над ним. Стражник, который предпочёл бы пойти куда-нибудь в другое место, где у него были приятели, нетерпеливо кашлянул; Ламбар пугливо оглянулся на него.
- Не обращай внимания, - сказал Александр. - Он стражник, только и всего. А ты можешь делать, что хочешь, он не смеет тебе приказывать.
Он считал великим позором дома своего, что с царственным заложником в Пелле обращаются хуже, чем с его отцом в Фивах. Он думал об этом уже до того, как однажды застал Ламбара в слезах. Тот безутешно рыдал, уткнувшись головой в дерево, а бесстрастный страж стоял рядом и смотрел. При звуке нового голоса Ламбар обернулся, словно зверь в западне, но протянутую руку понял. Если бы над его слезами посмеялись - он стал бы драться, пусть его даже убьют потом... Александр это понял, тут не нужны были слова.
В рыжих волосах Ламбара были рыжие вши. Гелланика разворчалась, хотя он попросил даже не её саму, а её служанку разобраться с этим тогда. А когда Александр послал за сластями, чтобы угостить Ламбара, их принёс раб-фракиец...
- Он всего лишь караульный. А ты мой гость. Тебе кидать, давай.
Ламбар повторил свою молитву фракийскому небесному богу и назвал пятёрку. Выпало два и три.
- Ты просишь его о таких мелочах?... Он может обидеться. Боги любят, чтобы их просили о чём-нибудь великом!
Ламбар, который в последнее время стал реже молиться о возвращении домой, сказал:
- Но твой-то бог для тебя выиграл?
- Нет! Я просто стараюсь почувствовать удачу. А молитвы я берегу.
- Для чего?
- Ламбар, послушай. Когда мы вырастем большие, когда мы станем царями... Ты понимаешь, о чём я говорю?
- Когда умрут наши отцы.
- Когда я пойду на войну, ты будешь моим союзником?
- Да. А что такое союзник?
- Ты приведёшь своих людей биться с моими врагами, а я буду биться с твоими.
Из окна, сверху, Филипп увидел, как фракиец схватил его сына за руку, встал на колени и каким-то особым образом сплёл руки Александра со своими. Потом поднял лицо и стал говорить что-то, громко и воодушевлённо; а Александр терпеливо стоял на коленях возле него, держа его сплетенные руки и внимательно слушал. Вдруг Ламбар вскочил на ноги и издал тонкий громкий крик, похожий на вой брошенной собаки, пытаясь изобразить фракийский боевой клич. Филипп ничего не понял в этой сцене, но смотрел на неё с омерзением; и рад был увидеть, что часовой поднялся и пошёл в сторону мальчишек.
Это напомнило Ламбару правду: напомнило, кто он. Его пеан оборвался, он помрачнел и опустил глаза.
- Чего тебе надо? У нас всё нормально, он меня учит своим обычаям. Иди назад.
Часовой только что собирался разнимать подравшихся ребят, теперь ему пришлось извиняться.
- Если ты мне будешь нужен, я сам тебя позову. Это прекрасная клятва, Ламбар. Повтори самый конец.
- "Я не нарушу эту клятву, - медленно и торжественно произнёс Ламбар, если только не обрушится небо и раздавит меня, или земля не разверзнется и поглотит меня, или поднимется море и утопит меня." Мой отец целует своих вождей, когда они клянутся ему.
Филипп, не веря глазам своим, смотрел, как его сын взял в ладони рыжую голову юного варвара и запечатлел на его лбу ритуальный поцелуй. Слишком далеко это зашло, это уже не по-эллински... Филипп вспомнил, что ещё не рассказал сыну новость о Пифийских Играх, на которые собирался взять его с собой. Надо сейчас же его позвать и отвлечь от этого варвара!
Плиты были покрыты пылью. Александр чертил по ней обломанной веточкой.
- Покажи, как ваш народ строится для боя.
Из окна библиотеки, этажом выше, Феникс смотрел с улыбкой, как склонились над какой-то серьёзной игрой две головы, золото и охра. Его всегда радовало, если его подопечный хоть на миг становился ребёнком, словно отпускалась тетива на луке. Присутствие стражника облегчало его собственные заботы. Он вернулся к своей неразвёрнутой книге.
- Мы тыщу голов добудем! - радовался Ламбар. - Чик-чик-чик!...
- Это конечно, но где же пращники стоят?
Стражник, получивший распоряжение, подошёл снова:
- Александр, тебе придётся оставить этого парня со мной. Царь, отец твой, тебя зовёт.
Александр так глянул ему в глаза, что он невольно переступил с ноги на ногу.
- Хорошо, - сказал мальчик. - Но не мешай ему делать всё, что он захочет. Ты солдат, а не педагог. И не называй его "этим парнем". Если я могу обращаться к нему по роду его и званию, то можешь и ты. Ясно?
Он пошёл наверх, меж мраморных львов, сопровождаемый взглядом Ламбара. Его ждали великие новости из Дельф.
4
- Жаль, что ты не можешь уделять музыке больше времени, -сказал Эпикрат.
- Знаешь, дни слишком короткие. Почему приходится спать?... Лучше было бы без этого.
- Если спать не будешь, исполнение твоё лучше не станет.
Александр погладил полированный корпус кифары, с инкрустацией и с колками из слоновой кости. Двенадцать струн чуть слышно вздохнули. Он снял с себя ремень, позволявший играть стоя (если держать на коленях, то звук приглушается), положил кифару на стол и сел рядом, перебирая струны то здесь то там, проверяя настройку.
- Ты прав, - сказал Эпикрат. - А почему приходится умирать?... Лучше было бы без этого...
- Да. Сон на самом деле похож на смерть.
- Ну, не спеши! Тебе всего двенадцать, так что времени впереди очень и очень много. Мне хотелось бы, чтоб ты принял участие в состязаниях. Это даст тебе цель, ради которой стоит поработать. Я думал о Пифийских Играх. За два года ты вполне можешь подготовиться.
- А до скольки лет можно участвовать среди юношей?
- До восемнадцати. Отец твой согласился бы?
- Если буду выступать только как музыкант - ни за что не согласится. Да я и сам не соглашусь. А зачем тебе это надо?
- Это бы тебя подтянуло.
- Так я и думал. Но тогда музыка перестала бы доставлять мне радость. Эпикрат привычно вздохнул. - Ты не сердись, Эпикрат. Дисциплины мне и у Леонида хватает.
- Это я знаю. В твои годы я играл хуже тебя. Ты и начал раньше и учили тебя лучше, это я могу сказать не хвастаясь. Но ты никогда не станешь музыкантом, Александр, если будешь пренебрегать философией этого искусства.
- Но у меня нет математики в душе, и никогда не будет. Ты это знаешь. И я всё равно не смог бы стать музыкантом, меня ждёт много других дел.
- Но почему бы всё-таки не принять участие в Играх, и в музыкальных состязаниях тоже?
- Нет. Когда я ходил смотреть - подумал, что ничего лучше и представить себе невозможно. Но после состязаний мы остались, и я с атлетами познакомился. И понял, как это всё на самом деле. Я могу побить любого из них, потому что нас учат быть мужчинами. А эти мальчики - они специально мальчики-атлеты. Они часто кончаются ещё до того, как повзрослеют. Но даже если и нет - даже если вырастут здоровыми - всё равно. Те мужчины только ради Игр и живут. Как у женщин вся жизнь только в том, чтобы женщинами быть.
Эпикрат кивнул.
- Это началось уже при мне, на моей памяти. Люди, не заработавшие себе права гордиться самими собой, гордятся своим городом, который прославили другие. А кончается это тем, что у города вообще не остаётся ничего, чем гордиться можно. Кроме своих мёртвых, которые умели гордиться собой. Ну, ладно. Зато в музыке кто бы ни сделал что хорошее - оно всё наше. Сыграй. Позволь мне послушать ещё раз. Только теперь давай поближе к тому, что композитор написал.
Александр повесил инструмент поперёк груди, басовыми струнами к себе, и мягко тронул их пальцами левой руки, а верхние струны
медиатором, который был в правой. Голова его чуть склонилась набок; казалось, он слушает больше глазами, чем ушами. Эпикрат следил за ним со смешанным чувством раздражения и любви. И, как всегда, спрашивал себя: смог бы он научить мальчика чему-то большему, если бы отказался его понимать? Нет, скорее всего тот просто бросил бы музыку. Ему ещё и десяти не было, когда он уже умел достаточно, чтобы бренчать на лире за ужином, как подобает благородному человеку. Никто не стал бы настаивать, чтобы он учился дальше.
Александр взял три звучных аккорда, сыграл длинную журчащую каденцию и запел.
В возрасте, когда у всех македонских мальчишек голоса начинают грубеть, его чистый альт стал только сильнее прежнего. Когда этот голос возносился ввысь, вместе с высокими трелями струн, вылетавшими из-под медиатора, Эпикрат всегда удивлялся, что его это, вроде, совершенно не смущает. И он не стеснялся явно скучать, - даже показать, что злится, - когда другие ребята обменивались непристойностями, как свойственно мальчишкам в эти годы. Мальчик, которого никто никогда не видел испуганным, может себе позволить быть не таким как все.
Бог каждого ведёт по своему пути,
И ни дельфину ни орлу от бога не уйти,
На каждом из людей лежит его рука,
Но некоторым он дарует славу на века...
Голос взлетел и затих; струны повторили напев, словно отдались эхом в ущелье.
Опять его понесло, - со вздохом подумал Эпикрат.
Стремительная, страстная импровизация опять, как всегда, была слишком громкой, слишком надрывной... Но Эпикрат не вмешивался: не хотел, чтобы Александр обращал внимание на него. Он злился на себя; за то что растрачивает здесь жизнь впустую, во многом себе отказывая и прекрасно понимая бессмысленность своих усилий. Ведь он даже не влюблён - вкусы у него совсем другие, - так чего ради он тут торчит?
Такое исполнение восхитило бы верхние ряды в одеоне Афин или Эфеса, думал он, - они освистали бы судей... Но ведь Александр не на публику работает, и его манера не от невежества - уж об этом я позаботился, - а от чистейшей, совершеннейшей наивности... Как раз поэтому я и здесь. Я чувствую, что необходим, хоть и не могу измерить всю глубину этой необходимости. И отступиться мне просто страшно.
В Пелле у него был один мальчишка - сын местного торговца, -которого он услышал нечаянно и взялся учить бесплатно, для души. Паренёк обещал стать настоящим профессионалом, занимался усердно, был благодарен... Но тё плодотворные уроки значили для Эпикрата гораздо меньше чем эти, на которых все его святыни безжалостно швырялись на неизвестный алтарь.
Украсьте чёлн цветами, пою я храбрецам...
Зазвучало бешеное крещендо. Губы мальчика были приоткрыты в неистовой, интимной улыбке, какая бывает при акте любви, совершаемом в темноте. Инструмент не выдержал и начал фальшивить; он наверняка это слышал, - но продолжал, как будто его воля могла подчинить струны.
Когда-нибудь он обойдётся с самим собой точно так же, как сейчас с кифарой, - подумал Эпикрат. - Мне надо уезжать, давно пора. Я уже дал ему всё, что он способен взять, а это он может и без меня. В Эфесе постоянно, круглый год, можно слушать хорошую музыку, а иной раз бывает и самая лучшая... И в Коринфе хотелось бы поработать... Можно взять с собой Пифона, ему очень полезно послушать мастеров... А этот - я его не учу, а он меня разлагает. Он приходит ко мне выговориться, я для него слушатель, который понимает язык. И я слушаю, хотя он и уродует родной язык мой. Пусть он играет тем богам, какие его услышат, а мне пора уезжать.
... Так будь же ты достоин рожденья своего!
Он снова рванул медиатором по струнам. Одна лопнула и хлестнула по остальным, задребезжал диссонанс, наступила тишина. Он смотрел на кифару, словно не веря.
- Ну? - сказал Эпикрат. - А ты чего ждал? Ты думал, кифара бессмертна?
- Я думал, она подержится, пока я допою.
- С конём ты бы так обращаться не стал, верно?... Дай-ка сюда.
Он достал из коробки новую струну и начал приводить инструмент в порядок. Мальчик беспокойно прошёл к окну. Он чувствовал - только что едва не проявилось нечто великое, а больше уже не вернётся. Зпикрат, не торопясь, настраивал кифару и думал: хорошо бы убедить его показать всем, чему он научился, прежде чем я уеду.
- Ты никогда ещё не играл перед отцом и его гостями. Разве что на лире.
- За ужином как раз лира и нужна...
- Это потому что ничего лучшего нет. Сделай мне одолжение. Выучи для меня одну пьесу и сыграй по-настоящему. Я уверен, он будет рад увидеть, что ты умеешь.
- Он наверно и не знает, что у меня есть кифара. Я ведь её сам купил, ты же знаешь.
- Так тем лучше... Ты покажешь ему нечто новое...
Как и все в Пелле, Эпикрат знал, что на женской половине мира нет. Мальчик из-за этого беспокоен, и уже не первый день. Он не только стал играть хуже, но иной раз даже не слышит, что ему говорят... Эпикрат уже научился определять, каков будет урок, стоило Александру войти.
Почему бы царю - во имя всех богов разума и рассудка - не удовольствоваться гетерами? Он мог бы позволить себе самых лучших, самых дорогих. У него и мальчики его есть - неужто ему мало?... Для чего он обставляет свои похождения такими церемониями? Перед этой последней свадьбой было ещё по меньшей мере три таких же. В его отсталой стране это может быть царским обычаем; но если он хочет, чтобы его считали эллином, - ему надо бы помнить: "Ничего сверх меры". Конечно, за одно поколение нельзя избавиться от варварства, это и в мальчике заметно, но всё-таки...
А мальчик всё ещё смотрит в окно, словно забыл где находится. Не иначе, опять на него мать насела. Эту женщину можно было бы пожалеть, если бы она сама не выпрашивала добрую половину своих неприятностей. Да и не только своих - сыновних тоже... Он, конечно же, её сын. Только её - одни боги знают, чей еще, - потому что в сравнении с нею царь очень культурный человек. Неужели она не понимает, что нельзя размахивать грязным бельём? Ведь у каждой из этих новых невест может появиться мальчишка, который рад будет, что он сын его отца. Почему бы ей не проявить хоть немного дальновидности и такта?... Почему она никогда не побережёт мальчишку?... Нет никакой надежды, что сегодня он что-нибудь выучит. Лучше отложить кифару... Стоп! Но для чего же я сам-то учился?
Эпикрат надел лямку кифары на плечо, поднялся и заиграл.
Через некоторое время Александр отвернулся от окна, подошёл и присел на край стола. Сначала ёрзал, потом успокоился и затих. Голова его чуть склонилась набок, глаза смотрели куда-то вдаль... И вдруг они наполнились слезами. Эпикрат увидел это с облегчением: если музыка трогала его, так бывало всегда, и ни одного из них это не смущало. Когда он закончил, Александр вытер глаза ладонями и улыбнулся.
- Если хочешь, я выучу какую-нибудь пьесу, чтобы сыграть в Зале.
Уходя, Зпикрат подумал, что надо уезжать поскорее. Для человека, стремящегося к душевному равновесию и гармонии, здесь слишком много волнений.
Через несколько уроков Александр сказал:
- Сегодня за ужином будут гости. Если меня попросят сыграть, попробовать эту пьесу?
- Обязательно. Играй точно так же, как только что. Там для меня место найдётся?
- Да, конечно. Там будут только свои, ни одного чужеземца. Я скажу дворецкому.
Ужин начался поздно: пришлось ждать царя. Гостей своих он приветствовал любезно, но со слугами был довольно суров. Хотя щёки его пылали и глаза покраснели, видно было, что он совершенно трезв и явно старается отвлечься от каких-то неприятных мыслей. Рабы шепнули, что он только что вышел от царицы.
Все гости были старыми боевыми друзьями из гвардейской конницы, так что Филипп оглядел ложа с облегчением: никаких послов, ради которых надо носить личину, и никто не осудит, если они сразу начнут с вина. Сейчас доброго крепкого акантийского - и никакой воды туда, не разбавлять. После того что пришлось ему вынести, иначе просто нельзя.
Александр сидел на краю ложа у Феникса и ел с его стола. К отцу он никогда не садился, разве что позовёт. У Феникса музыкального слуха не было, но он знал о музыке всё, что было в литературе, и теперь радовался, что мальчик выучил новую пьесу. Вспомнил лиру Ахилла и сказал:
- Но я не стану сидеть, как Патрокл, который ждал, когда друг его закончит.
- Э-э, так нечестно. Ведь это только потому было, что Патрокл хотел что-то сказать!...
- Постой-постой, малыш, что это ты затеял? Ты же из моей чаши пьёшь, не из своей.
- Ладно, это я за твоё здоровье. Попробуй из моей. Быть может, её и сполоснули вином прежде чем воду наливать, но уж никак не более того.
- Это нормальная смесь для мальчиков, один к четырём... Плесни немного мне в чашу. Не все могут пить вино чистым, как твой отец, но кувшин с водой просить неприлично.
- Я отопью чуть-чуть, а то лить некуда.
- Нет-нет, малыш, остановись, хватит!... Ты же так опьянеешь, что не сможешь играть.
- Да нет же! Я всего один глоток выпил.
И на самом деле, у него только чуть лицо порозовело. Он был достоин своих закалённых предков.
Чаши наполнялись раз за разом, шум становился всё громче. Филипп, перекричав всех, предложил присутствующим сыграть или спеть что-нибудь.
- Государь, - сказал Феникс, - твой сын выучил новую мелодию специально для этого пира.
После нескольких чаш неразбавленного вина Филипп чувствовал себя уже гораздо лучше. Проверенное средство против змеиных укусов, - думал он с мрачной улыбкой.
- Ну давай, сынок, - позвал он. - Бери свою лиру и садись ко мне.
Александр поманил слугу, которому оставил кифару. Аккуратно подвесил её на плечо и встал возле отцовского ложа.
- Это ещё что? - спросил царь. - Неужто ты умеешь играть на этой штуковине?
Он никогда не видел, чтобы на кифаре играл человек, которому за это не платят; такое казалось просто неприличным. Мальчик улыбнулся.
- Ты мне скажешь, когда я закончу, отец.
Он проверил струны и начал.
Эпикрат, слушавший через зал, смотрел на мальчика с глубоким волнением. В этот момент он мог бы позировать для статуи юного Аполлона. Кто знает, быть может это истинное начало? Быть может, так он придёт к чистому познанию бога?...
Все македонские князья, ожидавшие момента, чтобы заорать припев, слушали ошеломлённо. Они не могли себе представить, чтобы хоть кто-то из благородных умел так играть, - или хотя бы хотел уметь! Чего добиваются от мальчишки эти учителя? Он уже прославился своей храбростью и готовностью на всё. А они из него южанина делают, что ли?... Этак скоро и до философии дойдёт!...
Царь Филипп бывал на многих музыкальных состязаниях. Хоть он не слишком интересовался этим искусством, но технику оценить мог. Теперь он видел, что здесь эта техника есть - и совершенно неуместна. Он видел, что его компания не знает, как к этому отнестись. Почему учитель этот не предупредил о своём болезненном рвении? Правда казалась очевидной. Это она снова затягивает его в свои обряды, чтобы он погряз в их безумстве, это она превращает его в варвара... Ведь стоит только посмотреть на него сейчас - на кого он похож!...
Ради своих чужеземных гостей, которые всегда этого ждали, он в последнее время завёл обыкновение приводить сына к ужину. Сыновья его друзей тут не появятся, пока не повзрослеют. Так зачем же он сам нарушил добрый старый обычай? Если у мальчишки до сих пор девичий голос - надо ли оповещать об этом весь мир? Эта сука эпирская, эта проклятая колдунья... Он бы уже давно от неё избавился, если бы её могущественная родня не была нацелена ему в спину, словно копьё, когда он уходил воевать. Но зря она так уж слишком уверена в безнаказанности своей. Он ещё может это сделать.
Феникс и понятия не имел, что Александр так замечательно играет. Он ничуть не хуже того парня, что приезжал с Самоса несколько месяцев назад. Но мальчик позволил себе забыться, как это иногда случалось у него с Гомером, а прежде он всегда сдерживался перед отцом. Не надо было ему пить то вино...
Он добрался уже до каденций, ведущих к финалу. Поток звуков стремительно мчался по своему ущелью, искрясь тучей сверкающих брызг.
Филипп смотрел, почти не слушая; захваченный тем, что видел. Лицо сияет, затуманенные глаза рассеянно смотрят вдаль и блестят слезами, на губах блуждает улыбка... Только что он видел такое же лицо наверху. Но там были покрасневшие скулы, вызывающий смех - и глаза со слезами ярости...
Александр взял последний аккорд и глубоко вдохнул. Сыграл он без единой ошибки. Гости беспокойно захлопали в ладоши. Эпикрат пылко присоединился к аплодисментам. Феникс воскликнул, пожалуй слишком громко:
- Отлично! Замечательно!...
И тут Филипп громыхнул кубком по столу. Лицо его побагровело, веко слепого глаза чуть прикрылось, так что виден стал белый шрам от стрелы, а здоровый глаз едва не вылез на лоб.
- Отлично?!... - рявкнул он. - По-твоему, это музыка, достойная мужчины?!
Мальчик медленно повернулся, словно пробуждаясь от сна. Несколько раз моргнул - глаза прояснились - и посмотрел на отца.
- Чтобы я никогда больше не видел таких представлений! Оставь их коринфским шлюхам и персидским евнухам, ты поёшь точь-в-точь как они!... Это позор!...
Несколько мгновений мальчик стоял словно каменный, так и не сняв с себя кифару. Кровь отлила от лица, и оно пожелтело, казалось мёртвым. Потом, ни на кого не глядя, прошёл между ложами и вышел из зала. Эпикрат пошёл следом. Но чуть задержался, размышляя что ему сказать, - и не нашёл его.
Через пару дней после того, Гир - македонец из горной области внутри страны - двигался по древним тропам домой, в отпуск. Он официально доложил своему командиру, что отец у него умирает, и попросил позволения повидаться с ним в последний раз. Командир ждал этого. Посоветовал не задерживаться дома, когда уладит все дела, если хочет получить своё жалованье. На межплеменные войны смотрели сквозь пальцы, если только они не принимали слишком угрожающего размаха. Если бы армия попыталась подавить кровную месть - у неё не осталось бы времени ни на что другое; не говоря уж о том, что и сама армия была насквозь пропитана племенными связями. Дядю у Гира убили, жену изнасиловали и бросили, посчитав мёртвой. Так что если бы Гиру не дали сейчас отпуска - он бы попросту дезертировал. Такие вещи случались чуть ни каждый месяц.
Шёл второй день его отлучки. Он служил в лёгкой кавалерии, и у него был собственный конь. Малорослый, неказистый, но выносливый - как и он сам, рыжеватый шатен со сломанным носом, слегка сдвинутым набок, и с короткой щетинистой бородой. Одет он был, в основном, в кожу; и вооружён до зубов, что необходимо было не только для его целей, но и в дороге. Коня он щадил и ехал по траве, где только мог её найти, чтобы сберечь неподкованные копыта для предстоящих дел. Примерно в полдень он пересекал холмистую пустошь меж горных хребтов. В лесистых впадинах покачивались под мягким ветром деревья; стояло позднее лето, но здесь наверху было свежо. Гиру не хотелось, чтобы его убили; но он предпочёл бы это тому позору, какой повлечёт неудачная попытка мести. Потому он смотрел на окружающий мир как человек, которому быть может скоро придётся его покинуть... Однако сейчас перед ним была дубовая роща, в её тихой благодатной сени по камням и почерневшим листьям булькал ручей... Он напоил и привязал коня; и сам напился, зачерпнув сладкой воды бронзовой чашей, висевшей на поясе. Из перемётной сумы достал кусок козьего сыра и чёрный хлеб, и присел на камень поесть.
На тропе за ним раздался стук копыт. Кто-то въезжал в лес, шагом. Гир потянулся за дротиком, лежавшим под рукой.
- Добрый день тебе, Гир!
До последнего момента он не верил своим глазам: они были в добрых пятидесяти милях от Пеллы.
- Александр!... - У него хлеб застрял в горле, он кое-как проглотил кусок непрожёванным. А мальчик тем временем спешился и повёл коня к воде. Ты как сюда попал? Ты один здесь?
- Теперь с тобой...
Александр воззвал к богу этого ручья, как подобает, и коню своему пить сверх меры не дал. Потом привязал его к молодому дубку.
- Можем поесть вместе, не возражаешь?
Распаковав свою провизию, мальчик подошёл к Гиру. На плече у него висел на перевязи взрослый охотничий нож, одежда была смята и запачкана, в волосах сосновые иглы. Ясно было, что ночевал он не дома. Среди прочего, на коне его была пара дротиков и лук со стрелами.
- Возьми-ка яблоко. Я так и думал, что догоню тебя к обеду.
Гир ошеломлённо подчинился, взял яблоко... Мальчик напился из сложенных ладоней и ополоснул лицо.
Занятый своими собственными заботами, Гир ничего не слышал об ужине у царя Филиппа. Мысль об этой обузе его ужаснула. Пока он отвезёт мальчишку в Пеллу и выберется снова, дома может случиться всё что угодно!
- Как тебя сюда занесло? Ты заблудился? Охотился, что ли?
- Я охочусь за тем же, за кем и ты, - сказал Александр, кусая своё яблоко. - Потому и еду вместе с тобой.
- Но... но... что за фантазия!... Ты же не знаешь, что я собираюсь...
- Конечно знаю. В твоём эскадроне это все знают. Мне нужна война, и твоя мне вполне подходит. Мне, понимаешь ли, пора добыть пояс для меча. Я вышел убить своего первого.
Гир шевельнуться не мог; только смотрел, как зачарованный. Значит, мальчишка ехал за ним следом от самой Пеллы, держась позади, чтобы не попадаться на глаза. И снарядился оч-чень предусмотрительно... А ещё что-то изменилось в его лице. Щёки втянулись под скулы, глаза запали ещё глубже обычного, и нос выступал ещё заметнее, а лоб прорезала морщина. Трудно было поверить, что ему всего двенадцать лет, это не мальчишье лицо. Но ему на самом деле всего двенадцать, и Гиру придётся за него отвечать!...
- Это ты зря затеял, - сказал Гир в отчаянии. - Ты и сам знаешь, что так нельзя. Я нужен дома, ты знаешь. А теперь мне придётся бросить их в беде и везти тебя назад.
- Ты этого не можешь сделать. Ты ел со мной вместе, мы теперь друзья-гостеприимцы... - Малый его упрекал, но ничуть не был встревожен. Нехорошо предавать гостеприимца.
- Так надо было меня сразу предупредить, раз так. А теперь мне деваться некуда. Ты должен вернуться, и вернёшься. Ведь ты ещё совсем ребёнок. Если с тобой что-нибудь случится, твой отец меня распнёт.
Мальчик не спеша поднялся и пошёл к своему коню. Гир вскочил на ноги, но увидел, что он не отвязывает коня, и снова сел.
- Если я вернусь, он убивать тебя не станет. А если погибну - у тебя будет достаточно времени бежать. Так что, в любом случае, он тебя вряд ли убьёт, а ты лучше обо мне подумай. Если ты сделаешь хоть что-нибудь, чтобы отослать меня домой, пока я сам этого не захочу, - если попытаешься поехать назад или послать какое-нибудь известие - я тебя убью. Уж тут можешь не сомневаться.
Он повернулся от коня к Гиру, и тот увидел в поднятой руке уже нацеленный дротик. Узкий лист наконечника сиял голубизной заточки и был остр, как игра.
- Не двигайся, Гир, сиди как сидишь. Не шевелись. Я быстрый, ты знаешь. Это все знают. Я брошу раньше, чем ты успеешь что-нибудь сделать. Я вовсе не хочу, чтобы ты стал моим первым: ведь всё равно этого мало, придётся убивать ещё кого-нибудь в бою... Но если сейчас попытаешься меня задержать, то этим первым станешь ты.
Гир посмотрел на его глаза. Такие глаза он видел в прорези шлема.
- Ну подожди, ну... Ты же не станешь этого делать!...
- Ещё как стану! И никто никогда не узнает. Я просто оставлю
твоё тело здесь в чаще, волкам и коршунам. Тебя никто не похоронит, не совершит обрядов над тобой, - он заговорил, словно декламировал стихи, - и тени мёртвые тебя через их реку не пропустят. Ты к их компании не присоединишься, и вечно будешь ты у врат Гадеса... Не шевелись!
Гир сидел неподвижно. Это дало ему время подумать. Об ужине он ничего не знал, но знал и о последней свадьбе царя, и обо всех предыдущих. От одного из этих браков уже родился мальчик. Люди говорили, что поначалу он был вполне смышлёный, но оказался идиотом; не иначе - царица отравила. Или просто подкупила няньку, чтобы та уронила малого головкой об пол. А может он и от природы такой был, кто знает... Но могут появиться и новые братья. Если Александр хочет стать мужчиной до срока - тут его можно понять.
- Ну? - сказал мальчик. - Будешь ты клясться или нет? Не могу же я так стоять весь день!
- Что я такого сделал, чтобы навлечь на себя это проклятье от богов, только они и знают. Какой клятвы ты ждёшь от меня?
- Чтобы ни слова не сообщал обо мне в Пеллу. Чтобы никому не говорил, кто я, без моего разрешения. Чтобы не мешал мне пойти в бой. Сам не мешал бы и не поручал никому другому. Ты должен поклясться во всём этом и призвать на себя смертельное проклятие, если нарушишь клятву свою.
Гир почувствовал, что дрожит. Заключать такой договор с сыном ведьмы ему совсем не хотелось. Мальчишка опустил дротик, но держал ремень в пальцах, готовый к броску.
- Клянись, деваться тебе некуда. Я не хочу, чтобы ты подкрался и связал меня, пока сплю. Можно было бы посидеть подежурить, чтобы ты этого не сделал, но перед боем это глупо. Так что если хочешь выйти из этого леса живым - клянись.
- А что со мной будет потом?
- Если останусь жив, то я о тебе позабочусь. Ну а если нет -что ж, это война. Приходится рисковать.
Он сунул руку в кожаную перемётную суму, глядя через плечо на Гира тот ещё не поклялся, - и вытащил кусок мяса. Оно уже в Пелле было не первой свежести, так что сильно попахивало.
- Это от ляжки жертвенного козла. - Он шлёпнул мясо на камень. - Я знал, что пригодится. Иди сюда. Клади руку на мясо. Ты ведь не нарушишь клятву, данную перед богами?
- Нет.
Рука настолько была холодна, что мёртвая козлятина показалась тёплой на ощупь.
- Тогда повторяй за мной.
Клятва была подробна и точна, а смертная судьба накликалась ужасная. Мальчик был хорошо образован в этих делах, и по собственному опыту знал, какие бывают лазейки. Гир договорил, - связав себя, как ему было сказано, и пошёл отмывать в ручье запачканную кровью руку. Мальчик понюхал мясо.
- Не думаю, что его стоит есть, даже если бы у нас было время разводить костёр.
Он отшвырнул мясо в сторону, убрал дротик в чехол и подошёл к Гиру.
- Ну, с этим делом покончено, мы можем снова стать друзьями. Давай доедим, а ты тем временем расскажешь мне о твоей войне.
Разгладив ладонью лоб, Гир начал рассказывать, как пострадала его родня.
- Нет, это всё я уже знаю. Сколько вас, сколько их? Что за местность в ваших краях? Кони есть у вас?
Их тропа вилась по зелёным склонам, уводя всё выше и выше. Трава сменилась папоротником и тимьяном, начались сосновые леса и заросли земляничного дерева... Вокруг вздымались высокие хребты, священный горный воздух был чист и живителен. В открытом пространстве нагорья они были совсем одни.
Гир рассказал историю кровной вражды за три поколения. Получив ответ на свои первые вопросы, мальчик оказался прекрасным слушателем. О своих собственных делах он сказал только:
- Когда я убью своего первого, ты будешь моим свидетелем в Пелле. Царь убил своего только в пятнадцать. Так мне Пармений сказал.
Последнюю ночь своего пути Гир собирался провести у дальних родственников, откуда до дома оставалось полдня. Он показал издали их деревню, прилепившуюся на краю ущелья под крутым скалистым склоном. Вдоль обрыва шла узкая караванная тропа. Гир хотел ехать по хорошей дороге в объезд - её царь Архелай проложил, - но мальчик, узнав что тропа почти непроходима, настоял на том, чтобы проехать по ней и посмотреть, что она из себя представляет. Теперь, на крутом повороте над головокружительной бездной, он сказал:
- Раз это люди из твоего клана, нет смысла говорить, что я тебе родня. Скажи, что я сын твоего командира и приехал посмотреть, что такое война. Они никогда не смогут обвинить тебя в обмане. Гир с готовностью согласился: даже это подразумевало, что за мальчиком надо будет присмотреть. Ничего большего он и не мог, под страхом своей клятвы. Он был верующий человек.
Деревушка Скопа располагалась на сравнительно ровной террасе в несколько сот шагов ширины, между изрезанным склоном и пропастью. Выстроенная из коричневого камня, который валялся повсюду вокруг, она и сама казалась развалом, частью горы, россыпью глыб. С открытой её стороны был каменный загон, загороженный колючим терновником. Внутри на жёсткой траве полно было коровьих лепёшек - здесь ночевало стадо, - и паслась пара лохматых лошадок. Остальные были наверно в горах, у охотников и пастухов. По склону над деревней бродили козы и несколько остриженных овец; и дудочка пастуха звучала сверху, словно посвист какой-то дикой птицы.
У входа, на узловатом высохшем дереве прибиты были пожелтевший череп и несколько костей, оставшихся от руки. Когда мальчик спросил, Гир ответил:
- Это давно, я ещё совсем маленький был. Он убил собственного отца.
Их появление стало великим событием: здесь уже полгода никто не появлялся. Протрубили в рог, чтобы известить пастухов; принесли самого древнего жителя деревни из его хижины, из ещё более древних тряпок и шкур, в которых он жил, дожидаясь смерти своей... В доме деревенского старейшины их угощали мелкими сладкими фигами и каким-то мутным вином из самых лучших чашек, почти совсем целых... Люди с ритуальной учтивостью ждали, пока они покончат с угощением, и лишь потом начались расспросы про них самих и про далёкий мир. Гир рассказал, что Великий Царь снова покорил Египет, что царя Филиппа призвали навести порядок в Фессалии и он там теперь архонт - считай, что царь, - и это очень волнует южан... А правда ли, - спросили, - что царь взял новую жену, а царицу из Эпира отлучил?
Наступившая тишина была пронзительней любого крика. Гир сказал, что всё это враньё. Когда царь наводит порядок в новых землях, он может конечно взять к себе в дом дочь какого-нибудь вождя; Гир полагал, что они заодно как бы и заложницами служат. Что же до царицы Олимпии - она на вершине почёта как мать царского наследника, а им оба родителя гордиться могут. Гир немало попотел над этой речью ещё за несколько часов до деревни, по дороге. Теперь, произнеся её, он обрубил возможные комментарии, в свою очередь спросив о новостях.
Новости были скверные. Четверо враждебных кимолян встретили в ущелье двух сородичей Гира, пошедших за оленем. Один из них прожил достаточно для того, чтобы доползти домой и сказать, где найти труп брата, пока до него не добрались шакалы. Кимоляне лопаются от гордости; старик ничего не может поделать с сыновьями, скоро от них никому житья не будет. Обговорили все дела, нынешние и прошлые, вспомнили разные рассказы, - а тем временем скот загнали в деревню, и женщины приготовили козла, забитого в честь дорогих гостей. Едва стемнело, все пошли спать.
Александра уложили вместе с сыном старейшины, у него было приличное одеяло. В одеяле этом было полно блох, на мальчишке тоже, - но он благоговел перед своим гостем и изо всех сил старался не чесаться, чтобы не мешать ему спать, насколько это было возможно.
Александру приснилось, что Геракл подошёл к его постели и тормошит его. Выглядел он точь-в-точь как в святилище в Пелле: молодой, безбородый, в капюшоне из клыкастой львиной морды, с гривой, свисающей на спину. "Поднимайся, лентяй, - сказал Геракл. - Сколько можно тебя будить?"
Все вокруг крепко спали. Он взял свой плащ и тихонько вышел. Горы вокруг освещала яркая луна. На страже не было никого, только собаки. Один огромный пёс, похожий на волка, подбежал к нему; он остановился, дал себя обнюхать, и тот оставил его в покое. Они должны были лаять, только если что-нибудь пошевелится за оградой.
Всё спокойно. Для чего же Геракл позвал его? В глаза ему бросилась высокая скала, на которую вела хорошо утоптанная тропа: деревенский наблюдательный пост. Если бы там был часовой... Но часового не было. Он поднялся наверх. Оттуда было видно хорошую дорогу Архелая, вьющуюся вниз по склонам. А на дороге, вдали, двигались тени.
Двадцать с лишним всадников, налегке, без поклажи. Они были так далеко, что даже в горах, где звук хорошо разносится, услышать их было невозможно. Но в лунном свете время от времени что-то сверкало.
Глаза у мальчика расширились. Он воздел к небу обе руки и запрокинул сияющее лицо. Он посвятил себя Гераклу, и бог ответил ему: не бросил одного в поисках битвы, а посылает битву ему навстречу!...
Он оглядывал местность, освещённую луной; искал удачные и опасные места. Там внизу их прихватить негде. Архелай умел строить дороги, и позаботился, чтобы устроить на них засаду было невозможно. Их надо брать здесь, брать врасплох, потому что их больше, чем скопийцев. А этих надо поднимать немедленно, пока враги не так близко, чтобы услышать суматоху. Если он побежит их расталкивать - они заторопятся и забудут о нём; а надо, чтобы они слушались... Рог, которым созывали людей в деревню, висел снаружи на доме старейшины. Он взял этот рог, потихоньку попробовал, потом дунул по-настоящему.
Стали распахиваться двери, мужчины выбегали в чём попало, завернувшись в тряпки; закричали женщины, заблеяли овцы и козы... А он, стоя на большом валуне, на фоне тускло светящегося неба, закричал:
- Война! Это война! Слушайте все!... - Шум прекратился. В тишине звенел только голос мальчика. С тех пор как покинул Пеллу, он думал только по-македонски. - Я Александр, сын царя Филиппа. Гир меня знает. Я пришёл сражаться в вашей войне по велению бога. Там на дороге в долине кимоляне. Двадцать три всадника. Делайте, что я скажу, и мы с ними покончим ещё до восхода.
Он подозвал к себе, по именам, старейшину и двух его сыновей. Те безмолвно шагнули вперёд, не сводя с него потрясённых глаз. Сын эпирской колдуньи!...
Он сел на камне, не желая расставаться с этой высотой, и заговорил горячо и убеждённо, всё время чувствуя Геракла у себя за спиной.
Когда он закончил, старейшина отослал женщин по домам, а мужчинам велел делать всё, как сказал этот мальчик. Поначалу они заспорили: уж очень противно было не трогать проклятых кимолян, пока те не окажутся в загоне, среди скота, который пришли угонять. Но Гир поддержал Александра. Так что скопийцы вооружились; в зыбких сумерках лунного света поймали своих лошадок и собрались за домами. Было ясно, что кимоляне рассчитывают напасть, когда мужчины разойдутся по своим делам. Завал из терновника, перекрывавший вход в деревню, сделали потоньше: чтобы он не мог их задержать, но чтоб они ничего не заподозрили. Пастухов-мальчишек с овцами и козами послали наверх, на гору, чтобы утро казалось таким же, как обычно.
Звёзды побледнели, вершины гор чёрными громадами врезались в посветлевшее небо. Мальчик, сжимая в руках поводья и дротики, жадно впитывал картину рассвета: быть может он видит всё это в последний раз... Раньше он знал только понаслышке, теперь почувствовал. Всю жизнь, сколько себя помнил, он слышал рассказы о насильственной смерти. Теперь те рассказы ожили в его теле. Вот железо вонзается в грудь, вот смертельная боль, вот тёмные тени, ожидающие когда тебя вырвут из света, навсегда... Навсегда!... Его хранителя рядом не было. На душе стало тяжко, и он обратился к Гераклу: "Почему ты оставил меня?"
Заря тронула самые верхушки гор, словно отсветом пламени. Он был совершенно один; настолько один, что услышал голос Геракла, хоть тот говорил совсем тихо: "Я оставлял тебя затем, чтобы ты понял таинство моё. Никогда не думай, что умрут только другие, а не ты. Я не для этого друг тебе. Я стал богом, лежа погребальном костре. Я боролся с Танатом и знаю, как побеждается смерть. Бессмертье человека не в том, чтобы жить вечно; это желание порождается страхом. А бессмертным делает только бесстрашие, каждый миг его".
На вершинах гор розовый цвет сменился золотистым. Александр, охваченный восторгом, стоял между жизнью и смертью, словно между утром и ночью, и думал: "Я не боюсь!" Это было прекраснее чем музыка, прекраснее чем любовь его матери, - вот так живут боги!... Никакая печаль не затронет его, никакая ненависть не поранит... Всё вокруг стало ясным и чистым, - говорят, так видят орлы... Он чувствовал себя острым, будто стрела, и полным света.
На дороге послышался топот кимолянских коней.
Перед въездом они задержались. На горе играл, дул в свою дудочку козопас; в домах разговаривали дети, не ведавшие обмана; а женщины - обман ведавшие - коварно пели, как ни в чём не бывало. Кимоляне раскидали колючие кусты и въехали в деревню, весело смеясь. Скот, за которым они явились, может и подождать; для начала они возьмут женщин.
Вдруг раздался крик, такой пронзительный и высокий - они подумали, что их увидела какая-нибудь испуганная девчонка. Но тут же послышались и мужские голоса.
Скопийцы бросились на них, кто верхом кто пеший. Некоторые из налётчиков уже успели разойтись по деревне, направившись к домам, - с этими покончили тотчас, так что силы почти сравнялись.
Какое-то время царила сплошная неразбериха; бойцы не могли отыскать друг друга, толкаясь меж мычащих коров. Потом один из налётчиков бросился к выходу и исчез. Скопийцы проводили его радостным, торжествующим криком. Мальчик понял, что это начало бегства; и что скопийцы готовы позволить им бежать, довольствуясь тем, что это день остался за ними, - и не задумываясь о дне другом, когда враги вернутся, обозлённые поражением, с намерением отомстить за него. Неужели они считают это победой?... Он галопом помчался к выезду из деревни, крича: "Не выпускайте их!" Скопийцы, увлечённые его уверенностью, последовали за ним. Путь к отступлению оказался отрезан. Скот по-прежнему кружил по деревне, но теперь люди встретились лицом к лицу: стояли друг напротив друга, выстроившись как бы в боевые порядки.
Началось! - подумал мальчик. И посмотрел на человека, стоявшего против него.
На том был шлем из грязной чёрной кожи, покрытый грубо откованными железными пластинками, и куртка без рукавов, из невыделанной козьей шкуры, шерсть местами вытерта догола. Молодая рыжая борода, лицо веснушчатое, шелушится от загара... Он хмурился - но не сердито, а как человек, озадаченный каким-то делом; в котором не очень искусен, но теперь не на кого рассчитывать кроме себя. Однако, - подумал мальчик, - это старый шлем, его надевали не один раз. И человек этот совсем взрослый, большой и сильный... Но сражаться надо с первым, кто попался на глаза; это будет достойно.
У него было два дротика; первый он бросит, вторым будет сражаться. Вокруг уже летали копья, а один скопиец забрался на крышу с луком. Заржал и поднялся на дыбы чей-то конь, с копьём, торчащим в шее; всадник упал, вскочил и заковылял в сторону, прыгая на одной ноге; конь помчался меж домов... Казалось, что схватка началась уже давно. Большинство копий и дротиков ни в кого не попало, из-за нетерпения, расстояния и неловкости бросавших. Глаза рыжеволосого шарили в поисках противника, с которым он сойдётся в схватке. Ещё немного, и он достанется кому-нибудь другому!...
Мальчик взял дротик наизготовку и ударил пятками своего коня, посылая его вперёд. Хорошая мишень: чёрное пятно на козьей шкуре, прямо над сердцем. Но нет! Это его первый, его надо убить в рукопашном бою, а не издали. Рядом был ещё один - смуглый, коренастый, чернобородый, - мальчик занёс руку над головой и метнул, почти не глядя. Едва первый дротик вылетел из руки, он тотчас схватил второй; а глазами искал глаза рыжего. Тот увидел его, глаза их встретились. Мальчик издал боевой клич, без слов, и послал коня, ударив его тупым концом дротика. Конь резко рванулся по бугристой земле.
Рыжеволосый опустил копьё к бою - оно было длиннее, - но смотрел мимо. Глаза его ходили вокруг: он ждал кого-нибудь другого, взрослого воина, которого стоит опасаться.
Мальчик запрокинул голову и закричал во всю силу своих лёгких. Этого человека надо встряхнуть, надо заставить его поверить, что здесь серьёзный противник! Иначе это не будет честным боем: это всё равно что ударить в спину, если он не готов; всё равно что на сонного напасть... А он должен убить чисто, безупречно, так чтобы никогда ничего нельзя было сказать плохого об этом!... Он закричал снова.
Кимоляне были рослые люди. Рыжеволосому казалось, что ему навстречу скачет совсем ребёнок. Он смотрел на этого малыша с беспокойством: ему не нравилось, что приходится отвлекаться на такого; он боялся, что пока будет отбиваться от ребёнка, его захватит врасплох настоящий боец. Он был слегка близорук; мальчик чётко видел его уже издали, а ему пришлось подпустить поближе, чтобы рассмотреть надвигавшееся лицо... Это лицо не было детским. От него волосы дыбом вставали.
Это было лицо воина, его нельзя было не принять всерьёз, оно дышало смертью. Целеустремлённо, не испытывая ни ненависти, ни ярости, ни сомнений; чистый в самоотречении своём, в экзальтации своей победы над страхом - он мчался к рыжеволосому. Но тот, разглядев нечеловечески светящееся лицо - кем бы ни было это создание, жуткое, непостижимое, издающее звонкий, соколиный крик, - он уже не хотел связываться с ним. Он стал разворачивать коня. К нему приближался рослый скопиец, - вот с тем стоит сразиться, а с этим чудом пусть разбирается кто-нибудь другой... Но слишком долго он озирался по сторонам: с криком "Айи-и-и-и!..." сияющий ребёнок уже налетел на него. Он ударил копьём, - но странное существо уклонилось... Он увидел глубокие глаза, наполненные небом, оскаленный рот... Потом почувствовал удар в грудь - и это было больше чем удар: гибель и тьма. Когда в глазах уже меркло, ему показалось, что улыбающиеся губы раскрылись, чтобы выпить его жизнь.
Скопийцы закричали одобрительно. Этот мальчик явно приносил им удачу, и сейчас одержал самую быструю победу в бою. А кимоляне были потрясены. Только что пал любимый сын их старейшины; а тот уже стар, больше сыновей у него не будет... Нарушив строй, они кинулись пробиваться к выходу, расталкивая конями коров и людей. Не все скопийцы были настроены решительно, так что иные уступали дорогу. Ржали кони, коровы мычали и топтали упавших; в воздухе висела вонь свежего навоза, истоптанной травы, пота и крови.
Бегство было уже всеобщим; и стало ясно, что они устремились к дороге. Мальчик, направляя коня сквозь козье стадо, вспоминал окрестности, увиденные с наблюдательного поста. Он вырвался из давки с криком, от которого звенело в ушах:
- Держите их, не пускайте! Ущелье!... Гоните их к ущелью!...
Назад он не оглядывался; если бы ошеломлённые скопийцы не ринулись за ним, он бы преследовал кимолян один.
Они успели; налётчикам были отрезаны все пути, кроме одного. Теперь в совершеннейшей панике, не в силах выбрать наименьшее из зол, - боясь пропасти, и не зная о козьих тропах на скалистом склоне, - они толпой двинулись к узкой тропинке над ущельем.
Только один человек развернулся позади бегущих, чтобы встретить преследователей. Загорелый дочерна, светловолосый, горбоносый, он был первым в атаке и последним в отступлении; и попытку пробиться к дороге он тоже оставил последний. Зная, что они совершают ошибку, он ждал, когда тропа станет совсем узкой. Он замыслил этот набег и руководил в нём; его младший брат пал от руки ребёнка, которому впору ещё коз пасти, и с этим ему предстояло вернуться к отцу. Уж лучше смыть позор смертью; от смерти так или иначе не уйти, но если он какое-то время продержится, то хоть несколько человек смогут спастись. Он вытащил старый железный меч, ещё дедов, спешился и встал поперёк тропы.
Мальчик, подъехав наверх со своего места в облаве, увидел, как он сражался против троих, как получил удар в голову и упал на колени. Погоню он задержал. Теперь всадники растянулись по узкому карнизу под деревней. Скопийцы, вопя от радости, швыряли в них камни, а лучник посылал стрелу за стрелой. Кони с криком падали со скалы, увлекая людей за собой. Пока они выбрались за пределы досягаемости, их осталось меньше половины.
Всё было кончено. Мальчик придержал свою лошадку. На шее у неё был порез, она уже начала ощущать боль, и мухи донимали... Он приласкал и успокоил её. Он приехал только за своим первым, а выиграл целую битву!... Это бог послал ему такую удачу.
Скопийцы собрались вокруг него; все кроме тех, кто пошёл на дно пропасти раздевать убитых. Их тяжёлые руки хлопали его по плечам и спине, воздух вокруг него был полон запахом их дыхания. Он их вождь, бойцовый перепел, львёнок, талисман... Гир шёл рядом с ним как человек, чей статус поменялся навсегда. Кто-то крикнул:
- Этот сукин сын ещё шевелится!
Мальчик, чтобы ничего не упустить, протолкался вперёд.
Светловолосый лежал на том же месте, где его сбили, обливаясь кровью из раны на голове, и пытался приподняться на локоть. Один из скопийцев схватил его за волосы, так что он вскрикнул от боли, и запрокинул ему голову, чтобы перерезать горло. Остальные едва оглянулись: это в порядке вещей, тут и смотреть не на что...
- Нет!... - крикнул мальчик.
Они обернулись, удивлённые, озадаченные. Он подбежал и встал на колени возле лежащего, оттолкнув в сторону нож.
- Он храбро бился!... Он это делал для других!... Он был, как Аякс у кораблей!...
Скопийцы живо заспорили. Что он имеет в виду? - спросил один. Это про какого-то священного героя, или про знамение, что убить этого человека к беде? Нет, - сказал другой, - это просто мальчишья фантазия, но война есть война... Он со смехом оттолкнул первого и нагнулся к лежащему, с ножом в руке.
- Если ты убьёшь его, - сказал мальчик, - я тебя заставлю об этом пожалеть. Клянусь головой отца моего.
Человек с ножом вздрогнул и оглянулся. Только что парнишка был лучезарен, как солнце...
- Тебе лучше его послушаться, - вполголоса подсказал Гир.
Александр поднялся на ноги.
- Этот человек - мой пленник, моя добыча. Отпустите его. И отдайте ему коня. А я отдам вам коня того, кого я убил, это будет справедливо.
Они слушали, раскрыв рты. Но, оглядевшись вокруг, он понял, что они рассчитывают подождать, пока он забудет, и прикончить того человека чуть позже.
- Посадите его на коня. Сразу же. И выведите на дорогу. Гир, помоги им.
Скопийцы обратили это в забаву. Стали привязывать раненого вдоль коня, развлекаясь этим, пока за их спинами не раздался резкий юный голос:
- Прекратите!...
Они хлестнули коня; и тот галопом умчался по дороге, унося обессиленного всадника, вцепившегося в гриву. Мальчик проводил его взглядом и повернулся. Морщин на его лбу больше не было.
- Теперь я должен найти своего, - сказал он.
Раненых на поле боя уже не осталось. Скопийцев женщины занесли в дома, а налётчиков всех зарезали, тоже женщины в основном. Теперь они пришли к своим павшим. Бросались на мёртвые тела, били себя в грудь, царапали лица, рвали распущенные волосы... Их причитания висели в воздухе, словно голоса диких тварей, населяющих эти места: молодых волков или птиц, или коз... А по небу мирно плыли белые облака; их тени тёмными крыльями скользили по горам, трогая чернотой дальние вершины, поросшие лесом.
Это поле боя, - думал мальчик, - вот на что это похоже. Женщины, собравшись стайками, словно вороны, загородили павших победителей. А мёртвые враги лежали вразброс, неуклюже раскинувшись, в одиночку и группами, брошенные, никому не нужные... И уже появились, висели, покачиваясь высоко в небе, первое грифы.
Рыжеволосый лежал на спине, с подогнутыми коленями. Борода торчала кверху. Шлем, покрытый железными пластинками, на два поколения старше его самого, уже исчез; он ещё многим послужит. Крови на нём почти не было. Когда дротик вошёл в него, и он начал падать, был такой момент, что мальчик подумал, дротик надо оставить, иначе самого сдёрнет с коня. Но он тогда ещё раз рванул - и дротик выдернулся, как раз вовремя.
Он посмотрел на белое лицо, уже начинавшее синеть, на раскрытый рот, и снова подумал, что это поле боя. Да, надо привыкать. Он убил своего первого и должен предъявить трофей. Но кинжала нет, даже пояса нет; и козья безрукавка исчезла: женщины быстро подчистили поле... Мальчик сердился в душе, но знал, что требовать бессмысленно: ему всё равно ничего не отдадут, он только себя уронит. Он должен взять трофей. Но ничего уже не осталось, кроме...
- Ну, маленький воин!...
Над ним стоял скопийский юноша с черными спутанными волосами, обнажив в дружелюбной улыбке щербатые зубы. В руке он держал широкий нож, сплошь запачканный полузасохшей кровью.
- Давай-ка я сниму для тебя его голову. Я знаю как.
Вокруг улыбались; смотрели, как он к этому отнесется. Нож в большой руке этого юноши казался лёгким, но для него наверно будет тяжеловат...
- Теперь это делают только в глуши, - быстро сказал Гир.
- Но мне придётся её взять, - ответил Александр. - Ведь больше ничего нет.
Юноша с готовностью шагнул вперёд. Этот Гир стал слишком горожанином, но царского сына старые обычаи устраивают - молодец, так и надо!... Он проверил лезвие на пальце... Но мальчик вдруг понял,- он слишком рад, что эту работу сделают за него.
- Нет. Я должен отрезать сам, - сказал он.
Скопийцы обрадовались, божились восторженно, а нож - тёплый, липкий, скользкий - вложили ему в руку. Он опустился на колени возле трупа, заставляя себя не закрывать глаза, и стал упорно кромсать позвоночник, покрывая себя кровавыми ошмётками, пока голова не откатилась в сторону. Схватив её за волосы - потому что не должно остаться ничего такого, о чём он мог бы потом вспомнить в самой глубине своей души, что испугался, - он поднялся на ноги.
- Принеси мою охотничью сумку, Гир.
Гир отвязал её от чепрака. Мальчик бросил голову внутрь и вытер об сумку ладони. Между пальцами кровь осталась, слипались. Ручей в полусотне шагов ниже, он вымоет руки по дороге домой. Он повернулся попрощаться с хозяевами.
- Подождите!... - раздался чей-то крик. Несколько человек бежали к ним с какой-то ношей, размахивал руками. - Не отпускайте маленького господина! Здесь у нас ещё его трофей. Двое, смотрите, он двоих убил!
Мальчик нахмурился. Теперь ему хотелось домой. У него была только одна схватка. О чём это они?
Самый первый уже подбежал, тяжело дыша и отдуваясь.
- Это правда. Вот этот здесь, - он показал на обезглавленное тело, это его второй. А первого он взял дротиком, броском, ещё до того как мы сошлись с ними. Я сам видел. Он так и рухнул, как боров заколотый. Еще чуть пошевелился - но раньше подох, чем женщины успели до него добраться. Возьми маленький господин. Будет что отцу показать.
Второй показал голову, держа её за чёрные волосы. Густая, лохматая борода закрывала обрезанную шею. Это была голова человека, в которого он метнул свой дротик, ещё до рукопашной. Да, было такое что перед ним мелькнуло это лицо; но он его забыл, оно выпало из памяти, словно никогда не существовало. Теперь, подвешенное за чуб, оно было нахально приподнято и ухмылялось закоченевшей улыбкой, обнажая зубы; кожа на нём была темна, а один глаз наполовину закрыт, зрачка не видно.
Мальчик посмотрел на это лицо, и живот ему свело холодом; подступила тошнота, ладони покрылись липким потом. Он сглотнул, чтобы побороть приступ рвоты.
- Я его не убивал.
Они стали наперебой уговаривать его, все трое разом, описывая тело, клянясь, что на нём не было других ран, предлагая отвести его и показать, стараясь всучить ему эту голову... Двое в самом первом бою!... Он же внукам своим рассказывать будет!... Они взывали к Гиру: маленький господин слишком устал, это неудивительно; но если он сейчас не возьмёт, оставит этот трофей, то потом жалеть будет, когда придёт в себя, пусть Гир возьмёт и сохранит для него...
- Нет! - мальчик повысил голос. - Мне она не нужна. Я не видел, как он умирал. Нельзя приносить его мне, если его женщины убили. А вы не знаете, как было на самом деле. Заберите её.
Они щёлкали языками, им не хотелось его слушаться, ведь он себя грабит... Гир отвёл старейшину в сторону и что-то шепнул ему на ухо. Лицо у того изменилось; он ласково обхватил мальчика за плечи и сказал, что перед дальней дорогой надо разогреться хоть каплей вина. Мальчик пошёл с ним спокойно; только лицо было отстранённым и бледным, и синева под глазами. Выпив вина, он порозовел, начал улыбаться, а вскоре и присоединился к общему веселью.
А снаружи доносились разговоры, вся деревня гудела похвалами. Какой чудесный мальчик! Такая отвага, такая голова на плечах, а теперь ещё и такое благородство!... Вряд ли всё это такая уж правда, но слушать было приятно. Какой отец не станет гордиться таким сыном?
- Обращай внимание на толщину копыта. С толстым копытом ноги гораздо здоровее, чем с тонким. Не забудь проверить, чтобы копыто было высоким спереди и сзади, не плоским. При высоком копыте стрелка не касается земли.
- Ты наверно всю эту книгу наизусть знаешь, - сказал Филот, сын Пармения. - Угадал я?
- А Ксенофонта и надо знать наизусть, если хочешь понимать толк в лошадях, - ответил Александр. - Мне ещё надо прочитать его книгу о Персии. Ты сегодня покупаешь что-нибудь?
- Нет, в этом году нет. Нынче брат покупает.
- Ксенофонт говорит, хорошее копыто должно звенящий звук давать, как кимвал. Вон тот мне кажется косолапый какой-то... Отцу моему нужен новый боевой конь. Под ним убили в прошлом году, в бою с иллирийцами.
Он оглянулся на помост, неподалёку от них, построенный, как обычно, для весенней конской ярмарки. Царя ещё не было.
День стоял яркий, сверкающий; мелкая рябь на озере и лагуне искрилась солнцем, а кромки белых облаков, плывших через дальние горы, отливали синью, как клинки мечей. Истоптанный луг зеленел после зимних дождей. С утра покупали военные. Офицеры для себя, а племенные вожди для своих подданных, из которых состояли их эскадроны (в Македонии подразделения комплектовались по родовому признаку). Покупали выносливых, коренастых и густогривых; свежих, лоснящихся после зимних пастбищ. К полудню все обычные дела были закончены. Теперь появились породистые кони - скаковые, парадные, боевые, вычищенные и расчёсанные до самых ушей.
Конский базар в Пелле чтили не меньше чем святые праздники. Торговцы пригоняли лошадей с пастбищ Фессалии и Фракии, из Эпира и даже из-за Геллеспонта. Эти всегда клялись, что их товар происходит от легендарной нисейской породы персидских царей.
Важные покупатели начали собираться только теперь. А Александр провёл здесь почти весь день. Его сопровождали полдюжины мальчишек, которых Филипп собрал недавно ему в гвардию, чтобы оказать честь их отцам. Они ещё не привыкли к нему, и друг к другу, и потому держались скованно.
В Македонии давно уже не собирали Гвардию Принца для наследника, достигшего совершеннолетия. Сам царь никогда не был прямым и законным наследником. А до него ни один наследник не успевал повзрослеть - его убивали или свергали раньше, в междоусобных войнах. В летописях нашлось, что последним принцем Македонии, у кого была гвардия, выбранная по всем правилам, был Пердикка Первый, где-то лет пятьдесят тому назад. Один из тех гвардейцев был ещё жив... Он мог без конца рассказывать о приграничных войнах и грабительских набегах - долго и подробно, не хуже Нестора, - он знал по именам всех правнуков всех бастардов Пердикки... Но об этой процедуре не помнил ничего.
Гвардейцем - "товарищем" - принца мог быть юноша примерно того же возраста, что и принц, тоже сдавший экзамен на мужество. В царских землях ни одного такого не нашлось. Отцы наперебой предлагали своих шестнадцати-семнадцатилетних сыновей, которые и выглядели и разговаривали уже совсем по-взрослому. Отцы доказывали, что большинство нынешних приятелей Александра ещё старше, - и добавляли тактично, что оно и неудивительно, раз мальчик такой храбрый и развитой.
Филипп любезно выслушивал похвалы сыну, но постоянно помнил те глаза, что глянули на него, когда перед ним положили голову, уже изрядно пропахшую за время дороги. В дни ожидания, когда он искал сына, ему было ясно, что если мальчик не найдётся - Олимпию придётся убить, пока она не убила его самого. Так что во всей этой истории хорошего было не слишком много. Вдобавок и Эпикрат уехал тогда. Сказал, что принц решил оставить музыкальные занятия, а в глаза не смотрел. Филипп щедро одарил его на прощанье, но представлял себе, что неприятные рассказы о случившемся обойдут все одеоны Эллады; эти люди бывали повсюду.
В результате, сформировать официальную Гвардию Принца так никто и не пытался, если по-серьёзному. Александр не проявил никакого интереса к этому устаревшему институту; он уже выбрал себе группу юношей и взрослых мужчин, которые были известны всем и всюду как Друзья Александра. А те не придавали никакого значения тому, что прошлым летом ему исполнилось всего тринадцать.
Однако утро конской ярмарки он проводил сегодня с мальчиками, которых подобрал ему отец. Ему нравилось быть с ними. Если он вёл себя так, словно они все младшие, - это не для того чтобы себя утвердить или их унизить, а просто потому, что он только так их и воспринимал. Теперь он без устали говорил о лошадях, а они изо всех сил старались не ударить лицом в грязь перед ним. Его пояс для меча, и слава его, и то что он был самым маленьким из всех, - это их смущало, вели они себя неуклюже. Но когда начали выводить породистых коней, им стало полегче, потому что к Александру подошли его давние друзья: Птолемей, Гарпал, Филот и другие. Оказавшись в стороне, без вожака своей стаи, мальчишки собрались кучкой и начали выяснять отношения, как случайно встретившиеся псы:
- Мой отец сегодня не приехал. Оно того и не стоит, он себе заказывает коней прямо из Фессалии. Его все коннозаводчики знают.
- А мне скоро понадобится лошадь побольше. Но отец оставил это на будущий год, когда подрасту.
- Александр меньше тебя на ладонь, но он ездит на больших конях, как взрослый...
- Ну знаешь, их наверно специально учили для него.
- Он кабана взял, - сказал самый высокий. - Ты что думаешь, кабана для него тоже специально учили?
- Учить не учили, но конечно же это было подстроено. Всегда подстраивают, - сказал сын самого богатого отца. Он не сомневался, что уж для него-то это сделают.
- Ничего там не было подстроено! - сердито сказал высокий. -Остальные переглянулись, он покраснел. Его ломающийся голос загремел вдруг пугающим раскатом. - Мой отец об этом слышал. На самом деле, Птолемей пытался всё организовать, чтобы он не знал. Потому что он собрался убить кабана, а Птолемей не хотел, чтобы он погиб. Они прочесали весь лес и оставили только одного, - мелкого, - но когда на следующее утро приехали, оказалось, что туда крупный забрёл, ночью. Говорят, Птолемей побелел, как простыня, и пытался заставить его вернуться... Но он всё понял. Сказал, что этого вепря посылает ему бог, а бог знает лучше. Они так и не смогли его увести. Там все взмокли от страха: знали, что ему веса не хватит, чтобы того кабана удержать, а сети тоже не надолго хватило бы. Но он попал прямо в большую жилу на шее, так что никому и помогать не пришлось. Все знают, что так оно и было.
- То есть, никто не решается оспорить эту сказку. Ты это хочешь сказать, верно? Ты только посмотри на него!... Мой отец меня бы ремнём отстегал, если бы я стоял вот так на конском поле и позволял мужчинам так со мной разговаривать. С кем из них он ходит?
- Ни с кем, - вмешался вдруг кто-то из мальчишек. - Мой брат говорит, ни с кем.
- Вот как? А он что, пробовал?
- Друг его пробовал. Александру он, вроде, нравился; тот даже поцеловал его однажды. Но когда он захотел остального - тот, вроде, удивился и просто прогнал его. Брат говорит, он слишком юн для своего возраста.
- А сколько лет было твоему брату, когда он убил первого врага? спросил высокий. - И первого кабана?
- Это разные вещи. Брат говорит, он придёт к этому вдруг. И будет с ума сходить по девкам, как его отец.
- Ну, его отец любит и...
- Тише, дурак!
Они разом оглянулись; но все вокруг смотрели на двух скаковых лошадей, которых торговец послал пробежать по кругу. Мальчишки прекратили свою перебранку. Вокруг помоста начали строиться телохранители, готовясь встречать царя.
- Гляньте-ка, - шепнул кто-то, показывая на их командира. - Это же Павсаний! - Одни смотрели понимающе, другие вопросительно. - Он царским фаворитом был, перед тем который погиб. Они соперниками были.
- Так что там у них случилось?
- Тс-с-с! Это же все знают... Царь его отставил, и он разозлился по-страшному. Поднялся на вечеринке и обозвал того бесстыжей шлюхой; сказал, что тот хоть с кем пойдёт за плату. Их тогда едва растащили. А тот парнишка то ли на самом деле любил царя, то ли оскорбился очень - во всяком случае, это его грызло. В конец концов он попросил одного друга, Аттала кажется, передать царю письмо, когда он умрёт; а в следующем бою с иллирийцами бросился прямо в самую гущу врагов, впереди царя, и его изрубили в куски.
- Ну а царь что?
- Похоронил его, что ж ещё!
- Нет, с Павсанием?
Последовал взволнованный шепот.
- ...но по-настоящему-то никто не знает...
- Ну, конечно же он это сделал!
- За такие слова и убить могут.
- Ну, уж во всяком случае не пожалел, что так вышло.
- Нет, это не он. Это Аттал - и ещё друзья того парня, так мой брат говорит.
- Так что же было-то?
- Аттал однажды напоил его вусмерть, вечером. А после они его отволокли к конюхам и сказали, что те могут делать с ним, что хотят: он даст любому и даже платить ему не надо. Кажется, его ещё и побили вдобавок. Он только на другое утро очухался, в конюшне.
Кто-то тихонько присвистнул. Все стали разглядывать офицера стражи. Выглядел он старше своих лет, и не так уж красив, и бороду отрастил.
- Он хотел, чтобы Аттала казнили. Конечно же, царь не мог этого сделать, даже если б хотел. Представляете, чтобы такое на Собрание вынести!... Но хоть что-то он должен был, ведь Павсаний из Орестидов... Так он дал Павсанию какую-то землю и назначил его Заместителем в Гвардию Царя.
Самый высокий из мальчиков выслушал весь рассказ молча, потом спросил:
- А Александр об этом знает?
- Его мать рассказывает ему всё. Чтобы против царя настроить.
- Но царь сам оскорбил его в Зале. Потому он и отправился за той головой.
- Это он сам тебе рассказал?
- Нет конечно. Он не стал бы говорить о таком. Но мой отец там был. Он часто ужинает с царём, наши земли по соседству.
- Так ты и раньше встречался с Александром?
- Всего один раз, мы тогда совсем маленькие были. Он меня не узнал, я сильно вырос.
- Подожди ещё. Когда он узнает, что вы с ним ровесники, это ему не понравится.
- А кто сказал, что мы ровесники?
- Ты же и сказал... Вы в один месяц родились...
- Но я ж не говорил, что в один год.
- Говорил. В самый первый день, как появился.
- Так ты меня лжецом называешь? Ну-ка?...
- Не будь дураком, Гефестион. Здесь нельзя драться.
- Так пусть не зовёт меня лжецом, если нельзя.
- Тебе на вид все четырнадцать, - сказал миротворец. - А в гимнасии я думал, что даже больше.
- А знаете, на кого похож Гефестион? На Александра. Ну, не совсем такой же, но вроде как старший брат.
- Слыхал, Гефестион? Твоя мамаша хорошо царя знает?
Он переоценил свою безнаказанность, решив что здесь и сейчас его тронуть не посмеют. И в тот же миг очутился на земле, с разбитой губой. Этого почти никто не заметил: толпа волновалась, все смотрели на подъезжавшего царя. Только Александр всё это время следил за ними краем глаза, потому что считал себя как бы их командиром. Но решил, что лучше и ему не заметить. Ведь они, по сути, не на службе; а кроме того побитый нравился ему меньше всех.
Филипп подъехал к помосту в сопровождении начальника своей стражи, Соматофила. Павсаний отсалютовал и отшагнул в сторону. Мальчишки стояли смирно; только один сосал губу, а другой - костяшки кулака.
На конской ярмарке всегда бывало беззаботно и весело, здесь каждый мог быть самим собой. Филипп - в костюме для верховой езды - поднял хлыст, приветствуя вождей, дворян, офицеров и торговцев; потом поднялся на помост и окликнул нескольких друзей, приглашая присоединиться к нему. Увидев сына, хотел было подозвать и его, - но заметил вокруг его маленькую свиту и отвернулся. Александр снова заговорил с Гарпалом. Это был смуглый, живой, красивый юноша, полный неподдельного обаяния, несмотря на проклятие судьбы. Он был хромым от рождения; и Александра всегда восхищало, как стойко он переносит свою беду.
Мимо гарцевал скаковой конь; наездник - маленький нубиец в полосатой тунике. Было известно, что в этом году царь собирается покупать только боевого коня; но он заплатил однажды сумму, уже ставшую легендой тринадцать талантов, - за скакуна, который выиграл ему в Олимпии; и торговец полагал, что стоит попробовать. Филипп улыбнулся и покачал головой. Маленький нубиец, мечтавший, что его купят вместе с конём - что он будет носить золотую серьгу в ухе и есть мясо по праздникам, - рысью поехал назад. На лице его была такая скорбь, что больно смотреть.
Теперь начали выводить боевых коней. Какой пойдёт первым, какие потом, в каком порядке, - об этом торговцы яростно спорили всё утро. В конце концов очерёдность была установлена, с помощью крупных взяток. Царь спустился со своего помоста и стал заглядывать коням в зубы, поднимать им копыта, ощупывать бабки и слушать дыхание, прикладывая ухо к рёбрам. Некоторых коней отослал, некоторых оставил поблизости, на случай если не появится ничего лучшего. Потом возникла заминка, следующего коня не было. Филипп нетерпеливо оглянулся. Известный фессалийский торговец, Филоник, нервно дёрнулся и сказал своему скороходу:
- Передай им, если не приведут коня тотчас же, я из их кишок арканов понаделаю.
- Киттий говорит, господин, привести-то его они могут, но...
- Мало того, что я сам его объезжал, я его и показывать должен, что ли?... Скажи Киттию, если он сорвёт мне эту сделку, то у них на всех не останется шкуры даже на пару сандальных подмёток! -Потом, с сердечной улыбкой, он обратился к царю: - Государь, он уже на подходе. Ты увидишь, он не хуже, чем я писал тебе из Лариссы. Даже лучше! Прости мне эту задержку. Мне только что сообщили, какой-то дурак упустил его с привязи, а это конь такой, что поймать его трудно... А! Вот он!
Вороного, с белой звездой на лбу, осторожно вели под уздцы, шагом. Остальных коней показывали под наездниками, чтобы видно было аллюр. Этот был явно в поту, но по дыханию нельзя было сказать, что его только что ловили. Когда его подвели к царю и его конюшему, конь раздул ноздри и скосил чёрный глаз; попытался вскинуть голову, но конюх повис на узде и не позволил. Уздечка дорогая - красная кожа с украшениями из серебра, - но чепрака на нём не было. Торговец злобно скривил губы. Приглушённый голос возле помоста произнёс:
- Глянь, Птолемей! Ты только глянь на этого!
- Вот, государь! - воскликнул Филоник с наигранным восхищением. - Вот он, Гром. Если здесь когда-нибудь был конь, достойный царя...
Это на самом деле был идеальный конь Ксенофонта, по всем статьям. Начав, как он советовал, с ног, Александр увидел копыта, высокие спереди и сзади. Когда он переступал, как сделал это сейчас (едва не придавив ногу конюху), звук был звенящим, словно у кимвалов. Бабки крепкие, но гибкие; грудь широкая, шея изгибалась дугой, словно у бойцового петуха - как сформулировал это писатель, - грива длинная, густая, шелковистая, только плохо расчёсана почему-то... Спина крепкая, широкая, хребет не выпирал; поясница короткая и широкая... Блестящая чёрная шерсть, а на крупе клеймо рогатый треугольник, бычья голова, - знак его знаменитой породы. Удивительным образом, белое пятно на лбу почти в точности повторяло форму клейма.
- Вот это конь! - воскликнул Александр. - Это само совершенство!
- Он с норовом, - возразил Птолемей.
Тем временем Киттий, старший конюх, жаловался у коновязей своему приятелю, тоже рабу, который знал о всех его мучениях:
- В такие дни как сегодня, я жалею что мне тоже не перерезали горло, как отцу, когда взяли наш город. У меня спина ещё с прошлого раза не зажила, а нынче он меня опять высечет.
- Но ведь этот конь - убийца. Чего ему надо?... Он что, убить царя хочет?
- С конём всё было в порядке, можешь мне поверить. Всё было в порядке, - просто гордый был конь, пока хозяин его не измордовал. Не послушался его сразу, видишь ли. Он же хуже зверя, когда напьётся! Обычно-то он на нас отыгрывается, люди дешевле... А теперь все оказались виноваты, только не он сам. Если сказать ему, что он искалечил коню характер - на всю жизнь искалечил, - он же меня убьёт. Он же всего месяц назад купил коня у Кройса, специально для этого случая купил, два таланта отдал... - Его слушатель присвистнул. - Здесь-то он рассчитывал три получить... И вполне мог бы, если бы не постарался его сломать. Но конь не сдался, молодец. Меня-то он давно уже сломал.
Филипп, увидев, что конь норовист и неспокоен, обошёл его кругом, держась поодаль.
- Да, - сказал он, - выглядит отлично. Ну-ка, покажите, как он двигается.
Филоник сделал несколько шагов к коню. Тот заржал - звонко, как боевая фанфара, - взвился на дыбы, подняв повисшего на узде конюха и замахал передними копытами. Торговец выругался и ближе подходить не стал; конюх усмирил коня. По красной уздечке словно краска потекла; а с губ коня упало несколько капель крови.
- Гляньте-ка, какие удила,- удивился Александр. - С шипами!...
- Похоже, его и этим не удержишь, - небрежно сказал рослый Филот. Красота это ещё не всё.
- А всё-таки он голову поднял! - Александр подался вперёд.
Мужчины шагнули за ним следом, глядя через него: ростом он был едва по плечо Филоту.
- Ты видишь, какой у него характер, государь! - Филоник старался изо всех сил. - Такого коня можно научить вставать на дыбы и бить врага...
- Лучший способ добиться, чтобы коня под тобой убили, это заставить его показать брюхо, - резко ответил Филипп. Потом обратился к сухопарому, кривоногому человеку, стоявшему рядом: -Попробуешь, Язон?
Царский конюший подошёл к коню спереди, говоря что-то мягко, успокаивающе. Конь подался назад, переступил напряжённо, вращая глазами... Конюший щёлкнул языком и сказал твёрдо:
- Ну, Гром, малыш...
При звуке своего имени, конь казалось содрогнулся от подозрения и злобы. Язон снова заговорил что-то нечленораздельное, просто звуки. Потом сказал конюху:
- Держи ему голову, пока я сяду. С этим ты и один должен управиться.
Он стал подходить к коню сбоку, собираясь ухватиться за основание гривы. Это единственный способ вскочить верхом, если нет копья, чтобы опереться на него и подпрыгнуть. Если бы был чепрак, то сидеть было бы удобнее - и красивее тоже, - но никакой опоры для ноги и он бы не дал. А подсаживают только стариков... И персов; все знают, какие они неженки.
В последний момент его тень промелькнула перед глазами коня. Конь резко рванулся, развернулся и ударил задними копытами, едва не попав в Язона. Язон отшагнул и посмотрел на него сбоку, сощурившись и скривив рот. Царь встретился с ним взглядом и поднял брови.
Александр, смотревший на это, затаив дыхание, обернулся к Птолемею и сказал с отчаянием:
- Он же его не купит!
- А кто ж такого купит? - удивился Птолемей. - Я вообще в толк не возьму, зачем его показывать стали. Ксенофонт не купил бы. Ты ж только что его цитировал: пугливый конь не позволит тебе навредить врагу, а тебе навредит выше головы.
- Пугливый?... Он?... Да я в жизни не видал коня смелее! Он же боец... Ты посмотри, как его били, даже под брюхом рубцы. Если отец его не купит тот мерзавец с него шкуру сдерёт, с живого. Это ж у него на морде написано.
Язон попытался ещё раз. Но не успел даже подойти к коню, как тот начал лягаться. Язон посмотрел на царя, царь пожал плечами.
- Он же тени боится, даже своей, - горячо сказал Александр Птолемею. Неужели Язон не понимает?
- Он и так понял вполне достаточно, он в ответе за царскую жизнь. Ты бы поехал на войну на таком коне?
- Да! Я бы точно поехал. Тем более на войну.
Филот поднял брови, но переглянуться с Птолемеем ему не удалось.
- Ладно, Филоник, - сказал Филипп. - Если это лучший конь в твоей конюшне, то давай не будем тратить время. У меня много дел.
- Государь, дай нам ещё чуточку времени. Он играет, не набегался. Сытый, весёлый...
- Я не стану платить три таланта за то, чтобы сломать себе шею.
- Господин мой, только для тебя... Я назначу другую цену...
- Мне некогда!...
Толстые губы Филоника вытянулись в узкую полоску. Конюх, изо всех сил повиснув на шипастой узде, начал разворачивать коня, уводить. Александр воскликнул громко:
- До чего обидно! Самый лучший конь!
Этот возглас, злой и убеждённый, прозвучал дерзким вызовом; люди стали оглядываться на него. Филипп тоже повернулся к сыну, удивлённый. Никогда ещё, как бы ни было плохо, сын не грубил ему на людях. Ладно, он оставит это до лучших времён. Конюх уходил, уводя коня.
- Здесь никогда не было коня лучше этого! И всё что ему нужно обращаться с ним по-человечески!... - Александр вышел на поле. Друзья его, даже Птолемей, от него отстали: уж слишком далеко он зашёл. Вся толпа смотрела, затаив дыхание. - Конь один на десять тысяч, а его забраковали!...
Филипп, оглянувшись снова, решил, что мальчик просто не понимает, насколько оскорбительно его поведение. Он же - как жеребёнок норовистый; слишком горяч стал с тех пор как совершил два своих ранних подвига; они ему в голову ударили. Самые лучшие уроки человек преподаёт себе сам, - подумал Филипп. И сказал:
- Язон тренирует лошадей уже двадцать лет. А ты, Филоник? Давно?
Торговец переводил взгляд с отца на сына. Сейчас он себя чувствовал канатоходщем на верёвке.
- Ну что тебе сказать, государь? Меня этому с детства учили...
- Слышишь, Александр? Но ты думаешь, у тебя лучше получится?
Александр посмотрел не на отца, а на Филоника. Взгляд был такой, что торговец отвёл глаза.
- Да. С этим конём получилось бы.
- Прекрасно, - сказал Филипп. - Если сумеешь, он твой.
Мальчик жадными глазами смотрел на коня, приоткрыв рот. Конюх остановился. Конь фыркнул, повернув голову.
- Ну а если не сумеешь? - весело спросил царь. - Каков твой заклад?
Александр глубоко вдохнул, не сводя глаз с коня.
- Если я на нём не проеду, то заплачу за него сам.
Филипп поднял густые чёрные брови.
- Три таланта?
- Да.
Мальчику только что назначили денежное содержание; такую сумму ему придётся отдавать ещё весь следующий год, а самому почти ничего оставаться не будет.
- Ты на самом деле готов на это? Я ведь не шучу!...
- Я тоже.
Теперь, перестав тревожиться за коня, он увидел, что все на него смотрят: офицеры и вожди, конюхи и торговцы; Птолемей, Гарпал и Филот; и мальчишки, с которыми он провёл это утро... Высокий Гефестион, который двигался так хорошо, что всегда привлекал внимание к себе, шагнул вперёд, оказавшись перед остальными. На миг их глаза встретились.
Александр улыбнулся Филиппу:
- Значит поспорили, отец. Конь в любом случае мой, а проигравший платит, так?
Вокруг царя раздался смех и шум рукоплесканий; от радости и облегчения, что всё так хорошо обернулось. Только Филипп, пристально смотревший на сына, разглядел, что это улыбка, какая бывает в бою. И ещё один человек это знал, но на него никто не обратил внимания тогда.
Филоник, почти не в силах поверить в столь удачный поворот судьбы, заторопился перехватить мальчишку, который пошёл прямо к коню. Выиграть он конечно не может, но надо позаботиться, чтобы хоть шею себе не свернул... А что царь возьмёт эту заботу на себя - надежды не было.
- Мой господин, ты сейчас убедишься...
Александр оглянулся на него.
- Уйди.
- Но, господин мой, когда ты подойдёшь...
- Уйди!... Вон туда, под ветер. Чтобы он не только не видел тебя, но чтобы и духу твоего здесь не было, понял? Ты уже достаточно постарался.
Филоник заглянул в побледневшие, расширенные глаза - и без звука пошёл точно туда, как ему было велено.
Только теперь Александр сообразил, что забыл спросить, когда коня назвали Громом и было ли у него прежде какое-нибудь другое имя. Конь уже ясно сказал, что слово "Гром" связано для него с тиранией и болью. Значит ему нужно новое имя... Он обошёл коня, так что тень осталась за спиной, глядя на рогатое пятно под чёлкой.
- Быкоглав, - сказал он, перейдя на македонский, на язык любви и правды, - Букефал, Букефал...
Конь поднял уши. Этот голос был не похож на те ненавистные, какие он знал. Но что дальше? Людям он больше не верил. Он фыркнул и ударил копытом, предупреждая.
- Наверно царь жалеет, что послал его на это дело, - сказал Птолемей.
- Он под счастливой звездой родился, - возразил Филот. -Хочешь, поспорим?
- Я его забираю, - сказал Александр конюху. - Ты можешь быть свободен.
- О нет, господин мой! Только когда ты сядешь, господин мой... Ведь с меня же потом спросят!...
- Никто ничего не спросит, конь уже мой. Ты просто отдашь мне узду, только не дёргай. Я сказал, дай сюда!... Живо!
Он взял поводья и сразу отпустил их, поначалу только слегка. Конь фыркнул, потом повернул голову и понюхал его. Правое переднее копыто беспокойно рыло землю. Он перехватил поводья в одну руку, а свободной погладил потную, влажную шею; потом перехватился за оголовье уздечки, так что колючие удила совсем перестали тревожить. Конь чуть подвинулся вперёд. Он сказал конюху:
- Уходи вон в ту сторону. Не маячь перед глазами.
Теперь он потянул голову коня навстречу яркому весеннему солнцу. Тени оказались за спиной, их больше не было видно. А он купался в ароматах конского пота и дыхания.
- Букефал, - позвал он тихо.
Конь потянулся вперёд, стараясь увлечь его за собой; он слегка натянул поводья. На морде сидел слепень - он согнал, проведя ладонью сверху вниз, до мягкой губы. Конь порывался идти дальше, словно прося: "Давай поскорее убежим отсюда".
- Да, - сказал он, погладив коню шею, - Да. Но всему своё время, Букефал. Когда я скажу, мы уйдём. Но убегать - это не для нас с тобой.
Надо скинуть плащ, мешает. Пока рука была занята пряжкой, он продолжал разговаривать, чтобы конь помнил только о нём.
- Ты только подумай, кто мы такие: Александр и Букефал!...
Но вот плащ скользнул за спину, упал на землю... Он провёл рукой по спине коня. Наверно почти четырнадцать ладоней, для Греции очень высокий конь; а он-то привык к тринадцати... Этот почти такой же высокий, как у Филота, который без конца хвастается своим. Чёрный глаз повернулся в его сторону.
- Ти-ихо... ти-ихо... сто-ой... Я тебе скажу, когда.
Собрав свободные поводья в левой руке, он ухватился за гриву на крутой шее, а правой взялся за холку. Конь напрягся, побежал... Он пробежал с ним рядом несколько шагов, чтобы уловить момент, потом прыгнул, перебросил правую ногу... Есть!
Веса конь почти не ощутил. Но ощутил неколебимую уверенность всадника, непреодолимую доброту его рук и сдержанную, но непреклонную волю. Эту волю он понимал - он и сам был такой, - и знал, какова она бывает у людей. У этого была невероятная, нечеловеческая. Людям он не подчинился, но был согласен подчиниться богу. Поначалу толпа наблюдала молча. Эти люди знали коней, и понимали, что этого пугать нельзя. В тишине слышалось только взволнованное дыхание массы людей. Они ждали, что вот сейчас конь придёт в себя, и были уверены, что в лучшем случае он унесёт мальчишку; были готовы рукоплескать, если малыш сможет удержаться, пока конь не устанет... Но он держал коня в руках, тот ждал его приказа... Зазвучали удивлённые голоса. А когда он наклонился вперёд и с криком ударил коня пятками, когда они рванулись вниз к заливным лугам - поднялся рёв. Они исчезли вдали; только облако пыли потянулось вслед, обозначая их путь. Их долго не было, потом они наконец появились. Солнце было у них за спиной, так что тень прямо перед глазами. И копыта триумфально втаптывали эту тень в землю, словно ноги фараона на барельефе, топчущего попранных врагов.
На конском поле они перешли на шаг. Конь фыркал и встряхивал уздечку. Александр сидел свободно, как учил Ксенофонт, - ноги прямо книзу, - держался бёдрами, расслабив ногу от колена. Он ехал к помосту, но его кто-то уже ждал внизу... Это был отец.
Он спрыгнул по-кавалерийски, перекинув ногу через шею коня и повернувшись к нему спиной. На войне такой способ считается самым надёжным, если только конь позволяет. Этот помнил всё, чему успел научиться когда-то в добрых руках. Филипп протянул обе руки - Александр шагнул навстречу и обнял его.
- Только смотри, отец, чтобы мы ему рот не дёргали, - сказал Александр. - Ему больно.
Филипп похлопал его по спине. Он плакал; даже из слепого глаза катились настоящие слёзы.
- Сынок!... - Слезы мешали говорить. Жёсткая борода была влажной. Молодец, сын мой. Мой сын.
Александр ответил на его поцелуй. Сейчас казалось, что этот момент останется с ними навсегда.
- Спасибо, отец. Спасибо за коня. Я его буду звать Быкоглав.
Вдруг конь рванулся резко... К ним шёл Филоник; сияя улыбкой, рассыпаясь в похвалах и поздравлениях. Александр оглянулся и мотнул головой - Филоник ретировался. Покупатель всегда прав!...
Их окружила толпа, напирала...
- Отец, скажи им, чтобы держались подальше. Он пока не выносит людей. Мне придётся самому его обтереть, чтобы не простудился.
Занимаясь с конём, он держал рядом самого лучшего конюха, чтобы конь узнал его в следующий раз. Толпа осталась на поле. Потому, когда он вышел во двор конюшни - раскрасневшийся от скачки и от работы, растрёпанный, пропахший конским потом, - там было пусто. Только болтался без дела высокий мальчик, Гефестион, чьи глаза желали ему победы. Александр улыбнулся, показав, что узнал его. Гефестион улыбнулся в ответ, поколебался чуть, подошёл поближе - возникла пауза.
- Ты хотел на него посмотреть?
- Да, Александр. Это было так, словно он тебя знает. Я это чувствовал, как знамение. Как ты его зовёшь?
- Быкоглав.
Они говорили по-гречески.
- Это лучше, чем Гром. То имя он ненавидел.
- Ты живёшь где-то близко. Верно?
- Да, могу показать, прямо отсюда видно. Не эта первая гора, вон там, и не вторая - а за ними.
- Ты здесь уже бывал однажды, я тебя помню. Ты мне ремень помог закрепить... Нет, то был колчан. А отец твой тебя уволок.
- Я тогда не знал, кто ты.
- И эти горы свои ты мне тогда показывал. Я помню. А родился ты в месяц льва, в тот же год что и я.
- Верно.
- Ты на полголовы выше. Но у тебя и отец высокий, правда?
- Да, высокий. И дядья тоже.
- Ксенофонт говорит, рослого коня можно отличить при самом рождении, по длинным ногам. Когда мы оба вырастем, ты всё равно будешь выше.
Гефестион заглянул в доверчивые, искренние глаза. И вспомнил, как отец говорил, что если бы не тот наставник с кирпичной мордой, что морил его голодом и перегружал работой, то сын царя мог бы подрасти повыше. Надо было, чтобы кто-нибудь его защищал всё это время, чтобы какой-нибудь друг был рядом...
- Это неважно. Всё равно, на Букефала никто кроме тебя не сядет.
- Пойдём, посмотришь на него. Только слишком близко не подходи. Я вижу, мне придётся первое время всегда быть рядом, когда конюхи будут с ним заниматься.
Он вдруг обнаружил, что говорит на македонском. Они переглянулись - и рассмеялись оба.
Они ещё долго болтали, пока он не вспомнил, что собирался прямо из конюшни, как был, пойти к матери и рассказать ей последние новости. Первый раз в жизни он совершенно забыл о ней.
Через несколько дней он принёс жертву Гераклу. Герой всегда был настолько щедр и великодушен, что заслужил чего-то большего, чем козел или баран.
Олимпия согласилась. Если сын её ничего не жалел для Геракла, то она ничего не жалела для сына. Она беспрерывно писала письма всем своим подругам и родне в Эпир, рассказывая, как Филипп раз за разом пытался сесть на коня, но тот его сбрасывал, позоря перед народом; как конь был свиреп, словно лев, - но её сын укротил его. Она распаковала новый тюк тканей из Афин, предложила ему выбрать кусок для нового праздничного хитона. Он выбрал простую, тонкую белую шерсть; а когда она сказала, что это слишком скромно для такого великого дня, - ответил, что для мужчины в самый раз, то что надо.
К святилищу героя он нёс своё приношение в золотой чаше. Присутствовали и мать и отец, церемония была торжественная.
Произнеся подобающие обращения к герою, со всеми восхвалениями и эпитетами, Александр поблагодарил его за всё хорошее, что он сделал для людей, и закончил так:
- Каким ты был со мной, таким и оставайся. Будь благосклонен ко мне во всех моих начинаниях, по молитве моей.
Он поднял чашу. Полупрозрачная струя ладана полилась на пылающий костёр, словно янтарный песок; к небу поднялось облако благоуханного голубого дыма.
Все вокруг провозгласили "Аминь", - кроме одного. Леонид, пришедший потому, что считал это своим долгом, поджал губы. Он скоро уезжал, его подопечного передавали другому. Хотя мальчику ничего ещё не сказали, его хорошее настроение казалось оскорбительным... А аравийская смола ещё стекала каплями с чаши. Сколько же денег выплеснул в огонь этот мальчишка? Наверно сотни драхм! И это после того, как он его постоянно приучал к простоте, предостерегал от излишеств!... Среди радостных возгласов его голос прозвучал кисло:
- Не будь столь расточителен, Александр. Не разбрасывайся такими драгоценностями, пока не стал хозяином земли, где добывают их.
Александр отвернулся от алтаря, с пустой чашей в руке, и посмотрел на Леонида. Сначала удивлённо; но удивление это тотчас сменилось вниманием и серьёзностью. Наконец он сказал:
- Хорошо, Леонид. Я запомню.
Спускаясь по ступеням святилища, он увидел ждущие глаза Гефестиона, понимавшего суть знамений. Им не надо было говорить об этом, им всё было ясно и так.
5
- Я уже знаю, кто это будет. Отец получил письмо и позвал меня нынче утром. Надеюсь, того человека можно будет вытерпеть. Но если нет - нам придется что-нибудь придумать...
Они сидели на крыше дворца, в ендове между двух скатов. Очень укромное место: один Александр знал как сюда забираться, пока не показал дорогу Гефестиону.
- Можешь на меня рассчитывать, даже если захочешь его утопить, - сказал Гефестион. - Ты и так уже натерпелся сверх меры. А он на самом деле философ?
- Ещё какой! Из Академии, у Платона учился... Будешь приходить на мои уроки? Отец говорит, тебе можно.
- Я ж тебя только задерживать буду.
- Софисты учат в диспутах, ему нужны будут мои друзья. После подумаем, кого ещё позвать. Это будет не просто логическая болтовня; ему придется учить меня и всякой всячине, которую можно использовать для дела. Так отец ему сказал. А он написал в ответ, что образование человека должно соответствовать его положению и обязанностям. Не очень понятно, что он имеет в виду.
- Но он по крайней мере не сможет тебя бить. Он афинянин?
- Нет, из Стагиры. Он сын Никомаха, тот был врачом у деда моего, Аминта. Кажется, он и отца лечил, совсем маленького. Ты знаешь, как жил Аминт?... Словно волк. Без конца отбивался от врагов - или сам нападал, свои убытки возместить пытался. Никомах был ему предан, это наверняка, а уж какой он там врач - не знаю... Но Аминт умер в собственной постели, это большая редкость в нашем роду.
- Значит, его сын... Как его зовут?
- Аристотель.
- Он знает страну, это уже кое-то. Он очень старый?
- Около сорока. Для философа совсем не старый, они ведь живут вечно... Изократу, который хочет, чтобы отец возглавил греков, уже за девяносто, но даже он предлагал себя на это место. Представляешь? Платон тоже больше восьмидесяти прожил... 0тец говорит, Аристотель хотел возглавить его школу, но Платон выбрал своего племянника. Потому он и уехал из Афин.
- И попросился к нам?
- Нет. Он уехал, когда нам с тобой было всего девять. Я знаю этот год, потому что как раз халкидийская война шла. А домой в Стагиру вернуться нельзя было: отец только что сжёг её, а народ в рабство забрал... Что это мне волосы тянет?
- Веточка отломилась. От дерева, что мы сюда лезли.
Пальцы у Гефестиона были не слишком гибкие. Сучок с каштана запутался в блестящих волосах, пахнущих каким-то дорогим снадобьем Олимпии и летней травой. Гефестион, волнуясь, заботливо и осторожно вытащил веточку; потом рука его скользнула вниз, он обхватил Александра за талию. Когда-то, в первый раз, он сделал это почти случайно. Хотя его не оттолкнули, прошло два дня, прежде чем он попытался попробовать снова. А теперь пользовался каждым удобным случаем, когда они оставались наедине; и почти постоянно думал об этом. Что думает Александр, он не знал; быть может вообще и внимания не обращает. Во всяком случае, Александр принимал это без возражений; а говорил с ним с каждым разом всё свободнее и откровеннее, обо всём.
- Стагирцы были союзниками Олинфа. И он покарал их для примера всем тем, кто не хочет иметь с ним дела. Твой отец рассказывал о войне?
- Что?... А, да. Рассказывал.
- Слушай, это важно. Аристотель уехал в Ассос как гостеприимец Гермея. Они в Академии встречались, а он там тиран. Знаешь, где Ассос? Как раз напротив Митилены, он проливы запирает. Так что - если только не ошибаюсь я знаю, почему отец выбрал как раз его. Но об этом никому ни слова, ясно?
Он заглянул Гефестиону в глаза, как всегда перед откровенным разговором; и, как всегда, Гефестион ощутил, что у него что-то тает в груди. Как всегда, прошло какое-то время, прежде чем он снова смог понимать, что ему говорят.
- ... которые были в других городах и не попали в осаду, просят отца восстановить Стагиру и отпустить её жителей. Того же хочет и этот Аристотель. А отцу нужен союз с Гермеем. Все своей выгоды ищут, как на конской ярмарке. Леонид тоже приезжал из-за политики какой-то... Старый Феникс - единственный, кто со мной ради меня.
Гефестион напряг руку. Его мучили противоречивые чувства. Хотелось сдавить Александра так, чтобы тот исчез, оказался внутри, со всеми косточками даже, - но он знал, что этого нельзя, это безумие; он сам убил бы каждого, кто повредил бы хоть волос на голове Александра.
- Они не знают, что я это понял. Я просто ответил: "Хорошо, отец". Даже матери ничего не сказал. Хочу сначала сам посмотреть на того человека, а потом уж решу, что делать. И чтобы никто даже не знал, почему я так решил. Это я только тебе говорю. Мать моя против философии, не хочет.
А Гефестион тем временем размышлял, насколько хрупкими кажутся эти рёбра, и как ужасны оба непримиримых желания: нежить это тело - и сокрушить. Он молчал.
- Она говорит, философия учит людей отвергать богов. Могла бы знать, что я никогда от них не отрекусь, кто бы мне что ни сказал. Я про них так же уверен, как про тебя, что ты есть... Послушай, я же так совсем дышать не могу.
Гефестион, который мог бы сказать то же самое, быстро отпустил его. Потом сумел ответить:
- Быть может, царица его отошлёт...
- Ну нет. Этого я не хочу. Только лишние неприятности будут. А кроме того я подумал, быть может это окажется такой человек, который сможет ответить на вопросы разные. Я как только узнал, что философ приезжает, стал записывать. Такие, на которые здесь у нас никто ответить не может. Уже тридцать пять набралось, я вчера считал.
Он не отодвинулся, а сидел, опершись спиной на крутой скат крыши и слегка привалившись плечом к Гефестиону, доверчиво и тепло. Вот истинное, совершенное счастье, - подумал Гефестион, - вот бы всегда так!... И сказал:
- Ты знаешь, мне хочется убить Леонида.
- О-о! Я раньше тоже так думал. Но теперь мне кажется, что он был послан Гераклом. Когда человек делает тебе добро вопреки своей собственной воле - тут видна божья рука. Он хотел меня подавить, но научил переносить лишения. Мне никогда не нужен меховой плащ, я никогда не ем сверх меры и не валяюсь по утрам... Если бы не он, мне бы теперь гораздо труднее было начинать учиться, а от этого никуда не денешься... И ведь нельзя требовать от своих людей, чтобы они переносили то, чего ты сам выдержать не можешь. А всем хочется посмотреть, каков я: как отец или понежнее. - Мышцы на рёбрах у него были, как каменные; тело казалось одетым в доспех. - Я только одежду ношу получше, вот и всё. Люблю красивое.
- Этот хитон ты никогда больше не наденешь, я тебе точно говорю. Посмотри, что ты на дереве сделал, сюда же ладонь пролезает... Александр. Слушай, ты никогда не пойдёшь воевать без меня, правда же?
Александр выпрямился, изумлённо глядя на него. Гефестиону пришлось убрать руку.
- Без тебя?... Ты о чём? Как ты мог подумать такое, ведь ты мой лучший друг!
Гефестион знал уже с незапамятных времён, что если бы бог предложил ему всего один-единственный дар за всю жизнь - на выбор, - он выбрал бы именно этот. Радость ударила его, словно молния.
- Ты это серьёзно? - спросил он. - На самом деле, серьёзно?
- На самом деле? - переспросил Александр. В голосе звучало оскорблённое удавление. - А ты сомневаешься? Думаешь, всё то, что рассказывал тебе, я говорю кому попало? "Серьёзно" - это ж надо такое ляпнуть!...
Гефестион подумал, что если бы услышал это всего месяц назад - так испугался бы, что не смог бы ответить.
- Не сердись. Слишком большому счастью всегда трудно поверить, - сказал он.
Взгляд Александра смягчился. Он поднял правую руку:
- Клянусь Гераклом!
Потом наклонился к Гефестиону и поцеловал его заученным поцелуем; так целуют дети, ласковые от природы и доверчиво любящие взрослых. Гефестион, потрясённый восторгом, не успел вернуть поцелуй, лёгкое касание уже ушло. А когда он собрался с духом, Александр думал уже о другом. Казалось, он рассматривает небо.
- Смотри, - показал он. - Видишь статую Победы на самом высоком фронтоне? Я знаю, как забраться туда. Пошли.
От них Победа смотрелась не больше детской глиняной куклы. Но когда, после головокружительного подъёма, они добрались до её основания, оказалось, что статуя высотой в три локтя. В руке, простёртой в пустоту, она держала позолоченный лавровый венок.
Пока лезли наверх, Гефестион ничего не спрашивал; ему было страшно задумываться. Теперь, по команде Александра, он обхватил левой рукой бронзовую талию богини.
- Держи меня за руку, - сказал Александр.
Гефестион схватил его за кисть левой руки, а он потянулся и завис над бездной, стоя на цоколе статуи, - и так отломил два листочка. Один поддался сразу, со вторым пришлось повозиться. Гефестион почувствовал, как у него потеют ладони; от страха, что из-за этого рука соскользнёт и он выпустит Александра, в животе стало холодно, будто льдом его набило, а волосы зашевелились. Но, невзирая на этот ужас, он обратил внимание на кисть, зажатую в его руке. Она была очень изящна по сравнению с его собственной, но при этом крепка, жилиста, а сжатый кулак казался не мягче бронзы. Мгновения тянулись вечностью, но вот Александра можно тянуть назад... Он спустился, держа эти листочки в зубах; а когда они вернулись на свою крышу, отдал один из них Гефестиону и спросил:
- Ну? Теперь веришь, что на войну пойдём вместе?
Лист на ладони Гефестиона размером был почти как настоящий. И дрожал как настоящий. Гефестион поспешил закрыть его пальцами, чтобы не видно было этой дрожи. Только теперь он почувствовал страх от этого подъёма; перед глазами стояла крошечная, мелкая мозаика громадных плит далеко внизу, и вспоминалось леденящее одиночество на высоте. Он пошёл наверх с горячей готовностью выдержать любое испытание, какому подвергнет его Александр, даже если это будет стоить ему жизни. Только теперь, когда позолоченный бронзовый лист впился ему в ладонь, он понял, что Александр испытывал не его. Он был только свидетелем. Его взяли наверх, чтобы он держал там в своих руках жизнь Александра; после того вопроса, на самом ли деле он говорил серьёзно... Это был залог их дружбы.
Спускаясь с крыши по высокому дереву, Гефестион припомнил легенду о Семеле, возлюбленной Зевса. Он явился ей в человеческом облике, но этого ей было мало: она потребовала, чтобы он обнял её в божественном облике своём. Это оказалось слишком - её испепелило... Ему тоже надо быть готовым к испытанию огнём.
До приезда философа оставалось ещё несколько недель, но его присутствие уже ощущалось.
Гефестион его недооценил. Он знал не только страну, но и царский двор; причём знал самые свежие новости, поскольку у него было много друзей и в самой Пелле, и среди путешественников. Царь, превосходно об этом осведомлённый, предложил ему в письме - если это покажется ему полезным обустроить специальное место, где принц и его друзья могли бы заниматься без помех.
Философ с одобрением читал между строк. Мальчика надо вырвать из материнских когтей, а за это отец обещает ему полную свободу. Это было больше, чем он смел надеяться. Он тут же написал ответ, в котором предлагал, чтобы принца и его друзей-однокашников разместили в некотором отдалении от придворных развлечений, а под конец - как бы только что об этом подумав приписал, что рекомендует чистый горный воздух. В ближайших окрестностях Пеллы серьёзных гор не было.
На склонах Бермиона - к западу от равнины, где расположена Пелла, - был хороший дом, обветшавший за годы бесконечных войн. Филипп решил купить его и привести в порядок. Дотуда больше двадцати миль, как раз то что надо. К дому пристроят ещё одно крыло и гимнасий; а поскольку философ просил, чтобы было место для прогулок, - расчистят парк. Никакой симметрии; просто изящно подправить природу, создать то, что персы называют "раем". Говорят, примерно таким был легендарный сад царя Мидаса. Там всё цвело - просто сказочно.
Распорядившись по поводу школы, Филипп послал за сыном. Он был уверен, что жена уже узнала о его распоряжениях через своих шпионов - и наверняка извратила перед мальчиком их смысл.
В последовавшей беседе он сообщил Александру гораздо больше, чем сказал словами. Такая школа - естественный этап подготовки царского наследника; Александр видел, что отец воспринимает это как нечто, само собой разумеющееся. Неужели все резкие выпады матери, все двусмысленные обоюдоострые слова были всего лишь ударами в её бесконечной войне с отцом?... Неужели она на самом деле сказала все те слова?... Прежде он верил, что ему она не солжёт никогда; но теперь уже знал, что то были пустые мечты.
- В ближайшие дни я хотел бы знать, кого из друзей ты хочешь взять с собой, - сказал Филипп. - Подумай об этом.
- Спасибо, отец.
Он вспомнил долгие часы мучительных, гнетущих разговоров на женской половине; чтение сплетен и слухов, интриги, тяжкие раздумья по поводу каждого слова или взгляда; вопли и слезы, и оскорблённые призывы к богам; запахи ладана, колдовских трав и горящего мяса; доверительный шепот, из-за которого он не мог уснуть до утра, так что на другой день не бегал, а еле плёлся, и не мог попасть в цель...
- ... все те, с кем ты общаешься сейчас, меня вполне устраивают, говорил отец, - если, конечно, их отцы согласятся. Птолемей, например?
- Да. Птолемей конечно. И Гофестион. Я тебе уже о нём говорил.
- Я помню. Гефестион обязательно.
Ему нелегко далось сказать это как ни в чём не бывало; но не хотелось нарушать ход событий, снявший груз с его души. В отношениях мальчишек явно просматривалась печать фиванской эротики: юноша - и мужчина, с которого этот юноша берёт пример. Если дела действительно обстоят так, как ему кажется, он никого не хотел бы видеть на месте такого мужчины. Даже Птолемей - хоть он и брат, и интересуется только женщинами, - и тот может оказаться опасен. Из-за редкой красоты сына и его склонности дружить со взрослыми, Филиппу одно время было неспокойно. Но вот, вдруг, мальчишка, с обычной своей непредсказуемостью, бросился в объятия такого же мальчишки, сверстника почти день в день... Они уже несколько недель неразлучны; Александр, правда, ничего не выдаёт; но того можно читать, как открытую книгу... Однако здесь нет никаких сомнений, кто для кого служит примером. Так что вмешиваться в это дело не стоит.
Достаточно хлопот было за пределами царства. В прошлом году на западной границе пришлось отгонять иллирийцев. Кроме множества огорчений, неприятностей и скандалов, это стоило ему ещё и раны - возле колена мечом рубанули, - от которой он до сих пор хромал.
В Фессалии всё шло хорошо. Он сверг дюжину мелких тиранов, добился мира в двух десятках кровавых междоусобных свар, и все - кроме самих тиранов были ему благодарны. А вот с Афинами не получалось, ничего. Даже после Пифийских Игр, - когда они отказались прислать участников, потому что он там председательствовал, - он всё ещё не оставлял мысли примириться с ними. Все его агенты в один голос утверждали, что с народом договориться было бы можно, если бы ораторы оставили его в покое. Главная забота простого люда состояла в том, чтобы не урезали государственные пособия; никакая политика, угрожавшая общественным раздачам, не проходила, даже если речь шла о защите собственного дома своего. Филократа обвинили в измене, он едва успел удрать из-под смертного приговора... Теперь он жил в своё удовольствие на содержании у Филиппа; а Филипп возлагал свои надежды на людей неподкупных но предпочитающих союз с ним по убеждению, полагающих что это наилучший вариант. Такие люди прекрасно понимали, что если его главная цель состоит в завоевании Азиатской Греции, то меньше всего ему нужна разорительная война с Афинами, в которой - победит он или нет - он неизбежно станет врагом всей Эллады, а приобретёт, даже в самом лучшем случае, лишь безопасный тыл.
Поэтому нынешней весной он послал новое посольство, с предложением пересмотреть мирный договор, если будут внесены разумные поправки. Афиняне прислали в ответ своего посла, давнего друга Демосфена, некоего Гелгесиппа, известного своим землякам под именем Пучок. Это прозвище возникло из-за того, что он носил на макушке узел волос, стянутый лентой как у женщины. Едва он приехал, стало ясно, почему выбрали именно его: при заведомой неприемлемости условий он был настроен бескомпромиссно и резко; не было никакого риска, что Филипп его переубедит. Именно он организовал в своё время союз Афин с фокидянами; оскорблением было уже само его присутствие в Пелле. Он приехал и уехал. А Филипп, который до сих пор не выжимал из фокидян ежегодной дани на разграбленный храм, послал им уведомление, что пора начинать платить.
А теперь разгоралась война за наследство в Эпире, где совсем недавно умер царь. Этот царь был там чуть больше чем просто вождь племенной, один из многих; скоро там начнётся хаос, если не посадить над ними какого-то гегемона. Филипп намеревался сделать это для блага Македонии. И впервые в жизни жена благословила его в его начинании, потому что он выбрал её брата Александроса. Филипп полагал, что тот увидит, в чём состоит его собственный интерес, и как-то обуздает её интриги; а поддержка Филиппа ему будет очень нужна, потому союзником он станет надёжным... Жаль, что дело такое срочное, не получается самому встретить философа. Прежде чем хромать к своему коню, он послал за сыном и сказал ему это. Ничего больше говорить не стал: у него были выразительные глаза и многолетний дипломатический опыт.
- Он приезжает завтра, - сказала Олимпия. - Примерно в полдень. Не забудь. Надо, чтобы ты был дома.
Александр стоял у небольшого ткацкого станка, на котором его сестра училась делать узорную кайму. Она недавно освоила новый цветной орнамент и жаждала восхищения. Они давно уже стали друзьями, так что похвал он не пожалел... Но тут заговорила мать - он оглянулся, словно конь, настороживший уши.
- Я приму его в Зале Персея, - сказала она.
- Я его приму, мама.
- Конечно ты должен там быть. Так я и сказала...
Александр отошёл от станка. Клеопатра, оставшись одна, стояла с челноком в руке и смотрела то на мать, то на брата, с привычным страхом. Брат её стучал пальцами по жёсткому поясу из тёмно-коричневой кожи.
- Нет, мама. Раз отец уехал, то принимать его должен я. Я передам отцовские извинения и представлю Леонида и Феникса. А потом приведу Аристотеля сюда наверх, к тебе.
Олимпия поднялась с кресла. В последнее время он рос быстрее прежнего, так что она оказалась не настолько выше его, как думала.
- Ты хочешь мне сказать, Александр, - голос её повысился, - что не желаешь меня там видеть?
Она умолкла раньше, чем он ожидал.
- Это маленьких мальчиков мамы приводят. Взрослому такое не подобает. Мне почти четырнадцать. И знакомство с этим человеком я начну так, как собираюсь его продолжать.
Она напряглась всем телом и вскинула голову.
- Это отец тебе сказал?
Вопрос застал его врасплох, но он сразу понял, как надо ответить:
- Нет. Отцу нет нужды говорить мне, что я уже взрослый. Это я ему сказал.
На скулах её выступил румянец; рыжие волосы, казалось, сами собой поднялись на голове, серые глаза распахнулись... Он смотрел на неё, как завороженный, - и думал, что нет больше в мире других таких глаз, с таким ужасным взглядом.
- Так значит ты уже взрослый! Мужчина! А я - твоя мать, которая тебя выносила, вынянчила, выкормила... Которая дралась за тебя, когда царь готов был выкинуть тебя, как бездомного пса, чтобы возвысить своего ублюдка...
Она сверлила его взглядом женщины, насылающей проклятье. Он её ни о чём не спрашивал: достаточно было того, что она хотела его поранить. Слова летели одно за другим, словно горящие стрелы.
- Я жила для тебя, только для тебя, каждый день жизни моей! С самого момента твоего зачатия, да, задолго до того, как ты увидел солнечный свет!... Я прошла ради тебя огонь и тьму, я даже в царство мёртвых входила!... А теперь ты сговорился с ним отделаться от меня, как от крестьянской бабы?!... Да, теперь я верю - ты действительно его сын!
Он стоял молча. Клеопарта уронила челнок и закричала яростно:
- Отец нехороший, я его не люблю, я маму больше люблю!...
Они на неё даже не оглянулись. Она заплакала, но этого никто не слышал.
- Придёт время, ты вспомнишь этот день!... - Да, подумал он, такое не скоро забудешь. - Ну?!... Неужели тебе нечего ответить?!
- Извини, мама. - Голос у него уже начал ломаться, и теперь подвёл, сорвавшись кверху. - Я выдержал испытания на мужество. И теперь должен вести себя как мужчина.
Впервые она рассмеялась ему в лицо тем смехом, какой он слышал в её ссорах с отцом.
- Твои испытания мужества!... Ты, дитя глупое! Быть может расскажешь, когда ты лежал с женщиной?
Она снова умолкла. Он тоже молчал, в шоке. На Клеопатру не обращали внимания, она выбежала из комнаты. Олимпия упала обратно в кресло и разразилась слезами.
Он подошёл к ней, как подходил прежде, и погладил по голове. А она рыдала у него на груди, бормоча о жестокостях, какие ей пришлось вытерпеть; крича, что ей больше не хочется видеть свет дневной, раз он пошёл против неё... Он сказал, что любит её, что она и сама это знает... Разговор получился бессвязный, но достаточно долгий. В конце концов - он и сам не мог понять, как это получилось, - в конце концов они договорились, что софиста будет встречать он, с Леонидом и Фениксом. Чуть погодя он ушёл. Чувствовал себя не побеждённым и не победившим - только уставшим до невозможности.
У подножья лестницы ждал Гефестион. Он оказался там случайно; как случайно под рукой бывал мяч, если Александру хотелось поиграть, или вода, если ему хотелось пить. Это получалось не по расчёту, а от постоянной чуткой настроенности, от которой не укрывалась ни одна мелочь. Сейчас, когда Александр спускался по лестнице, - со сжатыми губами, с синими кругами около глаз, - Гефестион понял какой-то сигнал - беззвучный, молчаливый - и пошёл с Александром рядом, в ногу. Они шагали по тропе, уходившей в лес, пока не вышли на прогалину, где лежал ствол поваленного дуба, поросший жёлтыми грибами и увитый кружевом плюща. Гефестион сел, опершись на него спиной; Александр, в молчании, не нарушенном ни разу, с тех пор как они вышли из дворца, подошёл и примостился у него на плече. Через некоторое время Александр вздохнул, но больше не издавал ни звука, довольно долго. Потом, наконец, сказал:
- Странно. Люди говорят, что любят тебя, а сами съедают живьём.
Гефестиону было бы проще и спокойнее обойтись без слов, но приходилось ответить хоть что-нибудь...
- Дело в том, что дети принадлежат им, а мужчины должны уходить, сказал он. - Так говорит моя мать. Она говорит, что хочет, чтобы я стал мужчиной, но на самом-то деле это ей вовсе не нужно.
- Моей нужно. Что бы она ни говорила - нужно.
Он придвинулся, чтобы быть поближе. "Как зверёк, - подумал Гефестион. Ему легче, если его погладишь, а ничего больше ему и не нужно. Ну и пусть... Надо дать что нужно..."
Вокруг никого не было, но Александр говорил тихо-тихо, словно птицы могли подслушать.
- Ей нужен мужчина, чтобы защищал её. Ты знаешь, почему.
- Да, знаю.
- И она всегда знала, что я буду её защищать. Но сегодня я понял - она уверена, что когда придёт моё время, я позволю ей царствовать за меня. Мы об этом не говорили. Но она знает, что я ей сказал: "Нет".
По спине Гефестиона поползли мурашки, он ощутил опасность. Но сердце было переполнено гордостью. Он никогда не надеялся, что его позовут в союзники против этого грозного соперника. Он выразил свою преданность только жестом, не решаясь произнести ни слова.
- Она плакала. Я её до слез довёл.
Александр был ещё совсем бледен. Что бы такое сказать ему?...
- Когда она тебя рожала - тоже плакала, но это было неизбежно. Так и здесь.
Они снова умолкли. Потом Александр спросил:
- Ты помнишь, я тебе ещё и про другое говорил?
Гефестион кивнул. С тех пор они об этом не заговаривали.
- Она пообещала когда-нибудь всё мне рассказать. Иногда говорит одно, в другой раз другое... Мне снилось, что я поймал священного змея и хотел заставить его говорить со мной, но он всё время отворачивался и удирал.
- Быть может он хотел, чтобы ты пошёл за ним? - предположил Гефестион.
- Нет. Он знал тайну, но говорить не хотел. Она ненавидит отца. Быть может, я единственный, кого она по-настоящему любила хоть когда. Но она хочет, чтобы я был только её, чтобы ему вообще ничего от меня не досталось! Иногда я думаю... быть может... за этим что-то есть?
Лес был залит солнцем, но Гефестион ощутил, как по телу пробежала мелкая дрожь.
- Слушай, боги это откроют. Всем героям открывали, всегда. Но твоя мать, она-то во всяком случае... Она же смертная, правда?
- Да, конечно. - Он помолчал, обдумывая это. - Однажды, когда я был на Олимпе, один был, мне был знак. Я поклялся богу навсегда оставить это между нами...
Он слегка подвинулся, прося, чтобы Гефестион отпустил его, и вытянулся во весь рост, с долгим тяжёлым вздохом.
- Иногда я забываю об этом и не вспоминаю месяцами, - а иногда думаю днём и ночью, неотвязно. Иной раз кажется, что если не докопаюсь до правды с ума сойду.
- Это ты зря. Теперь у тебя есть я. Думаешь, я позволю тебе сойти с ума?
- Да. С тобой я могу говорить. Пока ты здесь...
- Обещаю тебе перед богом, я буду здесь пока жив.
Они смотрели в небо. Высокие облака казались неподвижны в мареве долгого летнего дня.
Пока корабль входил на вёслах в гавань, Аристотель, сын Никомаха, потомственного врача из рода Асклепиадов, - оглядывался вокруг, пытаясь восстановить в памяти картины детства. Давно это было; всё казалось чужим. Из Митилены он доехал легко и быстро: был единственным пассажиром на быстроходной боевой галере, специально присланной за ним. Потому не удивился, увидев конный эскорт, ожидающий на причале.
Он надеялся, что начальник эскорта будет услужлив. Правда, он уже знал, как должны его встречать, но знание никогда не бывает тривиальным; всякая истина - всегда сумма всех её частей...
Над кораблём парила чайка. Рефлекторно - по многолетней привычке всё подмечать - он отметил её породу, угол её полёта, размах крыльев, пищу, за которой она нырнула... Корабль замедлил ход, и линии бурунов из-под форштевня изменили форму. Он мельком подумал о том, как связана скорость судна с формой волны, - и задвинул возникшую формулу в дальний уголок памяти; туда, где сможет её найти, когда будет время для этого. Ему никогда не приходилось носить с собой таблички и стилос.
У причала толпилась масса кораблей, рассмотреть эскорт было трудно. Наверно царь прислал кого-нибудь из своих приближённых. Он уже приготовил вопросы, которые задаст им. Вопросы человека, сформированного своим временем, когда ни один мыслитель не может представить себе более высокой цели, нежели задача исцеления Эллады. Варвары - это случай безнадёжный, по определению; с тем же успехом можно пытаться выправить горбатого. Но Элладу нужно вылечить, чтобы она могла править миром.
Уже два поколения подряд наблюдали, как все достойные формы государственного устройства загнивали, обращаясь в свою противоположность. Аристократия становилась олигархией; демократия - демагогией; монархия тиранией.... С увеличением числа людей, принимающих участие в каждом из этих зол, в геометрической прогрессии возрастает противовес, мешающий любым реформам. Последние события показали, что тиранию изменить невозможно. Чтобы изменить олигархию, требуются сила и жестокость, пагубные для души. Чтобы изменить демагогию, нужно самому стать демагогом - и опять-таки разрушить собственную личность. Но чтобы реформировать монархию - нужно воспитать лишь одного-единственного человека... И ему выпал шанс воспитать царя. Это награда, о какой молится каждый философ!...
"Платон ради такой возможности жизнью рисковал в Сиракузах, - думал он, - первый раз с тираном-отцом, а потом ещё и с его бестолковым сыном. Платон скорее готов был потратить половину своих последних зрелых лет, чем отказаться от задачи, которую сам и сформулировал впервые. Это аристократ и солдат в нём говорил, а может быть мечтатель... Лучше было б ему собрать сначала надёжную информацию, тогда бы и ехать не пришлось!" Но даже эта резкая мысль вызвала незримое присутствие могучей, подавляющей силы. И давнее беспокойство - ощущение чего-то такого, что не измеришь никаким инструментом, что рушит любые категории и системы, - снова вернулось, возникло в памяти, словно назойливый призрак, вместе с летними ароматами Академического парка.
Ну что ж, в Сиракузах у Платона не получилось. Быть может, не было подходящего материала, не с чем было работать, - но эхо той неудачи прокатилось по всей Греции. А под конец он наверно и сам сломался, вообще из ума выжил, раз передал свою школу бесплодному метафизику Спевсиппу. Ведь этот Спевсипп был бы рад и школу бросить, чтобы перебраться в Пеллу. Раз царь готов помогать, а мальчик умён и упорен, и без заметных пороков, - и наследник в государстве, которое с каждым годом крепчает, - ничего удивительного, что Спевсиппу захотелось сюда, после сиракузского убожества. Но его не пустили. Демосфен со своей партией добился хотя бы этого: никто из афинян не смог воспользоваться этой возможностью.
Что до него самого, когда друзья стали превозносить его храбрость, раз он решается ехать в отсталые северные земли, где столько насилия, - он отметал эти разговоры с обычной скупой улыбкой. Здесь были его корни, воздухом этих гор дышал он в счастливые годы детства своего, красотой их любовался, когда все помыслы старших были заняты заботами войны. Что до насилия - он достаточно долго прожил под сенью Персидской державы; уж в чём-чём, но в наивности его заподозрить нельзя. Если он там сумел сделать философом и другом своим такого человека, как Гермей, - с таким тёмным прошлым, - вряд ли стоит ему бояться неудачи с юным мальчиком, которого можно будет лепить своими руками.
Галера приближалась к причалу; гребцы табанили, пропуская транспортную триеру. А он с волнением вспоминал дворец на склоне холма в Ассосе, смотрящий на лесистые склоны Лесбоса и на пролив, который он столько раз пересекал... И террасу, где летними ночами горел факел; и споры, и задумчивое молчание; и книги, которые читали вместе... Читал Гермей хорошо. Высокий голос его был не пронзителен, а мелодичен. Этот женоподобный тембр не отражал его духа. В детстве его оскопили, чтобы продлить красоту его, которую очень ценил хозяин; прежде чем стать правителем, он прошёл огни и воды - но постоянно рвался вверх, к свету, словно затоптанный росток. Однажды его уговорили посетить Академию, и с тех пор он никогда больше не опускался до прежних поступков своих.
Обречённый на бездетность, Аристотель взял к себе племянницу, а потом и женился на ней, ради их дружбы. Что она его обожает - это оказалось для него сюрпризом. Он воспринял её любовь с благодарностью, которую не стеснялся проявлять, и теперь был рад этому, потому что недавно она скончалась. Он вспоминал, как тоненькая, смуглая, заботливая девочка держала его за руку, смотрела на него уже замутненными, блуждающими глазами - и просила, чтобы их прах, его и её, смешали в одной урне. Он ей пообещал; и добавил, по своей инициативе, что никогда больше не женится. Теперь он вёз эту урну с собой, на случай если умрёт в Македонии.
Конечно, женщины у него будут. Он испытывал некоторую гордость - по его мнению вполне естественную для философа - от того, что у него всё в здоровой норме. Он полагал, что Платон отдавал любви слишком много душевных сил.
Неожиданно - как всегда при таких маневрах в забитой гавани - галера развернулась и подошла к пирсу. На причале поймали и закрепили швартовы, загремели сходни... Эскорт стоял спешившись, человек пять-шесть. Аристотель повернулся к слугам, чтобы убедиться что с багажом всё в порядке, но какое-то движение среди команды заставило его оглянуться. Наверху трапа стоял мальчик, озираясь вокруг. Руки его лежали на мужском поясе для меча, яркие густые волосы теребил лёгкий ветерок с берега... Он казался проворным и настороженным, как молодой охотничий пёс. Когда глаза их встретились, он спрыгнул с причала прямо на палубу; не дожидаясь матроса, кинувшегося помогать. Спрыгнул легко и естественно, словно шёл по ровному месту, даже не задержавшись.
- Ты Аристотель, философ?... Да будут счастливы дни твои. Я Александр, сын Филиппа. Добро пожаловать в Македонию.
Они обменялись дежурными любезностями, оценивая друг друга.
Александр задумал эту встречу сразу же, как только узнал о приезде философа, решив действовать сообразно обстоятельствам.
Инстинктивно он чувствовал опасность. Мать как-то уж слишком легко согласилась, - а он знал, что она нередко соглашалась с отцом только ради того, чтобы скрыть свой следующий ход. Войдя в её комнату, когда её там не было, он увидел разложенное, готовое торжественное платье... Новая схватка обещала быть ещё кровопролитнее предыдущей, но всё равно могла ничего не решить. И тогда он вспомнил блистательного Ксенофонта, окружённого в Персии. Вспомнил, как тот вырвался, скрыв свой манёвр.
Это надо было сделать умненько, по всем правилам, чтобы без малейшего риска. Он пошёл к Антипатру, которого отец оставил наместником в Македонии на время своей отлучки, и попросил его поехать с ним. Антипатр был верен царю неколебимо. Он сразу всё понял - и согласился с удовольствием, хотя был не настолько глуп, чтобы это удовольствие проявить. Теперь он был здесь встреча получилась вполне официальной - и вот он, философ.
Философ оказался худощав и мелковат. Сложен он был неплохо, но с первого взгляда казалось, что весь он, целиком, состоит из одной головы. Всё остальное подавлял широкий выпуклый лоб; казалось, что содержимое распирает этот сосуд. Небольшие проницательные глаза непредубеждённо и безошибочно регистрировали всё, что видели... Рот закрыт по линии, точной как философская дефиниция... Короткая аккуратная борода; редеющие волосы торчат в разные стороны, словно рост массивного мозга растолкал их корни...
Со второго взгляда обнаруживалось, что одет он не кое-как, а с ионийской элегантностью, и даже носит несколько хороших колец.
Афиняне считали, что он несколько фатоват, но в Македонии он выглядел изысканным и свободным от излишнего аскетизма. Александр подал ему руку, чтобы помочь подняться по сходням, - и проверил, как он реагирует на улыбку. Когда Аристотель улыбнулся в ответ, стало ясно, что улыбка - это самое большее на что он способен: его не увидишь с запрокинутой от смеха головой. Но похоже, что на вопросы он ответит.
Красота, думал философ. Дар богов. И не просто красота, а красота одухотворённая; в этом доме явно кто-то живёт... Его предприятие не так безнадёжно, как поездки Платона в Сиракузы. Надо сообщить Спевсиппу, пусть порадуется.
Тем временем принц представлял ему присутствующих, и делал это с отменным тактом. Конюх подвёл философу коня и помог сесть верхом, на персидский манер. Проследив за этим, мальчик повернулся в сторону; вперёд выдвинулся другой, повыше, державший за оголовье уздечки изумительного вороного, с белой звездой. Аристотель заметил коня уже раньше; и заметил, как тот волновался, пока протекали все формальности знакомства; и потому очень удивился, когда тот юноша отпустил вороного. Но конь тотчас подошёл к принцу и понюхал ему шею. Принц погладил его и что-то шепнул... Конь опустил круп, изящно и с достоинством присев на задних ногах; подождал, пока принц сядет; а когда, тот коснулся пальцами - вновь встал во весь рост. В этот момент оба - мальчик и зверь - казались посвященными, которые тайно обменялись магическим паролем.
Философ отмёл эту фантазию. У природы нет тайн - только факты, еще не подвергшиеся достаточному наблюдению и анализу. Исходи из этого здравого принципа - и ты никогда не собьёшься с пути.
Ручей в Мьезе священен, принадлежит нимфам. Воды его заведены в древнюю каменную беседку, где гулко звенят под крышей; а заросший папоротником омут ниже беседки выбит падающим потоком, крутящимся меж камней. Коричневая поверхность омута отражает солнце, здесь хорошо купаться.
Вода разведена по канавам и трубам, прорезающим сады; сверкающими тугими струями вырывается из фонтанов или скатывается по камням искусственных каскадов. Вокруг - рябины, заросли лавра и мирта; в густой траве позади ухоженного сада ещё цветут старые, корявые, одичавшие яблони; прогалины, расчищенные от кустарника, закрыты чистым зелёным дёрном... А от розовых стен дома расходятся, извиваясь, тропинки с грубыми ступенями из камня, иногда огибая скалу, поросшую мелкими горными цветами, или выводя на деревянный мостик, или расширяясь вокруг каменной скамьи, откуда открывается красивый вид. Летом в лесу за парком непролазные чащи диких роз, тех что нимфы подарили царю Мидасу; ночная свежесть напоена их терпким ароматом. Ранним утром, с зарёй, мальчишки часто выезжали поохотиться до начала уроков: ставили в зарослях сети и добывали косулю или зайца. Каждое такое утро бывало насыщено чередой своих ароматов. Сначала, в лесу под деревьями, запахи были влажные, мшистые, а на открытых склонах пряно пахло примятой травой... К восходу появлялись новые запахи: дым костра и жареное мясо, конский пот и кожа сбруи, и псина - когда гончие подходили поклянчить кусок или косточку... Но если добыча оказывалась редкой или странной - ребята знали, что предстоит анатомирование, и торопились домой. Аристотель научился этому искусству у своего отца, это было наследие Асклепиадов. Его даже насекомые интересовали, он и ими не брезговал. Большую часть из того, что ему приносили, он уже знал. Но иногда произносил быстрой скороговоркой: "Что-это-что-это?..." - а потом доставал свои заметки с прекрасными рисунками, сделанными пером, - и после того весь день пребывал в отличном настроении.
Александр и Гефестион были здесь самыми младшими. Философ очень ясно дал понять - он не хочет, чтобы под ногами путались младенцы, независимо от положения их отцов. Многие из юношей и старших мальчиков, с которыми принц дружил с детства, стали теперь почти взрослыми, но ни один из приглашённых не отказался присоединиться к школе. Участие делало их Товарищами принца, его гвардией, а такое положение открывало большие возможности.
Антипатр, тщетно прождав какое-то время, заявил царю претензию по поводу своего сына, Кассандра. Филипп передал эту новость Александру перед самым его отъездом. Александр принял её без восторга.
- Я его не люблю, отец. И он меня не тоже любит. Так почему он хочет к нам?
- А почему бы и нет? Ведь Филот едет...
- Филот мой друг.
- Да, я обещал тебе, что все друзья твои поедут. И как ты знаешь никому из них не отказал. Но я не обещал, что не пущу туда никого кроме них. Как я могу принять сына Пармения и отказать сыну Антипатра!... Если вы с ним не ладите, то пора это дело исправлять... А это искусство, которому цари должны учиться.
Кассандр был ярко-рыжий, с голубовато-белой кожей, покрытой тёмными веснушками, плотного телосложения... И очень любил выжимать раболепство из каждого, кого мог запугать. Александра он считал несносным хвастуном и задавакой, которого давно надо было бы осадить хорошенько, если бы он не был защищён своим рангом и сворой льстецов, которую этот ранг ему создал.
В Мьезу Кассандру совсем не хотелось. Недавно он сказал Филоту что-то опрометчивое - не сообразив, что в тот момент главной заботой Филота было попасть в компанию Александра, - и тот его отлупил. А Филот не из тех, кто станет замалчивать свои подвиги. Теперь Кассандр обнаружил, что Птолемей и Гарпал с ним больше не разговаривают; Гефестион смотрит на него, как привязанная собака на кота; а Александр игнорирует - но в его присутствии особенно дружелюбен с каждым, с кем он не в ладах. Если бы они дружили когда-нибудь раньше, это можно было бы поправить: Александр очень любил мириться, и должен был на самом деле уж очень разозлиться, - до чрезвычайности - чтобы отвергнуть кого-нибудь из своих. А так - случайная неприязнь превратилась в устойчивую враждебность. Кассандр с удовольствием век бы их всех не видел, вместо того чтобы вилять хвостом перед этим мелким самодовольным щенком, который - по естественному порядку вещей - должен был бы сейчас учиться здравому уважению к нему.
Напрасно он уговаривал отца, что не может учиться философии, что от неё - известное дело - у людей только крыша едет, что он хочет быть исключительно солдатом... Он не решался признаться, что Александр и друзья Александра его не любят: его бы выпороли за то, что допустил такое. Антипатр ценил свою карьеру и вынашивал честолюбивые планы в отношении сына. Так что не внял никаким его доводам, а сурово глянул на Кассандра жёсткими синими глазами - лохматые брови были когда-то такими же рыжими, как у него, - и сказал:
- Веди себя там хорошенько. И будь внимателен с Александром.
- Да он же ещё маленький, мальчишечка... - небрежно бросил Кассандр.
- Ты не старайся казаться большим дураком, чем тебя родили. Между вами разница четыре-пять лет, когда повзрослеете оба - считай ровесники. И запомни хорошенько, что я тебе скажу. У этого мальчишечки голова не хуже отцовской. А характер - если он не станет таким же опасным, как его мать, считай меня эфиопом... Не становись ему поперёк дороги и не пытайся его переделать. Софисту за это платят - пусть он и старается. Я тебя посылаю учиться, а не наживать себе врагов. Если ты там поскандалишь - шкуру спущу.
Вот так Кассандр поехал в Мьезу, где тосковал по дому, изнывал от скуки, и было ему одиноко и обидно.
Александр был с ним вежлив. И потому что отец сказал, что это искусство царей, - и потому что у него были заботы поважнее Кассандра.
Оказалось, философ не только согласен отвечать на вопросы, но и сам этого хочет. Очень хочет. В отличие от Тиманта, он сначала как раз на вопросы отвечал, а только потом уже принимался объяснять сущность и достоинства системы. Однако когда доходило до изложения - оно всегда было строгим и точным. Философ ненавидел неопределённость и не терпел туманных формулировок.
Мьеза смотрит на восток. Высокие комнаты, с поблекшими фресками на стенах, по утрам залиты солнцем, а с полудня в них прохладно. Когда надо было писать, рисовать или изучать образцы - работали в помещении; когда слушали или обсуждали лекцию - гуляли в парке. Говорили об этике и политике, о природе удовольствия и справедливости, о душе, о добродетели, о дружбе и любви... Рассматривали причины вещей... Всё должно быть прослежено до первопричины, и никакая наука немыслима без доказательств.
Скоро целая комната заполнилась образцами. Засушенные цветы и растения, рассада в горшочках, птичьи яйца с зародышами, залитые прозрачны мёдом, отвары целебных трав... Учёный раб Аристотеля трудился там целыми днями. А по ночам наблюдали небо. Звёзды - это материя самая божественная, из всего что только может увидеть человеческий глаз: это пятая стихия, какой на земле не найти. Они отмечали ветры и туманы, и конфигурацию облаков - и учились предсказывать бури... Они ловили свет полированной бронзой и измеряли углы отражения...
А для Гефестиона тут началась совершенно новая жизнь. Александр принадлежал ему на глазах у всех; даже философ признал его место.
Дружба обсуждалась в школе часто. Их учили, что это одна из немногих вещей, без которых человек обходиться не может; вещь необходимая для нормальной жизни и прекрасная сама по себе. Друзьям не нужна справедливость, ибо между ними не может быть ни неравенства, ни обид. Философ описывал степени дружбы, от своекорыстной - и вверх, к чистой и самоотверженной, когда другу желают добра ради него самого. Дружба совершенна, если люди добродетельные любят в друге своём его достоинства; а добродетель даёт больше услады, чем красота, ибо она неподвластна времени...
Философ оценил дружбу гораздо выше зыбких песков Зроса. Некоторые из учеников с ним не согласились, но Гефестион промолчал. Он не слишком быстро облекал свои мысли в слова; и обычно получалось так, что кто-то другой успевал вступить в разговор раньше него. Но это было лучше, чем свалять дурака, сказав что-нибудь неуклюжее. Хотя бы потому, что Кассандр наверняка записал бы такой случай на свой счёт против Александра.
Гефестион быстро становился собственником. К этому его вело всё: и характер его, и искренность его любви, и то как он её понимал; и принцип философа, что у каждого человека может быть только один совершенный друг; и убеждённость его неиспорченной интуиции в том, что верность Александра соответствует его собственной; и их общепризнанный статус. Аристотель всегда исходил из фактов. Он сразу увидел, что эта привязанность уже прочна - к добру или нет, - и сразу понял, что в основе её лежит не невоздержанность и не лесть, а подлинная, настоящая любовь, почти обожание. С этой связью бороться нельзя; нужно формовать её, лепить в её невинности. (Если бы нашёлся в своё время какой-нибудь мудрец, который сделал бы то же самое для отца!...) Поэтому, говоря о дружбе, он позволял себе ласково поглядывать на двух красивых мальчиков, которые всегда бывали рядом. Никогда раньше Гефестион не думал о себе, замечал только Александра. Теперь он видел, отражённо но чётко, будто в классе оптики, - что они составляют очень красивую пару. Он гордился всем, что относилось к Александру. Ранг Александра тоже сюда входил - иначе его и представить невозможно было, - но если бы он и потерял этот ранг, Гефестион пошёл бы за ним в изгнание, в тюрьму, на смерть... И от этого гордость за Александра перерастала в гордость самим собой. Он никогда не ревновал Александра, потому что никогда не сомневался в нём; но к положению своему относился очень ревниво, и хотел чтобы все его признавали.
Кассандр прекрасно это знал. Гефестион, видевший Кассандра даже затылком, чувствовал, что хотя Кассандру ни один из них не нужен - он ненавидит их обоих. Ненавидит и близость их, и верность друг другу, и их красоту. В Александре он видел врага, потому что перед солдатами Антипатра тот шёл впереди Антипатрова сына; потому что он добыл свой пояс в двенадцать лет, потому что Быкоглав приседал перед ним... А в Гефестионе - потому что тот стремился к Александру не ради какой-то выгоды. Всё это Гефестион знал и не скрывал своё убийственное знание от Кассандра, которому для собственной самооценки необходимо было убедить себя, будто он не любит Александра только за его недостатки.
Самым нелюбимым для Александра делом были индивидуальные уроки, где Аристотель преподавал государственное управление. И он пожаловался Гефестиону, что на этих уроках ему скучно.
- Я думал, они будут самыми интересными. Он знает Ионию и Афины, и Халкидику, и даже Персию немного... Я хочу знать, какие там люди, какие обычаи, как они живут... А он хочет заранее снабдить меня готовыми ответами на всё. Что я стану делать, если произойдёт вот это или это?... Я сказал, что когда произойдёт - тогда и видно будет. Мол, события совершаются людьми, и надо знать этих людей... А он решил, что это я от упрямства...
- А царь не позволит тебе отказаться от этих уроков?
- Нет. Да они мне и на самом деле нужны. И потом, спор заставляет думать... Но я уже знаю, в чём он неправ. Он думает, что это хотя и не точная наука, но всё-таки наука. Приведи барана к овце - каждый раз получится ягнёнок, хоть ягнята и не совсем одинаковые. Нагрей снег - он растает. Это наука. Опыты должны быть повторяемы. Ну а теперь возьми войну например. Даже если бы можно было повторить все прочие условия, - хоть это и немыслимо, - внезапность повторить нельзя. И погоду, и настроение людей... Армии и города - они же состоят из людей, верно? Быть царём... Быть царём это как музыка...
Он замолчал и нахмурился.
- Он снова хотел, чтобы ты играл? - спросил Гефестион.
- "Если только слушать музыку и не играть самому, то половина этического воздействия пропадает".
- Когда он не мудр, словно бог, он глуп, как старая птичница.
- Я ему сказал, что изучал этическое воздействие в эксперименте, но повторить его оказалось невозможно. Кажется, он намёк понял.
И на самом деле, эта тема никогда больше не поднималась. Птолемей, который намёками не объяснялся, отвёл философа в сторонку и объяснил ему суть дела.
Восход звезды Гефестиона Птолемей принял без малейшей враждебности. Если бы новый друг был взрослым - стычка была бы неминуема; но тут его братская роль сохранялась незыблемой. Хоть он еще не был женат, несколько детей у него уже было, и он испытывал чувство долга по отношению к своим отпрыскам, разбросанным но стране. В такое же чувство долга стала перерастать и его дружба с Александром. Мир страстной подростковой дружбы был для него неизведанной страной: с самого начала зрелости его привлекали только девушки. В результате он ничего не проиграл Гефестиону, разве что не был больше впереди всех. И хоть это не самая малая из потерь, он был настроен не принимать Гефестиона слишком всерьёз: не сомневался, что скоро они оба это перерастут. Но пока Александру стоило бы убедить того мальчишку поменьше задираться. Их постоянно видели вместе, они никогда не ссорились одна душа в двух телах, как сформулировал это философ, - но в своём собственном теле Гефестион бывал излишне напорист и драчлив.
Как раз тогда появились особые причины для этого. Мьеза, святилище нимф, была укрытием от двора, с его суматохой новостей, происшествий и интриг. Они здесь жили идеями - и друг другом. Здесь созревали их умы и души, - их каждодневно подталкивали в этом росте, - но и тела их тоже созревали, хоть об этом почти не говорилось. И если в Пелле Гефестион жил в облаке смутных, зачаточных желаний, - теперь они превратились в страстное и вполне осознанное вожделение.
Настоящие друзья делятся всем, но эти чувства Гефестиону приходилось скрывать. Александр по натуре любил, чтобы его любили; любил доказательства этого. Так что он с удовольствием принимал ласковые прикосновения своего друга, и отвечал на них... Но Гефестион никогда не решался сделать что-нибудь такое, что сказало бы ему о большем.
Если человек, настолько понятливый, до сих пор ничего не понял - значит не хочет понять. Если он, так любящий дарить, ничего не предлагает - значит предложить нечего. Значит, если заставить его понять - он поймёт и то, что он чего-то не может... А этого он не простит никогда.
И всё-таки, - думал Гефестион, - иногда я просто поклясться готов, что... Но нет, сейчас не время его тревожить; у него и так тревог хватает.
Каждый день у них была формальная логика. Царь запретил - да и философ не хотел - преподавать эристику, искусство спора; ту науку увёртливого словоблудия, которую Сократ определил как умение выдать чёрное за белое. Но разум должен быть обучен распознавать ложный довод или голословное утверждение, неверное сравнение или подмену понятий; вся наука стоит на том, чтобы знать, где два положения взаимно исключают друг друга!... Александр усваивал всё это быстро. Гефестион сомневался, хоть держал свои сомнения при себе. Выбор был для него невыносим; единственное спасение состояло в том, чтобы одновременно верить - или не верить - в обе взаимоисключающие альтернативы. По ночам - они жили в одной комнате - он часто смотрел на Александра и видел в лунном свете его открытые глаза: тот разбирался с силлогизмами своих проблем.
А его не оставляли в покое и здесь. Каждый месяц, раз пять-шесть, приезжал курьер от матери с какими-нибудь подарками. Свежие фиги, новая шляпа, пара узорчатых сандалий... Последняя пара оказалась мала, он стал расти быстрее... И каждый раз вместе с этими гостинцами приходило письмо, обвязанное шнуром с печатью.
Гефестион знал, что в этих письмах: он их читал. Александр говорил, что настоящие друзья делятся всем; ему необходимо было поделиться своими заботами, он и не пытался это скрывать. Сидя на краю его кровати - или в беседке, в парке где-нибудь - Гефестион обхватывал его рукой и читал через плечо. И часто так злился - даже сам пугался; и прикусывал язык, чтобы не сказать лишнего.
Письма были полны секретов, сплетен, злословия, интриг... Если Александр хотел узнать, как дела у отца на войне, - приходилось спрашивать курьера, этого в письмах не было. Уходя на войну, Филипп снова оставил наместником Антипатра. Олимпия полагала, что могла бы править сама, а генерал пусть бы командовал гарнизоном. Он всё делает ей на зло, он выкормыш Филиппа, он строит козни против неё и против Александра... Она всегда приказывала гонцу дождаться ответа - и работать в этот день Александр уже больше не мог. Что писать ей?... Если скажешь, что она с Антипатром не права, - назад придёт куча упрёков; если согласишься с этими обвинениями она при следующей ссоре с Антипатром начнёт размахивать его письмом, с неё станется... А потом наступил и неизбежный день, когда до неё дошли вести о новой девушке царя.
Это письмо было ужасно. Гефестион изумился, испугался даже, что Александр позволил ему читать. На середине отодвинулся - но Александр притянул его назад:
- Читай!... - Он был похож сейчас на человека, терзаемого давним недугом и ощутившего привычный приступ боли. Даже похолодел на ощупь. Под конец сказал: - Я должен ехать к ней.
- Но что ты можешь?
- Просто побуду с ней. Я скоро вернусь, завтра или послезавтра.
- Я с тобой поеду.
- Не надо. Разозлишься, поссоримся... И без того скверно.
Когда философу сказали, что царица больна и сын должен её навестить, он разозлился почти так же, как Гефестион, хоть и не подал вида. Мальчик не похож был на лентяя, которому вдруг погулять захотелось; и вернулся он таким - видно было, что дома не праздновал. В ту ночь он разбудил Гефестиона: "Нет!..." - кричал во сне. Гефестион подошёл, лёг с ним рядом... Александр с бешеной силой схватил его за горло; потом открыл глаза - обнял, вздохнул облегчённо, хоть этот вздох на стон был похож, - и уснул снова. А Гефестион не спал всю ночь: пролежал с ним до самого рассвета, потом вернулся в свою остывшую постель. Утром Александр ничего не помнил.
Аристотель тоже старался ему помочь, по своему: попробовал вытащить его тяготы в чистые просторы философии. На следующее утро, расположившись у каменной скамьи - с бескрайней панорамой далей и облаков, - рассуждали о натуре людей выдающихся. Забота о себе - это порок для них или нет? Разумеется порок, если иметь в виду низменные страсти и удовольствия. Но если так - какое же "я" требует заботы? Не тело с его влечениями, а разум, дух, - задача которого в том, чтобы править всем остальным, как правят цари... Любить такое своё "я", жаждать для него славы, потакать его стремлению к доблести и великим подвигам - это другое дело!... Если ты готов жизнь отдать за один-единственный час славы, вместо того чтобы влачить долгое, но бесполезное существование, - вот она настоящая, благородная забота о себе! И не правы древние изречения, призывающие постоянно смиряться перед лицом смертности своей, - нет, не правы!... Наоборот - человек должен напрягать все свои силы, стремясь к бессмертию; должен идти навстречу самым великим целям, какие только может себе представить... Так говорил философ.
Александр сидел на сером валуне под кустом лавра, обхватив колени и глядя в небо. Гефестион следил за ним, надеясь увидеть, что душа его успокоилась. Не увидел. Александр похож был на орлёнка. Они читали, что родители учат птенцов смотреть на полуденное солнце; если орлёнок моргнёт его выбросят из гнезда.
Когда беседа кончилась, Гефестион увёл его читать Гомера. В это лекарство он верил больше.
У них была теперь новая книга. Ту, что Феникс подарил, переписывал за несколько поколений до них какой-то бездарный писец, да ещё с испорченного текста. Однажды они попросили Аристотеля разъяснить непонятное место. Тот глянул - скривил губы - и послал в Афины за новым списком; а потом ещё и проверил его на ошибки, сам. Здесь не только были строки, которые в старой книге вообще потерялись. Здесь всюду всё звучало, и всё было понятно. А в некоторых местах встречались и назидательные комментарии. Например, примечание поясняло, что когда Ахилл кричал про вино: "Живее!" - он имел в виду быстрее, а не крепче. Ученик был восхищён и благодарен; но усмотреть первопричину учителю на этот раз не удалось. Он хотел только, чтобы древняя поэма была поучительна; Александр - чтобы священная книга была непогрешима.
В один из праздников они поехали в город и там пошли в театр. Философу этот случай запомнился надолго. К его великому сожалению, ставили "Мирмидонцев" Эсхила, а в этой пьесе Ахилл с Патроклом изображены не только друзьями, но и более того (по его мнению - менее). При всей своей критичности, он смотрел на сцену с интересом, пока не заметил - когда Ахилл услышал весть о смерти Патрокла, - что Александр сидит в трансе, заливаясь слезами, а Гефестион держит его за руку. Под его укоризненным вглядом Гефестион руку отпустил, покраснел до самых волос... А Александр ничего не замечал, его было не достать. В конце спектакля оба исчезли. Он их обнаружил за сценой, с актёром, игравшим Ахилла. И ничем не сумел помешать - принц горячо обнял того человека и подарил ему свой браслет; очень дорогой, царица наверняка поинтересуется, куда он делся. Это было совсем не кстати. Весь следующий день они занимались математикой, в качестве здорового противоядия.
Никто не рассказывал философу, что вся его школа - когда не надо рассуждать о законах, риторике, науках или добродетели, - вся школа была занята только одной темой: что происходит между теми двумя. Гефестион был прекрасно осведомлён об этом, потому что недавно отлупил одного, подошедшего с прямым вопросом. Тот поспорил, что спросит. А Александр - неужели он ничего не знает? А если знает - почему никогда не заговорит?... Быть может, это верность их дружбе?... Чтобы никто не подумал, что она не совершенна. А может - может он думает, что это и есть любовь, как он сам её понимает?... Иногда по ночам Гефестион раздумывал, не трус ли он; не дурак ли, что не решается попытать счастья. Но инстинктивный оракул предостерегал: не надо. Каждый день им говорили, что всё открыто разуму, - но он знал, что это не так. Он не знал, чего ждёт - рождения, исцеления, вмешательства кого-то из богов, - но был готов ждать хоть вечно. Уже с тем, что имел, он был богат, как и во сне не снилось; потерять это, потянувшись за большим, - лучше умереть.
В месяц Льва, когда первый виноград собирают, им обоим исполнилось по пятнадцать. А в неделю первых морозов курьер привёз письмо, на этот раз от царя. Он поздравлял сына; полагал, что тот будет рад поменять обстановку насиделся уже с философом, - и приглашал к себе в штаб-квартиру. Раз уж он такой ранний в этих делах - пора ему увидеть лицо войны.
Дорога шла берегом, прижимаясь к горам в тех местах, где болота или устья рек отгоняли её от моря. Эту дорогу проложили армии Ксеркса, двигаясь на запад; теперь армия Филиппа её подремонтировала, двигаясь на восток.
Птолемей ехал потому, что Александр с собой позвал; Филот - потому, что отец его был при царе; Кассандр - потому что, если едет сын Пармения, то нельзя остаться сыну Антипатра... Ну а Гефестион - просто иначе и быть не могло.
Эскортом командовал Клейт, младший брат Гелланики. Царь не зря назначил именно Клейта: Александр знал его очень давно. На самом деле, этот человек был одним из первых, кого он помнил. Помнил смуглым коренастым юношей, который мог войти в детскую и заговорить с Ланикой, через него; или с рёвом ввалиться на четвереньках, изображая медведя... Теперь он стал Чёрным Клейтом, командиром гвардейской конницы, и был абсолютно надёжен и по-старинному прям. В Македонии сохранилось немало таких пережитков тех гомеровских времён, когда царям приходилось выслушивать полезные советы своих подданных.
Теперь, сопровождая царского сына, Кяейт даже не замечал, что снова грубовато поддразнивает его, как бывало когда-то в детской. Александр не всегда мог вспомнить, о чём это он говорит, - но старался в долгу не оставаться; и стычки получались острые, хоть и со смехом.
Речки, которые персидские орды выпили когда-то досуха, - так рассказывали, - переезжали вброд; Стримон пересекли по мосту, выстроенному Филиппом... Потом поднялись на отроги горы Пангей, в Амфиполис, построенный на террасах. Здесь, у Девяти Дорог, Ксеркс закопал живьём девять мальчиков и девять девочек, чтобы умилостивить своих богов. Здесь было самое первое завоевание Филиппа: за рекой, по которой проходила прежде самая дальняя граница Македонии. Терять его Филипп не собирался; и теперь между горой и рекой высилась мощная крепость, сверкая новой облицовкой из квадратных камней. Изнутри, из-за стен, поднимались дымы от плавильных печей золото, - а над крепостью вздымался Пангей, щедрый кормилец царских армий; тёмный от лесов, со шрамами горных выработок и обнажениями белого мрамора, блестящего под солнцем. Повсюду, где проезжали, Клейт показывал следы недавних войн царя. То насыпь осадных работ, поросшую бурьяном; то рампы, где стояли башни и катапульты против городских стан, так и лежащих в руинах... А ночевали в крепостях, построенных вдоль дороги таким образом, что каждый вечер впереди показывалась следующая.
- Что же с нами будет, ребята? - рассмеялся Александр, подъезжая к очередной. - Ведь нечего будет делать, он нам ничего не оставит!...
Если прибрежная равнина была достаточно твёрдой, мальчишки пускали коней в галоп. Мчались по воде вдоль кромки моря, поднимая фонтаны брызг; кричали друг другу, заглушая чаек... Однажды, когда все запели, какие-то встречные крестьяне приняли их за свадьбу: решили, что жениха к невесте везут.
Быкоглав пребывал в отличном настроении. А у Гефестиона был теперь прекрасный новый конь, рыжий, только хвост и грива светлые. Они всегда друг другу что-нибудь дарили - не по поводу, а просто так, - но то всё были детские безделицы. А это - первый настоящий подарок Александра, дорогой и очень заметный. Быкоглава боги создали только одного, больше таких не будет, но конь Гефестиона должен быть лучше всех остальных. И поводьев он слушается отлично... Кассандр высказал своё восхищение очень многозначительно: мол, Гефестион не зря старался, хоть что-то ему да перепало... Гефестион почувствовал этот смысл, и много дал бы за возможность поквитаться, - но словами-то ничего сказано не было! А устраивать сцену перед Клейтом и его отрядом - это же невозможно...
Дорога отошла от моря в обход солоноватого болота. Здесь, гордо возвышаясь над равниной, расположилась на скале крепость под названием Филиппы. Царь взял её и назвал своим именем в тот знаменитый, славный год.
- Моя первая кампания, - сказал Клейт. - Я как раз там был, когда гонец новости привёз. Твой отец - слышь, Филот? - отразил иллирийцев и гнал их до полпути к западному морю; царский конь выиграл в Олимпии; а ты, Александр, появился на свет - и очень громко орал, так нам сказали. Нам тогда выдали двойную порцию вина. Почему он не выдал тройную - убей, до сих пор не понимаю.
- Зато я понимаю. Ему ж надо было, чтобы вы на ногах стояли. -Александр тронул коня рысью, отъехал вперёд, и шепнул Гефестиону: - Я эту историю слышу с тех пор, как мне три года стукнуло.
- Это всё были фракийские земли... - начал Филот.
- Да, Александр, - перебил Кассандр. - Тебе надо бы узнать, что поделывает твой сине-раскрашенный друг Ламбар. Агриане, - он махнул рукой в сторону севера, - они, наверно, рассчитывают воспользоваться этой войной.
- Думаешь? - Александр поднял брови. - Они своё слово держат, не то что царь Керсоблепт. Он сразу войну начал, едва мы ему заложников вернули.
Все знали, что Филиппу надоели ложные клятвы и разбойничьи вылазки этого вождя. Цель нынешней войны в том и состояла, чтобы превратить его владения в македонскую провинцию.
- Эти варвары все одинаковы, - сказал Кассандр.
- Я в прошлом году от Ламбара письмо получил. Он какого-то торговца нанял, писать. Хочет, чтобы я к нему в гости приехал.
- Ещё бы! Твоя голова очень неплохо смотрелась бы на шесте, возле ворот его деревни.
- Ты только что сказал, Кассандр, что он мой друг. Быть может, вспомнишь об этом?
- И заткнёшься, - достаточно громко добавил Гефестион.
Ночевать предстояло в Филиппах. Высокая крепость светилась в лучах заходящего солнца, будто факел. Александр долго смотрел на неё, но ничего не сказал.
Когда наконец добрались до царя, он стоял лагерем у крепости Дориск, на ближней стороне долины Гебра. За рекой - фракийский город Кипселы... Чтобы окружить город, ему предстояло взять крепость.
Построил её Ксеркс, когда через Геллеспонт переправился, для защиты тыла. Здесь, на приморской равнине, подсчитывал он приблизительно своё воинство, слишком громадное для точного счёта. Построили десять тысяч человек, квадратом сто на сто, очертили, - а потом заводили людей в этот квадрат, отряд за отрядом.
Рабов у него тоже хватало, так что крепость получилась внушительная. Но за те полтораста лет, что здесь хозяйничали фракийцы, она порядком обветшала. По стенам заметны были трещины, засыпанные мусором и щебнем; росли кусты терновника, будто на козьем загоне в горах... Впрочем, межплеменные войны фракийцев крепость выдерживала; а ничего больше от неё и не требовалось до сих пор.
Подъехали уже в сумерках. Из-за стен крепостных доносился запах кухонных костров, слышалось блеянье коз... А совсем рядом со стенами только чтобы стрелы не долетали - располагался македонский лагерь: целый город из кожаных палаток, шалашей, крытых тростником с реки, и перевернутых приподнятых повозок. На фоне закатного неба силуэтом чернела деревянная осадная башня, высотой в тридцать шесть локтей. Стража при ней - укрытая от стрел и камней с крепостной стены завесой из толстых бычьих шкур - стряпала себе ужин... Где стояла кавалерия, ржали на привязи кони... На платформах громоздились баллисты... Огромные машины похожи были на драконов, напружинившихся для прыжка: деревянные шеи вытянуты вперёд, а гигантские луки, стреляющие целыми брёвнами, распростёрты в стороны, будто крылья.
Из кустарника, что поодаль, доносился запах нечистот; а вокруг пахло дымом, жареной рыбой, немытыми телами мужчин и женщин... Бабы обозные были заняты ужином; кое-где щебетали или плакали их случайные ребятишки; кто-то играл на лире, которую не мешало бы настроить...
Тут же располагалась деревушка из нескольких хижин; жители из неё бежали, в крепость или в леса. Её расчистили для офицеров; а в каменном доме старейшины - две комнаты и пристройка-навес - разместился царь. Лампы его было видно издали.
Александр выехал в голову колонны, чтобы Клейту не вздумалось сдать его, словно ребёнка. Глазами, ушами, ноздрями - всем существом своим он впитывал атмосферу войны: здесь было совсем не так, как в казармах или в лагере учебном. Когда подъехали к дому, дверной проём загородила квадратная фигура Филиппа. Отец и сын обнялись и стали разглядывать друг друга при свете костра.
- А ты подрос, выше стал...
Александр кивнул.
- Мать шлёт тебе привет и надеется, что ты в добром здравии... - Это он для окружающих сказал. Отец сразу не ответил, возникла напряжённая пауза... Но он добавил: - А я тебе мешок яблок привёз, из Мьезы. Нынче яблоки отменные, хорошо уродились.
Лицо Филиппа потеплело. Яблоки из Мьезы - это вещь, Мьеза яблоками славится... Но главное - позаботился!... Он хлопнул сына по плечу, поздоровался с его товарищами, отослал Филота на квартиру к отцу... Потом сказал:
- Ну, давай заходи. Заходи, ужинать будем.
Горят две лампы на бронзовых подставках, стол на козлах, в углу прислонены царские доспехи и оружие... Из стен сочится запах давно обжитого дома... Вскоре пришёл Пармений - сели ужинать. Подавали царские оруженосцы, подростки; сыновья тех отцов, чей ранг давал им право учиться манерам и войне в качестве личных слуг царя. Золотистые сладкие яблоки внесли на серебряном блюде.
- Надо вам было завтра приехать, - сказал Филипп. - Мы бы вас уже там разместили.
Он показал огрызком яблока на крепость. Александр наклонился вперёд, поперёк стола. Пока ехали, он успел загореть; а теперь ещё и щёки разрумянились, волосы и глаза блестели в свете ламп, - он словно горел, как лучина.
- Когда атакуем?
Филипп улыбнулся Пармению:
- Ну что ты станешь делать с этим мальчишкой?!
Начинать собирались перед самой зарёй. После ужина собрались офицеры, обговорить последние детали. Подойти к крепости надо затемно. Крепость закидают зажигательными стрелами - пусть у них там горит всё что горит... Пока поднимают лестницы, баллисты и осадная башня ведут заградительную стрельбу по стенам; тем временем к воротам подкатывают таран на мощной передвижной раме, с башни выкидывают подвесной мост... И тогда - штурм.
Офицерам всё это было давно известно - штурм он и есть штурм, они все одинаковы, - оставалось только уточнить, где кто и что делает на этот раз.
- Отлично, - заключил Филипп. - Есть ещё время поспать. Давайте, всем на отдых.
Оруженосцы понесли в заднюю комнату ещё одну постель. Александр какой-то момент следил за ней глазами, не сразу понял. Перед самым сном уже и доспехи вычистил - он вышел; найти Гефестиона и сказать ему, что он договорился - на штурм их поставят рядом, - и ещё объяснить, что ночевать ему придётся у отца. Раньше это ему и в голову не приходило.
Когда он вернулся, отец только что разделся и отдавал оруженосцу свой хитон. Александр чуть задержался в дверях - потом вошёл, говоря что-то, чтобы не выдать смущения. Он не мог, на самом деле не мог понять, почему при виде отца испытывает такое омерзение и стыд. Он не помнил, чтобы когда-нибудь видел отца обнажённым.
К восходу крепость пала. Из-за холмов, скрывавших Геллеспонт, поднимался яркий золотой свет; с моря дул свежий ветер... А над крепостью висели резкие запахи дыма и гари, крови, вспоротых кишок и грязного пота.
У обожжённых стен до сих пор стояли лестницы из целых неошкуренных сосен, на которые взбирались по двое в ряд. Кое-где ступеньки выломаны - это в спешке наступил ещё и третий... У разбитых в щепки ворот висел таран, на раме с крышей из толстых шкур. Высунутым языком лежал на парапете подвесной трап осадной башни.
Издали доносился весёлый перезвон молотков. Это мужчин-фракийцев, кто остался в живых, ковали в кандалы; перед дорогой в Амфиполис, на невольничий рынок. Филипп полагал, что такой пример будет поучителен: надоумит кипселийцев сдаться без боя, когда до них очередь дойдёт. А среди лачуг, прилепившихся изнутри к стенам, будто ласточкины гнёзда, солдаты охотились на женщин.
Царь стоял на стене; с Пармением и парой вестовых, разносивших его приказы. Стоял спокойно, даже расслабленно, как хорошо потрудившийся пахарь, успевший поднять большое поле и засеять перед дождём. Несколько раз, - когда снизу доносился крик, терзавший уши, - Александр оглядывался на отца; но тот продолжал свой разговор с Пармением, как ни в чём не бывало. Люди сражались на совесть и заслужили ту скудную добычу, какую можно здесь найти... Сдался бы Дориск - никто бы и не пострадал...
А Александр с Гефестионом вспоминали минувший бой. В башне над воротами никого не было кроме них, если не считать мёртвого фракийца. А ещё - плита с именем и всеми титулами Ксеркса, Царя Царей, несколько грубых табуретов, полкаравая чёрного хлеба... Да на полу валялся палец с грязным обломанным ногтем, сам по себе. Гефестион пнул его ногой под стену; это мелочь в сравнении с тем, что им довелось увидеть сегодня.
Сегодня он заслужил свой пояс для меча. Одного убил наверняка, тот пал на месте... Александр считал, что не одного, а троих.
Сам Александр трофеев никаких не подбирал, и скольких убил - не считал. Едва взобрались на стену - офицера, что командовал их отрядом, сбросили вниз. Никто и опомниться не успел - Александр крикнул, что надо брать башню, откуда забрасывали камнями и стрелами таран у ворот. Заместитель командира, человек неопытный, промедлил - и тотчас потерял своих людей: они уже мчались за Александром. Карабкались по древней грубой кладке, прыгали через горящие трещины, дрались с дикими защитниками в синей татуировке... Вход в башню оказался узок. Когда Александр ворвался внутрь, остальные застряли из-за давки, и был момент, когда он сражался один...
Теперь он стоял, покрытый кровью и пылью, и глядел вниз, на другое лицо войны. "Но, - подумал Гефестион, - он же ничего не видит сейчас!..." Говорил он очень ясно, помнил каждую подробность; а у Гефестиона всё уже сливалось, словно сон вспоминал. Его картина боя уже поблекла, а Александр до сих пор был ещё там: в таком состоянии был, из которого выходить не хотелось, как не хочется уходить с того места, где тебя посетило видение.
На предплечье у него остался порез от меча. Гефестион остановил кровь от своей юбочки полоску оторвал... Потом выглянул наружу, на светлое гладкое море, и предложил:
- Пойдём вниз, искупаемся. Грязь смоем.
- Давай, - согласился Александр. - Только сначала надо к Пифону зайти. Он же меня своим щитом прикрыл, когда те двое навалились, потому тот бородатый и достал его. Если бы не ты - ему бы вообще не жить...
Он снял шлем (обоим перед отъездом выдали оружие с общего склада в Пелле) и провёл рукой по влажным волосам.
- Тебе бы подождать, на нас бы оглянуться, а не прыгать туда одному. Ты же знаешь, что бегаешь быстрее всех; за тобой так сразу не угонишься!... Я тебя убить был готов, когда мы там застряли в дверях.
- Они камень собирались скинуть, вон тот. Ты только глянь, какой здоровенный. А про вас я знал, что вы рядом.
- Камень-не-камень - ты всё равно полез бы, это ж на тебе написано было! Просто счастье, что жив остался.
- Не просто счастье, а помощь Геракла, - спокойно возразил Александр. И быстрота. Я их бил раньше, чем они успевали.
Оказалось, что это легче, чем он ожидал. Самое лучшее, на что он надеялся при своих постоянных тренировках с оружием, - что не слишком сильно будет проигрывать опытным бойцам. Гефестион словно подслушал его мысли:
- Эти фракийцы - крестьяне. Они дерутся два-три раза в год, когда в набег пойдут или меж собой погрызутся. Почти все тупые, а хорошо обученных и вовсе никого. Настоящие солдаты, как у отца твоего, изрубили бы тебя в куски. Ты бы и войти не успел.
- Не спеши, - окрысился Александр. - Пусть это кто-нибудь сделает, после расскажешь.
- Ты ж без меня пошёл!... Не оглянулся даже!...
Александр вмиг переменился, тепло улыбнулся ему:
- Что с тобой? Патрокл упрекал Ахилла за то, что тот не дрался!
- Но Ахилл-то его слушал... - Голос был уже другой.
Снизу из-под стены давно уже доносилось монотонное причитание женщины, оплакивавшей покойника. Теперь оно прервалось воплем ужаса.
- Надо б ему собрать людей, - сказал Александр. - Сколько можно-то?... Знаю, больше там взять нечего, но...
Они посмотрели вдоль стены, но Филиппа там уже не было, ушёл по каким-то делам.
- Александр, послушай, только не злись. Когда ты станешь генералом, нельзя будет подставляться вот так, как сегодня. Царь смелый человек, но он же этого не делает... Ведь если бы тебя убили - это всё равно что битву выиграть для Керсоблепта! А потом, когда царём станешь...
Александр резко повернулся и посмотрел ему в глаза тем особым, напряжённым взглядом, с каким обычно поверял свои тайны. И понизил голос, хоть это было совершенно излишне в окружающем шуме.
- А я всегда так буду. Иначе не могу. Я это знаю, чувствую - это от бога. В тот раз, когда...
Его прервал звук тяжёлого дыхания, вперемежку со всхлипами. Молодая фракийка вбежала со стены в башню и, не глянув по сторонам, бросилась к парапету над воротами. Там до земли локтей двадцать. Колено её было уже на ограде - Александр прыгнул следом и схватил за руку. Она кричала, и царапалась свободной рукой, пока Гефестион не перехватил... Тогда пристально посмотрела в глаза Александру - неподвижная, словно зверь в западне, - потом вдруг вырвалась, сгорбившись рухнула на пол и обхватила его колени.
- Вставай. Мы тебе ничего плохого не сделаем... - Он подучился фракийскому в детстве, когда Ламбар был у них. - Не бойся, вставай. Отпусти меня.
Женщина ухватилась ещё крепче и выплеснула поток полупридушенных слов, прижимаясь мокрым лицом к его голой ноге.
- Вставай, - повторил он. - Мы не будем...
Самого главного слова он не знал. Гефестион выручил - сделал жест, понятный во всём мире, и помотал головой: "Нет".
Женщина отпустила его и осталась сидеть не корточках, раскачиваясь и причитая. Спутанные рыжие волосы, платье из грубой нечёсаной шерсти порвано на плече... Лоб запачкан кровью, под тяжёлыми грудями влажные пятна от потёкшего молока... Она сидела и плакала, и рвала волосы на себе. Потом вдруг вздрогнула, вскочила и распласталась по стене за ними. Послышался топот шагов, и грубый запыхавшийся голос:
- Я ж тебя видел, сука!... Слышь, ты?... Иди сюда, я тебя видел!...
Появился Кассандр. Лицо пунцовое, на лбу капли пота... Он ввалился в башню, словно слепой, - и окаменел.
Девушка, выкрикивая проклятья и жалобы, подбежала к Александру сзади и обхватила его за талию, закрываясь им, как щитом. Горячее дыхание обжигало ему ухо, влажная мягкость её тела, казалось, проникает даже сквозь панцирь; он едва не задохнулся от грубого запаха грязных волос и крови, грудного молока и женской плоти. Оттолкнув её руки, он с любопытством и отвращением посмотрел на Кассандра.
- Она моя, - выпалил Кассандр. - Тебе она ни к чему, она моя!
- Нет. Она просила зашиты, и я обещал.
- Она моя! - Он надавил на слово "моя", как будто это могло что-нибудь изменить.
Александр оглядел его, задержавшись взглядом на льняной юбочке под нагрудником... И повторил, сдерживая отвращение:
- Нет.
- Я её уже поймал, - настаивал Кассандр, - но она сбежала...
Щека у него была разодрана ногтями.
- Значит, ты её потерял. А я нашёл. Иди отсюда.
Кассандр не совсем забыл предостережения отца, потому слегка понизил голос:
- Ну что ты вмешиваешься? Ты ж ничего не знаешь про это, ты ж ещё мальчик...
- Не смей называть его мальчиком! - яростно вмешался Гефестион. - Он дрался лучше тебя, спроси кого хочешь!
Кассандр, который в бою на рожон не лез, теперь со смущением, со страхом и ненавистью вспоминал, как этот восторженный мальчишка пробивался сквозь хаос, будто огнём себе дорогу прожигал. Женщина, решив что весь разговор о ней, снова начала выплёскивать поток фракийского. Кассандр её перекричал:
- Так о нём же заботились, его прикрывали! Что бы он ни затеял - любую глупость - всем приходится идти за ним!... Конечно, он же сын царский... По крайней мере, так считается...
Он совсем одурел от ярости, - да и смотрел на Гефестиона, -прыжок Александра застал его врасплох. А тот схватил его за горло и бросил на шершавый пол. Он отбивался, как мог, но Александр настроился его задушить и не обращал внимания на удары. Гефестион замешкался, не решаясь прийти на помощь без позволения, - и тут что-то мелькнуло из-за его спины. Это женщина, о которой они все забыли, схватила трёхногий табурет и обрушила его на голову Кассандра. Александр откатился в сторону, а она с бешеной яростью принялась молотить Кассандра, сбивая его всякий раз, как он пытался подняться. Теперь она держала табурет обеими руками, будто зерно молотила.
Гефестион, только что взвинченный до предела, теперь расхохотался. Александр поднялся на ноги и смотрел на это избиение с каменным спокойствием.
- Надо её остановить, - сказал Гефестион. - Она ж его прикончит.
- Кто-то убил её ребёнка, - не шелохнувшись ответил Александр. - Видишь кровь на ней?
Кассандр начал выть от боли.
- Если он умрёт - её забьют камнями! - напомнил Гефестион. - И даже царь ее не спасет. А ты ж ей обещал!
- Прекрати! - крикнул Александр по-фракийски.
Они отобрали у неё табурет, она снова разразилась слезами... А Кассандр катался по полу.
- Жив, - сказал Александр, отвернувшись. - Надо найти надёжного человека, чтобы её из крепости увёл.
Так и сделали, а сами пошли купаться.
Чуть погодя, до царя дошёл слух, что его сын избил Антипартова сына, подравшись из-за женщины.
- Ну что ж, похоже мальчики становятся мужчинами... - небрежно отреагировал Филипп.
Нотка гордости была слишком заметна, чтобы кому-нибудь захотелось продолжать эту тему.
Когда возвращались, Гефестион сказал с усмешкой:
- Вряд ли он станет жаловаться отцу своему, что ты позволил женщине его поколотить.
- Пусть жалуется кому хочет и на что хочет. Если захочет.
Они вошли в ворота. Из одного дома внутри доносились стоны. Там, на самодельных постелях лежали раненые; между ними расхаживал врач с двумя подручными.
- Пусть он руку твою посмотрит, - предложил Гефестион. Рука снова кровоточила после той стычки.
- Здесь Пифон, - ответил Александр, вглядываясь в сумрак, гудящий тучами мух. - Сначала надо к нему.
При свете, проникавшем сквозь дыры в крыше, он осторожно пошёл меж тюфяков и одеял. Пифон, моложавый мужчина, в бою выглядевший героем гомеровским, теперь лежал в промокших бинтах, ослабев от потери крови. Лицо его заострилось, глаза беспокойно блуждали. Александр опустился на колени, взял его за руку, и начал говорить ему о его подвигах. Вскоре цвет лица у Пифона стал поживее, он даже прихвастнул немного, и пошутить пытался...
Когда Александр поднялся на ноги, глаза уже привыкли к сумеркам - и он увидел, что все смотрят на него. С ревностью, с отчаяньем, с надеждой... Всем было больно; всем хотелось, чтобы их тоже оценили... Прежде чем уйти, он поговорил с каждым.
Такой зимы и старики припомнить не могли. Волки приходили в деревни и утаскивали сторожевых собак; коровы и пастухи замерзали насмерть на зимних пастбищах в долинах; еловые ветви трещали под грузом снега, а горы завалило так, что чернели только отвесные утёсы в стенах ущелий. Александр не стал отказываться от мехового плаща, который прислала мать.
Взяв лису в застывшей тёмной чащобе, неподалеку от Мьезы, они обнаружили, что шерсть на ней белая. Аристотель очень порадовался тогда.
В доме глаза разъедало от дыма жаровен; ночи были до того лютые, что все спали по двое, просто чтобы теплее. Александр не хотел потерять свою закалку, - ведь отец был ещё во Фракии, куда зима залетает прямо из скифских степей, - и думал, что лучше бы пережить морозы без такого баловства. Но Гефестион сказал - люди подумают, что они поссорились... Послушался.
Те корабли, что не пропали в море, были прикованы к берегу. Даже дорогу до Пеллы иногда заметало, хоть тут рукой подать... Когда к ним пришёл караван мулов, настроение у всех стало праздничным.
- На ужин утки жареные... - заметил Филот.
Александр понюхал воздух и кивнул. Потом сказал:
- У Аристотеля беда какая-то.
- Он что, лежит?
- Нет, ему плохие новости привезли. Я его видел в комнате с образцами. - Александр теперь часто туда заходил, ему понравилось проводить собственные опыты. - Мать новые рукавицы прислала... Мне-то две пары не нужны, а ему подарков никто не посылает... Он там с письмом сидел. Вид ужасный, как маска в трагедии...
- Наверно, кто-нибудь из софистов в чём-нибудь с ним не согласен?
Александр сдержался и отошёл. Потом рассказал Гефестиону:
- Я спросил, в чём дело, не могу ли помочь, - он сказал нет; сам всё расскажет, когда успокоится... И благородным друзьям не подобает вести себя по-женски. Так я ушёл, чтобы дать ему выплакаться.
В Мьезе зимнее солнце уже спряталось за гору, а вершины Халкидики на востоке ещё светились. Сумерки вокруг дома подбелены снегом... Время ужинать ещё не подошло. В большой гостиной с облупленными розово-голубыми фресками на очаге горел огонь в металлической корзине. Молодые люди собрались вокруг, болтая о лошадях, о женщинах, о своих делах... Лампы ещё не зажигали, потому Александр с Гефестионом сидели возле окна, укрывшись плащом из волчьего меха, что прислала Олимпия. Читали "Киропедию". Эта книга Ксенофонта была теперь у Александра любимой, сразу после Гомера.
"...Было видно также, как струились у нее слезы, стекая вниз по платью и падая даже на ноги. Тут самый старший из нас сказал: "Успокойся, женщина. Конечно, твой муж - мы об этом слышали - прекрасный и благородный человек. Знай, однако, что тот, кому мы предназначаем тебя теперь, ни красотой, ни умом не хуже его, и могуществом располагает не меньшим. По крайней мере, на наш взгляд, если кто вообще и достоин восхищения, так это Кир, которому отныне ты будешь принадлежать." Когда женщина услышала это, она разодрала своё платье и разразилась жалобными воплями. Вместе с ней подняли крик и её невольницы. Теперь взору явилась большая часть её лица, стали видны шея и руки. Знай, Кир, что и по моему мнению и по мнению всех других, кто видел её, не было ещё и не рождалось от смертных подобной женщины в Азии. Поэтому непременно приди сам полюбоваться на неё.
"Нет, клянусь Зевсом, - сказал Кир, - и не подумаю, если только она такова, какой ты её описываешь."
"Но почему?"- спросил юноша.
"Потому, - отвечал Кир, - что если теперь, услышав от тебя о её красоте, я послушаюсь и пойду любоваться ею, когда у меня и времени-то свободного нет, то боюсь, как бы она ещё скорее, чем ты, не убедила меня ещё раз прийти полюбоваться ею. А тогда, забросив всё, чем мне надо заниматься, я пожалуй только и буду, что сидеть и любоваться ею."
Гефестион поднял глаза от книги:
- Меня всё время спрашивают, почему Кассандр не приехал.
- Я сказал Аристотелю, что он полюбил войну и отошёл от философии. Как он отцу своему объяснил - не знаю. Но с нами-то вернуться он не мог, она ему два ребра сломала... - Александр вытащил из-под плаща следующий свиток. Вот это место я люблю, слушай.
- "Ты должен знать, что полководец и рядовой воин, обладая одинаковой силой, по-разному сделают одно и то же дело. Сознание уважения, оказываемого ему, а также то, что на него обращены взоры всех воинов, значительно облегчают полководцу даже самый тяжёлый труд". До чего верно сказано! Это надо помнить всегда.
- Неужели Кир был на самом деле так похож на Ксенофона?
- Наши персы-изгнанники говорили, что он был великий воин и благородный государь.
Гефестион заглянул в свиток.
- "Он учил своих гвардейцев не плеваться и не сморкаться на людях, не оборачиваться и не глазеть..."
- Ну да, персы в то время были горцы неотёсанные... Мидянам они, наверно, казались такими же, как, скажем, Клейт показался бы афинянину... Мнe нравится, что когда повара подавали ему что-нибудь особенное - он посылал по куску всем друзьям.
- Скорей бы ужин, а то у меня живот к спине прилип.
Александр, вспомнив, что по ночам Гефестион всегда прижимается, чтобы согреться, подтянул плащ, прикрывая его потеплее.
- Надеюсь, Аристотель спустится к нам. Наверху должно быть совсем как в леднике. Надо бы и ему поесть чего-нибудь.
Вошёл раб с переносной лампой и с трутом на палке, засветил высокие стоячие лампы и подвесную люстру. Неопытный молодой фракиец, которого он обучал, закрыл ставни и аккуратно задёрнул плотные шерстяные шторы.
- "Правитель, - читал Александр, - должен быть не только лучше тех, кем он правит. Он должен очаровывать их..."
На лестнице раздались шаги. Потом стихли, пока рабы не вышли... Аристотель появился в их вечернем уюте, словно ходячий мертвец. Глаза его ввалились; казалось, что из-под сжатых губ проглядывает зловещая улыбка черепа.
Александр сбросил с себя плащ, рассыпав свитки, и пошёл ему навстречу.
- Иди к огню. Принесите стул, кто-нибудь!... Иди согрейся. И, пожалуйста, скажи нам правду. Кто умер?
- Мой гостеприимец, Гермей Атарнейский.
Услышав прямой вопрос, требовавший ответа, он смог заговорить. Александр крикнул в дверь, чтобы подогрели вина... Все собрались вокруг своего учителя, вдруг постаревшего разом; а тот сидел, глядя в огонь. Потом, на момент, протянул руки к жаровне - погреть, - но тотчас убрал их назад, словно это движение разбудило в нём какую-то ужасную мысль.
- Это Ментор с Родоса, генерал царя Окия... - начал он, и снова умолк.
- Брат Мемнона, который снова Египет покорил, - подсказал Александр остальным.
- Он хорошо послужил хозяину своему... - Голос тоже стал старым, тонким. - Варвары такими родятся, они в своей подлости не виноваты... Но эллин, который опускается до того, чтобы служить им... Гераклит сказал: "Испорченный лучший становится худшим". Он предаёт саму природу. И потому становится даже подлее хозяев своих.
Лицо у него пожелтело; те кто был рядом - видели, что он дрожит. Чтобы дать ему время прийти в себя, Александр сказал:
- Мы никогда Мемнона не любили. Верно, Птолемей?
- Гермей принёс тем землям, где правил, справедливость и лучшую жизнь. Царь Окий жаждал тех земель, и ненавидел пример его... Какой-то враг, - я подозреваю, что сам Ментор, - принёс царю кляузу, а тот рад был поверить... Тогда Ментор, прикинувшись другом, предупредил Гермея об опасности и пригласил к себе, посоветоваться. Тот поверил и поехал. В своём городе, за стенами, он мог бы продержаться долго, ему мог бы помочь... какой-нибудь сильный союзник, с кем у него уговор был...
Гефестион глянул на Александра, но тот был поглощён рассказом,
- Он приехал к Ментору как гость-гостеприимец; а тот послал его Великому Царю, в цепях.
Молодёжь зашумела возмущённо, но все почти сразу притихли: не терпелось узнать, что дальше.
- Ментор забрал у него печать; и разослал приказы, открывшие его людям все атарнейские крепости. Теперь эти крепости принадлежат царю 0кию; и все греки, кто там живёт, - тоже... А самого Гермея...
Из жаровни выпала головешка, Гарпал схватил совок и закинул её обратно. Аристотель облизнул пересохшие губы. Руки его были неподвижны, только костяшки побелели.
- Смерть его с самого начала была предопределена. Но этого им было мало. Царь Окий захотел узнать, не заключил ли он каких-нибудь тайных договоров с другими правителями. Так что послал за людьми, искусными в этих делах, и велел им, чтобы он у них заговорил...
Он стал рассказывать им, что делали с Гермеем. Старался говорить бесстрастно, как на занятиях по анатомии, - плохо это у него получалось. Ученики слушали, не произнося ни слова; только слышно было, как свистит воздух при вдохе через стиснутые зубы.
- Написал мне об этом мой ученик Каллимах-афинянин, вы его знаете. Он говорит, когда Демосфен объявил в Собрании, что Гермея взяли, - он назвал это подарком судьбы. Сказал: "Теперь Великий Царь узнает о заговорах царя Филиппа не из наших жалоб, а из уст человека, который сам их составлял". Уж он-то знает, как это делается в Персии!... Но слишком рано он радовался, Гермей не сказал им ничего. Под конец, - он ещё жив был после всего, что с ним вытворяли, - его повесили на крест. И он сказал, тем кто мог услышать: "Передайте моим друзьям - я не проявил никакой слабости, и не сделал ничего, недостойного философии".
Раздался тихий ропот. Александр стоял не шевелясь. Потом, когда все смолкли, сказал:
- Мне очень жаль, что заставил тебя говорить об этом. Прости.
Он подошёл к Аристотелю, обнял его за плечи и поцеловал в щёку. Аристотель по-прежнему смотрел в огонь.
Слуга принёс подогретое вино. Он отхлебнул глоток, качнул головой и отставил чашу. Потом вдруг выпрямился и повернулся к ним. В свете огня снизу казалось, что черты лица его изваяны в глине, готовы к отливке в бронзу.
- Многие из вас будут командовать на войне. Многие будут править землями, которые вы покорите. Помните: как тело ничего не стоит без разума управляющего им, - поскольку функция его только в том, чтобы обеспечить жизнь этого разума, - так же и варвар ничего не стоит в естественном порядке, предписанном богами. Этих людей можно улучшить, как коней, приручив и приспособив к полезному делу. Как растения или животные, они могут служить целям, лежащим за пределами того, на что способна их собственная натура. Но по натуре они - рабы!... У всего в мире есть своя функция, - так их функция быть рабами. Запомните это.
Он встал с кресла и начал поворачиваться к выходу, но не отрывал затравленного взгляда от жаровни, где прутья корзины раскалились докрасна.
- Если мне когда-нибудь попадутся те люди, что терзали твоего друга, клянусь, я им отомщу, будь они хоть персы хоть греки, - сказал Александр.
Аристотель, не оглядываясь, прошёл к тёмной лестнице и поднялся наверх; скрылся из виду.
Вошёл дворецкий; сказал, что ужин подан. Громко обсуждая неожиданные новости, молодёжь пошла в столовую, не дожидаясь принца: в Мьезе условностей не придерживались. Александр с Гефестионом задержались. Стояли и смотрели друг на друга.
- Так значит, он заключил договор, - сказал Гефестион.
- Ну да, с отцом. Хотел бы я знать, что он чувствует сейчас.
- По крайней мере, он знает, что его друг умер, сохранив верность философии.
- Да. Наверно он и сам в это верил. Но человек, умирая, хранит верность гордости своей.
- По-моему, Великий Царь хоть как убил бы Гермея, чтобы города его захватить.
- Или потому, что сомневался в нём. Иначе - зачем бы его пытали?... Они догадывались, что он что-то знает. - Теперь Александр смотрел в огонь; сполохи пламени золотили глаза и играли на волосах. - Если я когда-нибудь доберусь до Ментора, я его распну.
Гефестион содрогнулся, представив себе как это прекрасное яркое лицо будет бесстрастно наблюдать чьи-то мучения.
- Иди-ка ты лучше ужинать, - сказал он. - Ведь без тебя начинать нельзя, а все есть хотят.
Повар знал, как ест молодёжь в такую погоду, потому каждому полагалось по целой утке. Разрезали и раздали первые куски, воздух наполнился сытным ароматом... Александр поднялся с застольного ложа, которое делил с Гефестионом, и подхватил своё блюдо:
- Вы все ешьте, не ждите. Я к Аристотелю поднимусь. - Потом повернулся к Гефестиону: - Ему ж надо поесть на ночь. Заболеет, если будет поститься на таком холоде, да ещё с этим горем на сердце. Ты им скажи, чтобы мне чего-нибудь оставили, всё равно чего.
Когда он вернулся, посуду уже вытирали хлебом.
- Немножко съел. Я так и думал, что не устоит; уж очень запах аппетитный. Наверно он теперь и ещё... Послушай, здесь что-то слишком много. Стой, ты ж мне своё отдаёшь!... - Потом добавил: - Он едва с ума не сошёл, бедняга. Я это сразу понял, когда он о природе варваров заговорил. Можешь себе представить, что у великого Кира рабская натура - только потому, что он родился в Персии!
Бледное солнце поднимается раньше и набирает силу... Тяжёлые снега с рёвом слетают с крутых горных склонов, скашивая громадные сосны, словно траву... По ущельям, грохоча валунами, пенятся бешеные потоки... Пастухи едва не по пояс проваливаются в мокрый снег, отыскивая ранних ягнят... Александр отложил в сторону свой меховой плащ, чтобы не привыкать к нему так уж слишком. Все парни, спавшие по двое, разошлись по своим кроватям; так что Гефестиона он тоже в сторону отложил, хоть и не без некоторого сожаления. А Гефестион потихоньку подменил подушки, чтобы взять с собой хотя бы запах его волос.
Царь Филипп вернулся из Фракии. Низложил там Керсоблепта, оставил гарнизоны в его крепостях, а в долине Гебра поселил колонистов из Македонии. На земли в той грубой, дикой стране претендовали только те, кто в других местах никому не был нужен, - или наоборот, слишком был нужен, - так что армейские остряки шутили: новый город надо было б назвать не Филиппополь, а Мерзавград. Однако, база там нужна - город основан не зря: он ещё своё послужит. Царь, довольный своей зимней работой, вернулся в Эги, праздновать Дионисии.
В Мьезе остались только рабы. А вся школа, вместе с учителем, упаковала свои пожитки и двинулась по дороге, ведущей в Эги вдоль подножия горного отрога. В иных местах приходилось опускаться к равнине, чтобы перебраться через вздувшиеся речки. Задолго до того, как увидели Эги, на лесной тропе, почувствовали как дрожит под ногами земля от далёкого ещё водопада.
Старый, суровый замок был полон огней, ярких тканей и аромата восковой мастики. Театр готовили к представлениям. Полулунная терраса, где стоят Эги, сама похожа на громадную сцену, с амфитеатром из горных склонов, заросших лесом. А о зрителях можно только догадываться, когда ветреными весенними ночами они заглушают даже шум воды своими криками ярости, страха, одиночества или любви.
Царь и царица были уже здесь. Едва шагнув через порог, Александр успел прочесть знаки, в которых стал экспертом за много лет, - и пришёл к выводу, что родители друг с другом разговаривают, по крайней мере на людях. Но вряд ли их можно будет застать вместе. Он впервые отсутствовал так долго. К кому идти здороваться сначала?
Надо начать с царя. Так предписывает обычай; нарушить его - это же прямое оскорбление... И совершенно незаслуженное вдобавок. Во Фракии отец пошёл на некоторые неудобства, чтобы приличия соблюсти, в его честь. И ни одной женщины там не было; и ни разу он не позволил себе даже взгляда лишнего на самого красивого из своих телохранителей, который мнил себя выше всех остальных. А после боя - похвалил по заслугам; пообещал, что даст ему отряд, когда он в следующий раз пойдёт в дело... После этого его обидеть совсем нехорошо... А кроме того Александру и хотелось его увидеть; у него наверно есть что порассказать.
Рабочий кабинет царя располагался в древней башне, - с неё когда-то началась эта крепость, - и занимал весь верхний этаж. Возле массивной деревянной лестницы, которую чинили уже сотни лет, до сих пор висело тяжёлое кольцо. У прежних царей здесь сидела на цепи сторожевая собака; громадной молосской породы, выше человека если на задние лапы встанет. Царь Архелай повесил над очагом вытяжной зонт для дыма, но почти ничего больше в Эгах не поменял. Он слишком любил свой дворец в Пелле, чтобы тратить время на старую крепость. Секретари и писари Филиппа сидели в приёмной под лестницей. Александр послал одного из них доложить, а потом уже начал подниматься наверх. Отец встал из-за письменного стола, пошёл навстречу; взял за плечи... Никогда ещё им не было так легко поздороваться друг с другом. Из Александра посыпались вопросы. Как взяли Кипселы?... Ведь его отослали обратно в школу, когда армия ещё осаду вела...
- Вы со стороны реки ворвались, или возле скалы брешь пробили, в той глухой стене?
У Филиппа был наготове выговор, за то что по пути домой, не спросясь, заехал в гости к Ламбару, в дикое горное гнездо. Но теперь это забылось.
- Я пробовал подкопаться со стороны реки, но там песок с водой оказался. Так что построил осадную башню, чтобы им было на что смотреть, пока рыли под северо-восточной стеной.
- А где башня была?
- На том склоне, где...
Филипп поискал свою дощечку с записями, нашёл, и стал показывать на пальцах, как что было.
- Погоди! - Александр подбежал к дровяной корзине возле очага и вернулся с охапкой растопки. - Смотри. Вот река... - Положил на стол сосновую лучину. - Вот северная башня... - Поставил полено на торец.
Филипп потянулся за другим и положил возле башни стену. Они увлеченно начали выстраивать деревяшки.
- Нет, это слишком далеко, ворота вот здесь.
- Погоди, отец. Твоя осадная башня?... Ага, здесь, понял. А подкоп вот здесь?
- Теперь лестницы. Дай-ка мне те лучинки... Вот здесь был отряд Клейта. Пармений...
- Погоди, мы же баллисты забыли. Александр нырнул в корзину за шишками, Филипп начал их расставлять.
- Так что Клейт был прикрыт отчасти. А я...
Тишина обрушилась, словно удар меча. Александр стоял спиной к двери, но ему достаточно было увидеть отцовское лицо. Легче было броситься в башню в Дориске, чем теперь обернуться, - потому он повернулся сразу.
Мать была в пурпурной мантии, отороченной белым и золотым. Волосы стянуты золотой повязкой и накрыты платком из виссонного шёлка; рыжие волосы просвечивали, как пламя сквозь дым. На Филиппа она даже не глянула: горящие глаза искали не врага, а предателя.
- Когда вы тут наиграетесь, Александр, я буду у себя. Можешь не торопиться. Я ждала полгода - что могут значить ещё несколько часов?
Она жёстко повернулась и вышла. Александр стоял, не двигаясь. Филипп истолковал это так, как ему хотелось; с улыбкой поднял брови и вернулся к своему сражению.
- Извини, отец, мне лучше пойти к ней.
Филипп был хорошим дипломатом, но долгие годы вражды и сиюминутное раздражение отняли у него чутьё на тот момент, когда великодушие могло окупиться с лихвой.
- Я полагаю, ты можешь побыть здесь, пока я доскажу до конца!...
Лицо Александра изменилось. Теперь это был солдат, ждущий приказа. Да, отец?...
На переговорах с врагом Филипп никогда не проявил бы такого безрассудства. А теперь показал на стул и скомандовал:
- Сядь!
Это было испытанием, вызовом, - и непоправимой ошибкой.
- Извини, отец, я должен идти, мать ждёт. До свидания.
Он повернулся к двери и пошёл.
- Вернись!... - рявкнул Филипп. Александр оглянулся. - Ты собираешься оставить весь этот мусор у меня на столе? Накидал - убери!
Рекомендуем:

Мой любимый Бобби
Олег Игорьин
Месть Исиды. Древнеегипетский миф
Олег Игорьин