Арминьо
Цветное море Арвида Юлнайтиса
Аннотация
Чили, 70-е. Мигель Моралес, мальчик из хорошей семьи в Сантьяго-де-Чили, одаренный художник, волею случая стал участником подполья. Добром это все кончиться не может. Человек, неожиданно вставший между ним и смертью, – немолодой маргинал, вынужденный иммигрант, автор из грошового журнала.
Арвид Юлнайтис, студент Саратовского университета, собирался писать курсовую по Саломее Нерис. Потом материалы курсовой должны были пригодиться для статьи, а может, и для диплома. Фольклорные мотивы – король ужей Жильвинас, неудачник с запрещенным именем…
Арвид Юлнайтис, студент с соломенными волосами до плеч, курил трубку и мечтал заказать себе трость с головой пуделя. Зеленый галстук он закалывал узкой булавкой, на правой руке носил перстень – витого серебряного ужа. Уж смотрел прозрачными крохотными глазками вишневого янтаря. Уж принадлежал еще деду, по легенде, лично знакомому с госпожой Нерис. Старую вересковую трубку студент набивал табаком, вытряхнутым из дешевых папирос. Трубка тоже досталась от деда. Арвид ходил щеголем, как и было принято в их интеллектуальном кружке, изъяснялся на странном воляпюке, составленном из старомодных тяжеловесных оборотов, обращался на «вы» ко всем, кроме ближайших друзей, знал на память чудовищное количество стихов - да и сам пописывал иногда - и читал их глухим голосом, полуприкрыв глаза, покачиваясь и слегка подвывая. В его кружке из всех обращений предпочитали «господа» или «друзья мои», спрашивали у дам разрешения закурить и целовали им ручки в благодарность за милостивое соизволение. Собирались каждую вторую субботу месяца, чаще всего у него, поскольку лишь двое роскошествовали на отдельной жилплощади: мать Арвида уехала во Львов и там вышла замуж третьим браком, оставив сыну квартиру – их родовое гнездо, а Костя Штрауб работал дворником – ему полагалось трудовое жилье. Если не хватало денег, Арвид вкалывал на вокзале грузчиком. Григ от души потешался над тайной жизнью господ аристократов и их «языком сверхученой премудрости». Когда Ингрид сказала, что беременна, Арвид поперхнулся и предложил ей, раз уж такое дело, руку и сердце. Ингрид плачевно скривилась и, закусив губку, бросила ему в лицо, как злейшему врагу, что беременна она от Грига, что в его благородстве не нуждается и лучше бы он о себе позаботился, а она их кривляниями сыта по горло… и все равно послезавтра на абордаж… и не пошел бы он, стихоплет хуев… Собственно, это она и хотела ему сказать. После чего Ингрид развернулась и ушла. Таким образом Арвид потерял и друга, и невесту. У него остался только Жильвинас – и то ненадолго. Вскоре Юлнайтиса вызвали в деканат и поинтересовались, когда, наконец, он прекратит это безобразие и начнет вести себя, как и полагается советскому студенту. Перестанет корчить из себя барина и объяснит, заодно, по какой это такой моде он одет и подстрижен? Кольца эти, стишочки... Всему же есть границы. Неужто он не понимает, куда дело клонится? «Понимаю», - сказал Арвид и, отправившись в парикмахерскую, постригся «под Котовского». Вечером он выпил практически залпом бутылку крепленого вина, а утром, не обнаружив в аудитории Ингрид на привычном месте, слева у окошка, ударил в лицо своего лучшего друга с такой силой, что Григу потом зашивали губу. Не подвел злой серебряный уж.
Досада не отпускала Арвида, и он, не дожидаясь новой беседы с замдекана, вернулся домой и лег спать. Григ пришел вечером, сел на кровать, не зажигая свет. Губа у него вспухла, говорил он с трудом. Арвид не повернулся.
- Юл, - выговорил Григ. – Юлик, дело-то нешуточное. Ну да… свинья я… все такое. Но я пьяный был. Мы оба были… Ирка еще с собой принесла. Был бы трезвый – ни за что бы! Юлька… Ну сейчас неважно уже, но… ни фига она была не девушка. То есть вообще никак. С кем только не путалась, мммм… Нахер ей не сдалось твое обожание – поиграла, надоело. Юл… она говорит, что на нас настучали. На всех, понимаешь? И что стукач – кто-то из наших. Ты меня понял, да? Ключ твой – вот он. На столе оставляю…
Арвид Юлнайтис лениво думал – дать ли ему еще раз или сам свалит? Григ свалил сам.
Трубка куда-то затерялась. Ужа пришлось продать – старинная работа, серебро. На вырученные деньги он прожил примерно месяц. От всей той нелепой и беззаботной щенячьей жизни остался только медный крест с янтарем. Он купил его перед самым отъездом у какой-то старушки в шляпке, не глядя, вынув из кучи всякой дребедени – надтреснутой чашки из дореволюционного сервиза, какого-то подсвечника, связки посеребренных ножей и десертных вилок, вымпела с приколотыми значками. Теперь крестик лежал на кровати, темный дикий янтарь в грубой оправе, а рядом беспокойно спал Мигелито. Невысокий, как большинство латиносов, исхудавший и заморенный, он казался подростком. Интересно, сколько мальчику лет? Вряд ли больше, чем было нам, когда все началось. Но с ним, похоже, обошлись похлеще, чем с нами. Нас все-таки не собирались убивать. Уже не собирались… Мигель во сне судорожно стиснул крест и заскулил. Арвид погладил его по голове и пошел работать – утром надо было отдать выправленную рукопись, а из 25 страниц написано только 16.
Оставлять его здесь было глупо и опасно. Переправлять куда-нибудь – совершенно бессмысленно, да и некуда. Арвид Юлнайтис, деклассированный элемент и наркоман, поступил, как всегда поступал в сложных ситуациях: пожал плечами и решил, что Небесной канцелярии виднее. К счастью, мальчик ему понравился: он казался интересным.
За ночь еще пару раз выходил покурить. Примерно в половину первого ночи красотка Марибелль попала в узкую расселину и жалостно стонала, окруженная обезьянами и гремучими змеями, а верный Фердинанд тщетно искал ее в другой стороне леса…
«Ужаса, больше ужаса! Куси их за яйца, Руссито!» - урчал редактор, пролистывая тощую стопку очередных опусов. Арвид тоскливо подумал в сто первый раз, как ему обрыдли эти дешевые приключения, и вот бы взять и ввести в текст эту обшарпанную комнатенку, потеки на потолке, вздувшийся линолеум… Вот это был бы ужас! Мигель открыл глаза, вздрогнул – и зашипел от боли. Арвид затушил окурок, подошел к нему. «Все в порядке, сеньор подпольщик? Как себя чувствуете?» Мигель уже пришел в себя, вспомнил, где находится, кивнул.
- Спасибо, все хорошо, пить только хочется. А почему ты не спишь?
- Дежурю у постели раненого героя, ясное дело. Очей не сомкнул, как видишь.
Арвид подлил в стакан воды мятного сиропа, размешал. Хорошо бы льда, да опять забыл, не наморозил. Усмехнулся про себя: вроде, и привык к заморским диковинам, а до сих пор удивительно. У нас такого сиропа не было, хочешь оранжаду - наболтай варенья, какое найдешь, и хлебай-наслаждайся! И про дурищу Марибелль никто бы писать не заставлял. Советскому человеку такое искусство чуждо и ненужно. «Ты, Руссито, молодец, у тебя голова варит! Ты это говно лепишь с удовольствием! Вы, русские, все сумасшедшие!» А наши мятежники все больше синие, заумные, сидели и по кухням бухали.
Мигель настороженно провожал глазами каждое движение. Его можно было понять.
- Расслабься, детка, я работаю по ночам. Просто вышел покурить. Завтра весь день буду дрыхнуть как сурок, только с утра сбегаю в редакцию, отдам плоды трудов. Глядишь, денег вырубим. Купим гамбургер и три обоймы патронов. Голодными не помрем, живыми не дадимся.
- Арвид… Я… отработаю. Как ты скажешь.
- Интересно, чем, - ядовито заметил Арвид. - Убьешь конкурента? Взорвешь редакцию? Расскажешь мне про политическую экономику? Ты хоть что умеешь-то?
- Я? – Мигелито завелся. – Пол мыть умею, в отличие от…
- Знаешь что, - внезапно обиделся Арвид, - не очень-то это вежливо!
Мигель замолчал. Арвид вышел на балкон и снова закурил. Вот чертов шкет, мало что возись с ним теперь, так еще и уют наведи, занавесочки повесь, условия предоставь! Нет уж, пусть выздоравливает и убирается к чертовой матери. Где и пол почище… и люди получше.
- Арвид… - тихо сказал Мигель. – Ну Арвид… Прости, пожалуйста… просто больно очень... Я не хотел...
- Расслабься, - не оборачиваясь, ответил Арвид. – Спокойно лежи. Сейчас докурю и приду.
Марибелль из последних сил упиралась в серые камни расселины. Внизу средь прелых листьев, гнилых ветвей и осклизлого мха извивались гремучие змеи, издевательски погромыхивая трещотками. Высоко над головой бесстыдно голубело небо, перепархивали яркие птахи, там была жизнь, свобода, туда было не добраться. Она потихоньку съезжала все вниз и вниз, раздирая смугло-золотистую кожу, пачкая кровью желто-зеленый сухой лишайник на камнях. Как вдруг… мощный столп зеленоватого сияния выхватил ее из полумрака, и девушка, теряя сознание, внезапно ослабев, рухнула в ослепительное ничто. Столп света подхватил обмякшее тело и с невероятной силой потащил ее вверх, в высоту. Туда, где не было уже ничего, кроме внезапно распахнувшегося круглого туннеля. Арвид рывком потушил бычок и рванулся в кабинет, захлебываясь, застучала его машинка, звонком отмечая конец каждой напечатанной строки. Мигель вздохнул, допил тепловатую воду со вкусом зубной пасты и закрыл глаза.
“Чао, мигель! мне тут надо отлучиться. ничего не бойся, буки под кроватью нет, чупакабру прогнали, скоро вернусь - принесу молочка и булочек. Буку пришлось застрелить, но ты спал сном ангела и ничего не слышал. Пойду сниму еще кого-нибудь, чтоб вам не так скучно было”.
***
Мигель дождался, пока этот уйдет – ждать пришлось долго, он все подходил, трогал лоб, что-то бормотал на незнакомом языке, по-русски, наверное. Когда щелкнул ключ в замке, он открыл глаза, сел в кровати, помогая себе руками – при каждом движении внутри что-то тошнотворно обрывалось, нога горела огнем. Во рту пересохло, хотелось пить – Мигель нашарил на тумбочке липкий стакан. Пустой. Рядом лежала записка. Этот изволил шутить. Ну, пусть шутит сколько угодно. Благослови его Пресвятая Дева за то, что вчера подобрал на улице и приютил. Мигель не знал, куда идти, да и на ногах еле стоял. Если даже позаботился ради шутки, то надо вести себя как можно тише и лучше, пока силы не вернутся. Только вот как…
Ночь осталась в тумане. Вроде приходила какая-то неопрятная женщина, русский ей убедительно врал про «нежного друга», вот беда, получившего пером в уличной потасовке. Женщина, ругаясь, сделала Мигелю обезболивающий укол, промыла, залила йодоформом и зашила ногу.
- Дождались, чуть не черви в ране ползают, - бормотала она. – Мои дурищи и то умнее. Заражения ждали?
Русский покаянно кивал и подавал ей салфетки. Мигель чувствовал тупое дерганье кетгута и слышал скрип иглы, а больше, слава Господу, ничего. Женщина взяла пачку песо и ушла, русский провожал ее до двери и ворковал. Потом, правда, обмолвился, что эта женщина, синьора Роха, делает аборты при местном публичном доме. То есть иначе сказал, еще хуже, Мигеля затошнило, и пришлось повернуться лицом к стене. Русский еще что-то расспрашивал, но он уже провалился в темноту без сновидений. Ненадолго, обезболивающее скоро закончилось, но и то время было ценнее хлеба. Он лежал на выношенной мягкой простыне, под одеялом, выпил горячей воды с растворенным бульонным кубиком, и голова уже не так кружилась. А все, что было, – просто дурной сон, надо выздороветь и забыть.
Хорошо бы русского не было подольше, хотелось в туалет и хотя бы обтереться водой. Наверняка тут вода есть. Мигель неловко, боком, спустил ноги с кровати, собрался с духом и встал. Ничего. Вчера бегал. Русский вчера надел на него свою футболку, так что хотя бы не нагишом разгуливать по дому. Босые разгоряченные ступни прилипали к сто лет не мытому полу, на линолеуме были какие-то пятна, пузыри. Мигель поймал себя на том, что тупо стоит и смотрит на этот серый линолеум, обхватив себя за плечи, а из глаз опять течет соленая водичка. Он закусил губу и пару раз ударил сам себя по щеке - нечего тут раскисать, эрмано, переставляй ноги и иди умойся. Спасибо доброму дяде Арвиду, что не кинул подыхать на улице. Русские, говорят, добросердечны.
В комнате были две двери, одна, наверное, вела в кабинет – оттуда ночью доносилось стрекотание пишущей машинки – русский сказал, что писатель. Интересно, может, пишет какие-нибудь социалистические романы, про подвиги и народ, а их потом в самой Москве печатают? В кабинет Мигель не пошел, а добрел до второй, в коридор, постоял немного, борясь с подступившей дурнотой, потом упрямо двинулся дальше. Не просить же русского помогать с самыми простыми человеческими надобностями. Ногу дергало, но терпимо. В коридоре грязь была совсем уж несусветная, уличная пыль, на вешалке – какое-то тряпье, старые куртки. Мигель мельком подумал, что бы сказала его чопорная и набожная матушка, увидев это место… нет, не надо матушке вообще ничего знать. Не нужно. Дверь в ванную маячила впереди вратами рая. Если считать про себя и ни на что не отвлекаться, то нормально. О Господи, вот она. Ура. Хорошо бы еще не упасть лицом в унитаз.
Обшарпанная ванна была занавешена клеенкой с изображением каких-то негритят, поющие рты распялены в улыбках, на голубом фоне – желтые цветочки. Из ржавого душа капало, под краном желтел известковый налет. Тут не то что было грязно, но так безысходно, будто в доме обитал труп. Мигель видел и более загаженные квартиры, где еда на полу валялась, – вот у Хавьера, например, у него пятеро детей и Революция, как тут справиться… то кашу на пол вывалят, то банановую кожуру бросят, то банку с водой и окурками перевернут. Но там была жизнь, а тут словно мертвец поселился.
Он осторожно отвернул кран, потекла ржавая холодная вода. Можно было сколько угодно плескать ее себе в лицо, не думая о запахе железа… не думая… не думая. Не вздумай тут орать, чучело чертово. Руки-ноги целы, а людей гораздо лучше тебя мучили и расстреливали, они и не пикнули, они смеялись в лицо своим палачам, они пели песни разбитыми губами, а ты просто тля и недоносок, вот ты кто.
Мигель подумал, что стоит тут уже кучу времени, тупо глядя на текущую воду и водя пальцем по ободку раковины. Надо бы посмотреть на себя в зеркало, он не был уверен, что все осталось… как прежде, не чувствовал так. Но зеркало было маленькое, висело высоко и снять его со стены не получилось. Под ним на облупленной полочке пристроилась заляпанная мылом многоразовая бритва и помазок в латунной чашке. Мигель машинально взял их и сполоснул, как смог, вытер краем футболки, потом положил на место. Пощупал ногу – горячая, но, вроде, ничего. Бинты сохлые и пахнут какой-то аптекой. Выше он смотреть не стал, не хотелось. Потом как-нибудь.
Рядом с унитазом на стопке газет лежали какие-то ядовитого цвета журналы. На верхнем - грубо намалеванную блондинку с вытаращенными глазами и раскрытым накрашенным ртом приобнимал такой же убогий красавец с голым торсом. Построены они были плохо, нога у блондинки не в ракурсе, правый глаз косил, а краски художник, должно быть, добывал, макая кисточку в свой ночной горшок. Если малевать все подряд окисью хрома, охрой и вермильоном, то что ж удивляться эффекту. Очень хотелось взять карандаш и все поправить, как надо.
Щелкнул замок. Мигель вздрогнул и выключил воду, обернулся к двери.
Редактор был категоричен: «Руссито, это бред! Что ты мне принес? Ты что, обдолбался, что ли, когда это писал? Не обдолбался? Все равно смени своего пушера – он тебе говна продал, а ты мне отрыжку с этого говна пытаешься втюхать за нормальные бабки! Руссито, я же не идиот…» Арвид посмотрел на редактора ледяным прозрачным взглядом. «Алекс, детка, не кипятись. Ты боишься, что публика это не осилит? Не смейся! Ну, если хочешь, я все перепишу, могу прямо сейчас. Но учти: ты сам режешь свою золотую курочку». «Я тебе не детка, а работодатель! - привычно окрысился редактор. – Перепишешь, конечно. Но что ты вообще в виду имел?» Арвид совершенно не знал, что он имел в виду. Он надменно взглянул на плакат с подборкой «Калейдоскопов» - Марибелль среди пиратов, Марибелль в джунглях, Марибелль в объятиях роскошного шпиона в сером безупречном смокинге – и обронил: «Трахаться с инопланетянами!» «Ну и что?» - не понял редактор. «У нее сиськи. А у них паучьи лапки, фасетчатые глаза и весь простор воображения, - снисходительно улыбнулся Арвид. – Моего воображения и… кто у нас на отрисовке этой дребедени? Не хочешь паука – пусть будут ужи в коронах или ангелы с крылышками. И вот такенными мускулами. И пленники в хрустальных камерах, а они их чуть что – электрическими розгами, по смуглой коже! Так что не дури, Алекс, и не дави мне горло. Но если ты не хочешь…» Редактор кисло взглянул на обнаглевшего до предела автора и буркнул: «Черт с тобой, русский торчок. Хочу. Но если не пойдет, вылезать из этого говна будешь сам». Пряча деньги в карман, Арвид подумал, что про пленников он, пожалуй, зря. Хотя, похоже, именно они-то Алекса и убедили, что хитрый русский все уже расписал на три выпуска вперед. Но это все пустяки! Денег хватит на еду, на старую каргу Роху и на лекарства! Мигелю - от осложнений после хронической революции, а Арвиду… тоже от осложнений. После революции, да… А потом придет лекарство и поможет им обоим. И он мигом накатает в “Калейдоскоп” хоть тыщу печатных листов про инопланетян и хрустальные клетки, черт, про клетки хорошо! И бунт, непременно бунт на космическом корабле! Капитана, суку, привязать к пальме его же собственным хоботом!!! Пусть не лапает наших девочек… и мальчиков. Прямо в редакции разделил деньги на три примерно равные кучки: “на жизнь”, “на лекарства”, “на потом”. Подумал и решил побольше заначить “на потом”. Кучку “на лекарство” ради этого пришлось уменьшить до минимума, ну что ж поделать. Расходы “на жизнь” тоже как-то непредвиденно возросли, но Арвид Юлнайтис об этом пока не думал. Арвид Юлнайтис вышел из супермаркета и отправился на точку, потому что ни один коп в жизни не допрет проверить карманы у немолодого, потрепанного жизнью кабальеро, несущего пакет молока, печенье и десяток яиц - ты прям домохозяйка, Арвид!
Он слегка струхнул, когда увидел пустую разворошенную кровать. Мигеля не было, балконная дверь открыта, в доме мертвая тишина. Потом голова чуть прояснилась, мир стал реалистичнее. Призрак замученного латиноамериканского подростка стоял в ванной и медитировал на сливной бачок. Арвид улыбнулся как мог дружелюбно и предложил, если тот уже все сделал, двигать в кроватку, не зависать. А если нужна какая-то помощь, то всегда пожалуйста. Но мыться будем, когда доктор разрешит, о’кей, Майки-бой? Хочешь журналы? Иди ложись, я тебе принесу. Сейчас сварим бульон, пообедаем, потерпи немножко. Мигель чопорно поблагодарил его за все и, волоча ногу, двинул в обратный путь - через всю комнату. Лег, затих.
Арвид достал из пакета куриную грудку, залил ее водой и плюхнул на электроплитку. Когда в последний раз он варил суп? Кажется, никогда, здесь так уж точно. Единственную кастрюлю милосерднее было бы выбросить - пригоревшая сто лет назад еда намертво вплавилась в дно. “Как я тут живу вообще? - подумал Арвид и сам на себя озлился: - Ладно. В конце концов, я старый холостяк, имею право, а Мигель - не барышня. Всегда надо уметь вовремя остановиться”. Из приправ в доме нашлась соль и пара листиков ископаемой лаврушки. Пену с бульона скинул в раковину - смывать не стал. В ящике стола завалялось три ложки, вилка и несколько съежившихся горошинок черного перца. Мигель на кровати не подавал никаких признаков жизни. На улице потемнело - собирался дождь. Курица мерно выкипала на плите, невыловленная пена колготилась по кастрюле мелкими буроватыми ошметками. Миска бульону остывала на краю мойки. Чертовы миски - они такие неудобные.
- Мигель, кофе хочешь? Или молока? Есть много вкусного димедролу, но сперва надо скушать суп!
Мигель помолчал, потом попросил молока, если можно… спасибо большое, Арвид… Чашку для Мигеля он купил в том же супермаркете. Большую, прозрачную, с веселым китом. Разобьет - не жалко. Дождь - это хорошо. Давно пора помыть этот сраный мир. И дышать будет свежее, и спать лучше... Кит плыл по белому молочному морю. Молоко поплескивалось туда-сюда, туда-сюда… Давай, лапуля, выпьешь бульону, потом молочка. Кстати, тебе не холодно? Жарко? Ну да, ты же революционер, жаркое сердце! А уколов не боишься? Не бойся, я умею, дядя Арвид отлично умеет, ты и не заметишь! Димедрол, детка, чистый, неразбодяженный… Раз - и все! и потом баиньки, и ты, и я. А дождик будет кап-кап-капать, смоет все следы - то-то и хорошо! Вот твой бульон, осторожно, горячо. А потом дядя Арвид с волшебным шприцем уложит тебя поспать. А вечером придет синьора Роха, и ты у нас будешь румяный и свеженький, ей понравится. Ляг на живот и ничего не бойся… Ну ладно-ладно… можно и в бедро, чего ты…
***
Русский болтал и болтал, не останавливаясь, глаза у него поблескивали, как у больного в жару, на бледных скулах алели два пятнышка румянца, тоже какого-то ненастоящего, болезненного. И тощий он был, словно родной брат Санта-Муэрте, скелет, сбежавший с праздника всех мертвых. Серые волнистые прядки прилипали ко лбу, к щекам, светлая рубаха и линялые джинсы болтались, как на вешалке. Он все трогал Мигеля - за лоб, за плечо, за руку, поправил одеяло, переставил посуду на тумбочке, ни на секунду не прекращая разговаривать. Пальцы у него были сухие, жилистые и ощутимо подрагивали. Мигель допил молоко с сахаром, с сожалением посмотрел на чашку – она была такая новая, красивая. Из другого мира. Того, где светлая клеенка на столе, алые бумажные розы у статуи Девы Марии в нише, чисто вымытый голубой кафель кухонной печи, на окне воркует белая голубка, а на столе лежит шелестящая тень магнолиевой ветки… К горлу снова подступил горький комок, он привычно его сглотнул, сердито утерся. Русский отобрал у него чашку, потом достал лоточек со стеклянным шприцом, марлей и ампулами, многословно объяснил, что сейчас сделает ему укол, после которого все-все сразу же пройдет.
Мигель испугался. В ДИНА кололи чем-то таким, после чего ноги делались как ватные, голова болталась и больно было невыносимо. Как-то он почти сутки пролежал на полу, тупо разглядывая ржавое пятно на стене, следы от нескольких отвалившихся плиток и покрытое прозрачными каплями отверстие слива. Не мог встать, не мог пошевелиться. Господи, это пятно теперь навсегда в нем отпечаталось.
Наверное, по лицу было видно испуг. Мигель всегда плохо владел собой, легко краснел, бледнел. Матушка всегда смеялась, что «молодой сеньор Моралес еще только приготовится соврать, а Бог уже все написал на его лице».
- Не бойся, заснешь - и болеть будет меньше. Ты чего такой нервный, латинито? Уколов трусишь? Не трусь, – рассмеялся Арвид. Что-то словно подторапливало его изнутри, он словно ждал, когда Мигель заснет, будто это было важно. Может шума не любит – но Мигель вроде бы ночью лежал тихо. В любом случае перечить не годилось, пришлось покорно подставиться под укол, больно и впрямь не было. По телу сразу разлилась сладкая сонная одурь, боль словно отодвинулась куда-то на край сознания, не исчезла совсем, но стала какой-то неважной. Мигель поморгал отяжелевшими ресницами, потом русский осторожно опустил его на подушку, подержал на лбу странно жаркую ладонь, что-то приговаривая на своем непонятном звенящем и цокающем языке.
Лекарство и впрямь хорошо помогло. Мигель парил в молочных сладких волнах сна, и ему казалось, что он синий кит. «Хорошо бы нарисовать такого кита», - мельком подумал он и вдруг проснулся, как от порыва ветра. В доме было очень тихо, в окно барабанили тяжелые дождевые капли. В животе было жарко и сонно, свет в комнате потушен, на улице лилово-пасмурно. Ветер снова вздохнул и бросил в стекло пригоршни водяных горошин.
- Арвид, - тихонько позвал Мигель. - Арвид, ты тут? Можно мне попить?
Ответа не последовало, дом переполняла тишина и слабое «кап-кап» крана в ванной. Мигель облизал липкие от жажды губы, подтянул повыше одеяло. Наверное, уже вечер и Арвид пошел по делам… Нет, он уже ходил. Может, что-то случилось? Стоило испугаться, но лекарство туманило разум и успокаивало. Нет-нет, что может с тобой случиться, Мигеле Эрнандо Моралес, отличник в колледже и благочестивый министрант, все, что могло, давно уже случилось, а теперь все будет хорошо... хорошо-прехорошо. И с этим странным, измученным тоской русским - тоже. Дождь будет лить и лить, пока не наплачет целое море, и вы поплывете по цветным волнам, по радужным бликам, по россыпи водяного бисера…
Так. Хватит.
Мигель потряс головой, прикусил губу, сгоняя лекарственную одурь. На голове все равно лежало будто бы ватное покрывало, но мысли хотя бы перестали ускользать.
Возьми себя в руки, иди и посмотри, что с ним. А вдруг ему плохо.
Слезть с кровати оказалось немного легче, чем в прошлый раз. Мигель осторожно дохромал до двери в кабинет, она была плотно прикрыта, но отворилась не скрипнув.
Русский неподвижно полулежал в потрепанном табачного цвета кресле, которое занимало половину крохотной комнатушки. Он не шевелился, смотрел прямо перед собой и безмятежно улыбался. Мигель тихонько окликнул его - никакой реакции. На шаткой этажерке, по всей высоте заваленной всевозможным барахлом и безделушками, с подчеркнутой аккуратностью были разложены: металлическая коробочка, кусок марли, стеклянный шприц, ложка, старинная медная горелка, кусочек фольги. Зачем-то на столе сохла половинка лимона. В бессильно повисшей правой руке Арвид держал резиновый жгут.
***
Все было, конечно, понятно. С детства Мигелю строго-настрого запрещали даже думать, упаси боже, о наркотиках. Он в них и не очень разбирался, но зелье, наверное, было из сильных. Кокаин, героин, морфий? Мигель безотчетно протянул руку, поправил прядь грязных волос, упавших русскому на лицо и щекотно лезших в приоткрытый рот. Серые глаза с булавочно-узкими зрачками блаженно смотрели куда-то в неведомые дали. Или в пустоту.
История оборачивалась тягостным вывернутым бредом, как на картинах чокнутого испанца. Вот он, Мигель Моралес, хороший мальчик в белой рубашке, мамина радость, скрывается от полиции в захламленной квартире наркомана и русского эмигранта, который, кажется, даже посуду не моет. Кто теперь плохой, а кто хороший? Как быть, Господи, ну как быть же…
Русский слабо пошевелился, сфокусировал на Мигеле мутный взгляд, потом что-то неразборчиво прошептал. Мигель прислушался.
- Ну что ты тут стоишь, мышонок… иди спать… прыг-прыг в гнездышко… molochnye reki, kiselnye berega... kity plavajut… Zvetnie kameshki… Вот и нет ничего, правда? Так-так-так… - дальше речь перешла в совсем уж бессвязный бред. Мигель вздохнул, перекрестил Арвида, устроил ему руки поудобнее, сложил и убрал на этажерку жгут, потом, подумав, дохромал до пледа, свисавшего со стула, укрыл бессознательное тело. В комнате, кроме Арвида и кресла, были еще мутноватое окно с треснутым стеклом, стол, стул, печатная машинка, кипа бумаги в мусорной корзине и плохо сделанное чучело голой кошки на деревянной подставке. Кошка холодно посмотрела на Мигеля пуговичными глазами. Цвет ее кожи напоминал о лайковых перчатках и вызывал смутные непристойные ассоциации. Мигель, стараясь не поворачиваться к пуговичным глазам спиной, дошел до двери и так же аккуратно прикрыл ее за собой. Если не знаешь, что делать, - не делай ничего, поэтому он лег обратно в постель, так и не выпив свой стакан воды.
========== 2 ==========
Дело было так. Арвид Юлнайтис, то есть Джеймс Руссито Джеймсон шел из “Калейдоскопа”, получив от редактора очередную пачку советов и улучшений и просмотрев ряд картинок. Собственно, ради картинок его и вызвали в такую рань - еще до полудня. На картинках пышногрудая красотка истошно визжала при виде кобры чудовищных размеров. Красотка визжала в трех вариантах, а кобра везде и всюду извивалась одинаково и, на взгляд Арвида, была куда симпатичней: толстая, аппетитная и сексапильная, с лукавым язычком. От этой самой кобры Арвид даже слегка повеселел, примирился с утром и внезапно решил погулять по городу, выпить пива, купить себе, скажем, летнюю льняную рубашку и вообще как-то встряхнуться. На углу кипела разборка. Двое в блестящих от крема ботинках собирались прессовать какого-то сущего бедолагу, бродяжку в драных засранных штанах и замусоленном свитере. Арвид знал этих сеньоров, а побродяжку не знал. Сеньоры тоже знали Арвида - как и вообще свою клиентуру. Арвид подошел к ним и спросил, что, собственно, происходит, имея в виду уточнить, как бы им всем завтра встретиться по поводу небольшой сделки. Сеньоры оставили свою жертву и горячо пожаловались эрмано руссо, что наступают последние времена - и вот всякая шваль, слякоть, отморозок позволяет себе внаглую ловить кобелей на чужой территории, вертеть тощей жопой и хоть бы “извините” сказал! Обсос хренов! Арвид присмотрелся и заметил, что никакой кобель, конечно, на такое не польстится. Но вот лично он просит у почтенных кабальеро ровно две минуты на консультацию по деловому вопросу, а потом уйдет и уведет с собой это печальное создание. Ради Христа и Его Пречистой Мамы, было бы нежелательно, чтобы под самым окном редакции раздавались вопли, потому что сеньорита секретарь “Калейдоскопа” со дня на день должна родить и шум мордобоя ее испугает. И еще - очень бы хотелось, чтоб никому не квасили рыло в это чудное утро, даже если это справедливое возмездие. На протяжении речи Арвида отморозок стоял не шелохнувшись, а по окончании отлепился от стены и фамильярно взял Арвида за локоть, демонстрируя желание пойти с ним хоть на край света. Блестящие ботинки согласились с Руссито, что позарившийся на это чмо должен быть ублюдком последнего разбора и вежливо распрощались, пожелав сеньору Руссито приятной прогулки и хорошего дня. Побродяжка не был ни пьян, ни обдолбан, и даже не особенно вонял, потому Арвид повел его прочь от места разборки, намереваясь скормить ему гамбургер в американском ресторане-бистро и отвязаться поскорее. Оставлять его прямо здесь было рискованно: блестящие ботинки в любой момент могли вернуться и продолжить начатое.
В американском ресторане Арвид спросил, что желает скушать его подопечный, тот буркнул: “Все равно что” и отправился в туалет, чуть не падая по дороге. Арвид мысленно простился с пивом и пару минут обдумывал, так ли ему нужна новая рубашка, плюнул, загрузил поднос гамбургерами, картошкой и колой - и из уважения к юным летам своего визави прибавил к заказу стаканчик мороженого с шоколадным сиропом. Бродяжка пропадал в сортире битый час, но все же прихромал обратно, руки, лицо и даже волосы у него были мокрые и благоухали жидким мылом. На вид ему было лет пятнадцать, впрочем, некоторые юноши-латиносы довольно долго выглядят сущими детишками. Он вцепился в колу и выпил ее чуть не залпом, потом наскоро перекрестил поднос, раскутал гамбургер из бумажной пеленки и, не сводя с него глаз, вымолвил: “Спасибо, сеньор. Меня зовут Фидель. Это были ваши друзья?” - “Нет, дальние знакомые”, - отозвался Арвид, представился и спросил, не принести ли еще колы. “Н-н-н-ну… если можно, - не улыбаясь, ответил Фидель. - А потом мы куда? К вам?” В зале было не так уж и людно - все предпочитали веранду. Честно говоря, там было бы проще - и курить можно. “Кушай спокойно, а там решим, - посоветовал Арвид. - Скажи, ты из Кильоты? Здешний?” Латинос, с набитым ртом, сдержанно кивнул. “С какой улицы? Я тебя тут раньше не видел...” Побродяжка перестал жевать, судорожно проглотил и сказал, что нет, не здешний, так что… как хотите, сеньор, так и поступим. “Ну ладно, - вздохнул Арвид. - Значит, ко мне. Я недалеко живу. Ты сможешь дойти, Фиделито? Хоть помоешься по-человечески…”
***
Пока они с горем пополам плелись по улице, Арвид понял, что Господь любит его по-прежнему. Вот только этого ему и не хватало, чтоб разбираться с полицией, откуда у него дома труп подростка. Поверите ли - сам пришел! В форточку залез, попросил водички попить - и тут же окочурился… Фидель шел молча, не спрашивая ни о чем и еле переставляя ноги. Пару раз его начинало мутить, они останавливались подышать. Арвид хотел было предложить ему сигарету, но передумал. Когда идти оставалось всего ничего, Фиделя стошнило, едва не на туфли спутнику. С трудом распрямившись, Фидель пробурчал какие-то извинения. «Пошли скорей, - поторопил его Арвид. – Там разберемся, что с тобой такое».
На второй этаж они поднимались целую вечность. Арвид уже сто раз пожалел, что не может, как верный Фердинанд, закинуть побродяжку на плечо и взлететь по лестнице, даже не запыхавшись. Ползти пришлось долго, пока наконец не добрались до апартаментов. Примечательно, что за все это время ни один из них не вымолвил ни единого бранного слова. Прежде чем Фидель грязной кучей упал на кровать, Арвид успел кинуть на разворошенную постель какую-то тряпку. Вопрос любовных утех отпал сам собой. Предстояла игра в больницу.
К этому времени Арвид уже не сомневался в происхождении бурых жестяных пятен на штанине у адского ангелочка. Итак, у нас тут приемный покой. Первым пунктом – раздеть и вымыть, потому что в комнате запах рвоты, высохшей крови и немытого тела начинал действовать на нервы. Интересные нынче в Кильоте проституты, подумал Арвид и спросил: «Ты до ванной дойти сможешь? Или обойдемся обтираниями? Раздевайся давай». Фидель мотнул головой и попытался подняться. Арвид стащил с него драный красный свитер – из какой помойки он его выудил? - под свитером была темно-зеленая футболка. Фидель умолял не трогать, он сам, в ванной… Футболка кое-где присохла к спине, влажная и почти липкая от пота и грязи. Когда футболку наконец сняли, Арвида слегка замутило. Он велел полуголому Фиделю посидеть спокойно и пошел в кабинет. Там в аптечке хотя бы перекись и какие-то влажные салфетки… йод тоже был, хотя и на самом донышке. Потом настала очередь джинсов.
«Это электропроводом, - сказал Фидель, когда они вышли наконец из ванной. – А это – они сигары тушили. И сигареты. Сигара только у одного была… к счастью. И током еще… Они там еще мне спину резали и смеялись. Что там, Арвид? А нога - уже не они… это потом…»
«Ты точно не хочешь курить, Фиделито? – спросил Арвид. – Может, кофе? И… слушай, я зову доктора. У меня есть знакомый… знакомая… Нога – это уже серьезно, там чистить надо, шить… воспалилось уже все к чертовой матери». - «Кофе – если с молоком, - ответил Фидель. – Извини, что все так… Давай я уйду, как стемнеет. Чего тебе со мной… Меня ищут уже, наверное. Я Мигель, Мигель Моралес». Арвид хмыкнул: «Ну тогда, конечно, другое дело! Раз уж ты Мигель Моралес… Тебе кофе с сахаром или как? Никуда ты не пойдешь, не пизди, ладно?» Мигель кивнул и внезапно заплакал, вцепившись Арвиду в руки.
***
К вечеру действие лекарства прошло, а Арвид так и не вышел из своего кабинета. Мигель маялся, пытаясь устроиться поудобнее, на спине лежать было больно, на животе – невыносимо, он покрутился и лег на бок, скрючившись и пристроив поудобнее забинтованную ногу. Есть хотелось зверски, а еще, кажется, поднялась температура – мир стал каким-то размывчатым, и в ушах стучало. Арвид говорил, что вечером придет синьора Роха, надо будет открыть ей дверь, поэтому Мигель очень боялся отключиться и пропустить звонок.
- Вылечишься, – сказал он сам себе. – Не трясись, трясучка. Вылечишься и все забудешь.
Русского ему, наверное, ангел-хранитель послал. Тогда, на улице, он не знал, куда дальше идти и что делать. Сознание то и дело ускользало, что-то кричали два каких-то хлыща, кажется, хотели, чтобы он убрался подальше. Палило солнце, и болезненно резкие тени падали от стен обшарпанных домов, подплывая по краям густым ультрамарином. Потом пришел этот русский, говорил с ними, и Мигель звериным каким-то чутьем доверился, шагнул вперед и ухватился за тощую руку. Все равно уже было, даже если донесет.
Он сбежал, когда его перевозили на виллу “Глория”. Глава здешних милитарес иногда любил вести допросы дома, хотя говорили, что у него хорошая семья – жена и две маленькие дочки. Как будто за неделю в тюрьме не поняли, что узнать у него совершенно нечего. Но от Мигеля отреклись собственные товарищи – сразу, как только их взяли и держали еще всех вместе, Хорхе сказал охраннику – что, мол, всякую шушеру с нами держите, этого-то сопляка за что? А за красивые глаза, ответил пиночетовец и засмеялся. Мигель сидел, прижавшись к стене, оглядывал пленников – Хорхе, Хавьера, эль Сомбро, Эдоардо. Те отводили глаза, отказывались с ним разговаривать и упорно делали вид, что видят его впервые. Может быть, опасались, что выдаст. Это было горько, и Мигель помолился, чтобы не дрогнуть и не сказать на допросе ни слова, даже если его будут страшно пытать. Но у него ничего не спрашивали. Сначала было терпимо, только голодно и потряхивало от усталости, а потом Эдоардо увели и кинули в камеру только на следующий день – избитого, почти без сознания. Обе руки у него посинели и отекли, пальцы жутко вывернуты. Тогда Мигель сломался, а его еще даже не трогали. Он бы, наверное, все рассказал – было такое состояние, будто бредишь и не можешь выбраться из кошмара. Все что угодно, только не руки, не глаза. Хотя, наверное, Эдоардо так и не сознался, кто рисовал те плакаты, – через день его расстреляли прямо в камере, без лишних разговоров, поставили на колени и выстрелили в затылок, и Мигель несколько часов просидел рядом с остывающим телом, тупо глядя прямо перед собой, раскачиваясь и твердя молитву, потому что больше не знал, что делать. Потом он услышал тот ночной разговор, тихий, без сантиментов. Переговаривались Хорхе и эль Сомбро, глава их маленькой ячейки, Мигель так и не узнал, как его на самом деле зовут.
– Пожалей мальчишку, – негромко говорил Хорхе. – Тебе ж это раз плюнуть, а у меня дети, я не могу. Прошу.
Эль Сомбро что-то неразборчиво ответил, потом оглянулся на Мигеля, который лежал в углу, скрючившись и подложив под себя куртку – кроватей тут никаких не было. Мигель смотрел на товарищей сквозь ресницы – свет в камере не выключали – и его продрало по спине холодом. Он медленно сел, все еще надеясь, что спит, вытянул перед собой руки, словно отталкивая.
– Пожалуйста, не надо, – сбивчиво зашептал он. – Не нужно… Por favor… Хорхе, я все выдержу, скажи ему… hermanos… мне страшно! Не надо этого делать!
Узники мертво замолчали, словно и не было этого разговора. Хорхе некоторое время смотрел на Мигеля, растирая жидкие усы костяшками пальцев, потом коротко кивнул и отвернулся к стене. Заснул. А на следующее утро за Мигелем пришли.
Оглушительно зазвенел будильник, Мигель вздрогнул, посмотрел на дверь кабинета. Оттуда донеслись приглушенные проклятия, что-то грохнуло, стукнуло, потом звон прекратился. Через минуту в комнату вошел Арвид, совершенно нормальный, спокойный, без той нервной торопливости, которая так удивила Мигеля с утра. Он даже слегка улыбался.
– О, проснулся, Майки-бой, – весело поздоровался он. – Как нога?
– Гораздо лучше… спасибо большое.
– Ай, какие мы вежливые! В церковно-приходской школе воспитывался?
Мигель промолчал, не зная, что ответить. Арвид пощупал ему лоб, хмыкнул, выдал пару таблеток алказельцера, пояснив, что ничего другого от температуры не нашлось, а димедролу приличному юноше из хорошей семьи на сегодня хватит. Потом ушел в кухонный закуток, чем-то там опять загремел, напевая. За окном уже стемнело, и дождик прекратился.
– Футболку не снимай, – велел Арвид, ставя на тумбочку очередную чашку бульона с накрошенной куриной грудкой. – Со спиной твоей сами разберемся, нечего старой карге на такое любоваться.
– Хорошо, я понял. Спасибо бо… – Арвид поднял бровь, и Мигель заткнулся. Бульон был такой вкусный, будто его варили в раю. Хватило на четыре жадных глотка, Мигель даже закашлялся от торопливости, потом опомнился и виновато перекрестил пустую чашку.
– Вот, другое дело, детка. Еще?
Мигель хотел было сказать, что ему хватит, но тут в дверь позвонили, и русский пошел открывать, все еще напевая себе под нос и шаркая ногами в войлочных тапочках. Может… может, и ничего… можно тут немного пожить…
Сеньора Роха вне ночной одури оказалась кругленькой невысокой дамой с пучком черно-седых волос, тяжелыми золотыми серьгами и смачно накрашенными губами, кривыми и пухлыми. На руках звенели браслеты самого цыганского вида, а ногти были устрашающе алыми.
– И как тут наша деточка? – осведомилась она низким прокуренным голосом. – Как деточкина ножка? Разоблачайся, ниньо.
Мигель спустил ноги с кровати, отодвинул одеяло, сеньора Роха стала отмачивать перекисью присохшие бинты, он привычно терпел тупую боль, подбирая и ворочая в голове нужные слова. Ему было мучительно неловко, но деваться некуда.
– Арвид… ты меня прости, – пробормотал он, слепо глядя в пол и заливаясь жаром. – Ты не мог бы выйти? Мне надо… надо поговорить с сеньорой.
Мигель приготовился давать какие-то пространные объяснения, закусил губу, но русский только пожал плечами и ушел обратно в кабинет, где через некоторое время застучала письменная машинка.
***
Цветное море расплескалось и медленно погасло. Черти в аду разом грохнули рогами по сковородкам… Это надрывался будильник: через полчаса пожалует старая перечница – сеньора Роха, благослови ее Господь. Арвид встряхнулся от теплой стеклянной одури и вышел в сумерки несовершенного мира.
Мигель завозился на кровати – ему тоже сон пошел на пользу, подпольщик слегка порозовел и явно передумал умирать. Сон да еда – и беда не беда, отметил Арвид. Бульон, конечно, уже остыл, был чуть теплый, но зато настоящий, не из кубиков. К такому бульону полагались бы сухарики из белого хлеба, но не все сразу. Пришла сеньора Роха, от нее пахло привычной смесью духов, женского пота и дезинфекции, Арвид приготовился вновь ворковать и любезничать, но нужды не было. Старая сова мельком приняла пару комплиментов и сразу решительно двинулась к мальчику. «Какая бы из нее была ведьма!» – уважительно подумал Арвид, а впрочем, почему и нет? Отчего бы сеньоре Рохе не летать над Кильотой на метле, сотрясаясь голым пышным телом под голой луной? Арвид представил, как стремительно пикирует ведьма, как вытягиваются ее алые когти, как желтые клыки налезают на пунцовой помадой очерченные губы… что там такое? Ах, невинная жертва! Хрупкая девственница в белой сорочке, прозрачные ручки, золотистые локоны…. Нет, сеньора, не надо, сеньора! Хррррряп! – и нету девственницы, а довольная, сытая ведьма тяжело взмывает ввысь с хриплым смехом. Мигель морщился, пока его перебинтовывали, а потом, отчаянно краснея, попросил Арвида выйти и оставить их одних. Глупый мышонок! Здесь же все равно все слышно! Из любой точки этой сраной дыры… Арвид пожал плечами и пошел работать – отгородившись от страшных тайн стрекотом машинки. Будем надеяться, Мигель достаточно осторожен, чтобы и дальше прикидываться мелким подранком-шлюшкой за пару песо.
Сеньора Роха вошла к нему через пять минут – лицо ее не предвещало ничего хорошего. Внутри неприятно похолодело: кем-кем, а дурой-то старая сова точно не была. Она встала в дверях, грозная, как построившееся войско. Сеньор русский, сказала она. Вы никогда не задумывались, что некоторые вещи могут довести до полицейского участка? Вашему «нежному другу» можно только посоветовать быть осмотрительнее, а вам, сеньор… стоит воздержаться на ближайшую неделю. Арвид сглотнул, улыбнулся и нахально спросил, что же теперь им делать. Сеньора перечислила, какие свечи нужно купить в аптеке, и еще вот эти таблетки… на всякий случай, сеньор… минимум десять дней. И лучше бы обоим. И строго велела не давать мальчику никакого алкоголя и курить, и ничего соленого, острого и кислого в ближайшее время. И неделя полного покоя. Полного, сеньор русский! Если невмоготу – приходите к нам. Вы добрый человек, судя по всему, и щедрый… спасибо, сеньор… Но помните, что Бог видит каждое наше деяние. Все прочее у него в порядке. Продолжайте перевязки, вы же сможете сами? Хватит мне уже вас разорять. Если что, зовите, я приду.
Арвид закрыл за ней дверь, вздохнул и повернулся к Мигелю. «Я в аптеку, Майки-бой. Пива тебе нельзя, курить, как видишь, тоже… Может, мороженого?» Мигель лежал лицом в подушку. Ясное дело, он слышал все до последнего слова. После дождя на вечерней улице было свежо, почти прохладно. Аптека уже закрывалась, но Арвид скорчил умоляющую физиономию – и ему в порядке исключения выдали пакет коробок, баночек, свитки бинтов – по списку, что небрежно нацарапала сеньора Роха, не полагаясь, очевидно, на память этого сомнительного русского. Он вернулся, выставил на кухонный столик пару банок холодного, только из морозильной камеры, пива, рожок мороженого, бутылку молока и ворох лекарств. Пиво мгновенно запотело, по золотисто-зеленым банкам ползли капли. Мигель не шелохнулся, скорчившись на кровати. Кажется, он лежал так с самого его ухода. “Ну что, подпольщик, сперва полезное, потом приятное? – весело спросил Арвид. – Вот тебе таблетки, уж не знаю, на черта они сдались, но доктор прописал… А вот смотри – это свечи. Сам поставишь? Мне выйти? А на десерт мороженое, раз уж пива тебе не велено!” Мигель судорожно кивнул. Арвид сложил перед ним коробку с суппозиториями, таблетку, рожок в блестящей бумажке – и вышел на балкон. Всласть потянулся, добыл из банки-пепельницы недокуренную сигарету и выглянул вниз. Второй этаж – всего-то ничего. На соседнем балконе валандались на веревках какие-то тряпки, цветные простыни, наволочки в подсолнухах, заново выполосканные дождем. На улице в сумерках перекрикивались дети, девочка вела по тротуару таксу на цепочке, парой этажей выше верещал младенчик, где-то отчаянно грохотал мотоцикл без глушителя, по радио два мужика распевали что-то жизнеутверждающее. Почему у него всегда так тихо? Вспомнил, что не взял пиво – оставил на столике. Вернулся в комнату. Курить, прихлебывать холодное пивко и созерцать тихую жизнь на задворках вечернего города – это ли не счастье? Вторую банку – на ночь, пригодится. Господи, как надоели, осточертели, задолбали эти карамельные увлекательные истории. Тянешь, тянешь их из себя – ради чего? Хоть кто-нибудь их вообще читает, кроме нас с редактором? Ну, может, корректор еще… Для того ли Ты меня хранил и берег, чтобы надежда курса, выпендрежник и умница Юлнайтис давился на херовом испанском этой блевотиной – день за днем уже полгода где-то в Тобою же забытой дыре? Чпокнул открывашкой-ключиком и вспомнил, что в комнате он не один.
Мышонок сжимал двумя пальцами толстую желтоватую палочку, она таяла в руках, пальцы блестели от жидкого жира, Мигеля колотила дрожь. Ладно, Боже, вздохнул Арвид Юлнайтис, все понял, беру свои слова обратно. Я теперь тут за старшего, сталбыть. Не киснем.
- Не бойся, мышонок, – сказал Арвид, вынимая исковерканный суппозиторий из трясущейся руки. Кинул в ведро. Не попал. – Просто не бойся. Повернись ко мне спиной и лежи спокойно, ладно? Это совсем не больно – можешь мне поверить. Ляг удобнее, коленки повыше, вот так.
Твердая округлая свеча проскользнула, куда следовало. Арвид поправил футболку, укрыл Мигелито простыней. Через полчасика растает, впитается – можно будет и спиной заняться. Мазь он тоже принес.
– Почему? – безразлично произнес Мигель.
– Что почему, – не понял Арвид.
– Почему я мышонок?
В самом деле, почему?
– Ну… ты такой мелкий, смешной… глазки-бусинки. Мышонок и есть. Мышата вообще симпатяги… – Мигель то ли усмехнулся, то ли всхлипнул. Арвид погладил его по голове.
– Арвид… тебе не противно, что я тут… лежу… на твоей постели?
– А что с тобой не так? – искренне удивился тот.
– Все со мной не так.
Уличный шум долетал сюда вместе с запахом сигареты. “Всю комнату сейчас провоняю, а ему дыма нельзя, – сокрушенно подумал Арвид. – Бедный глупый мышонок”.
– Все с тобой нормально, Майки-бой. Это мир у нас говно, а ты хороший. Давай ешь свое мороженое. Раз уж не куришь...
– Шоколадное? – снова всхлипнул Мигель. – Нет? Ну… все равно… спасибо большое.
Мы плывем, рука в руке в деревянном сундуке
По асфальтовой раздолбанной реке.
Капля мутная дрожит на конце твоей иглы –
Это нужно, чтобы дальше можно плыть.
За закрытыми глазами
Плещется цветное море,
Штукатуркой осыпаясь по углам.
Солнце – серая зола.
Если нас сожрала мгла,
Значит, будем делать добрые дела.
Птицы в небо сорвались и летят в глухую высь,
Расшибаясь о бетонную плиту.
Я не знаю, что сказать. Невозможно описать
Бесконечное паденье в пустоту.
Нас ласкает, друг мой милый,
Блядский ветер из могилы,
Омывая наши скудные тела.
Я лежу с тобою рядом.
Если небо стало адом,
Значит, будем делать добрые дела.
Нам реально повезло, что мы вдвоем.
Нереально повезло, что мы вдвоем...
Мы же раньше так не жили,
Нас о камни размозжили,
А мы очнулись, осмотрелись и плывем
К цветному морю, в сундуке, по асфальтовой реке, налегке…
Свист и скрежет из бездонной высоты.
Это синие горбатые киты.
Проплывают вслед за нами
Меж бетонными домами,
Невесомы и прекрасны, как мечты.
В деревянном сундуке
Мы плывем - рука в руке,
Наше прошлое сгорело на песке.
Солнце – серая зола.
Нарисуй мне два крыла,
Чтобы вместе делать добрые дела.
========== Часть 3 ==========
Плюх! Кусок бурой мешковины потонул в ведре с горячей водой, и на поверхности щедро запенилось мыло. Мигель прополоскал тряпку, отжал ее, с удовольствием глядя на свои смуглые пальцы, которые двигались, как им положено, а не болтались вялыми макаронинами, как и их хозяин. На тыльной стороне правой кисти темнела подсохшая царапина. Он еще раз выжал мешковину и победоносно полез под кухонный стол, чиркая по полу тощими коленками, торчащими из старых арвидовых джинсов. Бдыщ! Из-под стола вылетели пустые пивные банки, смятая газета и иссохший хвост огромной макрели.
С утра Мигелю удалось совершить победоносную разборку в кабинете Арвида. Хозяин кабинета малодушно отсиживался в кресле, подобрав длинные ноги, и восстал только тогда, когда к выходу понесли чучело голого сфинкса.
– Отдай моего Эстебана, злыдень! – взмолился Юлнайтис. – Я зря его, что ли, по всем барахолкам искал?
– В нем моль завелась, – запротестовал Мигель.
– Моль тоже зверушка божья. А ну, немедленно верни сеньора Эстебана на место, висельник.
В коридоре обнаружилась коробка с тончайшей росписи стеклянными елочными игрушками (Мигель не сразу понял, что это – пришлось спрашивать), в шкафчике на кухне – внушительная коллекция разноцветных фаллосов причудливого вида. Мигель сгреб их в большой пластиковый пакет и по привычке потащил к Арвиду уточнить, что это и нужно ли, чем вызвал у владельца приступ лютого веселья. Но Эстебан был хуже всего – он все время таращился на нового обитателя злыми стеклянными глазами и, как казалось Мигелю, иногда двигался сам по себе.
Зимнее августовское солнце заглядывало в окна. Окна Мигель тоже протер. Холодильник сверкал чистотой, из него исчезли все подпортившиеся объедки. В доме напротив обнаружилась недорогая прачечная, и хорошо, потому что стиральная машинка, стоявшая в подвале, никогда не работала. Мигель наметил себе отдраить еще косяк двери и кафельную плитку в кухонном закутке, и тогда можно будет еще раз вымыться самому.
Две недели назад, как только спина чуть поджила, он дождался, пока Арвид в очередной раз уйдет в редакцию, пробрался в ванную, и, как мог, оттерся губкой для мытья раковины, потому что никакой мочалки в доме не было, а руками себя трогать было противно. Сухие корочки размокли, рубцы снова начали кровоточить, и вернувшийся Арвид обнаружил Мигеля в постели, замотанным в простыню и стучащим зубами в лихорадке. В первый и последний раз на его памяти Юлнайтис орал так, что штукатурка сыпалась, и назвал подопечного «жертвой неудачного аборта», «carrajo» и еще какими-то русскими словами, тоже, наверное, не очень печатными. Хорошо, что с тех пор уже много времени прошло и можно было мыться сколько угодно.
В совместном житии Арвид оказался совершенно невыносим. Он постоянно ворчал и придумывал для Мигеля разнообразные прозвища. Он разбрасывал носки. Он отказывался пробовать любовно приготовленный Мигелем гуакамоле, обозвав его “чилийской бурдой”. Он бросал негодные черновики куда попало. И, в конце концов, он кололся.
Но этот человек спас Мигеля от смерти, сидел с ним, когда тот болел, ни разу не попрекнул хлебом и кровом и вообще никак не намекал, что надеется на благодарность, ничем не обидел. Если, конечно, не считать именований вроде Синдереллы или Цыпленочка, в изобретении которых Арвид изощрялся с утра до вечера. Мигель только пожимал плечами и продолжал остервенело драить квартиру. В ней даже какой-то блеск появился. В холодильнике завелось молоко и белый хлеб. На столе золотились дешевые августовские апельсины. Мигель научил Арвида ходить на субботний рынок и там весело торговаться с крестьянками, а не равнодушно закупать в ближайшем супермаркете пластиковое дерьмо. Ходил туда, конечно, Арвид, а Мигель отсиживался дома, давал ценные советы и придирался, если покупки оказывались недостаточно идеальными.
Все складывалось хорошо – Арвид регулярно писал свои рассказы, носил их в редакцию, Мигель целиком взял на себя хозяйство, два человека в пустой квартире – это не слишком обременительно. Квартирный хозяин, похоже, не возражал, что русский завел себе дружка. Днем все было отлично, особенно если по горло загрузить себя делами, не давать задумываться. Ночью дела обстояли похуже. Мигель довольно быстро оклемался до такой степени, что перестал после дневных трудов падать и засыпать мертвым сном. Он спал чутко, как раньше, до болезни. Только теперь у него начались кошмары.
К вечеру все дела были переделаны, Мигель положил на поднос бутерброды с оливковой пастой, козьим сыром и ветчиной, заварил матэ в кружке, сунул туда трубочку и потащил все это в кабинет. Эстебан, брезгливо скрючившийся на тщательно протертой подставочке, по обыкновению уставился на него в упор. Арвид сидел за печатной машинкой и лениво перещелкивал каретку туда-сюда.
– Не пишется? – Мигель поставил кружку слева, тарелку справа, а поднос забрал себе. Если русского не покормить на ночь, он будет мрачно пытаться писать до середины ночи, потом разозлится и станет ходить туда-сюда, потом швырнет картонной папкой в стену, а с утра будет раздражительный, как сам дьявол, который явно ему родственник.
– Ни черта не пишется, – Арвид не глядя протянул руку, взял бутерброд и откусил. – Ничего, посижу, подумаю, к утру чего-нибудь рожу. Спасибо, детка.
– Я спать пойду?
– Угумм…
Мигель осторожно вышел, прикрыл дверь, вернул поднос на место. Для сна Арвид уступил ему диван, а сам спал в кабинете, оттащив туда запасной матрас и накидав сверху пледов. Ужасно хотелось выпить кофе, но Арвида так застращала сеньора Роха, что он до сих пор норовил питать подраненного революционера вещами исключительной полезности и невкусности, а кофе и вовсе не покупал, из-за чего сам же первый и страдал.
Мигель поймал себя на мысли, что легкий подход Арвида даже к самым страшным вещам произвел в его несчастной голове некоторую собственную революцию, и он, пожалуй, даже может думать обо всем, что с ним произошло, с нужной долей отстраненности. Он привычно разделся, натянул старую выношенную Арвидову футболку, заполз под одеяло и уснул, прислушиваясь к стрекоту печатной машинки.
Почему-то сразу после побега кошмары не снились. Ждали, наверное, удобного момента. “Предатель, - сказал Эдоардо, шамкая синими закоченелыми губами. Вместо верхней части лица у него была кровавая дыра с вывороченной носовой костью. - Трусливая крыса. Поцелуй меня, крыска, ты ведь так здорово это умеешь...” Мигель отступал от него по скользким от воды и дезинфектанта плитам, пока не уперся спиной в стену, стена проступила ячеистой железной сеткой, накренилась – и как-то подсунулась под него – и оказалась остовом кровати без матраса, обмотанным проводами. Мигель привычно закричал и так же привычно почувствовал на горле кожаную удавку солдатского ремня, щекой – ячеи сетки, на плечах и бедрах – чужие, горячие и мокрые, руки. Он захрипел, безнадежно дернулся, слабо царапая ногтями край рамы. В который раз провалился в тошнотворное кружение, разноголосый смех, боль, гнусное хлюпанье – этот звук, он был хуже всего, хуже боли. Снова открыл рот, мучительно и немо, как рыба, потому что удавка мешала вдохнуть. Эль Пульпо по-хозяйски схватил его за волосы, дернул, заставляя открыть рот еще шире, Мигель взвыл, изо всех сил рванулся и вдруг сел на полу, в скомканном ворохе одеяла и простыней. В висках стучало, перед глазами плавали красные пятна, в горле пересохло. Он с тупым удивлением огляделся, вокруг было темно, тихо, безопасно, в окне слабо синело предутреннее небо. Он упал с дивана.
Дверь кабинета тихонько открылась, в проеме обрисовался темный силуэт – не такой, как те, нестрашный. Знакомый.
– Эй, Мигеле, опять приснилось?
– Нет, я нечаянно упал, – быстро соврал Мигель. – Все хорошо, я сейчас лягу.
Сердце колотилось как сумасшедшее, а в горле застрял сухой ком. Ему вдруг невыносимо захотелось пойти в ванную, взять пемзу и тереть ей кожу, пока та не сойдет вся.
Арвид постоял в дверях, потом вздохнул, неслышно подошел, поднял Мигеля за плечи, сунул ему в руки скомканное одеяло.
– Пошли, подпольщик, со мной ляжешь. Орешь по ночам как резаный, соседи скоро полицию вызовут.
– Но…
– Топай, говорю. Имею я, в конце концов, право на миленького маленького революционера в своей койке?
Мигель вздохнул и пошел за Арвидом.
***
В первый раз проснувшись от вопля Мигелито, Арвид кинулся в комнату как сумасшедший. Решил почему-то, что с балкона к ним забрались… те самые ребята, с виллы. Никого, конечно, не было, только сон, только дурной сон. Битых два часа потом Арвид сидел рядом и гладил его по голове, по плечам, по спине, стараясь не задеть подживающие рубцы, прижимал к себе, что-то шептал, уже сам не помня что, пока тот, наконец, не задремал снова. Что приснилось, Мигель не говорил, а Арвид не спрашивал. И так ясно. Про то, что было в подвале, или где там его держали, мальчик рассказал достаточно, хотя и без подробностей. И никогда – про то, как они там оказались, он – и те, кто были с ним. Про его товарищей они тоже не говорили никогда – молчал Мигель и о том, что с ним было до того, как ушел в Сопротивление. Однажды Арвид вскользь заметил, что мог бы, например, послать открытку или там позвонить ему домой – просто успокоить родителей, что жив их цыпленочек. Мигель покраснел до ушей и сказал, что ничего такого делать не надо. Он сирота. В сущности, обоих это устраивало: меньше знаешь – крепче спишь. Еще пару раз Арвиду удалось его худо-бедно успокоить после кошмара, а потом Мигель просто приходил в кабинет, садился на пол и приваливался кудлатой головой к Арвидовым коленям. «Ммммм… ну надо же, какие в Чили ручные подпольщики!» – приговаривал Арвид, трепля его по волосам. Мигель жался к его рукам и ничего не отвечал. Даже, кажется, не улыбался. Но это было ночью, а днем Мигель методично превращал жилье Арвида в сияющий храм порядка. Арвид пытался свирепо огрызаться, загонял Цыпленочка обратно в постель, но однажды тот, глядя ему в глаза, бесхитростно спросил: «Арвид, если ты помрешь тут от… сепсиса и гастрита, куда я денусь? На виллу «Глория»? Вот спасибо!» Потому пришлось плюнуть и смириться: пусть делает, как ему лучше, ибо каждая зверюшка лечится своей травкой. Мигелито хлопотал на кухне, мыл-чистил-скоблил, сервировал ужины и обеды, составлял список продуктов, которые надо купить, и даже иной раз забывался и начинал вполголоса что-то мурлыкать себе под нос. В общем, они жили довольно мирно, пока не начиналась ночь. Пару раз Арвид предлагал Мигелю ночную прогулку – просто подышать свежим воздухом, походить по району. Тот бледнел и резко отказывался, даже на балкон старался не высовываться – там, на улице, очевидно, была гибельная зона, смерть и то, что хуже смерти. Это Мигель завел определенные ритуалы: в середине дня непременно обоим сесть и выпить чаю, по вечерам, ближе к ночи – три больших бутерброда в кабинет. И при каждом удобном случае – в ванну, мыться и мыться, стирать одежду, просто смотреть, как течет вода. Арвид купил ему на распродаже здоровенную бутыль шампуня – ее едва хватило на полторы недели. Спали они теперь вместе. Мигель сворачивался клубком и прижимался к костлявому боку старого наркомана. Рядом с Арвидом кошмары отступали.
***
В начале октября Юлнайтис окончательно осатанел от Марии, ее товарищей, игуаны, собак и перепадов ее настроения. Мария целыми днями работала и работала, а он, содержанец, сукин сын и старая развалина, хоть бы пальцем о палец ударил. Хоть бы посуду помыл! Хоть бы… сдох уже! Работала Мария в магазине цветов и сувениров "главным цветком и сувениром", как галантно подшучивал Арвид, но вообще-то уборщицей. И еще она наматывала бесконечные цветные нитки – надо было делать неисчислимое количество шнурочков и кисточек на тысячи пончо для тысяч глиняных индейцев. Иногда Юлнайтису казалось, что терракотовая армия индейцев наступает на этот мир, чтобы растоптать его в глиняную пыль. Он уныло помогал Марии мотать кисточки и крутить шнурки, вяло искал постоянную работу – любую, сеньоры, лишь бы платили денег, чтобы хватало на оплату жилья. Жилье принадлежало Марии, они вроде как были любовниками, но давно и неправда. Странного немолодого русского никто не желал брать в штат, работодателей можно было понять – Юлнайтис и сам бы себя не взял. Мария по всем правилам, с диктовками и заданиями учила его языку, долго и терпеливо поправляя ошибки в грамматике (на чудовищную орфографию русского чудака она давно махнула рукой), потом перестала – но учила все равно, так как-то выходило, что разговорный испанский у них приобретал все более и более резкие формы. Когда-то Марию страшно возбуждал старомодный, чрезмерно правильный язык Арвида – еще бы не старомодный, если на кафедре у них преподавала дама, для которой развитие испанского закончилось на Лопе-де-Веге и Сервантесе. Теперь же нелепые обороты, употребляемые русским, бесили ее несказанно, до крика и брани. В брани Юлнайтис благодаря Марии весьма поднаторел. Кроме сотен глиняных индейцев и жирной старой спаниелихи, в доме у Марии жили разные девки и парни: кто-то приходил, кто-то уходил, время от времени какие-то из них становились лицами особо приближенными, все они сперва начинали относиться к Юлнайтису с некоторым особенным презрением молодых хозяев, а потом куда-то исчезали. В прошлом июне любовником Марии стал Артуро – он был перкуссионист и играл на своем огромном узорном джамбее, как темноликий бог. Артуро научил Марию трем вещам: танцевать под джамбей, стучать по маленьким бонгам и колоться. Бонги были забавными, парными, из гладкого белого дерева. Тот, что побольше, назывался Теткой, меньший – Дядькой, их соединяли супружеские неразрывные узы в виде металлических колец на винтах. Мария колотила в них самозабвенно, а гулкий божественный джамбей Артуро оплетал ее суматошный захлебывающийся стук и топил в глубоком рисунке ухающих ударов. Вечерами они брали свои инструменты и выходили на улицу, рассыпая дробные высокие трели, чередуя серии коротких ударов и долгих звуков, всплывающих из глубины джамбея. Потом к ним присоединилась Панча с окаринами и сирингами – и вскоре бонги оказались не у дел. Некоторое время Мария танцевала под окарины с джамбеем, но и тут не преуспела. Героин задержался в Гасиенде дольше, чем Артуро. Юлнайтису, в качестве собеседника и утешителя Марии, первые дозы достались бесплатно. После Артуро был Пабло – пламенный альендовец, потом Крокодил, несравненный варщик, дальше какой-то юный фашист, искренне ненавидевший Юлнайтиса, явного ундерменша, и занимавшийся по утрам с гантелями. Он пожил у Марии, сколько было нужно, чтоб осмотреться в городе, а потом отряхнул со своих черных «гриндеров» прах дегенератов и разложенцев. С каждым новым хером положение Арвида становилось все печальнее, но уходить в никуда он не собирался, а Мария все же не выгоняла его – то ли из бабьей жалости к убогому чужестранцу, то ли из практических соображений: херы рано или поздно исчезали, и тогда именно никчемный русский отбирал у нее бритву, варил кофе и успокаивал как мог. Игуану она завела после фашиста и мстительно назвала Геббельсом. Зеленая тварь расхаживала по всему дому, ненавидела всех вокруг, особенно собаку, и жутко нервировала Арвида. В августе он случайно прочел объявление, что журнал «Калейдоскоп» объявляет конкурс приключенческих рассказов, в качестве награды победителям полагался какой-то вздор вроде постеров, футболок и годовой подписки, а лучший из лучших мог рассчитывать на длительное сотрудничество. Почти неделю Арвид прятался в парке от гнусной игуаны и страстных воплей Марии – ее новый хер отличался неумеренным сексуальным аппетитом, особенно по пьяному делу, – и строчил рассказ за рассказом, словно бы от этого зависела его жизнь. Впрочем, в какой-то степени так оно и было. Отослав пачку листов куда-то к черту на рога и присовокупив краткую историю своей жизни (тщательно отредактированную, конечно), Арвид почувствовал, что сделал все, что мог, и с легкостью позабыл и про конкурс, и про письмо, и про «Калейдоскоп». Каково же было его удивление, когда в середине октября пришел ответ с предложением немедленно приехать в Кильоту на собеседование. Юлнайтис взял с собой портативную пишущую машинку, пару-тройку наиболее ценных своих шмоток и отправился через полстраны. К тому времени Гасиенда окончательно сторчалась и загнила, так что Арвид был готов на все, лишь бы не возвращаться туда. Ответственности за Марию он не чувствовал ни на грош – кто она ему, не дочка, не внучка, не жена… Живет как знает, и на здоровье.
В Кильоте он легко пришелся ко двору, ему порекомендовали дешевую меблирашку в двух шагах от редакции, положили вполне приличный, на взгляд нищеброда Арвида, гонорар и завалили работой по самую маковку. Все это благотворно воздействовало на Юлнайтиса, он слегка приободрился, началась новая жизнь, да еще и так неожиданно. В Гасиенду полетело письмо с тысячей благодарностей за все-все-все, оставленные Арвидом пожитки переходили в полную собственность Марии, впрочем, он не сомневался, что после его отъезда все, что можно было продать, было немедленно продано, а остальное загажено Геббельсом или собакой. Оставался небольшой вопрос: как быть с героином. Арвид разрешил его с истинно Соломоновой мудростью: колоться умеренно, не чаще раза в две недели, без фанатизма, насколько хватит выдержки. “Суицид в ипотеку” – так назывался его способ существования. Гасиенда научила его, как быстро сгорают неумеренные потребители. Жить ему не хотелось, но и помирать раньше времени, да еще столь жалким способом, тоже в планы не входило. Довольно быстро редактор объяснил Арвиду, почему из пачки претендентов был выбран именно он. Просто, Руссито, ты понравился Нуру. Он тоже из России… ну то есть это ты – «тоже», а Нур наш хозяин. И «Калейдоскоп» его, и магазины, и черт в ступе, полгорода у него по струнке ходит. Когда он услышал, что русский подал заявку, то посмеялся, а потом посмотрел твое письмо и велел тебя звать. А ты что думал, Руссито, за талант ты здесь? Ну то есть и за талант, конечно, тоже… Хочешь посмотреть, что нам слали? Арвид вежливо отказался. Нурислам Джанибекович, невысокий спокойный татарин, за пятнадцать лет поставил дело на широкую ногу, Юлнайтису и не снилось, что можно мыслить так широко. Нур несколько раз приглашал Арвида к себе домой, пообщаться. Дом его, настоящая крепость, был построен из крепких каменных блоков, по периметру огражден стенами с электропроводкой, а за высокими стенами был сущий мусульманский рай – с фонтанчиками, розами, бассейном и младыми гуриями. Гурий было не то пять, не то шесть, младшей, Алике, едва исполнилось четыре года, гурии бегали по саду и весело перекликались, звонкие голоса долетали до веранды, где Нур усаживался с Юлнайтисом покурить и перекинуться словцом. Им приносили кофе с ледяной водой, сигары – и они пару часов говорили по-русски, в основном, о всяких пустяках. Потом шофер отвозил Арвида обратно, однажды ребята с точки увидели, как Арвид выходит из машины Нура. С тех пор он пользовался славой вип-клиента и был застрахован от досадных случайностей вроде некачественного товара или внезапного наезда. Раз в год, в сентябре, Нур отмечал день своего рождения, собирая в ресторане сотрудников, кормя их на убой и развлекая праздничной программой. Ресторан, конечно, тоже принадлежал Нуру.
***
Арвид заранее предупредил Мигелито, что нынче вернется поздно, совсем поздно, так что тревожиться не надо: поешь и ложись. Мигель покорно кивнул и слегка погрустнел. В назначенный час Арвид, выбритый, в новой рубашке и вылинявшем джинсовом жилете, поспешал к ресторану, куда собирались все прочие счастливцы, работающие на шефа и удостоившиеся его приглашений. Хорошим тоном считалось приводить с собой жен и мужей, дамы в сияющих платьях впархивали в зал. Интересно, что бы сказали, вздумай я взять с собой Мигелито? Мышонок бы неплохо смотрелся на фоне белых скатертей и хрусталя. Поди, не растерялся бы… официальная часть со славословием, подарками и поздравлениями кончилась, а вечер тянулся и тянулся. Грохотала музыка, вертелись стробоскопы, грязные тарелки исправно убирались, салаты и закуски подкладывались, танцы не прекращались. Арвиду показалось, что среди приглашенных мелькнули те самые кабальеро в блестящих ботинках, но такого, конечно, быть не могло. Или могло?
Дело шло к десерту. Арвид спросил у маленького темноглазого официанта чашечку кофе, ему мигом принесли фарфоровый наперсток, кофе был покрыт добротной кремовой пенкой. «Выпью и пойду, – подумал Арвид. – Хватит уже с меня праздника жизни, пора и честь знать». Какие-то безупречные молодые люди в белых костюмах пересмеивались, поглядывая в сторону столика «Калейдоскопа». Кофе был сварен по всем правилам – горький и крепчайший – аж дух захватило. Арвид пожал руку редактору, поклонился дамам и свалил с вечеринки. На улице было совсем темно. Очевидно, просидел он в грохоте и блеске куда дольше, чем намеревался вначале. Пока искал по ночным улицам, где бы купить сигарет и шоколадку Мышонку, пока добирался до дома, настала полночь. У подъезда щебетала стайка девиц, девки с радостным визгом набросились на соседа-щеголя, беззастенчиво развели его на сигареты и подняли на смех, стараясь выяснить, от какой это красотки он счастливо ускользнул, такой расфуфыренный. Девки были знакомые, свои, контингент сеньоры Рохи. Арвид внутренне сжался, предчувствуя нескромные вопросы, но ни одна не заикнулась о молоденьком раненом постояльце сеньора Руссито. Очевидно, старая ведьма умела держать язык за зубами, благослови ее бог. Мигелито спал, свернувшись на одеяле, не раздеваясь, лицо у него было злое и обиженное. Диван и пол были завалены старыми черновиками, добытыми из мусорной корзины. С чистой стороны листа скалились, извивались, перетекали и впивались друг в друга самые кошмарные порождения ночного бреда. Клювы, щупальца, чумные бубоны и разодранная до кости плоть – наскоро очерченные черной шариковой авторучкой, особенно отвратительные в своей срамной натуралистичности. Арвид присвистнул, собрал рисунки в стопку и отнес в кабинет.
“Слушай-ка, старик, тут для тебя подарочек. Этот твой хрен с горы, который нам малюет всякую херню, ты же сам говорил, что он тебя уже достал, да что же с ним делать. Ну так гони его с чистым сердцем. У меня тут образовался выход на одного хорошего и, главное, некапризного мальчика, рисует зашибись, в нашей теме абсолютно. Попробовал я к нему подбить клинья – типа, как насчет подработочки, а он возьми и согласись. Я честно даже не поверил, что такому клоповнику, как наш “Калейдоскоп”, может так круто подфартить. Ну я тут распушился, скосил глаза, говорю, ну вообще-то надо посмотреть, что еще скажет редактор, но мне как автору импонирует ваше видение... И прикинь, он согласился сделать тебе пробные эскизы. Я попытался его развести на понтах, чтоб типа прямо полноцветную иллюстрацию на обложку, но он замялся и сказал, что по эскизу и так все видно, имея в виду, что наебалово не прокатит. В общем, правду сказал, но цену за себя назвал скромненько так, по среднему разряду, а сам, между прочим, крутой академист с дипломом. Просто с детства балдеет от комиксов. Так что ты меня должен на руках носить и выплатить премиальные, хрен бы ты без меня такое чудо оторвал. И знаешь, кажется, он НЕ ПЬЕТ - и не колется. Ты только не думай, что я обдолбался и гоню. Все правда. Ну ясное дело, это будет стоить денег. Но вполне корректных денег даже по сравнению с тем, помнишь, чудилой, который пытался впарить нам перерисованного Диснея. Так что телеграфируй, телефонируй, пока этот лох не ушел в чужие сети. Он просто еще себе цены не знает, а как узнает, так бы нам его и не сцапать, так что давай, чувак, шевелиться. Хе-хе-хе.
Твой А. Ю., торчок и кабальеро“
***
Мигелю снился Сантьяго, грязный, прекрасный и сумасшедший город, как шрамом, перечеркнутый рекой Мапочо. Художественный коледж располагался в переулках за Ла Монедой, до переворота Мигель любил туда ходить пешком, после занятий подолгу сидел на площади, делая наброски в толстой склейке. Ему нравился запах графита, мягкой бумаги, припрятанного в кармане свертка с маминым хлебом и парой фаршированных блинчиков. Он проводил на площади остаток дня, почти до вечера, особенно летом, после январской сессии, рисовал, бросал голубям крошки и вдыхал запах смога, сухой пыли и разогретого камня. Потом можно было собрать вещи и неторопливо возвращаться домой, наслаждаясь ночной прохладой. Чуть подкрашенные акварелью наброски иногда покупали туристы во время ферий, мама радовалась – лучше бы, конечно, стал гончаром, как старший брат, но художник – тоже хорошо, почетно. После убийства президента все стало не так. Но во сне Сантьяго был прежним, он шумел, бурлил, благоухал и вонял так, будто бы ничего не произошло. Звенели автобусы, перекрикивались женщины, вдалеке, в красноватой дымке, над крышами зданий, вырисовывались горы. Все было хорошо.
– Эй, Мышонок, сколько можно спать? – глуховатый голос русского вытянул его из сна, как удочка. – Я к тебе с подарками.
Мигель открыл глаза, по привычке подтянул сползшее одеяло до подбородка. Арвид сидел на краешке кровати с пакетом в руках.
– Вчера вернулся, смотрю – а мыши-то рисовать умеют, и недурно! Что ж раньше не сказал? Я утром сходил в магазин, купил тебе всякого – теперь не так скучно будет сидеть взаперти, а то все, что можно, ты уже отдраил.
Мигель сонно буркнул русскому “с добрым утром”, потянулся к пакету. Даже странно, что руки снова взяли карандаш и бумагу, он думал, что больше никогда не захочется. Жадно заглянул внутрь, насупился, потом все-таки сел и высыпал содержимое “подарка” прямо на одеяло. Эх… Впрочем, чего ждать от местного магазина канцелярских принадлежностей. Перебрал карандаши, раскрыл альбом с корявой палитрой на обложке. Ну хоть что-то.
– Спасибо, – сказал он вежливо, стараясь не показать разочарования.
Годится? Вот и хорошо. Видишь ли, мне тут подумалось: ты б намалевал чего в нашу редакцию? Хороший художник всегда пригодится. Я тебе и краски купил.
– С… спасибо, – Мигель прокашлялся, прогоняя утреннюю хрипоту. – А что рисовать?
– Людей умеешь? Про чудовищ я уже понял. Девку с сиськами или там мужика с ружьем?
– Немного умею, – Мигель распаковал картонную коробку и поковырял пальцем сухие рубчатые таблетки акварели.
– Чего мрачный такой?..- начал заводиться русский. – Я, конечно, понимаю, негоже художнику и революционеру пачкать кисти о блядей из второсортного чтива, но я вот, как видишь, ничего, пишу, не ропщу… Что просят, то и делаю...
Мигелю хотелось швырнуть ему в голову коробкой с красками, а потом еще альбомом и пачкой бесполезных твердых карандашей, но он сдержался. Нельзя проявлять неблагодарность.
– Арвид, я что угодно нарисую, просто не подумал, что вам в журнал кто-то нужен. Мне не трудно.
– А что ж кислый такой?
– Я не кислый. Я только проснулся. Ты хорошо повеселился вчера?
– Неплохо.
Вот и хорошо. Давай завтракать? Я потом сделаю все, что скажешь. Очень чаю хочется.
Русский был прав – хватит сидеть у него на шее и есть хлеб бесплатно. Еще бы объяснить ему про материалы… Вряд ли главному редактору понравятся рисунки, сделанные в детском альбоме. С другой стороны – хорошая бумага стоит денег, и краски, и даже ластик.
Скажем, если купить один приличный мягкий карандаш и три-четыре основных акварельных цвета, можно неплохую обложку сделать. Толковый рисовальщик даже с таким набором вывернется. Придумав выход, Мигель повеселел и пошел готовить завтрак.
– Не вопрос… Кушай. Я не хочу…
То ли вчера он основательно перебрал, то ли его все-таки догнало и накрыло, но дело было плохо. Голову знакомо покалывало, перед глазами собиралась привычная хмарь. Хотелось радости, удивления, может быть, восторга… А мальчишка так уныло копался в ярких новых карандашиках – будто ему принесли пакет ржавых шестеренок пополам с окурками. Чтоб не взорваться, не заорать, Арвид встал и ушел к себе, закрыл дверь, за окном опять шел дождь. Проклятый тягучий дождь. Что за страна – сентябрь у них зимний месяц. И впереди еще длинный, тоскливый день. Тысяча сотый скучный день престарелого ублюдка. С этажерки улыбнулся его мертвый лысый кот: ну что, друг, не пора в Страну чудес? Горелка и ложка взглянули с надеждой: возьми нас! Мы тебе пригодимся, мы тебя любим! Зачем тебе это все? Зачем пошел с утра в этот чертов торговый центр, грохнул кучу денег напрасно? Никому это не нужно. А на нужное теперь просто не хватит. Пойти вниз, отыскать этих, уболтать на кредит? Не дадут… Я бы не дал…
Если героинщик пытается уболтать продавца на кредит, то все, считай, ты уже кончился. Как бы ни старался, как бы ни врал себе, что ты не такой, ты просто хочешь… ну просто надо… Эх, Эстебан. Хорошо тебе, у тебя глаза пуговицы. Разнести бы здесь все к чертям – и себя самого, но не хотелось вставать и шевелиться.
Мигель проскользнул в щелочку, почти не открывая дверь. Остановился, удивился… Подошел и положил руку Арвиду на плечо: «Пойдем, я чай сделал, бутерброды… Ну зачем тут сидишь?» Рука у Мышонка была теплая. Сырой холодный воздух – и такая теплая рука. Арвид осторожно стряхнул ее, не хватало еще, чтобы этот сопляк полез его жалеть. «Ты обиделся? Ну Арвид… все не так. Это отличная идея, я просто хотел… ну понимаешь… в Сантьяго этим не рисуют, чтобы за деньги там… для портфолио… Но если твоему редактору сгодится… Арвид…»
Мигель сник и стоял совсем потерянный. Бедный мышонок в старой футболке. Дитя, запертое в лабиринте, кругом ходят минотавры, а в центре лабиринта я – человек-воронка, высасываю радость и устраиваю истерики с утра пораньше. Могу и убить, наверное. По крайней мере, могу все вымазать говном, потому что я человек-говно. То-то у меня так ловко выходит ляпать номер за номером. Бежал бы ты отсюда, глупый мышонок, но куда тебе бежать – тебя за дверью ждут котищи с железными когтями, не Эстебану чета. Арвид тяжело сглотнул – опять тошнило, нельзя было вчера столько жрать! Не с нашей печенью! – и похлопал Мышонка по плечу. «Все хорошо, Майки-бой. Пойдем пить чай. Все русские пьют чай. Все русские ебанутые. Не бери в голову!»
У Мигелито смешная круглая голова и круглые, почти черные глаза под густыми ресницами. У Мигелито черные брови на коричнево-зеленоватом лице. Мигелито вечно пытается куда-то приткнуться, раствориться между стенами, спрятаться в щелку. Он сворачивается в клубок, накрывается с головой какими-нибудь простынями и только так может заснуть, и никогда не выходит на улицу, даже к двери на лестницу старается не подходить, даже на балкон не высовывается. У Мигелито крепкие сильные пальцы – сильнее, чем у Арвида. Он легко свинчивает заржавевшие крышки с банок, не поддевая их ножом. Мигелито почему-то выжил, хотя у него не оставалось ни одного шанса. И тогда добренький Боженька там, на небеси, придумал остроумную комбинацию. Он сгреб их в одну коробку – типовую ободранную бетонную коробку – и посадил за дверь кота-мясника, чтоб мышонку нельзя было удрать от вялого ужа-наркомана. Но уж не ест мышат. Ужа самого давно съели. Боженька ничем не рискует – Его живой уголок по-прежнему перед Ним, в целости и сохранности.
***
Вид у русского был совсем скверный, краше в гроб кладут. Под глазами – коричневые тени, губы обметаны, прядь серых волос прилипла к взмокшему лбу. Он то и дело нервно сплетал и расплетал пальцы, будто душил кого-то. Мигель вспомнил, как терпеливо ждал его с вечеринки, и злился, и ходил из угла в угол, а потом взял какие-то старые черновики и стал рисовать набросок за наброском, стараясь пересадить на бумагу чудовищ, прочно поселившихся в голове. Получалось все страшнее и страшнее, а потом он заснул.
За окном хлестал дождь, тугими, сплошными струями, как из ведра поливали. В такое время переполняются ливневые стоки и по тротуарам течет мутная рыжая вода, крутит мусор, сбитые дождем листья. Тяжелое время. Самое плохое.
Мигель погладил Арвида по жилистой руке, стал извиняться, разулыбался, потом с уговорами усадил того в кресло, принес плед, теплого чаю. Не стоит, конечно, сидеть в той комнате, где стоит горелка и лежит коробка со шприцем, будет наводить на нехорошие мысли, но может, ему просто дурно после вечеринки…
Мигель где-то слышал, что наркотики можно бросить, главное, чтобы хорошие впечатления и постоянная забота. И сильная воля.
Он не знал, сильная у Арвида воля или нет.
Невыносимо было думать о том, что однажды он найдет в комнате остывающее тело. Потому что потом надо будет выйти на улицу, как-то связаться с друзьями русского, потом ехать в Сантьяго, быть под открытым небом, среди людей… когда среди ночи его одолевали такие мысли, Мигель сжимался под одеялом и начинал молиться, торопливо и бессвязно, как в детстве. Он даже не знал, чего просить, только бормотал “Господи, Господи”. Русский спал рядом, к середине ночи становился холодным, как змея, покрывался испариной и тоже что-то бормотал во сне.
Через некоторое время Арвида удалось отвлечь разговорами и обсуждением, какая у них будет хорошая жизнь, когда Мигеля возьмут работать в редакцию. Он выпил несколько глотков чаю и перестал трястись. Мигель сбегал в другую комнату, притащил карандаши и краски, налил воды в банку и примостился на полу, приспособив вместо планшета кусок оргалита. Сделал несколько набросков – дерево с козой, смеющаяся девушка, собака, прыгающая через забор. Потом подумал и собаку покрасил. Акварель была ужасная, со слабым пигментом, сухая, но Мигель доблестно с ней сражался, и получилось даже прилично. Арвид заинтересовался картинками и даже начал шутить, блеклые глаза осветились.
– А танки всякие умеешь? Героя с автоматом?
– Да мне все равно, что рисовать. На танк только посмотреть хорошо бы.
– Нур любит военные картинки, – Арвид покрутил в руках мокрый листок. – Тебе главное – Нуру понравиться… Тогда и деньги на краски будут и на все остальное. Штаны тебе купим. Новые.
– Мне и в твоих хорошо.
Старые Арвидовы джинсы обрезали по росту – и с ремнем получилось отлично, а на улицу в ближайшие сто лет Мигель ходить не собирался.
Они до вечера просидели в кабинете, Мигель несколько раз приносил чай, менял воду в банке, изрисовал кипу бумаги – даже руки устали с отвычки. Арвид все порывался рассказать про Нура, великого и ужасного, но Мигелю почему-то было неприятно про него слушать, и он старательно переводил разговор на другие темы. В конце концов вылепилось несколько хороших набросков, Арвид дождался, пока они просохнут, убрал в картонную папку и расслабился. Сказал, что с утра отнесет в редакцию, покажет там кому следует.
Надо было ложиться спать, Мигель ушел на свой диван, долго лежал без сна, смотрел в потолок, слушал шум дождя за окном. Повздыхал, покрутился, потом взял подушку и просочился в кабинет. Все это повторялось из ночи в ночь, он каждый раз честно пытался уснуть на своем месте, только никак не получалось. Наверное, можно было бы сразу устраиваться на груде пледов и одеял, из которых русский свил себе гнездо, но по какому-то молчаливому уговору Мигель сначала уходил к себе. А потом, если совсем не засыпается, вроде как можно…
Совместная их жизнь была странной, как сухой морской конек. Все ненормально.
А сам-то я нормальный разве? – спросил себя Мигель, заползая под одеяло и устраиваясь под боком у русского. Тот лежал скрючившись, время от времени сглатывал – видно бок ныл. Мигель повозился, потом протянул руку, прижал к больному месту. Русский замер, потом что-то пробормотал неразборчиво, напрягся.
Мама так делала, если болит. Теплое помогает.
Русский ничего не ответил, но дышать стал ровнее. Держать ладонь было неудобно, но Мигель старался.
– Как думаешь… возьмут мои картинки?
Арвид долго молчал, Мигель подумал, что уснул. Потом ответил, что не знает, и накрыл его руку своей.
========== 4 ==========
Что произошло в Сантьяго в 1973 году, Арвид так и не понял. На те поры он еще не очень разбирался в политических делах, кроме того, аккурат в июне Мария в первый раз послала его лесом, и свободный, хотя и опечаленный, Арвид чрезвычайно увлекся одной милой Амандой. Милая Аманда все имевшееся в наличии время занималась тем, что изводила Арвида, то приближая, то отстраняя от себя, а потом отправилась с ним в путешествие стопом, имея в мыслях добраться до Перу и научиться там инкской манере пения, как Сумак. Ничего из этой затеи толком не вышло, но факт остается фактом – в стране произошла революция, путч, террор, а Юлнайтис, как и вся Гасиенда, почти не обратил на это внимания. Ну что-то дешевело, что-то дорожало, волнами шли какие-то социальные истерики, поговаривали о каких-то ужасах типа стадиона-концлагеря, где студентов растаптывали сапогами и били прикладами, но толком никто ничего не знал, да и не хотел знать. Осталось только смешное словосочетание «марксистский мусор» - в Гасиенде так называли любую дрянь, которую можно было сдать за деньги, – например пустые бутылки или жестянки из-под колы. Дрянь, которую только выкинуть и оставалось, называлась «генетическим мусором». Теперь «марксистский мусор» спал на его кровати, приносил ему чай и бутерброды, встречал его резким тревожным взглядом, а потом улыбался. Арвид чувствовал, что постепенно прикипает к нему, и отлично понимал, что делать этого нельзя ни в коем случае. При первом же удобном случае Мышонка надо будет убирать отсюда, увозить прочь из Кильоты, куда-нибудь в безопасность, где его никто не знает и не ищет. В том числе и от него, Арвида из Гасиенды, потому что никогда еще и никому не доводилось слышать, чтобы кто-то жил с нарком и не подсел заодно. «Какой ты нарк, барахло одно, стыдно сказать!» - говорил внутренний голос. Тот же самый голос однажды убедил Арвида, что нет в этом мире вещей, которые стоили бы плеска Цветного моря, а если и есть, то не ему, рухляди, на них заглядываться. Тот же самый голос, который уговаривал его спуститься вниз и поклянчить в кредит. Голос этот был очень хорошо знаком, лучше, чем бы хотелось.
Мигель заботливо прополоскал дурацкую кисточку, набрал краски на волосяной хвостик, и в два штриха раскинутая, длинная безнадежная пустыня засверкала желтым песком. По пустыне яростно и стремительно катился живой танк, злая железная тварь с красными глазками. Мигель рисовал, поправлял, что-то соотносил, шепотом, про себя, ожесточенно ругался на краски, на непослушную кисть. Танк ухмылялся и рвался с листа. Арвид сел поудобнее и залюбовался своим подпольщиком.

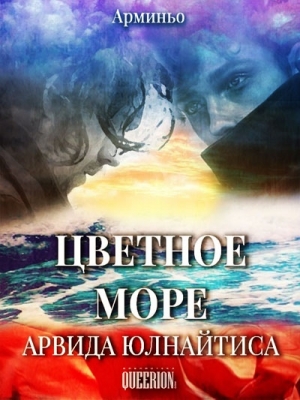


4 комментария