Гарбер
Мексиканец
Аннотация
"Историю дружбы, потом любви двух ребят, Лапа и Дюка, раскрывается как история становления характеров этих людей, история их вхождения в общество, их социальной «прописки».
...в «Мексиканце» без всяких ужимок и оттопыренных пальчиков, безо всякой гламурной подливки рассказано — ПОКАЗАНО! — как это все бывает в реале. Как двое могут социально и материально встать на ноги, образовав то, чем грезит теперь уже и наше гей-сообщество: гей-семью."
Cyberbond
"Историю дружбы, потом любви двух ребят, Лапа и Дюка, раскрывается как история становления характеров этих людей, история их вхождения в общество, их социальной «прописки».
...в «Мексиканце» без всяких ужимок и оттопыренных пальчиков, безо всякой гламурной подливки рассказано — ПОКАЗАНО! — как это все бывает в реале. Как двое могут социально и материально встать на ноги, образовав то, чем грезит теперь уже и наше гей-сообщество: гей-семью."
Cyberbond
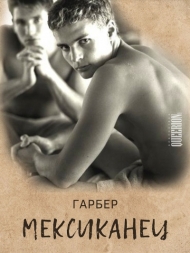 От автора.
От автора.Истинная дружба и настоящая любовь чувства одинаково трудные. Иногда даже неразличимые.
Надо ли различать - автор не знает.
***
- Глянь, мантрипома какая, - сказал Дюк, и вытянул ноги под новенькой партой. Дал удивлению простор – на сто восемьдесят своего не дошедшего до предела роста.
Школьная мебель рванулась вперед от толчка, оставляя на новом, в коричнево-желтую шашку, линолеуме первые полосы. Локоть сорвался с опоры, и телефон, недавно подаренный матерью к началу учебного года, выпал из рук – Лап чертыхнулся. Сложился и цапнул потерю на самом излете, кувыркнув пару раз.
- Хватит рушить тут все, - он вернулся на место, крутя аппарат, - чуть агрегат мне не грохнул.
Черный кирпич телефона катал по экрану большие шары, те рассыпались обо что-то невидимое – на все это можно смотреть бесконечно, теряя минуты. Этого Лап не любил, обнаружив другое, поинтереснее - дверь в их одиннадцатый (жёлтую, словно курильщика клык) победил неожиданный кариес: свежую краску испортил непривычный для всех силуэт.
Человек был новым. Он стоял, прижимая к себе ветхозаветный портфель, озираясь в поисках свободного места.
Выглядел силуэт филигранно, иначе не скажешь.
Из косого, дубовой коры пиджака (с квадратными, ёлки, карманами!) свежей бумагой торчал воротник белоснежной рубашки. Сверху как будто логично росла голова: волосы, смоляной одуванчик, напоминали парик.
Оранжерея безумного гота на этом не вяла - тупые ботинки пришельца распускались цветами - шнурками, на толстых носах озерцами`мерцал гуталин. Широкие брюки свисали плакучими ивами над темной водой. Не доставая.
Дополнялся винтаж, как уже говорилось, портфелем с застежкой, отвисшим до полу на кожаной трубочке- ручке. За такую цеплялись, наверное, в шестидесятые физики-лирики -ядерщики, или какие-нибудь бюрократы советской эпохи.
Вид у новичка был заранее затравленный.
Класс, девятнадцать расслабленных организмов, воззрился туда же, куда и Лап. В пахнущем краской воздухе назревало приветствие.
- Наука умеет много гитик**, - резюмировал Дюк. Так он всегда говорил, когда удивлялся. – Просто красавец.
Лап всмотрелся. За спиной новичка запорхали силуэты многочисленных родственников с большими глазами, характерными лицами и в немодной одежде; нотные станы прочертились на крышке рояля коротким этюдом, круглый стол потерял очертания под излишком посуды. Запахло лекарствами.
Лап поморщился.
- Скорее, генетик, - привычно поправил, и убрал телефон. Довольный мобильник отправился греться бедром, хозяин его близоруко прищурился и предположил:
- Это, наверное, еврей.
Друг согласно кивнул и вопросительно посмотрел на товарища. Тот вздохнул:
- Да. Труба ему тут.
Дюк подумал, взялся за парту, и с грохотом двинул обратно. Из расстегнутого рюкзака зеленел переплет толстой книги. «Что бы такое, - он стремительно соображал, - чтобы не очень...»
И сказал, пресекая нарастающий шёпот своих одноклассников:
- Откуда ты к нам, Мексиканец?
Класс взорвался. Веселились вовсю, предвкушая потеху - прозвища Дюком давались навечные, и прилипали, как правило, намертво.
- Нормально, - тихо одобрил Лап,- классика, блин.
Он знал, что товарищ читает сейчас Джека Лондона. Мексиканец вполне подойдёт.
Но, разумеется, были досадные мелочи..
- Да какой он тебе мексиканец, - сквозь шум проорал Саня Рэпмен, - мексиканцы-то желтые, а этот бледный... Не, не катит, Дюк! Он же жид, е-мое...
Парень у двери качнулся.
- Обоссым - будет желтый, - отрезал крестный отец, - он Мексиканец. А если короче, то – Мекс.
Всё это время новенький стоял напряженно, он даже присел в ожидании, как отловленный кот. Снаружи его раздирали недобро стаккато-глаза, в уши бились сошедшие с ритма литавры, визжала какая-то скрипка… диссонанс, какофония, как пережить её…
Мексиканец поджался, пережидая оркестр, понимая – уйти невозможно, возврата не будет. Спина повлажнела, от слез, вероятно, так тоже бывает.
Адский оркестр понемногу примолк, становясь равнодушным к концерту. Он быстро забыл про немого солиста, нелюбопытный; лишь изредка взвизгивал где-то в углу, возвращаясь в свои берега.
Нерешительно помаячив с минуту, Мексиканец повернулся туда, откуда его окрестили. Размороженный взгляд зафиксировал: пацаны на "камчатке" продолжали за ним наблюдать - пристально, но почти без издевки. Сидели они на трех сдвинутых стульях, расслабленно и привалясь – как хмельные геологи у лесного костра.
В слегка ироничных усмешках парней не хватало больших папирос, а для фона - таёжного смолистого дыма.
Наверное, это были басы, спокойные волны которых его подхватили. Ровный фон, неподвластный ошибкам. Валторны, быть может? Их мало в оркестрах.
« Да»,- сказал он себе, но его вдруг позвали.
- Слышишь, мальчик, - пропело девичье и бархатное,- иди-ка сюда, садись.
Сочного вида брюнетка из среднего ряда вальяжно пришлепнула стул. Мекс, не сгибая коленей, пошёл.
- За что,- шепотом сказал он себе, - как они смеют...
Брюнетка смешливо сощурилась, окинула домашнего мальчика опытным взглядом.
- Придурок, - сказала она. – Дюк тебя спас. Теперь тебя не задразнят. Ты – Мексиканец.
На этом пока поутихло – Мексиканец застыл рядом с девушкой, еле-еле пристроив чудной саквояж, и временно замер.
А брюнетка мгновенно забыла о нём, обессиленно плюхнувшись грудью на жесткую парту. Снова сделалось скучно,внутренний жар её требовал выхода и приключений. Вместо этого приходилось ходить в эту школу, плющить задницей стул, а отныне еще и делить суверенную площадь с существом непонятного рода. Она бы не дернулась даже, если бы не Дюк. Сам Дюк.
Как можно изящнее Сергеева подперла щеку рукой, и слегка пригорюнилась.
Дюк - именно он был причиной, по которой она и осталась в ненавистной школе после девятого класса.
***
Тогда было лето, влажное марево и отсутствие любых удовольствий. Развлекала лишь мысль о комедии, в которой Сергеева будет участвовать: забирая свои документы из школы, она обнаружит, что в классе её обожали до скрежета, ученицей она была редкостной, и вообще жалко вот так расставаться. Ей ясно представилась красноватая мордочка классной руководительницы по прозвищу Турандот, ну и славная добрая ряшка директора Николаича, который непременно полезет потискаться. Этот цирк, да на полном безрыбье, слегка веселил.
Сергеева четко гвоздила нагретый асфальт высоченными "шпильками", проходя вдоль сплошного забора с красными буквами «Автосервис». Со скуки она почитала с него разнообразные свежие новости, убедившись, что Михеева из десятого «А» все же сука, а «Nirvana» зе бест. Дорога до школы вдоль сервиса считалась короткой, и , кроме того, Сергеевой всегда интересно мечталось на этом пути: за забором таились машины, опасно присевшие перед прыжком. Мускулистые звери мерцали глазищами через щель профлиста в ожидании таких же блестящих владельцев – автосервис обслуживал «Мерседесы».
Сергеева шла и мечтала хоть о каком-то из них.
- Зеркал сейчас нет,- раздался знакомый голос, - вы можете сделать заказ. Процедура стандартная, вы ведь у нас не впервые.
Сергеева сунулась в щель – двое беседовали около алого, редкого колера, зверя .
- Редкий оттенок,- продолжал паренек, - можем сейчас поставить временное, чтобы гайцы не цеплялись. Придет заказ – поменяем.
Хозяйка машины была, вероятно, из обоймы особых патронов, это было понятно. Объяснялась она следующим образом:
- Я что, блин, на фирменном сервисе или где? – завизжала она. - Какое другое? Ты чего меня паришь? Начальство зови.
Солнце мешало Сергеевой, но как-то она поняла, что пацан озорно усмехнулся из-под бейсболки.
- А нет никого, - сказал он, - и зеркала не появятся. Можете подождать пару часиков, будет начальство. Только напрасно, - и он вежливо стал отступать, будто бы потеряв интерес.
- Ты! – заорала клиентка, - хамло малолетнее! Зови мне кого-нибудь сюда! Быстро!
- Всенепременнейше, - вежливо выстрелил парень, сделал паузу и быстро спросил:
- Можно вопрос?
Клиентка встряхнула набитой прической и зарылась в большой ридикюль.
- Мне интересно, - спросил узнанный Дюк, - если бы вы с утра, ну, случайно... положили бы в сумочку помаду не того цвета...
Клиентка слегка приоткрыла свой рот.
- Вы бы вовсе не красились, или бы красились той, что есть?
Сергеева чуть не присвистнула за желтым забором. А клиентка оторопело сказала:
- Кто? Я?
- Ну да, - Дюк доброжелательно ждал, спрятав руки в карманы. Простой такой автослесарь пятнадцати лет.
- Я бы... ну той, что сейчас... А что? – она уязвленно скривилась.
Захлопнула сумку и ехидно, как известная сука Михеева из десятого «А», переспросила:
– Тебе-то что?
А Дюк улыбался.
Соображала фемина не быстро, но все-таки верно.
- Лет тебе сколько, - проговорила она изменившимся голосом.
- Зачем Вам, - простецки спросил её парень, - на работу не жалуются.
Они помолчали.
- Уговорил, - сказала она, наконец, - но цвет все равно подберите, темный хоть, что ли. Что,- потрогала она губы,- совсем не идет?
- Да вообще-то нормально, - сообщил примирительно Дюк и вытащил книжечку с логотипом, - вот, направление. Зайдете в салон и налево к менеджеру. Завтра в шестнадцать заберете машину.
Клиентка взяла листок. Постояла и выдала:
- Как развлекаешься в выходные?
Сергеева даже присела, подвернув каблуки. «Вот же корова старая! Ну ни фига себе Дюк даёт!»
- Мне пятнадцать, - он рассмеялся. – Это ответ.
Тетка совсем не обиделась. Тронула его за козырек бейсболки. Дюк слегка выставил руки, рефлекторно себя защищая.
- Далеко пойдешь, - сказала она, - давай, подрастай.
И они разошлись.
А Сергеева жадно смотрела вослед уходящему однокласснику, так быстро подросшему за одно междушкольное лето, и подумала сразу же, что за документами она не пойдёт. «Потом заберу»,- решила она.
Но так и не собралась. Вместо этого она вот уже второй год изводилась первой школьной любовью.
Мужчин Сергеева обожала. Первого она приняла где-то в тринадцать – в дворовой компании ее познакомили сразу со всем, что так было ей необходимо. Морщась от коньяка с иностранным названием «Московский», отчего-то она понимала, что сегодня - случится. Вопрос, с кем же все-таки из этих троих, совершенно не мучил. Парни были знакомые, сильно постарше, свободная «хата» – была.
Они бы и не тронули её, малолетку, да только Сергеева, прикинувшись пьяной, решила домой не идти, и её приютили до скорейшего выздоровления.
А дальше все было просто. Прекрасно, хоть и на несвежем белье, и больно, хоть и недолго - одновременно.
Репутация ее вовсе не волновала, а романтика всегда наводила тоску. Ей сразу понравилось: наглое, твердое меж её ног, жесткие руки, и – вот неожиданность - настоящее удовольствие! Она родилась с этим, видимо, и поделать ничего тут нельзя, да и надо ли было? Желание Сергеевой было направлено искренне, сразу на всех, в любопытстве ей не было равных, и поначалу давала она беспорядочно - всем.
Она так устроена, думалось ей иногда, этого определённо хотелось, и становилось свободно, по-взрослому радостно от члена в себе.
Но вскоре она определилась с пристрастиями, и научилась отказывать всякой шпане – толку с них ноль, рассудила Сергеева, и перестала давать без разбора. Иногда, в период затишья и месячных, она предавалась мечтаниям - вот бы купить такие трусы со встроенным ***м. Их можно носить постоянно, на физику если прийти, например…
Во все сексуальное варево, в разрыхлённую почву, Сергеева кинула мысли о Дюке. И, как это частенько бывает с такими девчонками, при всей своей бойкости до сих пор не осмелилась донести до предмета любви никакого намека на чувства.
Ну не могла.
Одно дело любить раздвигать, а другое - уметь флиртовать с не очень-то глупым парнишкой. Кто-нибудь, не влюбленный до такой отупляющей функции мозга кручины, придумал бы что-нибудь женское, но оружием Сергеевой была душная томность, телесный контакт и прямые намёки, и все это плохо работало. Кроме того, у неё в голове водрузилось проклятие - шикарная тетка на алом, без левого зеркала, «Мерсе».
Наверное, все это как-то решилось со временем, но была и другая проблема: перед Сергеевой, равно как и перед остальными другими, высилась гладкая толща базальта. Стенка из лучшего Дюкова друга.
Странноватым он считался всегда. Высокомерным каким-то, слегка инородным. Вообще-то в классе его уважали и даже побаивались, никто, правда, не знал,почему. Лапин не слишком вязался с обычной толпой, а его толстым и прочным мостом с одноклассниками был единственно Дюк. Тот всегда находился рядом – очень давно и естественно, к явному удовольствию Лапина. Лапин этот не лез в разговоры, в тусовки, но всегда ощущалось : он держит все то, что касается Дюка, под тихим контролем. Не прорваться.
Устроив на парте тяжелую взрослую грудь, Сергеева исподтишка наблюдала за новеньким, замершим в ожидании не виданных раньше кошмаров.
- Спас? – спросил он с придыханием. – Как спас? Он же…унизил!
Горло его шевельнулось, и он ненароком добавил:
- А я Боря.
Сергеева, презиравшая всякий наив , все же решила, что ржать будет немного жестоко.
- Алёна, - сказала она назидательно. – Видишь ли, Боря…зря ты в нашу школу пришел. Жестко у нас тут.
Боря явно не догонял.
- А что со школой не так? – попытался несчастный. – Я в обычных никогда не учился. Эта первая… нормальная.
-Нормальная, ага, - ухмыльнулась Сергеева, - в нашей школе кто только не учится. Сброд со всего района. Драки у нас постоянно, учти. А есть вообще кадры - молятся посреди урока. Интернационал. А ты, кстати, как к арабам относишься?
Боря молчал, прибитый подробностями. Видимо, ему оказалось достаточно. Но он спросил:
- А у вас класс…как? Тоже между собой?
Сергеева откусила невесть откуда взявшийся заусенец.
- Не, наш нормальный. Дюк все держит.
- Дюк?
- Тот, который тебя окрестил, - Боря стал раздражать. - Звонок будет сегодня?
Мексиканец почувствовал это, но рискнул уточнить:
- А рядом с ним… кто?
Ну конечно.
- Лапин. Они с детства друзья.
Она тяжко вздохнула, и потянулась, оглядев декольте. Скучно все это.
***
Восемьсот шестнадцатая школа считалась заведением с экологическим уклоном. То есть такой, куда славный Гринпис мог закладывать лишние деньги и воспитывать собственных скаутов – но Гринпис почему-то такого не сделал, и школа была специальной только в официальной бумажке, успешно всплывавшей при надобности хитрецу Николаичу, отставному майору и умному, кажется, человеку.
Свою редкую мудрость он частенько вбивал в чисто выбритый череп чудака участкового, не прерывая процесс воспитания сего индивида в рамках необходимой методики.
Крайне важной в предложенных директору обстоятельствах.
.
- У нас, Андрей Иваныч, - объяснял он участковому, - кадры рабоче-мигрантские. Восток-Запад, адская смесь. Тут ничего не поможет, а биографию детям попортите. С кем Россия дерется, с тем и наши дети в школе. И потом, - здесь Николаич строго грозил участковому, - в споре рождается истина. К выпуску все окончательно притираются. Дружат даже, несмотря на религию и всякое там.
Участковый кивал. Он уважал Николаича, а школу в Веселом Поселке, районе культурного города Петербурга, любил – коньяк у директора разливался в кофейные чашки. Родители пострадавших-избитых не особенно напирали с заявлениями, а после общения с директором частенько и забирали, делая нужные выводы.
Не хочешь, чтобы били – есть и другие школы, в конце-то концов. Время такое.
Николаич был бывшим военным, прошедшим советскую армию и понюхавшим много букетов различных конфликтов, и поэтому гражданские драки учеников его не пугали.
Работал он с ними забавно и быстро.
-Перемелется, - говорил Николаич, - четыре медали в этом году.
Участковый сопел, мял дела в синей папке и думал о следующей чашке. Директор выхватывал компромат из изможденной милицейской руки и быстро читал.
- Хех,- говорил Николаич,- Лапин. Лапина никак нельзя, он у нас медалист.
- Он же нос парню сломал,- жалобно возражал участковый, - и это не первая жалоба, сами понимаете…
- Примем меры, - кивал Николаич, - а это кто, Марков?
- Марков, - соглашался, клюя носом кружку, - друг его неразлейный. Может, его привлечем? Он-то хоть не медалист?
- Марков нет,- хмурился директор, - но его не могу. Он мне машину чинит. А ну как мы сами тут проведем работу, а, Андрюша?
- А мне-то что, - беспомощно стонал участковый,- что заявителям говорить? Привлекать все равно придется…
- Да ты привлекай, привлекай, - успокаивал Николаич,- только так, чтоб нигде… Ну чтобы шоу для заявителей и всякое такое. А я поговорю, чтобы ребята извинились там. Школа-то одна. Им же бок о бок сидеть, представляете атмосферу? И с заявителями мы поработаем.
Николаич был не то чтобы очень уж воспитатель. Он был хозяйственник. Умел, например, приструнить педсовет и добыть деньги на новые парты. Еще он умел пить коньяк во многих количествах, не хмелея, что решало вопросы в роно куда удачнее, чем горы бумажек. Знакомства поддерживать тоже умел. Поэтому в восемьсот шестнадцатой сияли стеклопакетами окна, вдоль стен стояли уютные диванчики, а классы не нуждались в ремонте.
- Какой у вас тут, однако, интим, - завидовал проверяющий из санэпидстанции,- развели красоту.
- Школа – второй дом, - банальничал Николаич, - дети тут полжизни проводят. Я, знаете ли, сам полжизни по гарнизонам, и они, знаете ли, тоже успеют.
- И где только деньги берете…
- А где и все. Главное ведь, куда идут, деньги-то. У нас их вон - видно.
«Тот еще жук», - вздыхал проверяющий и ставил нужную подпись.
А сейчас Николаич искал Турандот.
На ловца, разумеется, и бежал этот дивный зверь по имени Надежда Петровна. Она была классным руководителем Маркова- Лапина, по души которых аж первого сентября прибежал участковый. Турандот обнимала охапку первосентябрьских дарёных цветов, и неслась, аки вор, ограбивший палисадник. Толстые ножки Надежды Петровны спешили в любимый одиннадцатый, и она было попыталась схитрить - сделала вид, что не знает никакого директора, бодро срезав открытое место и юркнув на лестницу. .
- Надежпетровна, - рявкнул тогда Николаич,- стоять! У вам там чепе!
- Неужели? Какое? - пискнула Турандот. – Когда же успели?
- Вчера, - Николаич напрасно пытался искать ее мордочку в зарослях, - Лапин и Марков побили Халиловых.
- Понятно, - сказала она, - не очень убили? То есть – какой кошмар.
- Нос сломан, членовредительство.
- Медаль, - Николаич увидел глаза, наконец: Турандот обреченно моргала. Вздохнула и повиновалась:
- Проведем беседу.
В класс она закатилась, тем не менее, веселым вполне колобком, и Дюк отвлеченно подумал: «Венецианов. «Жатва»
Преподша стиснула сено, явив наконец-то лучезарнейший лик, присела и радостно крикнула:
- Ну здравствуйте, мои дорогие!
- Йоу-у-ууу…- нестройно промычал класс, - здрасте, Надежда Петровна…
- Кидайте букет,- съязвил Лап.
Свое прозвище Турандот получила пару лет назад. И, конечно, от Дюка.
- Почему Турандот, - рассмеялся товарищ,- Турандот ведь принцесса. Воздушная вся, как принцессы бывают. А Петровна каток асфальтовый.
- Неа,- сказал тогда Дюк, - тут не каток. Тут больше Александр Матросов, вся энергия на амбразуру какого-то там воспитания. Геройски, но бессмысленно в данном ключе. По дурацки, плюс – дот. Турандот! – выдал он, и прозвище приклеилось намертво.
Пулеметчики в виде тандема Марков-Лапин отбрасывали Надежду Петровну обратно в учительские окопы в течение всех школьных лет. Они не сдавались, строча одинаково дружные очереди, нанося очевидный урон репутации Надежды Петровны, хорошего, надо сказать, педагога и Лучшего учителя какого-то года.
Особенно задевал её Лапин. Этот педагогический промах Надежды Петровны огорчал ее больше всего потому, что, при всех недостатках, Лапин был безупречен в учебе. Поручая классное руководство, ей особо отметили:
- Талантливый мальчик. Обратите внимание.
Турандот обратила – но сам Лапин её, Турандот, не заметил. Он относился к редчайшему виду таких, кому не нужна была школа - учился он сам. Все попытки засунуть его в активисты, щкольные конкурсы и олимпиады он игнорировал, находя безупречные поводы. Это сильно расстраивало Надежду Петровну: сочинения Лапиным писались блестящие, преподаватели химии, физики задыхались в восторге, впрочем, как и все остальные. Все вздохи, однако, ни к чему не вели: киборгом, спокойно крошащим премудрости без особых эмоций был этот Лапин,и в ответ ничего не давал.
Понаблюдав за ним с год, Турандот неожиданно поняла, в чем тут дело – школу ученик презирал. Процесс шел без грубости – Лапин практично использовал все разработки, приёмы, потоки полезной ему информации; извлекал опыт, работая лишь на себя.
Существовал отстраненно – спокойно и вежливо, отбывая свой срок, с презрением подчиняясь системе по суровой необходимости. Наверное, настоящая жизнь Лапина была где-то там, за пределами школы.
Сама Турандот его откровенно побаивалась с самого пятого класса, когда по случайности перепутала египетских фараонов. Хрупкий и ангельски вежливый ученик поднял руку и беспощадно напомнил подробный реестр всех знакомых науке царей, не забыв про цариц, включая совсем неизвестных. С перечислением дат их правления.
- Ты увлекаешься историей Египта? – только и спросила она.
- Нет. Я прочитал учебник, многое есть в нашей библиотеке,- спокойно ответил ей мальчик, – историю я не очень люблю.
Ей было нечего ему дать, а вот сам он её будто слегка контролировал. Турандот пришлось подобраться, освежить память, подтянуться по теме – и оказалось, что это даже полезно.
Другие преподаватели этой участи не избежали. Щадился по какой-то никому не известной причине лишь математик Шнырев, пожилой и усталый, с которым Лапин не спорил, не демонстрировал превосходство, а просто прилежно учился.
Друг его, Марков, был совершенно другим, но легче от этого не было.
Этот читал беспорядочно. Шумный, он фонтанировал бесперебойно, а предмет Турандот будил в нём фантазии даже тогда, когда проходились скучнейшие для всех темы различных политик родимой страны.
- Интересно,- восклицал между датами съездов незатейливый Марков, - а оружие у них забирали на входе? Как вот, допустим, повернулась бы вся эта история, если бы в зале кого-нибудь шлёпнули? Троцкого, скажем…
- Марков, - стонала в ответ Турандот, - это новая тема. В среду будет проверочная.
Она нервно поправляла очки и слышала тихий диалог с «камчатки»:
- Если бы Троцкого завалили, к примеру, то Сталин лишился бы ценного оппонента, - растолковывал Лапин, - он бы, возможно, и не вырос в политика. Мы не имели бы личность. Стратегия исторического процесса предполагала, что…
- Завалили бы Сталина если, - ёрничал Марков, - то не было бы сталинизма…
- Да-да, завалили весь съезд,- злился Лапин. - Отсюда и пляшем – оружия не было. Давай потом.
Но паровоз так свистел, что не слышал стенаний раздавленных:
- Сталин учился у Троцкого, - шипел Марков, - я у Волкогонова читал, у обоих методы одинаковые. Ученик перерос учителя. Я бы стрельнул. Кто мог быть вместо них, как считаешь?
- Не учителя, а соперника, - не соглашался Лапин. – Ты бы и был.
- Да Сталин был темный семинарист по сравнению с Троцким, - горячился товарищ,- ученик!
Турандот оплывала внутри стеариновой свечкой, понимая, как напрасно она пересказывает учебник – историю Марков копает совсем по-другому, и одобренным школьной системой простым заклинанием вряд ли его проведешь.
В отношении этих двоих ей оставалось одно – защищать, ибо хорошим поведением парочка вовсе не отличалась.
Дрались оба жестоко и часто, а причины при этом были неясные.
«Умные же ребята, - недоумевала она, - могут избегнуть любого конфликта. Зачем?»
Драки возникли в десятом, когда из непонятного длинного Маркова за короткое лето получился неожиданно складный молодой человек. Так внезапно, что в школе его не узнали. Хрупкий Лапин оказался пониже товарища больше, чем на полголовы, как и все е остальные ребята. Девочки дружно проснулись, заметив такую добычу: Марков раздался в плечах, оброс каштаново-глянцевой шевелюрой, налился спортивными мышцами. Дело было даже не в этом: от парня вдруг стала идти издевательски лакомая, наглая мужская уверенность, которой он, впрочем, не особо бравировал - оттого, что не знал. Весь этот набор разил безотказно любую нормальную девочку.
Даже Николаич, встретив его в коридоре, брякнул в учительской:
- Марков-то, а? Смерть бабам!
Турандот напряглась было, но дамских истерик, как ни пыталась, не выявила – мальчишки держались по-прежнему вместе, исправно отбывая учебный процесс, одноклассницы дефилировали на почтительном расстоянии. И вообще эта парочка редко задерживалась после уроков, уходя в свою, им одним интересную жизнь.
В классе их уважали – кто за затрещины, кто за единство, а кто и за счастливо списанные контрольные, спасённые тесты, исправленные ошибки в сочинениях – в этом никто не отказывал.
Так они и бродили по школе – выверенный генами родителей, балетных танцовщиков, Лапин и спортивно-расхлябанный Марков, единственный сын пищевого технолога Светланы Сергеевны, бодро тянувшей любимое чадо без мужа с момента, возможно, зачатия – отца его никто никогда не видел.
Будь Марков один, понимала Надежда Петровна, он бы плюнул на школу давно. Но имелся металлический Лапин, который терпеть не желал те моменты, когда друг в безысходности пытался хохмить у доски. Невозмутимый, как правило, Лапин начинал нервничать, ерзать, подсказывать – переживал.
- Я съем тебе мозг, если ты не поймешь,- услышала как-то Надежда Петровна разговор в коридоре, - фиг тебе с гаражом.
- Да нахрен мне алгебра эта, - брыкался товарищ, - у меня голова для неё мёртвая… Мне движок перебрать надо.
- Тело тоже тогда будет мёртвое,- обещал ему Лапин, - подождет твоя развалюха.
- Ты доста-ал, - ныл Марков.
- Не начинал даже.
«Как хорошо, - подумала Надежда Петровна, тактично сливаясь со школьным пейзажем и делая вид, будто не слышала мата,- присматривает за другом. Хоть какая-то польза есть»
А потом она р азгадала и причину частых мальчишеских драк.
В тот вечер она поливала цветы, вяло влача подуставшее тело вдоль широких, заставленных геранями и фиалками подоконников – наступали каникулы, и цветы полагалось полить основательно. Школа застыла, было что-то порядка восьми; сторож, поднявшись к ней на третий этаж, проворчал уже дважды. Света она не включила, опасаясь, что найдет себе еще какое-нибудь занятие, и ее будет точно не выгнать до ночи.
А за окном, как всегда, оживленно .
- Да это же пидармоты из десятого Б, - донеслось до неё через открытую форточку. Турандот взволновалась, любопытствуя и заранее про себя возмущаясь : какие, однако, ругательства!
Людей было четверо – двоих она сразу узнала. Марков расслабленно подкидывал баскетбольный мяч, Лапин, чуть сзади, внимательно оценивал подошедших.
- Что, Дюк, - сказал долговязый, обвешанный модными нынче цепями у пояса, парень, - принцессу выгуливаешь?
- А ты – принца?- невозмутимо ответил тот. Было понятно, что сталкиваются они не впервые.
Второй подошедший презрительно сплюнул.
- Закрыл бы ты хавало, пидар,- сказал он. – Давно в бубен не получал?
- От тебя, вообще-то, ни разу, - парировал Дюк, - напомни-ка. Или сам мечтаешь?
Турандот за стеклом проклинала герани, занявшие весь подоконник, кляла она и стеклопакеты, такие широкие, что цветы проще скинуть - иначе окно не открыть.
- Нет проблем, ты, утырок, - сказал долговязый,- как ты его там называешь? Лапочкой?
Щас поправим табло твоей лапочке, чтоб до-о-олго отсасывать не смогла.
Парни заржали.
- Закройся, - быстро ответил Дюк, резко хватая его за плечо и суя отработанный сильный удар в сплетение. Задохнувшегося встретил коленом в лицо – долговязый взвыл, ухватился за нос, и зигзагами пошел в сторону.
«Почему же Лапин молчит, - метала на парты герани Надежда Петровна, - он же такой разумный и вежливый мальчик! Почему не вмешается?»
Тот действительно просто стоял – только руки достал из карманов широких, сползающих низко на бедра джинсов. Сине-белая куртка светила безмятежным пятном в наступающих сумерках – Лапин был совершенно спокоен и ни капли не возмущен.
Турандот, отчаявшись ставить герани, и предчувствуя что-то, отчаянно задребезжала стеклом:
- Разойдитесь, кому я сказала! – заорала она сквозь окно, но было поздно. Действие за окном было поставлено, не раз уже пройдено, и показано многим. Ребята не нервничали.
Марков приглядывал за выписывающим рваные круги долговязым, а Лапин, подобрав отброшенный другом оранжевый мяч, метким ударом впечатал его в челюсть второго.
Тот взвыл.
- Лапин моя фамилия, - сказал он, с хрустом пристраивая кулак в небритую челюсть, - Лапин, - добавил по печени точно и жестко.
Не ожидавший от хрупкого внешне парнишки этакой злобы, второй только и смог, что закрыться, но все равно пропускал удары.
Со стороны баскетбольной площадки уже шли, ускоряясь, люди.
- Лап, уходим, - схватил друга за куртку Марков, - гопота местная… Сваливаем!
Он с трудом оторвал от жертвы вошедшего в раж товарища и потащил за собой.
Надежда Петровна стояла, крепко обнявши большую герань, и переваривала обычную дворовую сцену.
« Как все дорого стало,- подумала она.- Даже за дружбу приходится драться…»
Додумывать замученным преподавательским мозгом непонятные диалоги или же просто предполагать что-нибудь необычное, Турандот не умела. Мысли её были принудительно свободны от всякой, наводящей тоску, информации. Она долила свою воду, расставила равнодушные к заботе горшки обратно на подоконник, и решила – раз все обошлось, то и думать об этом она не будет. И допрашивать эту пару друзей тоже.
Все-таки она не была Турандот в понимании Дюка. Скорее, Надеждой Петровной, которая инстинктивно приняла всё, как есть, не задавая неловких вопросов. Или сделала вид, оставшись в обычном веселом режиме, не изменив никому. За это одно можно быть благодарным.
Почему- почему…
Потому что, упав на диван в свободной от подросткового хлама квартире, Дюк привычно вытягивал ноги. О драке не думалось - полусидя, он наблюдал за часами, считавшими вечернее время. Но недолго.
Хозяин садился, клал ему руку на живот и спокойно спрашивал:
- Хочешь?
Не дожидаясь ответа, он тянул молнию джинсов, теплой ладонью скользил под тесные плавки, а лицом утыкался Дюку в плечо. Дышал в шею, делал чутко и ловко, настойчиво, нежно. Перехватывал уже налитое, высвобождая из вспотевшего плена, пальцами сопровождал кровоток, лакируя душистой прозрачной смолой набалдашник. Знал, как сжать, когда сделать оттяг, с легонькой болью, повыше, а потом по-спортивному, в темп. После всего - чуть помучить, до конца, не бросая.
Дюк запускал руку в его светлые волосы, придерживал голову, прижимая к себе, безмолвно просил – «не смотри». Задирал повыше футболку – чтобы не испачкать. Вспоминалось вдруг: «Пидары». Но как-то не трогало.
Сам он тоже не видел, обещая себе в какой уже раз – всё, последний. Но, начав задыхаться, всегда понимал, что отказаться от теплой и сдержанной нежности, от родного аромата пшеничных волос он уже никогда… черт... не сможет.
2.
Повелось у них это давно – с тех самых пор, когда Дюк неожиданно вырос, и его взяли поработать на фирменный автосервис.
- Все в отпуску, - сказал дядя Миша, материн хахаль, - даже машины мыть некому. Дача у нормальных людей.
Дядя Миша хлебал окрошку на их маленькой кухне, шевеля покореженным и заклеенным пластырем подбородком. Было понятно, что он так и не освоил святую мужскую науку.
«Умудряется же рожу содрать,- думал Дюк, опасаясь момента, когда ему тоже придется серьезно заняться процессом бритья, - в магазине же куча безопасной приблуды имеется».
Дядя Миша, как суровый мужик, предпочитал опасную бритву. Дюк бы вовсе не удивился, если на роже жующего дяди нашлась бы газета, которой, как он знал по рассказам, в старину залепляли порезы.
- А ты чего шляешься-то без дела, - спросил пожиратель окрошки, - подзаработал бы, матери помог.
Дюк понял намек и пошел в коридор, зацепив ногой мяч по пути. Часов до двенадцати придется гулять, не иначе. И Лапыч уехал до самого августа. Ну и лето.
- Стоять,- снова сказал дядя Миша, - дело тебе говорю. Давай к нам на сервис. Для начала подай-принеси, потом, может, на что и сгодишься.
Работа Дюку сразу понравилась. Машины он понимал и любил. Ему было дано: услышать ненужный щелчок в сцеплении, понять, что за бензин заливал владелец, определить по шуму мотора его механическое здоровье. Это быстро заметили, поручая все более интересное, сложное, и июль пролетел для него незаметно – Дюк был занят и увлечен.
Так прошел бы и август, если бы к ним не приехал Придурок.
Придурок был из тех недострелянных кадров, которые так и не поняли, что время малиновых пиджаков уже отошло. На его «шестисотый» кто-то завистливо скинул тяжелый предмет,смяв дверцу багажника, и Придурок переживал по этому поводу так, словно его самого отымели как минимум семеро.
- Мой маленький,- гладил он «мерина» по черному боку,- раненый мой пацан.
Багажник ему поменяли, а Дюку оставалось вымыть машину и отогнать на площадку, что он и сделал, тщательно наведя лоск на любимое чадо Придурка.
Хозяин был явно не в духе, несмотря на воссоединение. Он вырвал у Дюка ключи, словно боялся, что тот перемажет их скверной плебейской, и полез проверять.
- Вечно насрете,- гудел он, выметая одному ему видимый сор из салона, - ****есь в машинах, небось, на ремзоне.
Дюк благожелательно ждал, не вступая в полемику – машину он вылизал лично и был спокоен.
Придурок обошел Мерседес и открыл багажник. Засунул туда туполобую голову, и завизжал – тонко, длинно, по-бабьи.
- Су-уки!!!
Дюк подскочил, пытаясь понять, что случилось.
Матерился Придурок безо всяких изысков:
- Две тыщи бакинских,- он почти задыхался, - ну ****ый в рот!!!
- Что случилось- то, - забеспокоился Дюк, - тряпку забыли? Бывает.
- Я , ****ь, кому тут плачу…, - орал тот, - что за кидалово, *****?!
Дюк сунулся рядом. Чистота и порядок.
- Не понял. Могу позвать старшего смены.
- Ты не понял?! – продолжал сотрясаться Придурок, - щас я тебе объясню. Это что?
Он ткнул в незаметный потёк, блестевший на внутреннем пластике сбоку. - Вода, ****ь, в машине! Вода!
Дюк почти целиком влез вовнутрь, чтобы внимательно разглядеть. Прищурился – да какая вода. Чуть-чуть не растерли средство для чистки, и он потянул из кармана фланель.
- Вода, ****ь, в багажнике, - и Придурок взялся за дверцу, - две тыщи бакинских засунул… сейчас мы проверим, как это закроется…Что вы мне тут наменяли, сучата.
Дюк увидел, как резко стемнело – спасла его только реакция. Он чудом отпрянул из-под летящего ему в позвоночник железа, а вот руки…
Руки убрать не успел.
Боль в перебитых костях он почувствовал только тогда, когда газанувший «пацан» с визгом унёсся с парковки. Были сломаны обе – левая кисть, на правой ему до кости зажевало запястье, два пальца пробило замком.
Дюк не был ни взрослым, ни сколько –нибудь защищенным, работал он временно и почти нелегально. Поэтому его отвезли в травмпункт, влив предварительно водки, сунули денег и попросили больше не появляться.
Матери он рассказал, что упал с эстакады. Что за зверь эстакада в ремзоне, та представляла туманно, поэтому быстро поохала, пожалела, как водится, и быстро умолкла, довольная денежным щедрым приходом.
Тем более доктор сказал, что все образуется.
А Дюк, загипсованный на обе руки, непомерно страдал – проблемы от этого наступили нешуточные.
Сначала он старался бодриться. Бродил по квартире, ногами включал-выключал телевизор, компьютер, и даже плиту. Пинал мяч – но соседи забарабанили по трубе, и пришлось прекратить. На улицу было не выйти по причине затейливых сложных ключей – не оставлять же квартиру открытой. Он изнывал от жары, под гипсом болело и дико чесалось, книги приходилось перелистывать носом, словом - тоска.
В таком раздраженном унынии и нашел его Лап, не вынесший Франции, Бельгии, Дании и еще там какой-то красивой страны, по которым таскали его гастролеры-родители.
- Кинь мне ключи из окна, - сказал он через железную дверь, - узник ты хренов. Первый раз, что ли?
Лап на вид был прохладен, словно хирург в кочегарке, деловит и решителен. А еще он тащил здоровенный, с красивыми буквами, глухо позвякивающий, пакет.
- Ты ангел, сошедший с небес, - простонал Дюк,- чего у тебя там?
- «Гиннесс», растяпа. Я с самолета. А ты, я смотрю, тоже в теме? Аэропланишь по взрослому. Свалился откуда-то, ниндзя?
Он упрыгал на кухню – складывать в морозильник бутылки, Дюк потащился за ним, в красках расписывая свои приключения.
- Надо найти этого гада, - сказал Лап, внимательно выслушав, - номер запомнил?
- Да в рот ему ноги, - сказал Дюк, - была нужда мараться. Жизнь его сама найдет.
- Не согласен, - помотал головой Лап, проверяя кастрюли. – Ты что-нибудь ел? И как ты вообще это делаешь?
- Как Ума, блин, Турман, - сказал ему Дюк, - из «Замочить Билла».
- Понятно, - Лап уже зажигал газ, - как собачка. А что сальный такой? Пусть бы мама голову вымыла.
- Ей недосуг, у неё работа. Да и влюбимшись она, – Дюк смотрел на привычные перемещения друга по кухне.
Лап был хозяйственный, чем всегда приводил в восторг дюкову мать. Жизнь с родителями, вечно сидящими на балетных диетах, приучила его к готовке.
Разделять их религию Лапу было совершенно неинтересно: насмотревшись на борщи Светланы Сергеевны - у Марковых он наобедался вволю - он понемногу стал ей помогать.
Столовки и забегаловки он не любил - брезговал, зато обожал супермаркеты и хорошие рынки, особенно мясные отделы. С едой у него получалось, бесспорно, а в холодильнике Дюка он ориентировался лучше хозяина.
-Теть Светины котлеты, - облизнулся он,- вот уж пожрем. Тебе две или три?
- Мне пива. Побольше.
- Не остыло еще, - сказал Лап, смакуя котлету, - стыдно теплое пить. Потерпи. Башку я тебе могу намылить. Сразу полегче будет.
- Давай, - согласился товарищ, - весь липкий, самому противно.
- На, - на вилке он пихнул ему сочный поджаренный бок. – Покормлю, так и быть, пока добрый.
Дюк послушно жевал и не спорил, по опыту знал – бесполезно. Да и есть, если честно, хотелось.
- Мума ты Дурман, - рассмеялся Лап, - ты же голодный сидишь. Пива ему на пустой желудок. А кстати, - неожиданно заинтересовался он, - как ты после пива отливать будешь?
- Отработано. Встаешь на стульчак коленками, свешиваешь туда, отливаешь. Или сесть еще можно. Но это позорно.
- Надо попробовать, - задумался Лап, - как это так, на коленки-то. Ладно, пойдём уже мыться. А то я еще дома не был, сумку закинул и все.
В ванной ему пришлось стянуть с друга футболку.
- Снимай уже все, весь воняешь. Все равно сам не помоешься.
Это была суровая чистая правда. Обе руки, забинтованные по локоть, годились на весла для известной скульптуры в парке культуры и отдыха, не больше.
- Мать попрошу,- Дюк внезапно смутился, - вечером…
Лап отступил, резко, быстро.
- Ну и воняй,- сказал он,- чего я не видел. Дурак.
Тесноты квартир зачастую привносят большие интриги в существование граждан, особенно тех, кто без рук или ног. Планировки советских, мать их, архитекторов, лишенных башки или лишнего ватмана не оставляют иного пути, понял Дюк. От Лапа чуть веяло прохладным парфюмом, будто и не было потной, закисшей жары. Дюк вздохнул.
- Ладно. Раздевай меня сам тогда.
Тот презрительно хмыкнул и сдернул с него тренировки.
- ****ец, - сказал Лап, поливая, - если б я знал, какая тут площадь помытия, то не подписался ни в жизнь бы.
- Чего,- друг не расслышал , - что за площадь?
- Ты же здоровый, как конь. Я как-то в деревне купание наблюдал. С виду красиво, а на деле… Пока отскребешь лошадину, семь потов сойдет. Так и тебя.
Дюку было плевать на все эти жалкие реплики. Он блаженствовал в теплой воде, растопырив гипсы и похрюкивал:
- Спинку вот тут еще…о-о-о…
- Я весь мокрый уже, блин… хватит брызгаться! – и окатывал в отместку холодным.
- Сестра-а-а,- тянул Дюк, - сестра милосердия-а-а…. накормила меня… щас напоит пивко-о-м…. впереди полный кайф…
- Вот не выебал, - раздалось что-то странное, - это просто устроить.
Дюк даже не понял.
Когда это он снял с себя майку? Опа. Занятно.
- Ну и как бы ты это сделал? – было так хорошо, что хотелось расслабленно ржать, ни во что не вникая.
- Не вопрос, - и рука поднырнула ему между ног, - сам-то давно не гонял?
- Да давно уже…- растерянно сказал Дюк. – А…
Член его, однако, не растерялся ничуть. Он, плевав на хозяина, прыгнул в чужую ладонь. – Ты охуел?! Ты че делаешь-то?!
- Не смотри, - ласково прошептали на ухо, - выключи мозг. Сделаю… как себе. Глаза закрой.
В голове заметалось постыдное, но рука так уверенно- властно задвигалась… так сладко и необходимо, что Дюк задохнулся.
- Т-ты охуел…
Но это было последнее, он зачем-то послушно зажмурился и… отдался.
Нездешний дегтярный напиток сосался в неловком молчании, перед тихо жужжащим своё телевизором. Вопросы набегали один на другой, варя в голове непонятную кашу.
- Ты не думай об этом,- сказал Лап,- я же по-дружески. Когда еще сам. Тут уж мамочку точно просить не будешь.
- Да,- кивнул Дюк, - гипс еще две недели носить. Да и потом неизвестно, как руки будут работать.
- Забей. Подумаешь, ужасы. А чтобы руки разрабатывать, гимнастику назначат. Главное, чтобы правильно срослось.
Телевизор урчал, прохладное пиво истаяло в сытом размякшем желудке, и Дюк незаметно уснул, овеваемый остывшим под вечер ветерком из окна. И даже не слышал, как хлопнула дверь.
Потом пришла мать, шумная и виновато хозяйственная. Сразу заохала по поводу рук и несчастного Дюка, к полночи наготовила вкусной еды, а утром опять убежала.
Лап не являлся два дня, и не звонил. Дюк попробовал сам: носом, конечно не вышло. Ногой тоже. Тогда он зажал карандаш между крыльями-ластами, и всё получилось.
- Ты сегодня придёшь?- спросил он.- Пропал где-то.
- Не могу,- сказал Лап.- Завтра, наверное.
В телефоне отчетливо пискнула тема из смутно знакомой сетевой викторины.
- Друг, называется,- Дюк возмутился,- Вон оно как, значит. Режешься там, как мудак.
- Так ведь поздно уже. А я, между прочим, в пятерке. Если спрыгну, то баллы уйдут. Завтра приду, обязательно.
- Тьфу,- плюнул Дюк, - да пошел ты.
Но минут через двадцать затрещал домофон, и Лап долго искал два ключа в темноте, на ни разу не стриженой клумбе.
Первый страх от прыжка с парашютом ерунда, бесконечные враки, рисовка. В первый раз только страх неизвестности, отнимающей вкус осмысления действия – ты летел, лихорадочно дернул кольцо, земля тебя стукнула в пятки, ура! Я жив, я герой, увековечим в скрижалях победу!
А вот во второй?
Кажется, оба решили по-своему, потому что, дождавшись, пока Лап приземлится поближе, Дюк спросил прямо в лоб:
- Ты нарочно скрываешься? Дрочить западло, что ли, было? Кстати, ты сам предложил.
- Не западло,- сказал Лап. – Я помочь хотел, а потом испугался, что ты…
- А как ты вообще до такого додумался? Мне бы вот в голову не пришло. Поржал бы над твоим стояком, да и все, случись-ка. И не стал, даже если бы ты попросил.
Лап поднялся.
- Куда это ты?
- Иди на ***, - сказал ему Лап. – Думай, что хочешь. Я тебе фильмы принес, посмотри.
- То есть ты убегаешь, - резюмировал Дюк , заслоняя проход. – А что, если я сообщу, что не понял, и хочу повторить? Сможешь? У меня, между прочим, стоит. Я беспомощный.
Договорить не успел: Лап шагнул к нему и повалил, поборов вроде в шутку… но все повторилось, немедленно. Стиснуто и горячо, через ткань, восхитительно жестко, словно насильно-зажато… минута-другая. Всё.
Кажется, кто-то кричал?
Тихий смех: мы тупые, и это не повод для ссоры.
К теме вернулись лишь раз, когда редко терзаемый мыслями Дюк вдруг решил обернуться психологом:
- Скажи,- он курил уже третью, едва застегнувшись, - тебе мужики небось нравятся?
- Как сказать,- отозвался из ванной Лап, - девушки тоже. Все, что красиво.
- Комплимент. Я красивый, оказывается. Ну ни фига себе.
- Это есть. Я вообще думаю, что у секса нет пола.
- Парадоксально звучит.
- Наверное, - вернувшийся Лап ерошил макушку, - вообще, если честно, стоит на все подряд. Возраст у нас сейчас такой.
- Понабрался ты, доктор. А сам-то? Не возбуждаешься?
- Да не особенно, в общем. – Лап усмехнулся. – Наблюдать чужой кайф всегда круче. Красиво, я же сказал.
Дюк подумал, что лица у телок в порнухе совсем не красивые. То есть все они правильно изображают, конечно, но куда как приятнее наблюдать за другим.
- Странный ты, Лапыч, эстет.
- Ага. Извращенец.
Жара постепенно спадала, пропуская через плотное тело своё благодатный ночной ветерок.
Лап белел через сумрак очередной навороченной майкой, а светлые волосы какой уже раз не давали увидеть глаза.
- Ну, раз так, - сказал Дюк, - раз тебе не противно, то я буду еще.
- Ха-ха-ха.
- Ну пожалуйста,… я не виноват… я ж беспомощный. И стои-и-и-ит.
- Обойдешься,- отрезал товарищ. – Поиграли и хватит.
Но игра не закончилась даже тогда, когда руки восстановились. Повторялась, порой с промежутками, но никуда не девалась.
- Найдешь себе девушку, и все это сразу закончится,- успокаивал Лап.
- Машину хорошо водить будешь, - отозвался на это товарищ. – Ручку, как женщину, чувствуешь…
Но женщин каких-нибудь почему-то никак не случалось, и все оставалось по прежнему.
3.Мексиканец
Иногда Мексиканец думал – как удивительно, что я все-таки родился. А иногда поворачивал эту мысль по-другому – а, собственно, зачем его было рождать?
Мысли первого плана всегда возникали при взгляде на мать.
Он, Мексиканец, был корректно начитанным относительно темы, приводящей к рождению детей; он все знал, разумеется, из книжек. Парень не понимал одного: как его тихая, совершенно забитая мать смогла сотворить его, Борю? И при каких обстоятельствах, интересно?
Свой главный вопрос он задал не сразу, боязливо и поздно – в тринадцать.
- Мама, а кто был отец?
Мать лишь виновато поежилась.
- Он уже умер,- заученно-быстро сказала она, - он был научный работник. Погиб при эксперименте.
Стало понятно, что правды ему не видать. Наверное, в юности мама была более бойкой, какой-то иной, даже красивой, быть может, и могла нравиться научным работникам. А потом появился он, Боря - прелести сразу куда-то девались ,и она замерла в виде грустного товароведа, отдавая все лучшее только любимому сыну.
Но тогда оставался вопрос – как же бабушка? Полная, однако подвижная, колоритно накрашенная прямо с утра – в ней кипела могучая жизнь. Бабушка наслаждалась любым бытием, не замирая в заботах, не потухая в болезнях, и даже порой хулиганствуя – ругалась с соседями, ехидно дразнила дикторов из телевизора, вела всё хозяйство и даже пыталась писать электронные письма подруге в Америку. Последним она оглушала и внука, и деда: после её эскапад у компьютера семья обессиленно падала. Боря – от хохота, а дед от невроза. С бабушкой было весело.
- Таки я попала на букву «ху», - восклицала она, вынимая мясистый породистый нос из клавиатуры компьютера, - Боренька, это же такая невидная буква! Кто клеил те кнопки хотели, чтобы я ослепла!
- Циля, - раздражался дед, - ты должна надевать очки. Ты перепачкаешь носом дорогую технику Бори.
- Ты перепачкал всю мою жизнь, - отзывалась бабушка, - а я все равно работаю. Боря, где здесь дают хотя бы одну запятую?
- Давай я напишу, - обычно предлагал внук, - продиктуешь и все.
Бабушка соглашалась, принимала величественную позу, откашливалась и начинала:
- Здравствуйте, Роза и Володя, - сначала она замирала довольно, а потом кидалась к экрану:
- Так ты уже выкупил все эти буквы оттуда?
- Нашел, - стонал внук, - давай будем дальше...
- Здравствуйте, Роза и Володя, - повторяла она, - это Циля вам говорит.
- Так и писать?
Бабушка удивлялась:
- Разве в Америку можно такое писать?
- Бабушка... ну давай только то, что ты будешь иметь в письме.
Дед скрипел креслом:
- Боря, ты будешь иметь жидкую голову и больные глаза. А она будет иметь одно удовольствие.
- Печатай, - говорила бабуля, - у Иосифа сейчас ослабление. Он заговаривается на непонятные людям темы.
Дед скрежетал мебелью и вставными зубами, а Боря для верности переспрашивал:
- Писать?
- Да, - закусывала удила бабушка, - пиши: нормальные люди в нашей семье находятся в порядке. Ученые доказали, что у кого диабет, те бывают молодыми подольше, чем те, кто Иосиф. Поэтому все мы в порядке.
- Это когда они доказали, - останавливался Боря, - что-то я такого не слышал. И диабет только у тебя вообще-то.
- Они там завидуют, - говорила бабуля, - Америке не нужно думать, что мы в гетто. Тут уже почти резервация и стало много магазинов.
- Напиши, что нам отменили национальность, - добавлял дед, - мы все теперь очень свободные китайцы.
- Китайцы нация, - поправлял внук, набирая письмо,- и они собрали этот компьютер. Если бы они не собрали, то он стоил бы втрое дороже.
Бабушка возмущалась:
- Надо же, их тоже не ценят!
Дальше кипучая Цилина мысль убегала в другом направлении - она вспоминала про чукчей, которых нигде не показывают, про индейцев, которые так же, как чукчи, спились… словом, письмо замирало в развитии. Видимо, мысленно оно уже было доставлено американской подруге, и та непременно завидует бабушкиному диабету.
- Ба,- вспоминал Боря,- а ты зачем букву «х» искала вначале?
- Ты таки маленький,- отвечала она и улепетывала на кухню.
В такие моменты Боря думал – как здорово, что я все же родился.
Но милый дом, густо заставленный старенькой мебелью, никогда не умел оставаться в кармане, висеть амулетом на толстой веревке, быть свернутым охранной грамотой в школьном портфеле. От него предлагалось отречься, выбираясь на улицу, и сталкиваться с обычным, враждебным миром.
Пока Боря был маленьким, рядом шагала бабушка. А теперь, совершив переход в подростковый неудобный сезон, приходилось грести самому, не прячась за теплое тело. Не то, чтобы Боря уж очень боялся - казалось неуверенно, шатко. Милое сердцу его окружение рассыпалось в прах, когда доктор сказал – ничто не поможет, и играть, как Плетнев, он не будет.
Боря был пианистом и играл с пяти лет. С последним Шопеном он простился на датском концерте – не смог доиграть до конца. Мать, побелев хуже праздничной кофточки, пролепетала ему по-английски:
- Сыночек, мы вылечим пальчики. Все восстановится.
Он пытался расправить фаланги, зажатые судорогой, и не понимал – почему? Он и раньше терпел эту боль, и играл... почему же сейчас?
- Координаторный невроз, - сообщили ему, - довольно запущенный. Обычно встречается у профессионалов.
- Я профессионал, - сказал мальчик, - с пяти лет. Это как-нибудь можно вылечить?
- Ты не сможешь играть большие концерты, - ответил доктор, - могут начаться необратимые изменения. Теперь – только для удовольствия. И очень недолго.
Потом были долгие походы по клиникам – до тех пор, пока не закончились деньги.
Помимо отчаянья надвигался сентябрь, между прочим. Заставить себя вернуться в родную спецшколу Боря не смог – что толку? Он не будет Плетневым. А видеть вокруг себя тех, кто знает об этом, не захотел.
Мать, оглушенная ситуацией и внезапным упрямством, отнесла документы в ближайшую школу. Она ничего не умела в параллельных мирах,но ей понравились чистота и диванчики в коридоре. Поговорив с Николаичем, мать осталась довольна.
Из-за неё, из-за матери, Боря и стал Мексиканцем.
***
Он осторожно спускался с крыльца, держась за портфель, который ему не понадобился – уроков-то не было. Ранний день не успел напитаться скудным питерским солнцем, и Мексиканца знобило. Возле школы плескались кричащие стайки не учтенных пока первоклассников, толпились родители. Было шумно, но он все же услышал:
- Эй, Мексиканец!
Неприятно ожгло, но все-таки он обернулся. На школьном крыльце Мексиканец увидел прямого и тонкого Лапина, за спиной которого деловито суетился его грубоватый сосед. Дюк копался внутри белой куртки товарища, что-то выискивая. Искомое не находилось, и куртку вертело на Лапине в разные стороны.
Хозяин терзаемой вещи стоял, не вникая в крутящий момент, и улыбался ему, Мексиканцу:
- Не обижайся на прозвище,- сказал он, - это из Джека Лондона. Иначе они бы тебя загоняли кликухами. Чуть выбиваешься – сразу потеха. За любую мелочь бывает.
- Лап, где ключи, - проорал этот Дюк, – ты же квартиру запирал, я помню.
Выглядел он неприлично, будто тискает. Гадость какая-то с виду. А может, и нет.
- Да? – глупо переспросил Мекс, - из Лондона?
То есть, это из книжки. Ну ладно.
- Хорошо, - вздохнул он, - я понял. Спасибо. До завтра.
- Соответствуй,- услышал он в спину, и чуть не споткнулся. Оборачиваться, впрочем, не стал – наблюдать эту слишком чужую и близкую дружбу было почему-то неловко.
***
Дома он не стал разуваться. Миновав захламленный большой коридор, Мексиканец протиснулся к книжному шкафу в гостиной. Книга нашлась, как ни странно – зеленая, в клееном марлевом переплете. Была она даже, казалось, зачитанная – чуть затерта обложка, капли жидкости темной на первых страницах. Мекс нашел оглавление – есть.
«Посмотрим, - он плюхнулся в старое дедово кресло, - что там за Мексиканец такой».
Он забыл про «поесть» и «раздеться», замерев эмбрионом в продавленной дедовым весом и временем мебели. Глотал старые новые строки:
«...Ривера был иного склада. В жилах его, кроме испанской, текла еще и индейская кровь; он сидел, забившись в угол, молчаливый, неподвижный, и только его черные глаза, перебегая с одного лица на другое, видели решительно все».
- Я не еврей, я индеец, - догадался он сразу, - и немножко еще испанец. Они все ошибаются насчет меня.
« - Я же говорил вам, что он одинаково владеет обеими руками» - Мекс оторвался от книги и посмотрел на свои. Это была чистая правда – левая у него, пианиста, не отставала от правой. Пока её не сразила болезнь. Да, играть он не сможет, но в жизни это вряд ли ему помешает. Вот и в драке не лишнее.
« -Ложись, мальчик, — настаивал Келли, — и я сделаю из тебя чемпиона»
- Не дождетесь, - усмехнулся Мекс, - что бы вы там ни придумали.
Он с удовлетворением захлопнул книгу и расправил затекшее тело. Этот длинный Дюк, оказывается, знает толк в прозвищах.
Думать о том, как ему неуютно и плохо, становилось бесмысленно. На секунду он даже слегка размечтался - как было бы здорово, что если б имелся хороший и понимающий друг! Тот, кто почти непременно бы наказал почитать Джека Лондона. Такого друга у Мексиканца никогда не было – у него была бабушка, дед и, совсем незначительно, мать. Но они были родственники, и от них можно было услышать только то, что Боря – хороший. И все.
«Соответствуй», - вспомнил он вдруг, и подумал: а почему бы и нет. Это может быть интересным.
Ухватив в холодильнике сырую сосиску, Мексиканец приготовился съесть её, как обычно, живьем, но помешала вдруг мысль: а зачем они сделали это?
Вопрос требовал уединения, и он бросил сосиску в воду. Сидел, размышлял, созерцая упертую в бортики мелкой посуды псевдомясную колбаску, и, наконец, разозлился:
«Пожалели, значит. Вот, значит, как. Ну-ну».
Непрочный продукт пострадал и взорвался целлофановой кожей, выворотив неубедительное нутро. Останки его разметало в бьющем ключом кипятке.
- Ты плохо сражалась, - сказал Мекс сосиске, спуская мутное варево в унитаз, - отправляйся туда, откуда пришла.
В голове зароились особые, свежие мысли – в ней, наконец, перестал умирать недоигранный Шопен. Мексиканец прислушался – где-то выла в восторге толпа, изнутри нарастал гул канатов.
«Соответствуй»,- гудели они
***
Осень неслась, облепляя отжившими листьями, заползала под куртки пронзительным ветром, гудела вернувшейся жизнью - оживленными школами, переполненным снова метро. Петербург отмывало от пыли: осенью город свежел, очищался, бугрясь неприкрытым гранитом, переполняясь рекой. Это было его время года – исчезали фривольно дешевые клумбы, вместо них кисла грязь - как везде, где проходят отряды тяжелых бойцов. Оставался лишь он, рыцарь в избитых сражением латах, суровый и справедливый. Сэр Питер уже не держал принуждённо букетов для иностранных и не очень туристов – они разбежались в Туву, Сыктывкар, Симферополь, во Флориду и бог еще знает куда. По камню стекали ручьи, забираясь вовнутрь, освежая усталую спину, рыцарь вяз в палой листве, лечившую раны на оттоптанных чужаками ногах, а золотой его шлем яростно полировал ветер.
Осень катилась к зиме, мокрой, бесснежной и темной – утро ленилось, так же, как и школьники в последнюю свою полудетскую пору.
Электрический свет горел до полудня, отдыхал всего пару часов и включался опять – северная ночь наступала. Уже отшумели ненастоящие осенние праздники, подступала пора новогодняя – в конце ноября в городе начали ставить огромные елки, вешать новые фонари: предвкушение начиналось за месяц. Грусть Сэра Питера всех заставляла: хотелось ждать яркого, к чему-то готовиться, и, по возможности, удивляться. Кто опасался приезда бесчисленных родственников, кто-то ждал премии, скидок в бутиках, больших выходных или легальной наконец-то попойки – готовился каждый. Повод из поводов, главный праздник страны.
Нева приутихла, став густой и спокойной – кровь её засыпала, подернувшись серой, непрочной - но кожей.
Мекс втянулся в учебу неожиданно быстро. Эта школа показалась простой и несложной, без особенных требований. У него оказалось много свободного времени, так много, что он не умел с ним бороться.
Всю свою детскую жизнь он играл – работал. Преданный собственным предназначением, он так и не смог подойти к инструменту – с тех самых пор, как провалил концерт. Мексиканец старался не думать об этом, а найти себе дело, которое съело бы от вынужденной свободы хоть какую-то часть. Он искал и не мог найти.
Вышло так, что всё, занимавшее его хоть немного, сосредоточилось в школе, став предметом обдумывания, мыслей, эмоций.
А сложилось всё странно.
Сергеева, так любезно пригласившая его в первый день, очень быстро затяготилась соседством.
Мексиканец определённо мешал: беспрепятственно пудриться, вскидывать руки – так, чтобы приподнималась грудь. Разворачиваться вполоборота к «камчатке» - туда, где находился вожделенный объект. Сосед загораживал свет, косился на зеркальце, лишал обзора.
Из-за соседа предмет вожделения, скорее всего, не видел сергеевского бедра, красиво утянутого в густо-кофейного цвета колготки. Дюк также не мог наблюдать тугие посасывания лакированной ручки, весьма намекающие - такие, что даже физик заметил, но ничего не сказал.
Преподы, по мнению Сергеевой, окончательно озверели – мыслями все эти странные люди находились в экзаменах,твердили о них без конца и пугая. Иногда половина урока проходила за рассуждениями, каким образом, например, помешанный на своей музыке Рэпмен сдаст русский язык. Да Саня вообще не мог разговаривать просто – рифмовал он решительно всё, и в сочинениях проделывал то же.
Обычную речь он почитал пережитком, содержание – им же, а истинной целью любого рассказа он видел рифму, положенную на музыку и движения. Галина Эммануиловна, грузная русичка по кличке Голем, сносила всё это с величайшим трудом.
На её презрительные тирады Санёк выдал следующее:
- Экзамены в топку! .Йоу!
.Возьму свою попку, йоу! Крепко - возьму – отнесу - в пэтэу-у-у !
- Йоу-у-ууу!!! – выл класс, а русичка бессильно оседала на стул. Все были довольны: веселье съедало минуты, Голем была деморализована, а дальше была физкультура.
Мексиканец смеялся со всеми, хоть его и коробило. Неприязни к Рэпмену он, правда, уже не испытывал после одного небольшого, но важного случая.
В тот день Боря тащился в столовую – оттуда с утра доносился ванильный, горячий привет, что означало ватрушки. Эти штуки пеклись, по мнению Мекса, немыслимым мастером – такой вкуснотищи он нигде не едал. Обливаясь слюной, он рассчитывал штуки на три… но реальность его прервала.
Справа внезапно возникла смурная фигура – смуглый носатый пацан, недобрый, как пьяное утро.
- Эй, чучело, - сказало оно, - подойди-ка сюда.
Мексиканец напрягся. Он попытался собраться, но тщетно – в перепуганном сердце распрямилась спираль суматохи, и представить боксерский ринг, тот самый, гудящий канатами, он не успел. Мечтая, боец потерял осторожность. Враг был внезапен, что уж говорить.
- Что вам нужно, - по-ботански выдавил он ,- я направляюсь в столовую. Перемена короткая.
- При денюшках, значит, - с удовольствием констатировал парень, - да мы за тебя покушаем, ты не переживай. Бабло дал сюда быстро.
И сильно пихнулся плечом.
- Деньги давай, пока не вломил, - пояснил еще раз, - ну и чучело.
Мысли Мекса запрыгали, унося здравый смысл, сердце екнуло, а по спине заскакали вот такие мурашки…
- Это чучело с нашего огорода, - услышал он вдруг, - оно охраняет нашу природу.
Сунув руки в карманы полусползших огромных штанов, в проходе стоял Рэпмен.
- Йоу, - Саня был весел, - если ****ишь инвентарь, будешь раком весь январь.
И он совершенно не к месту крутнулся.
- А-а-а, это ты, блин. Жопоголовый, - сказал парень, - я тебя щас самого поставлю.
- Ёпт, Серый, - отвечал Рэмен, - ты как банан незрелый. Щас я свистну, и тебя зачистят. Вали в свою столовку, - сказал он Мексу, - шевелись ловко. Мы будем разговаривать, мозг запаривать...
Но Мекс не ушел, жадно ловя незнакомую суть пацанской словесной баталии. Дело, тем временем, ограничилось парочкой рифм, на которые вражеской стороне сообщить было нечего. Потом был звонок и благодарности за спасение, на что Рэпмен отреагировал как-то не в рифму:
- Оденься нормально, а то яйца оторвут. Выделяешься. С тебя физика.
Поэтому Мексиканец смеялся. Он делал все это еще и потому, что в такие моменты он чувствовал себя частью стаи, где каждый в отдельности был, в общем, не нужен. Но, смеясь над одними и теми же рифмами, все становились ближе, поддавались похожему настроению. И было плевать, что стихи – дурацкие.
Мекс не влился, не стал своим за всё время до Нового Года. Но был под негласной защитой – это было железное кредо класса, и казалось достаточным , чтобы чувствовать себя более или менее комфортно.
Но было еще - такое, что странно царапая, задевало.
Оно беспокоило, заставляя реагировать, наблюдать, подмечать и завидовать.
Как-то утром, натягивая новую водолазку вместо деревянного своего пиджака, Мекиканец подумал: интересно, заметит ли кто-нибудь? Он... заметит?
Он часто думал о Дюке и Лапе, как о некоем символе дружбы, единства.
Завидовал? Было такое, пожалуй; а еще и любовался – с ним никогда не случалось какой-нибудь дружбы, тем более, как у них. Со стороны все так здорово выглядело, друзья казались прекрасными… Да любой был бы рад!
Мексиканец почти тосковал, мечтая о чем-то подобном. Мучило что-то еще, до чего он пока не добрался: знал только то, что смотреть на него - удовольствие. На Лапина, потихоньку, смотреть.
4.
К дружбе этих двоих так же привыкли, как к солнцу на небе, воздуху в легких и к жетонам в метро. Никто и не знал, как они подружились – кажется, вместе пришли из какого-то детского сада, где, вероятно, сидели рядом на синих казенных горшках. Лишь иногда, после особо жестокой и загадочной драки Турандот восклицала:
- Ну откуда вы двое на мою голову?
Все было просто, как в тысяче случаев - оба были тогда малышами.
Заброшенный матерью Дюк рушил песочницу - от нечего делать. Малышня разлетелась к мамашам , от сердитого мальчика хотелось держаться подальше. Дюк воинственно целясь, нуждался в мишени - оглядывался в поисках жертвы, и нашел, наконец. Ком сырого песка разошелся о какую-то одинокую девочку в красной куртке и джинсах. Девчонка сидела на ржавых качелях почти каждый день, болтая ногами и думая о чем-то своем.
Больше швырять, понятное дело, было не в кого. Девчонка не стала визжать, удирать и реветь не желала тем более.
Она брезгливо поморщилась и принялась чиститься.
Дюк с интересом смотрел, все еще ожидая реакции.
- Метко кидаешься,- сказала девчонка, - а почему ты такой злой?
- Это не я,- открестился решительно Дюк, - само прилетело.
- Само? – удивилась девчонка, - Это надо проверить. Давай ты отойдешь, а я подожду – вдруг еще прилетит?
Ну и дура, подумал Дюк, само прилетит ей, как же.
- Без меня не сработает,- сказал он, - надо, чтобы я тут был. Я волшебник.
- А говорил, не ты, - разочарованно сказала она, - тебя как зовут?
- Дюк,- сказал он, - а ты кто?
- Я Лапин,- сказала девчонка, - Лапин моя фамилия.
- Ты пацан, что ли? - и Дюк облегченно вздохнул. С девчонками разговаривать в его планы никак не входило. И половина беды как с куста – раз этот пацан, значит, обиженных девочек нету.
- Я мальчик, - ответил Лапин, - просто я на маму похож, а она же девочка.
- Понятно,- сказал Дюк. Подумал немного: - Песок сегодня больше не летает. Погода стала уже нелетная.
- Ерунда твой песок,- сказал пацан, - вот книжку знаю про мальчика, который взаправду летал. Могу рассказать.
- Расскажи, - заинтересовался Дюк, - хоть это и враки, наверное.
Так начались их походы по кругу вокруг пресловутой песочницы, потом – сидение в ней же, чуть позже - уход на врытые неизвестно зачем турники в зеленой облупленной краске и совместное висение на них вниз головой. Дюк отчаянно делал вид, что ему до балды ненастоящие похождения Питера Пэна, о которых так складно рассказывал новый знакомый, но долго он притворяться не смог. Однажды, не дождавшись товарища в условленном месте, Дюк заявился к нему домой и потребовал продолжения.
- Я книгу могу тебе дать, - сказал обмотанный шарфом заболевший ангиной Лапин, - почитай сам.
- Мне семь лет, - презрительно сказал Дюк, - я читать не умею.
- А мне шесть, - удивился умник. – Я умею уже давно.
- Ну и дурак, - сказал гость и ушел.
Но у турника он крутился каждый день, и, наконец, дождался: выздоровевший товарищ явился, таща большую, с картинками, книгу.
- Буду читать, и буквы заодно покажу, - он был настроен по-деловому, - которые знаю. А знаю я все.
- Вот еще, - фыркнул Дюк,- учитель нашелся. Рассказывай лучше.
- Это «п», - невозмутимо сказал Лапин,- ворота. С неё начинается песок, который ты в меня кидал. Питер Пэн тоже с неё начинается целых два раза.
К сентябрю стало понятно, что шестилетнего Лапина тоже отдают в школу – дома он маялся и изводил бабушку, на попечение которой был оставлен вечно разъезжающими родителями. Мальчиков определили в разные классы – Дюк оказался в «А». Он самостоятельно пришел к директору и сообщил:
- Мне надо к Лапину в «Б». Мы с ним друзья.
Николаич растрогался и разрешил. О том, что они друзья, Лапин узнал самым последним:
- Будешь Лап,- сказал Дюк.
- Мне не нравится, - мотнул головой друг, - что я, кошка, что ли.
- Нет, ты немножко красивее, - последовал ответ, и мальчик почему-то согласился.
Так родилась эта дружба, которая не распалась ни разу. Дюк стал читать запоем, направляемый другом, а Лап научился драться. Школа неслась мимо них не задевающим поездом, лишь иногда семафоря; стук колес был чуть слышным аккомпанементом их миру, который был создан нечаянно, и как выяснилось, надолго. Дюк привнес в отношения реалии улицы: драки, из которых они выходили живыми, баскетбол. Там были забавные ночки с фантазийными чудаками, которых так много является Питеру в белые ночи, дождливые крыши над пасмурным миром и гулкие ветхие чердаки. Своим появлением Дюк отрезал домашнему мальчику Лапину путь в никуда – в бесконечные сказки, тоску по родителям, и в детское – да - одиночество.
Сам он нуждался не меньше – то, что умел делать друг, не сумел бы никто: ни загнанная работой мать, ни школа, ни та же разнообразная улица.
Никто не сумел бы прикинуться Наполеоном, подслушивающим совет в Филях, изображаемый Дюком в многочисленных лицах. Никто бы не согласился стать на время Адольфом Гитлером на допросе Иосифа Сталина – играли они и в такое, вообразив на часок, что Россия-таки проиграла.
- Был бы ты фюрером, мы бы точно войну просрали,- смущенно чесал затылок Дюк, - откуда ты только все знаешь?
- Теперь и ты знаешь,- смеялся товарищ,- а чтобы выигрывать, ума много не надо. Ты же вот всегда меня перебарываешь! Дело в тактике, в чувстве войны.
Дюк сжимал кулаки.
- Я, значит, тупой, да? Вот настучу-ка тебе по башке, и узнаешь...
Лап хохотал:
- Ну вот видишь! Сталин не мог проиграть!
Было не скучно. Каким-то неведомым способом Лап заставлял Дюка проникаться всем, что знал сам: игрой, рассуждениями, сравнениями, и если не помогало, то иногда - анекдотами. Он, собственно, вел его по тому коридору науки, которым уныло тащится любой маленький человек, попавший в школу – но в этом туннеле он развешивал такие картины, что Дюк открывал в восхищении рот.
Школа Дюку не нравилась никогда. Претензии выражались своеобразно:
- Евгений, блин, Онегин, - он закидывал ноги на стол и морщился.
В комнате Лапа было всегда светло и убрано – встроенный шкаф, где хранились обычно разбросанные у Дюка вещи – от футболок до скейта; синий диван-трансформер, легкий стальной стол с компьютером и телевизор на стенке. Единственный вызов порядку бросали многочисленные провода – но и те были подвязаны так, чтобы не особо мешать пылесосу. Дюк, недовольный прилипшим к компьютеру Лапом, дул на чай и целенаправленно отвлекал:
- Вот прикинь. Живет такой перец скольки-то там лет...
- Двадцати шести, примерно,- уточнял Лап, не отрываясь от монитора. Он играл в онлайн - шахматы со старым противником, ждал ответного хода.
- Не суть,- не унимался товарищ.- Чего, он спрашивается, по жизни делает?
- Дворянствует, - отвечал Лап, - работа такая в девятнадцатом веке. Сибаритствует и по балам ездит. Прочти уже, что ли.
- И я о том,- возмущался Дюк. – О деньгах ему думать не надо...
- Ну как же... имение надо вести, помещик же.
- Великий труд,- хмыкал Дюк,- была забота ...
- Еще какая, - говорил Лап и пихал другу распечатанный текст из сети, - трудился, аки пчела.
Дюк затихал на время, пролистывая, и саркастически изрекал:
- Мдя... Особенно, если неурожай.
- Ты заземленный, как провод, и прямой, как теплотрасса, - говорил Лап, - там же стихи как музыка... дался тебе Онегин. Ты почитай «Кавказского пленника» - оно польется. Красиво. «Полтаву» тоже можно, там баталия. Патриотично, как ты уважаешь.
- А давай ты мне вслух почитаешь, - озаряло Дюка,- ты же сказочник у нас по жизни? Я люблю, когда ты...
- Аудиокниги на что, - кидал ему диск Лап, - на, отвисай. В метро вместо музыки врубишь и будет тебе счастье.
- Да оторвись ты от компа, - злился друг, пряча диск, - пошли в баскетбол поиграем. Вставай давай, побомбим кольцо.
- Мой ход... – стонал Лап, - я партию проиграю, отстань, дурила!
- То Онегин, то партия, - говорил Дюк, сгребая его в охапку и выталкивая за дверь, - хомо компьютерис, блин... Третью мировую пропустишь.
Лап возмущался, сдавался, и они шли на площадку.
Но кое-чего Дюк так и не понимал.
- Вот скажи, зачем тебе столько всего, - допрашивал он товарища, - все знать во-первых, - он загибал палец, - невозможно. Во-вторых, бесполезно. В-третьих, не все тебе пригодится в жизни.
- Ты бесишься, что я на тренировку не пошел, - парировал Лап, - в этом причина?
- Ах, как мы с темы соскакиваем, - съехидничал Дюк, - я спросил.
Лап подумал, потеребив себя за ухо – так он делал всегда, когда размышлял.
- Все на свете знать нельзя, это правда. Меня интересуют процессы.
- Процессы?
- Ну, движение. И процессы, которые им управляют.
- Какое и куда движение? И чего, - Дюк ненавидел Лаповы загадки, чувствуя себя идиотом, - объясни.
Они отдыхали на баскетбольной площадке. Было лето, майки липли к телам от пота, но быстро сохли на городском ветру. Вечерело, и надо было расходиться, но Дюку домой не хотелось. Вечер дома означал просмотр телевизора в компании матери, вечно болтающей по телефону, или сидение в интернете и аське с коротко отвечающим Лапом – тот никогда не скучал, находя себе кучу занятий. Были у Дюка и другие дела, но все они были сложены в гараже, в котором не было электричества, поэтому починка очередного мотора откладывалась на воскресенье.
- Движение мира людей, - произнес Лап, - взаимодействие логики с чувствами... любое взаимодействие.
Ошарашенный, Дюк даже замер. Присвистнул.
- Что-то я пропустил,- сказал он, - когда это у тебя ум за разум зашел. Или я недоразвитый. Чего это вдруг такое?
Лап рассмеялся.
-Да нет, все просто,- сказал он. – Вот представь. Есть государства, религии, законы – этих вообще полно, от спорта до литературы... я уже про судебную систему молчу. Много напридуманного людьми. Есть поступки, преступления, нормы морали, ценности там всякие ...
- Всякая шняга,- сказал Дюк, - а если короче?
- А есть законы природы, - согласно кивнул Лап, - на них мы вряд ли влияем.
- Влияем-влияем, расслабься.
- Только эти законы законами, по-моему, и являются. Ибо они законы жизни, и против них не пойдешь. Хотя мы, конечно, пытаемся.
Лап смотрел себе под ноги, кроссовкой чертя что-то вроде квадрата на сером песке.
- А в остальном все управляется чем-то, чему нет объяснения,- продолжил задумчиво.- Пока. Весь геморрой человечества...войны и революции порождены неизвестно чем.
- Природой человека и порождены,- усмехнулся Дюк, - человек самый поганый зверь, ты же знаешь.
- Ты прав, - сказал Лап, - но и самый прекрасный. Кто устанавливает этот баланс? Кто регулирует все эти потоки энергии, не давая нам сдохнуть из-за нас же самих?
- Я думал, что-то серьёзное, - усмехнулся Дюк. – Ягуар в пятнышках, пантера черная – но тот же ягуар. Еще бывает опенок и ложный опенок...
- Примитивненько, - оборвал его Лап, - Бибиси обсмотрелся, «Живая природа».
Дюк обиделся:
- Ну так объясни мне так, чтобы я понял!
- Мне кажется, там где-то есть высшая сила... какая-то объективность, к которой мы придем. Точнее, нас приведут.
Лап был явно взволнован чем-то.
- Кто? Бог?! - спросил его Дюк.
Он почти испугался - сектанты поймали товарища, что ли? Эти умеют мозги промывать.
- Что, а не кто,- поморщился Лап.- То, что человечество накопило вокруг себя за тысячелетия. То, что окружает планету. Или оно было всегда, до нас? То, что направляет человеческие процессы. Некая сила, дух. То, из-за чего нам вообще повезло стать... живыми. И оно, знаешь ли, очень даже материально. Я это чувствую.
Дюк размышлял, катая оранжевый мяч ногой. Уже совсем стемнело, становилось холодновато.
- И чего же больше, по-твоему, вышло из недр человечества? Положительного, отрицательного? Или,- он хихикнул, - вообще сероводорода?
- То-то и оно,- рассмеялся друг, - даже в кровавой войне я нахожу кучу положительных моментов. Милосердия, отваги, любви по отношению к ближнему. А в вывернутых на землю кишках можно найти сходство с тропическим цветком. Чем безобразнее или горше, чем ненормальнее – тем больше красоты. Да и война – подчищает гниль всякую. Разве не так?
- Что-то ты уклонился от темы, алё...
- А в мирное время можно найти такие мерзости, что в войну и не снились...
- Лапыч...
- Остается мерило,- продолжал взволнованно тот, - литература, музыка, наука, искусство. Как зеркало, отсылающее положительные и отрицательные заряды туда, - он кивнул в сумеречное небо, - все зависит от того, кто в него смотрит.
-Так ведь нет их - ни добра, ни зла. Мы же уже решили вроде? Помнишь?
- Да вообще ничего нет, - вздохнул Лап, успокаиваясь, - самое мудрое в нашем случае – узнавание, наблюдение. Восток это давно уяснил для себя. Моя проблема в том, что я не во всем с ним согласен, с Востоком... поэтому хочу знать побольше. Почему все повторяется и как это работает. Если оно существует, конечно. И как мне самому с этим жить.
Дюк продолжал катать мяч. Краем глаза он видел, что Лапу холодно – белокожий, тонкий, он всегда замерзал очень быстро. Накинуть-то даже нечего, черт.
- Лапыч,- спросил он наобум,- а может, ты у меня влюбился? И сидишь тут, все подряд препарируешь. Себя в том числе, а весь мир так, под раздачу попался? Я тебя как-то не узнаю в последнее время. Ты же машина счетная, а не романтик по сути.
Лап смолчал. Наклонился и подергал зачем-то высокую шнуровку кроссовки.
- Хорошо же ты меня знаешь, - было понятно, что он улыбается под закрывшими лицо светлыми волосами. – Может, и так.
А Дюку вдруг стало хреново.
Какими же клещами надо тянуть из него самые простые вещи!
Ну почему было не сказать? И не поделился ведь, ни за что не сказал бы ему, Дюку, лучшему другу, если бы тот не спросил наобум для того, чтобы дальше не развивать не совсем понятные лаповы мысли?
И он раздраженно ляпнул:
- Странная у тебя на любовь реакция. Рассказал бы хоть... А кто это, между прочим? А, Лап?
Тот промолчал. Только поёжился от холода.
- Да пошутил я,- примирительно сказал он. - Пойдем по домам уже, половина двенадцатого.
Дюк растерялся, но допрашивать дальше не стал. Всегда знал, когда просто - не стоит. Ночью, ворочаясь, он подумал о небе, в котором, наверное, есть что-то такое, что отдал ему Лап – что-то очень хранимое и нерассказанное даже ему, единственному и верному другу. Что-то, предназначенное какой-то там девушке, такое, что и не объяснишь никогда. И становилось тоскливо.
«Должно ведь быть радостно, - думал он. – За друзей надо радоваться». Но получалось не очень.
Наверное, они были братьями, думал он иногда. Холодный, и немного надменный на людях, Лап был теплым и очень покладистым. Покладистость, правда, лежала в определенных границах, очерченных жестко и навсегда. Если дело доходило до ссоры, друг превращался в холодный ад. Он замораживал и расчленял горячего Дюка на несрастаемые куски словесным мечом, нимало не разбираясь, кто, собственно, прав. Черта эта у него была ну такая стервозная и сволочная, что лучше было не нарываться.
Такие ссоры Дюк вечно проигрывал, ибо не был силен в подобной полемике. Он на всё отвечал нецензурно, отключал телефон и свирепо гасил Интернет, отрезая себе всякий путь к перемирию. Бывало, что ссора затягивалась на пять или шесть часов – на большее его не хватало. Но однажды он сделал большое открытие – в пятом, кажется, классе, он примчался мириться, утащив из кастрюли горячих еще пирожков. Дверь ему открыл странно шмыгающий, взъерошенный Лап.
- Ты это что... Ревел?!! - в голове такое просто не помещалось.
- Пошел в жопу,- сказал ему тот и захлопнул дверь перед носом. Через три пирожка и долбежки в железо ему все же открыли, и чуть не захлопнули снова – оставался только один пирожок...
- Ты все сожрал, - гневно простил его Лап, - крокодил ты!
Поэтому ссориться Дюк ненавидел, и по большому счету, уступать приходилось ему самому.
Общительный и открытый, он не замыкался на дружбе – но так вышло , что незачем было трудиться душой ради кого-то еще. Все, чего он ждал от людей, чего требовал детский, а впоследствии и подростковый голод, он находил в своем друге. Остальные знакомцы просто разнообразили жизнь – не удивляли, не увлекали, не заставляли задуматься и не собирались понять.
Русичка Голем как-то выдала тему для сочинения – «Что бы вы взяли на необитаемый остров?» Нужно было взять три предмета и выжить три дня благодаря только им. Предлагалось в подробностях описать процесс выживания до мельчайших деталей, и как можно реалистичнее.
«Три дня – ерунда, - подумал тогда Дюк. – Спать можно прижавшись, так теплее, скучно тоже не будет. А спички, соль и хорошую книгу Лап и так возьмет». Достаточно вполне его. Одного.
***
«Найдешь себе девушку, все и закончится», - так сказал ему Лап. И Дюк, как обычно, поверил. Почему бы и не поверить? Он знал, что друг никому не расскажет, к тому же он знает, как надо. Если это так здорово просто от рук – лучше даже, чем от своих собственных, то как же должно быть с женщиной?
«Космос , наверное», - думал Дюк, приглядываясь ко всем существам женского пола одновременно. Иногда его заводили даже собачьи свадьбы, что было само по себе смешно.
Девочки нравились, нравились безоговорочно просто потому, что они были девочками: с коленками, волнительно поднимающими подол, с округлыми попками, выпадающими из низеньких в талии джинсов, с прозрачными кофточками, залезть под которые было так просто – и так невозможно. Почувствовать пальцами тонкую и невероятную кожу ужасно хотелось. Еще хотелось прижаться, ощутив мягкое, и, наверное, послушное тело.
Он часто подталкивал локтем Лапа:
- Смотри, какая.
Тот реагировал сразу, чуть щурился на объект и интересовался:
- И какая же?
Дюк не мог объяснить – девчонки ему импонировали крепенькие и сильные, с богатыми волосами и хорошей развитой грудью. Ему нравились белые влажные зубки под вздернутой пухлой верхней губой, чистая кожа на личике и нежные мочки маленьких ушек, пушок на шейках под стрижками… словом, все то, что было можно увидеть, не раздевая. Единственной вживую раздетой женщиной для Дюка была его мать – и то не совсем, остальную же женскую наготу он наблюдал в телевизоре, Интернете и порножурналах.
- Так бы и съел, - подбирал фразу Дюк, - как она тебе?
- Я не ем человечину,- удивлялся товарищ, - но раз ты так хочешь, то она, на мой взгляд, худовата. Окорока не те!
Лап хихикал и издевался, и не хотел помогать в знакомстве с девчонками. Тут он только мешал. Но знакомиться в одиночку, бросив товарища на произвол, Дюку казалось неправильным, к тому же лапову вкусу он доверял бесконечно. «Переглядки» в общественном транспорте, на улице, в супермаркетах и на совместных тусовках так и оканчивались ничем, а девочки в школе уже давно махнули на Дюка рукой, напоровшись на нехороший стальной блеск глаз Лапина.
Впрочем, кое-какой опыт общения с женским полом у Дюка все-таки имелся.
Прошлым летом, когда Лап свалился с нелепой своей, ставшей традиционной июльской ангиной, Дюка отправили на неделю во Всеволожск, к бабке. Бабка была им совсем чужая – мать очередного любовника Светланы Сергеевны. Дюку предлагалось за ней поухаживать: поохранять, наносить водички, походить в магазин. Идея была материнская: той хотелось свободы в квартире, и такие посылы для Дюка обидным не были. Поэтому, взвесив все про и контра, он согласился.
Бабка оказалась бодрее царского гренадера, и была искренне рада Дюку. Жила она в половине старого дома, утопавшего в сосновой тени, а в другой половине жила семья дачников, пущенных ею на лето. Дачница Кира, симпатичная пухленькая брюнетка, имея при себе хмурого мужа и вечно дремлющего малыша, ходила в коротеньком платье и вела себя так, будто жила на необитаемом острове. Она не утруждала себя макияжем, одеждой и изысканным слогом. Кира, видимо, отдыхала от всяких условностей – увидев в первый раз Дюка, она округлила яркие карие глаза и сказала:
- Ах ты, ягода-то какая!
И беззастенчиво облизнулась.
- Похабница,- проворчала беззлобно бабка,- мужняя ведь жена.
Кира только смеялась, провоцируя Дюка. Итогом её провокаций стало активное тисканье в кустах красной смородины, настолько серьезное, что Дюк обспускался в штаны. Будь он поопытнее, он бы по-быстрому засадил этой отменно готовой к хорошему члену девахе, не снимая трусов. Отъебал бы как следует, и пошел бы себе, как ни в чем ни бывало.
На деле же вышло, что, пробравшись в промежность, он ощутил так много неожиданной скользкой мякоти, что удивился и потащил руку назад. Ладонь была полностью мокрой.
Кира разочарованно зашипела и схватила его за член. Дюк задохнулся и уткнулся ей в шею, она же прижалась так плотно, что он растерялся.
- Целка ты, что ли, - чуть не заплакала Кира,- ну еб твою мать…
Дюку сделалось стыдно, а член его между тем разорвался на части, обтекая позорно и липко. Кира вытерла руки о лопухи, и, насмешливо морщась, сказала:
- Знала бы – не полезла. Да и тебе бы при других обстоятельствах….
- Каких,- отходил от стыдобищи Дюк, - других?
-Не торопясь, аккуратненько, с чувством…Я думала, ты опытный парень, - вздохнула она, - на вид ты взрослый. И бабы таких не пропускают. Должны были уже научить.
- Так научи,- сказал Дюк, - что мешает?
- Ненавижу учить,- неожиданно отрезала Кира, - я ****ься люблю. Училку нашел. Тетки за тридцать любят учить – к ним иди.
Был четверг, а в субботу Дюк уехал обратно в Питер. Лап восседал за компьютером почти голый - в шортах и с замотанным горлом.
- Хочу ****ься,- сказал Дюк с порога, готовясь начать рассказ о своем приключении с Кирой, - ты даже не представляешь, как!
Лап поднял брови, показал пальцами на свое горло и молча кивнул на диван.
****ься так ****ься. Какие проблемы? Все хорошо.
- Нет уж,- зло проворчал Дюк, - обойдусь. Надо решать вопрос.
Лап только молча пожал плечами. Голоса у него сегодня не было. Да и права на него – тоже.
***
Так тогда обстояли дела, но откатившейся на позиции осени до этого не было интереса.
Она уже легла под надменную зиму, послушно свернув грязно-желтое лиственное бельё, и только скалилась мстительно алой рябиной – но и ту планомерно уничтожали городские синицы, жадные до всего натурального. Зима, усмехаясь, раздвигала ледяным коленом осенние лужи, щипала прохожих морозцем, нагло заглядывала между ног молодым петербургским кокеткам в колготках– ну, что тут у нас за год наросло?
В декабре получились сугробы – предчувствие праздника усугублялось, освежая утомленные бессолнечным небом головы, принося настроение в город, в метро, магазины и офисы.
Быстро заледенела Нева, и мосты отказались работать. Все рассказы изменников сделались ложью: с Левого берега на Правый можно было попасть круглосуточно, не напрягая ночевкой ни Колек, ни Васек, а то и Анжелок с Ленками, вернейших друзей и подруг.
Холодало, да.
5.
Класс , как и все, размышлял о досуге. Отчего-то захотелось собраться всем вместе, может быть, потому, что в последний? Без взрослых, солидно. Вечеринки случались, конечно, и раньше – класса этак с восьмого, но они были какие-то детские, в комплекте с беднягой-родителем, жертвенно остававшимся для присмотра за успевавшей хлебнуть неизвестно какого и где компанией. Те, кто любил отрываться по полной, тихо линяли с семейственных сборищ и добирали – кто как, по пустующим лежкам и гаражам. А вот по-настоящему, официально – не складывалось.
В этот раз захотелось по-взрослому: придумать меню, выбрать вино, раскинуть колени – ну вы понимаете.
Праздновать предложила Сергеева, и с ней согласились – даже тандем, у которого планов, как оказалось, не было.
- Последний ведь год,- говорила Сергеева, - больше такого не будет. Все мои уезжают, трехкомнатная квартира.
- Что по деньгам, - раздались голоса, и все стали считать. Оказалось, не дорого, всего по пятьсот.
Алкоголь обещала сергеевская мамаша, продавец магазина, открытого аж двадцать четыре часа. Так ей было спокойнее – дети напьются, зато не отравятся, да и лет-то уже не двенадцать.
- Вливайся,- сказала Сергеева Мексу, - или ты дома будешь, с мамой и папой?
- Я с вами… со всеми,- поправился Мекс,- деньги завтра отдам.
Уроки закончились, и народ потянулся домой. Мекс копался в портфеле, не находя очков – то ли засунул куда, то ли оставил. Марков и Лапин не трогались с места, тихо о чем-то беседуя, а рядом писала бумажку со сметой на будущий праздник Сергеева. Чумной ураган Турандот захватил их врасплох.
- Ребята!!!- проорала она, - нужна ваша помощь! Там елка!
- Чего с ней,- спросил недовольно Дюк,- свалилась-таки?
- Почти что,- дышала Надежда Петровна,- первоклассники прыгали, выбили столбик.
- Ничего себе кони, - хихикнула Сергеева,- как они прыгали резво.
- Помогите же, - раздражилась Петровна, - там теть Маша уборщица стоит, на себе ее держит. Она же наряженная уже, перебьются игрушки!!!
- Так уборщицу нарядить… извращенцы, - Лап рассмеялся, - пойдем, восстановим.
« Это он что… улыбается?» – и Мекса заклинило.
Спасаясь, он быстро взглянул на Сергееву. Та была красной и кусала губу.
Что вообще происходит, хотелось бы знать.
Оба товарища уже двигались к выходу, слушая вопли Надежды Петровны. Турандот оргазмировала – ей все-таки удалось привлечь эту парочку к школьной проблеме!
- Нет, ну ты видел? – спросила Сергеева.
- О чем это ты, – прикинулся Мекс, - ты про Лапина?
Алёна презрительно фыркнула.
- В первый раз за всё время,- сказала она,- симпатичненько.
- Ни разу не видела?
- Представляешь вот,- раскололась Сергеева, - только Дюк, наверное, знает его.
Они посидели, соображая каждый своё, потаённое.
Помолчали.
- Пойдем, может, поможем,- разбил ситуацию Мекс, - он, глядишь, еще улыбнется.
- Идиот,- рассердилась Сергеева, сложила бумажки и двинулась следом.
В актовом зале стоял дикий хохот. Ёлка была под углом по полностью неизвестной причине. Под колючими лапами огромной красавицы пыхтела уборщица, и Дюк поднырнул ей на смену.
- Апельсинов навешали с одной стороны, - заливался Лап,- столбики тут ни при чем!
Столбик один вынимаешь и – бах!
- Ой, точно, - кудахтала Турандот, - пятиклассники наряжали…
- Это они специально,- подал голос развеселившийся Дюк, - помните, у нас в шестом классе тоже такое было?
- Падала!- вспомнила вдруг Турандот, - тогда мы наряжали, по-моему…Прямо на Деда Мороза свалилась. Так и лежала, а все вокруг прыгали. Мороза едва не прибили!
- Мы наряжали,- и оба товарища покатились со смеху, - мы тут до вечера ее… наряжали…
- Вот ведь засранцы, - тихонько сказала себе Турандот, - могло бы кого и насмерть!
А парочка разошлась не на шутку.
- Ты у нас этот… Атлант, - веселился Лап, - что ты красный такой, загорел на питерском солнышке? Где, блин, повязка на чресла, ха-ха!
- Ёлки зелёные… Оставьте мне тряпочку, ну, - ответствовал Дюк,- да это вообще башня пизанская…Долго мне тут атлантировать? Тяжело же!
- Всем Пизам по Атланту! – скандировал Лап, - смычка Италии и России! Решим все проблемы культурных столиц – разденем Атлантов и выпрямим падающие!
- Идиотские шуточки, - пыхтел его друг, - в прошлый раз поднимали веревкой.
Лап веселился, и был дивно хорош в своей фиолетово-белой нездешней рубашке с расстегнутым воротом, чуть растрепанный, теплый. Мексиканец, не захотевший войти, любовался втихую, прильнув к косяку и умирая от странного какого-то чувства… от нежности? Вот какие бывают, пронеслось у него в голове, от них хорошо и светло. На них нужно смотреть обязательно, чтобы знать - радость есть…
- Надо с другой стороны потянуть, Дюк не справится,- командовал Лап, - веревка нужна! Идите сюда все!
Веревка нашлась. Её обернули вокруг елки, чуть помяв пестроватые флаги,слегка потянули, дав Дюку возможность поставить дерево вертикально. Лап забил в крестовину столбик, а Сергеевой с Мексом поручили перевешивать апельсины.
Турандот сорвалась по делам, ощущая вселенское единение и педагогическую гордость от содеянного, и ребята остались вчетвером в разряженном к празднику зале.
Мальчишки засели на сцене, болтая ногами, и явно не торопились идти.
Сергеева вешала фрукты и принимала изящные позы. Косилась назад.
- Алён,- ошалев от собственной смелости, спросил Мекс, - а тебе в таких штанишках как, не холодно?
- Не холодно,- спокойно ответила та,- девушки в Питере ко всему привычные. А что ты там видишь?
- Всё я там вижу. Я не виноват.
Сергеева фыркнула.
-Алён,- снова решился он,- а как Лапина зовут? Я до сих пор многих только по фамилиям знаю. А некоторых вообще по прозвищам.
- Ну ты даешь, одноклассник, - фыркнула та, - Лапина зовут Марк.
- Марк?
- Нормальное имя,- удивилась Сергеева, - раньше не слышал, что ли?
- Слышал, - ответил Мекс, - а у Дюка фамилия Марков.
- Ну да. У них сразу понятно, кто чей.
- Это как же?
- Да так,- сказала Сергеева,- только на голубых они не похожи. Так, конкуренты прикалываются. Они же вместе всегда. Странно, что девушек нет. Из-за этого, может быть.
Мекс уловил характерную горечь – такую же, как у себя порой. Надо спросить.
- По Дюку страдаешь?
Сергеева замерла:
- Что, очень заметно? – она чуть прищурилась. – А ты, что же, по Лапину? Я вообще-то не дура.
- Он же парень,- Мекс храбро посмотрел ей в глаза,- как это возможно?
- Так тоже бывает,- ехидно сказала Сергеева,- такие, как он, всем подряд нравятся. Однохуйственно, - закончила она неожиданно и похабно.
- Апельсины закончились. Ты можешь слезать.
Сергеева приняла галантно подставленную руку и сползла с лестницы.
-Водки хочется,- сказала она голосом взрослой женщины и развязно взвесила грудь на ладонях,- хочется водочки после школочки.
- Коньяк подойдёт?- раздалось от сцены. Говорил Дюк.
Парни смотрели давно и внимательно. Лапин больше не улыбался, а вот товарища наоборот - разбирало.
«Что-то задумали»,- пронеслось в головах у Сергеевой с Мексом. Они быстро переглянулись.
-Подойдет,- ухватилась Сергеева,- угощаешь?
- Подгребайте, пожалуйста,- шутовски раскланялся Дюк и достал из рюкзака бутылку. – Мы иногда на «камчатках» балуемся…
Мекс ощутил неожиданный дух приключений, отваги и запашок авантюры. Коньяк в учреждении, борющемся за нравственность! Это же круто!
Он обернулся и сдернул с елки один апельсин. Подумал и сдернул второй.
- Пропьем сейчас елку,- сказал ему Дюк,- стаканов, к сожалению, не имеем.
Мекс заметил, что сами они уже хороши – коньячок был явно не первый.
- Чего это вы,- мудро спросила Сергеева, - вы же не алкаши, вроде?
- Мы поспорили,- сказал Лап, - мы поспорили, что он выпьет такую баклажку и ему ничего не будет. Никто не заметит.
- И ты проиграл,- подтвердил Дюк,- вот это вторая. На мне не работает. А Лап за компанию, потому что проспорил.
--Ну у тебя и здоровье,- сказала Сергеева и приложилась к бутылке.
Мекс тоже хлебнул – с непривычки глотнул многовато, сразу закашлялся. Его хлопнули по спине, сунули апельсин, усадили на сцену, где он разместился между Сергеевой и Лапом.
Тот был близко, пах коньяком и каким-то еще ароматом, плечо его изредка прикасалось к Мексу, грея скрытой, неожиданной силой.
Сидели. Осторожно болтали на общие темы, а Мексиканцу было так хорошо, как никогда и ни с кем.
Явился вдруг сторож, принесший печальную весть о закрытии школы, они собрались и нестройно вывалились на крыльцо.
- Зима,- удивленно сказал полупьяненький Мекс.
-Она самая,- подтвердили его собутыльники.
- Голова болит, брат,- сказал Лап,- я домой, ты как хочешь.
- Давайте все вместе проводим,- предложил Мекс,- проветримся заодно.
В спину вошло что-то твердое, и он обернулся.
Сергеева строила рожи. «Чего она хочет?»
Наверное, соседствуя с ней, он все-таки вынес житейских премудростей. Ах, ну понятно.
- Я могу проводить тебя,- он прикоснулся к застывшему Лапину,- мне нетрудно. Пусть идут?
Расслабленный Дюк уже уходил, влекомый Сергеевой. Мекс же тихонько вцепился в дорогую дубленку Лапа, который, потирая висок, болезненно морщился, всматриваясь...
Он пойдет за ним, понял тотчас Мексиканец. Окрикнет, остановит. Не пустит. Надо что-нибудь сделать.
- Марк, пойдём. Тебе надо лечь. Они доберутся нормально.
Тот взглянул – болезненно, мутно.
- Как ты меня назвал?
- Марк. Это ведь твоё имя.
- Я им не пользуюсь. Мне оно марку напоминает, которую лижут, а после - наклеивают. Несвобода какая-то.
- Ерунда,- сказал Мекс,- Благородное римское имя. Я почел бы за честь такое носить. А редкие марки стоят дорого и хранятся в бархатных красных альбомах. Лежат там, как короли.
- Марк Аврелий,- кивнул Лап, - да, я помню. Марк Твен. Сплошная филателия.
- Марко Поло, - сказал ему Мекс. – Надо начинать путешествие домой и пить анальгин.
Нельзя, чтобы солнечный мальчик потух. Нельзя, чтобы он был так зависим. Нельзя, чтобы такое страдание.
Мексиканец вдруг стал непреклонен, впервые за всю свою жизнь.
- Тебе надо прилечь, - сказал он жестковато и развернул собеседника в сторону.
И они побрели.
***
«Библиотека»,- подумалось Мексу.
Эта квартира в новом бело-зеленом доме на Октябрьской набережной была не совсем человеческим домом. Пахло старинной, смешанной с запахом клея, картона благороднейшей пылью, той, которую жадно глотают библиофилы. Пахло книгами, которые были повсюду, начиная с просторной прихожей.
На затейливый пол падал свет из растущих внутри потолка овальных светильников. Он грел дубовый паркет,отражаясь на выпуклых буквах томов самого разного просхождения. Книги росли как цветы, до самого верха, занимая все ниши, проемы и полости интересной квартиры.
Да, пахло книгами, пылью, но дом блестел новизной, чистотой. Никаких сваленных в угол пакетов, растерянной обуви, забытых перчаток – словно оранжерея, уход за которой был ежедневным, любовным и тщательным.
- Ого, сколько книг!
Лапу , тем временем, становилось все хуже – в лифте он прикрыл глаза и больше уже ни на что не смотрел, шел как-то наощупь. Боль схватила давящим металлическим шлемом, грозя тошнотой. Для мыслей остался лишь маленький трезвый чулан, и из него доносилось – лечь, немедленно лечь. Закрыть обязательно дверь.
- Дед собирал. До него прадед,- тихо сказал, стараясь не шевелить губами,- теперь я.
Не разуваясь, он проволокся по длинному коридору, вслепую ища по пути выключатель – коридор был свободен от книг, там висели картины. Мягкого света было достаточно, чтобы их рассмотреть: на одной из них Мекс увидел четкий автограф и чуть не присвистнул.
Лап замер, схватился за голову и чихнул.
- Аллергия,- выдавил он, - на книжную пыль.
Сшиб собой дверь в светлую комнату, из которой повеяло улицей, морозом, прохладой.
Мекс вошел следом, оглядываясь. Ни единой бумажки, не то, чтобы книги. Идеально-не-пыльно – сталь , паркет, пластик. На столе у компьютера – круглый аквариум. Рыбок в нем не было, а были конфеты: разноцветные круглые леденцы в прозрачной обертке – оранжево-апельсиновые, лимонные, яблочные. Ягодно-красных было меньше всего, и они светились сквозь зелень и желтое.
«Он тут живет,- подумалось Мексу,- как сторож при книгах».
- Мекс,- глухо промычал Лап и повалился на диван вниз лицом,- там на кухне таблетки есть.
И затих, уткнувшись.
«Какие таблетки,- подумал Мекс, озираясь в чужой, довольно уютной кухне,- анальгин надо. Или какой-нибудь спазмолитик?»
Прикинув, где бы могли размещаться медикаменты, он полез по маленьким кухонным ящичкам. Не обманулся – нашел, набрал из-под крана воды.
Лап лежал в прежней позе, обхватив свою голову и шевелиться не собирался.
- Марк,- позвал его Мекс,- я таблетки принес.
Но тот лежал тихо, и не отреагировал. Или же спал – сбился в мучительный кокон, стараясь не шевелить свою боль. То есть отвечать не желал : когда больно, всё лишнее.
Мексиканец решил, что будить - неуютно, неправильно.
«Подожду,- подумал он, - тормошить не буду».
От нечего делать он пошевелил мышку компьютера, монитор засветился. С экрана поплыли красивые звезды, замерцала Галактика – и ничего. Ни одного ярлыка, выдающего вкусы владельца. Лишь на нижней панели мигает ромашка: «Вам сообщение».
Мекс навел курсор, и прочитал: «Сообщение для captain»
"Будем знать», - и он отложил мышку.
Лап все так же не шевелился, сидеть было скучно, и пора было выбираться из чужой квартиры. Ухаживать за больными Мекс не умел, да и не чувствовал за собой такого почетного права. Находиться в одной комнате с Лапом было как-то неловко и словно по-воровски, а, кроме того, было холодно – окно было слегка приоткрыто, несмотря на зиму.
« Странно в гости зашел. А хотел проводить», - подумалось Мексу.
Подвинул поближе стакан и таблетки, и решил уходить. Но до выхода он не добрался, заглянув в комнату справа – уж больно там было темно. Мексиканец пошарил рукой, выключатель нашелся немедленно: рассеянный свет, будто снег опустился - лаская.
И здесь только книги, понял Мекс. Библиотека была вовсе не мёртвой - собранной из каприза,из спеси или изменчивой моды. Не было ровных, безликих рядов не раскрытых ни разу собраний – авторы располагались по алфавиту; некоторые из книг встречались по нескольку раз, в разных изданиях. В плотных рядах переплетов чуялась жизнь – все они были обласканы чуткими пальцами, каждая книга пролистана.
Он пробежался по полкам взглядом. Пушкина – несколько книг, в том числе старых ,наверное, еще в довоенной бумаге. Гоголь, немного Некрасова, ни разу не виданные им переплёты. Стена русской классики – все, что угодно. Бунин, Куприн, Тургенев – по алфавиту. Все, видимо, лучшее. То, что читалось и нравилось.
Дальше были иностранные книги. Мекс обнаружил и Джойса, и Миллера ,сильно затёртого Воннегута. Между ними, как будто недавно и не к месту засунутый, тоненько вклинился переведенный Виан.
«Пена дней», прочёл Мекс.
«Я темный, совсем темный еврей»,- подумал он, и с трудом вытащил книгу, осторожно придерживая соседние. Прислушался – тишина.
В нише, между стеллажами, был низкий журнальный стол и пара старинных глубоких коричневых кресел – в такие положено забираться с ногами, включать светлую тёплую лампу – и читать, читать…
Что Мекс и сделал, облившись с первых же строк оранжевым радостным солнцем, насмешливой элегантностью:
«Колен отложил гребень и, вооружившись маникюрными ножницами, подрезал наискосок уголки своих матовых век, чтобы придать тем самым своему взгляду таинственность. Ему часто приходилось повторять эту операцию, поскольку веки у него отрастали очень быстро. Он зажег маленькую лампу увеличительного зеркала и придвинулся вплотную к нему, чтобы проверить состояние своего эпидермиса.
Вокруг крыльев носа выступило несколько угрей. Увидев крупным планом, сколь они уродливы, угри быстро нырнули обратно под кожу, и удовлетворенный Koлен погасил лампу».*
- Ха,- улыбнулся Мекс, потрогал себя за нос и нырнул в текст. Он читал, не чувствуя времени, удивляясь, грустя и раздумывая. За окнами давно почернело, было тихо, уютно, покойно, и он сам не заметил, как, замечтавшись, уснул.
***
Звонок захрипел и завис, не желая рождаться мелодией под сильным и долгим нажимом. Гудел электричеством, подыхая под упертым в блестящую кнопку пальцем.
Лап распахнул тяжелую дверь, сбив звонящего в укутанное мягкой и толстой курткой плечо – Дюк отлетел прямо к лифту, освободив, наконец, мерзко брякнувший напоследок звонок.
Он был дерзок и гадок, возбуждён и совсем обессилен. Так, что не почувствовал двери, и не заметил другого лица. Он пьяно толкнулся от принявшей его ослабевшее тело стены и пошел прямо на Лапа. Тот отпрянул обратно в квартиру.
- Др-руг, - глупо скалясь, полез на товарища Дюк, - ты просто обязан меня пр…поздравить…
- Ты пьян в жопу, - бесцветно сказал ему Лап, - ты чего приперся? Ночь давно.
- Ты должен меня по.. - Дюк качнулся и схватился за него, оседая всей массой, - я сегодня…
- Ты трахнулся, - спокойно помог ему Лап, - и нажрался. Ты шел бы домой.
Говорить ничего не хотелось. Дюк подозрительно тихо висел у него на плече. Расслабленный, пьяный, он показался чужим, отвратительным. Он раздражал, словно обоссавшийся тысячный раз, завшивевший мерзостный бомж.
- Слезь с меня, Дюк,- сказал он, стараясь не двигаться,- ты очень тяжелый.
От друга несло сладковато-спиртным проститутским дешевым ликером, чужими духами, и будто бы вытащенным из-под засаленных юбок самым нижним, интимным бельем. Лап задыхался.
Злоба, одна только злоба, подумалось вдруг. Душила разлитым густым ядовитым дегтем, выжигая горечью от горла до живота.
- Встань, я сказал.
Но Дюк не услышал. Уткнувшись в плечо, он довольно мурлыкнул:
- Ага. Я нажрался. Но это потом я. А до того я не-ее… Я все помню! – он сделал попытку отлипнуть от Лапа, но вышло, что навалился сильнее, втолкнув его прямо в квартиру.
Тот увернулся, а Дюк пролетел в коридор, упал, распластавшись на дубовом полу.
- Ну е… - он прополз к стеллажам, и уселся, все так же бессмысленно улыбаясь.
Он был румяный с мороза, со взмокшими от мелкого быстрого снега висками. Счастливый, и по-детски дурацкий, ставший на отдалении неожиданно свежим, красивым и …беззащитным.
Лап смотрел на него, утомленного первым сексом и больше всего алкоголем. Собирался внутри.
- Ты зачем пришёл, - сказал он как можно спокойнее.- Шел бы домой.
- Ма-аать же, - удивленно протянул Дюк, - расстроится. Я у тебя поваляюсь.
- Нечего у меня, - отрезал Лап, - домой вали. На хер ты мне тут сдался.
Дюк понемногу очухивался, но продолжал улыбаться так глупо, что хотелось его задушить.
- А! - выкрикнул он, поднимая указательный палец. - Я понял! Я понял! Ты мне это… Ты мне просто завидуешь.
И замер, напоровшись на странный, полыхнувший безумием взгляд. Это вдруг отрезвило.
Лап изменился. Он больше не выглядел злым, а сделался сосредоточенным, собранным . Как будто на что-то решившись, он, осторожно ступая, вдруг двинулся к Дюку. Словно хотел рассчитать траекторию перед разбегом,а потом влупить по мячу - забить свой решающий гол. Пенальти.
- Ты завидуешь, точно, - довольно хихикнул Дюк, опасливо подбирая коленки, - ты ведь у нас еще ма-альчик…
Тот прыгнул. Он придавил жертву сверху, схватил за одежду, сгребая с неожиданной силой, злобой, и неожиданно впился в пьяные Дюковы губы. Вынимая дыхание, кусая тонкую кожу.
- Как она тебя,- сказал он ему прямо в лицо, - как она тебя трахала? Так?
Дюк потрясенно обмяк под натиском и ничего, ничего не делал.
Лучший друг рвал ему рот зубами, пихая злой, ненасытный язык в сладкое, горькое, неподатливое.
- Как она тебя трахала? Отвечай, - он душил друга курткой, как-то нервно хихикая, - как ****а? В рот?
Сгреб жесткие джинсы в паху и рванул на себя.
Оглушенный всем этим, Дюк болтался, как тряпичная кукла. Мир сузился до полураскрытых губ Лапа, влажных, злых и опасных.
Опасных.
- Ох… Да ты что?! Охуел!!! – он, наконец, среагировал. – Ты кусаешься!
- Это ты охуел, - Лап душил его, встряхивая, - это- ты- о-ху-ел… Ты пришел сообщить мне про бабу… ты ведь мог промолчать, ты же все понимал. Ты, ****ь, воняешь ее трусами.
Он тряхнул еще раз. И больше не стал разговаривать – впился надолго, как-то сам по себе, ни на что уже не обращая внимания. Отчаянно, вот как.
Дюк хотел вырваться , но сил не достало. Попытался ударить, но размахнуться не было места.
- Дай рот,- прошептал ему Лап,- ты же мог с ней… ну почему? Почему?!
Он что-то еще бормотал, слишком много и неразборчиво; он что-то делал с губами, глазами, и всем лицом Дюка - так, как не делал никто. Он говорил ему что-то такое, от чего поднималось внутри.
Все это было абсолютно чужое. Опасное.
Дюк замер, не слушая, и терпеливо пережидая. Сжал губы и пытался дышать. Лап продолжал целовать – лизал, прорывался, покусывал - стискивал голову, гладил.
Раскрывал его сжатые губы, пальцами надавил скулы, и, наконец, добился.
А потом он спросил:
- У тебя же стоит. У тебя же стоит на меня, с детства так было.
Наконец-то отлип.
- И что, - сказал Дюк, машинально стирая с лица, - и что? Ты зачем это сделал сейчас, придурок? Больной пидарас. Мы же вместе придумали всё… что напоим её, я пойду.
В чем проблема?
Лап смотрел неотрывно, и, казалось, не слышал.
- Больной пидарас, - повторил машинально.
"Что у него за лицо",- подумалось Дюку.
Такое бывает у тех, кто уже не от мира сего, понял он. На всякий случай спросил:
- Ты не ширялся, случайно? Курил?
По подбородку что-то щекотно ползло - противно, никак не переставая и пачкая.
- У тебя на меня стоит, Дюк,- повторил ему Лап.- Я думал, что можно. Но я не смогу этого выдержать. Ты понимаешь? Я никогда не смогу. Я сам хочу быть с тобой. Сам. Давно.
Цепляясь за книги, Дюк наконец-таки встал.
До него доносилось откуда-то снизу, а может быть, сверху - но невнятно, неважно, и как-то по-лишнему:
- Ты ничем не рискуешь. Ты не думай. Я подставлюсь. Мне будет нормально. Я сделаю, как ты захочешь. Не уходи. Я подставлюсь. Будет не хуже. Я обещаю.
Дюк наклонился, стряхнул непонятную пыль со штанов.
"Я придурок,- пробилось в нём здравое,- я просто полностью идиот"
- Ты с ума сошел, - сказал он, наконец. – Я, конечно, догадывался. Но ты это ты. А я вообще так не хочу. Я же не гомик.
«Не такие слова надо было»
Лап покачнулся внизу, там, на теплом полу. Быстро закрылся руками. Спрятался в стиснутых пальцах.
Дюк рванулся к так и не закрытой двери.
-Беги, - раздалось ему вслед, - еби кого хочешь. Только чтобы я тебя в своей жизни больше не видел.
***
Лап посидел на полу в незакрытой квартире, дожидаясь дежурного скрежета парадной двери. То ли пропустил, то ли не услышал.
Зато он увидел.
- Ты что тут делаешь, чучело, - безо всякого удивления спросил он у бледного, потрясенного Мекса. – Ты почему не ушел?
- Я… я заснул. Я читал и … вот.
Мекса качало. Он вцепился в дверной косяк так, что, казалось, длинные его пальцы вот-вот сломаются. Все сразу. И кисти сломаются, и локти. И весь он вообще целиком.
- Да, я все видел,- он сглотнул,- и слышал. Я никому не скажу. Марк, я… никому, я клянусь.
- Застрелить тебя, что ли, - мертво прошелестел Лап,- сил просто нет. Иди ты отсюда уже. Филателист сраный.
Мекс лихорадочно одевался. Вдруг замер и развернулся с порога.
- Я остаться могу. Кофе сделать. Можем в шахматы поиграть…
Он попятился, увидев глаза. Отшатнулся и выбежал из квартиры.
- Извини, - сказал он уже в лифте, - о господи, прости ты меня…прости…
***
Когда Лап, наконец, поднялся, за окном пробивалось мутное петербургское утро. Тридцать первое декабря наступало тяжелыми праздничными ногами, затоптав напоследок этот легкий, наполненный светом и радостью, памятный год.
Быстро оделся, рассовал по карманам телефон, плеер, деньги, запер квартиру.
- Бабуль, я приеду, - сказал он в мобильник, - сабантуй рассосался, я с вами. Что-нибудь надо из города?
В Новый год надо быть с теми, кто тебя любит, думал он, ежась от холода в полупустой электричке. С теми, кто не изменит своего родного, любимого запаха. Никогда.
6.
Там, за стеклом, мелькали деревья, цепляя лепными от снега ветвями невнимательный взор. Не нужна красота, никому не нужна, осыпайтесь по-честному, думалось Лапу. Пусть растает воняющей жижей, вот тогда будет правда – такая, какова она есть, не прикрытая снегом и заиндевелыми мхами. Пусть растопырится, напоминая - здравствуй, умник, вот и дошло до тебя. Проскребло, намекая на будущее, мутное, словно выхлоп старинного паровоза. Возможно, такое горячее, что и не выживешь, раздёргает в мясо, как многих.
Но так он совсем не желал.
Зверем упрямым сидела какая-то сила, из-за которой, казалось, он мог и умел перегрызть что угодно. Сам себе горло – и то бы сумел. Замерзал в электричке и чуял: сейчас до зарезу, как Дюк говорит, нужен покой, тишина. Чтобы спокойно обдумать, как в шахматах. И неважно, насколько затянется партия, главное, чтобы она началась.
Мама и бабушка оказались на станции.
- Вы зачем тут,- удивленно спросил у них Лап, - кто же в лавке?
- Встречаем тебя,- ответила мать,- заодно дышим зимой!
Мать бывала в России редко. Танцовщица, она бросила труппу по просьбе отца. Тот, не прижившись в каких-то гламурных кругах, покинул театр задолго до неё, и создал свой собственный. Родитель не стал возноситься при жизни в отпетые классики танца, скорее, в нем выжил талантливый антрепренер. Дела его быстро пошли после лихих девяностых, и к моменту больших потрясений в стране вся труппа трудилась в уютном Париже, с трехлетним контрактом на выступления в Европе.
Так все сложилось; над маленьким Лапиным не задыхались в родительском благоговении, да и тот не давал раскисать, хитроумно вписавшись в надежды о правильном мальчике. Все были дружны, весьма крепко, и лишь потому, что имели свободу – от ссор, в том числе.
Сейчас мать была дома – точнее, на даче в Сосново, родовом многолетнем гнезде, вместе с бабушкой, вот уже с пару лет как оставившей Лапа самого на себя:
- Ты во мне не нуждаешься, - сказал она,- на выходные наезжать буду.
Бабуля боялась за дом – в Сосново пошли непонятные кражи, поджоги, и нужно было присутствовать. Она даже завела что-то вроде ремонта, обновляя прочный еще, чуть заброшенный дом – словом, дел у неё было довольно.
Две фигурки на стылой платформе отвлекли и напомнили - у него есть семья. Мама, в спортивном и белом, певучая, лёгкая, с неиспорченными краской и сединой волосами – те смешно выбивались из шапочки. Бабушка, заглублённая в лисий тулуп и безразмерные пестрые валенки – оба этих предмета были любимы семьёй: носить мог любой, в них было удобно и уютно. Кто раньше всех впрыгнул – тот и в тепле…
-Ты сегодня, гляжу, победила, - он пытался шутить. Ну а как?
- Ма-аленький,- потянулась румяная мать, вставая на цыпочки, - хорошо, что приехал. Бабушка делает утку.
- Без яблок,- вредным голосом сообщила бабуля, выдвигаясь вперед для лисьих объятий,- яблоки нынче плохи. С черносливом. Ты как?
- Хорошо,- внук обнял её, - ты здесь, птица дома. Сгорит.
Он сделал из рук просторные кренделя, за которые обе тотчас ухватились, то ли держа на ледянке-платформе, то ли повисая из-за неё же...
Полночь пришла по-домашнему, при отключенном звуке непременного телевизора, под мерцание узких старинных бокалов, уже потемневших от времени – неотмываемо и благородно.
Дом тоже ждал – просторный, спокойный, он окружал полумраком, белел живыми цветами и пах настоящими хвойными лапами. Много свечей – это мать пополняла коллекцию, привозя из Европы подсвечники: чашечки-огоньки всех размеров, цветов и форм. Чёрная мебель стояла торжественно, тенями рисуя провалы в иные миры; тишина залегла в ожидании свежего года, к ней ластился изредка родственный разговор.
Сидели за круглым накрытым столом и ждали домашних часов – бой немного натужный, но живой, настоящий.
«Смазать,- мельком подумалось Лапу,- совсем запустил механизм. Или отдать перебрать»
Любовался он матерью – тонкой, с рассыпанным пеплом роскошных волос, тонкобровой и грациозной, как все танцовщицы. От бабушки же веяло нахохленной птицей-совой – насупилась, а ведь вроде бы праздник.
- Перевалили,- сказал она, - еще один год уничтожили. Мы его, а не он нас. Ура, товарищи!
- С Новым Годом, ворчукча, - поддел её внук, - значит, будешь недовольна весь год?
- Я довольна,- ответила та,- но почему мне Президента не дали послушать, не понимаю!
Все рассмеялись, потому что заткнуть телевизор она предложила сама, и находилась теперь в угрызениях, видимо.
- Карты!- сказала бабуля, хищно прицеливаясь на ящик бюро.
- Танцы! – воскликнула мать, допивая шампанское,- маленький, как хорошо! Танго!
- Да ну, я забыл...
- Быть не может, - и она потащила сына.
Да, это была его мать, живая и гибкая, всего сорока невеликих девчоночьих лет. Сила в её тренированном теле вела его к танцу, который, по счастью, быстро ожил в мышечной памяти Лапа. Они танцевали с детства – и вальс, и чечетку, и даже случился у них менуэт, а вот танго...
Этот танец и вовсе не танец, знал Лап; это секс, чистый секс, разделенный под музыку. Когда он немного освоил шаги, и мать повела, он испытал что-то вроде смущения – дело было не столько в движениях. Она, вероятно, не могла по-другому - такими отчаянно женскими стали глаза, а энергия гибкого тела её слишком сильно хлестнула тогда – не родным, страстно-женским, пугающе…
Она танцевала с ним, словно с чужим, не с сыном, не делая скидок – он сделался скован. А потом мать сказала:
- Ты знаешь, а ведь самыми первыми танго танцевали парни.
- Да ну?
- Относись, как к любви,- пояснила она, - отпусти себя, дай себе волю, почувствуй. Представь, что не я, а другая, кого ты вдруг любишь... ну или хочешь любить. Эмоция, маленький! Давай на меня, salido... раз-два... восемь. Молодец, теперь поворот – называется ochos... ах, молодец! Ну почему же ты отказался танцевать в свое время?
Она научила его – сложному, в общем-то, делу, научила вести себя, женщину, в танце. Сообщила желания пола на тончайшем доступном ей уровне, заставив понять саму сладость взаимного ритма-порыва, объяснила природу… свою.
Лап повел и забылся – ощущая послушное тело, отдавал ей слегка резковато, небрежно отчерчивал повороты, понимая, что мама подстроится. Лишь однажды поймал изучающий взгляд, в остальном же она – наслаждалась.
«Хорошо», - думал он.
Аргентинское танго крошилось о домашний танцпол ее каблучками, чуть нервным напором партнёра; южным, горячечным ритмом отзывались стены старого сруба.
- Кончайте милонгу,- забренчала единственный зритель бабуля в наступившей тиши по бокалам, - мне скучно! Будем гадать, разговаривать!
Потом мать курила на чистом от снега крыльце, закутавшись в общую рыжую шубу, а Лап стоял рядом, не решаясь попросить сигарету – она предложила сама. Дождалась, пока он затянется, и спросила:
- Ну и что у вас с Дюком, маленький? Почему не вместе?
- Свои интересы, - пожал Лап плечами, - девушки, другая компания.
- Раздружились, - не поверила мать, - за день? Так не бывает. Ничего, помиритесь.
- Помиримся. Куда денемся. Спасибо тебе, мам.
- За что, – она отобрала у него потухшую сигарету, - я же просто спросила.
- За танец, мамуль, - улыбнулся Лап,- он получился.
***
Телефон он включил в Рождество. Едва отойдя от безделья, тот стал дребезжать, надрываясь вибрацией, долго. Насчитав двадцать два входяще-непринятых, Лап плюнул, отложив аппарат до поры. Однако маленький гад продолжал ерепениться, разражаясь пронзительным писком: пошли сообщения. Первые были от Дюка, их открывать не хотелось. Дальше – с незнакомого номера, и пересилило любопытство.
«Ты не можешь вот так плюнуть и послать меня»
Полистал – снова какие-то незнакомцы.
«Я знаю, что ты голубой. Я тебя никогда не винил и не буду».
- Ибо не в чем,- сказал Лап телефону и стёр сообщение. – Я сам толком не знаю, кто я, а меня разукрасили.
Телефон снова выдал: «Память заполнена»
- Идиотство, - приложил его Лап и приготовился чистить. Но не успел – телефон разразился живым, настоящим звонком прямо в лицо.
- Я стою на платформе Сосново, тут дико холодно, чтобы ты знал, - проорал ему Дюк. – Если ты меня отсюда не снимешь, то я завершаю экскурсию в жизнь.
- Возвращайся обратно.
- Ноль тридцать, обратных уже не будет. Забери меня отсюда, я же дороги не знаю.
- Буду через пятнадцать минут, - Лап ответил не сразу. – Там есть магазин круглосуточный, там пока потусуйся.
«Вот ведь гад,- думал он, залезая в дежурные валенки,- специально ведь так подгадал. А если бы я телефон не включил?»
До пустынной платформы он добрался за десять минут. Снег валил мягкими хлопьями: там, наверху, кто-то жарил особо воздушный небесный попкорн. Шагалось по снежным завалам непросто, и Лап с раздражением думал: как будто бы в шаре стеклянном, с лубочной игрушкой внутри. Такие штуковины часто хватают дежурным подарком, особо не мучаясь с выбором. В них то домики с вечно заснеженной крышей, то елочки с зайцами, то еще ерунда. И, всенепременнейше, снег. Он, Лап, сейчас будто внутри – ноги вроде бы двигаются, перебирая поверхность, но он никуда не придёт, ибо шар.
Дюк сидел в магазине на корточках, привалившись к одинокому холодильнику с пепсикольными банками, и грыз карамель из пакета . На добела стертом линолеуме под ним расплывался растаявший снег. Сам он даже не улыбнулся, сосредоточенно смакуя продукт.
- Привет, - сказал он, - хочешь конфетку?
Лап смотрел на него, и не знал, что сказать. Красивый, огромный в своем мягком зеленом пуховике Дюк показался чужим.
«Неделю не видел. Отвык, - пронеслось в голове. - как совсем новый парень. И лопает, как крокодил»
- Але, - потряс его Дюк, поднявшись, - я понимаю, ты зол. Но переночевать-то пустишь? Я ж не могу до утра тут торчать.
- В шесть ноль пять первая электричка. Пойдем.
Они побрели – Лап впереди, пробивая дорогу огромными валенками, Дюк следом. Молчалось неловко. Свернули, оказавшись на густо утыканной деревьями сосновой аллее - снега тут было почти до колена, и Лап снизил темп.
Сзади раздалось хихиканье:
- Ты прямо как Амундсен. Бороздишь Заполярье.
Лап было хмыкнул, но вовремя спохватился. Снег вязко держал за безразмерные валенки, грозя оприходовать их и оставить владельца в носках. Шапка на нем – дачный, старый треух. Дедовский, как из какого-то мультика, теплый. Еще бы берданку, и полуоблезлого пса – ни дать ни взять деревенский сторож. Обходит свои, блин, владенья.
- Амундсен пропал без вести. Его никто не нашел, - Лап выдернул ногу из очередного сугроба, - но до сих пор недотёпы с деньгами пытаются организовать поиски. Не понимаю, зачем. Если человек решил погибнуть так, чтобы никто не нашёл, какого рожна искать.
- А он, может, не хотел умирать,- сказал сзади Дюк, треща подмерзшими леденцами, - он , может, аварию потерпел. Конфетку хочешь?
- Ну, потерпел, - огрызнулся Лап, - только ему уже все равно. То есть абсолютно
Дюк налетел неожиданно, облапив большими руками, сбил шапку, крепко прижав.
- Поэтому важно найти, - сказал он ему в ухо, - и по-быстрому. И обезвредить. Чтобы не успел отморозить по дурости жизненно важные.
Они вовсе одни, одиноки в расходящейся снова метели. Не лаяли даже дворовые псы, хранящие дорогое тепло в свернувшихся комом телах. В домах за заборами не было и намека на электричество, но в небе висела огромная, не прикрытая ватой, луна. «С луной неполадки,- пришло в голову Лапу, - то у американцев там флаг развевается, то она через тучи сияет»
- Отпусти меня, ты, - сказал он. – Отпусти.
- Я с первого числа тут дежурю. Ты мне весь праздник изгадил. Нафига телефон отключил?
- С первого? Это зачем? – замер Лап, - что ты тут делал- то первого?
- То же, что и второго. И третьего. Сообщения надо читать.
- Я одно прочитал. Ты меня в пидоры записал.
Дюк рассмеялся:
- Фантазии твои поросячьи. Ты мне сам говорил, что пидоры – это другое. То есть ты ничего не читал, – было понятно, что Дюк веселится, - Мои сочинения не впечатлили, короче. Я, между прочим, старался.
- Не видел я эту твою поэму...
- А! Ты, наверное, ревел, как всегда, - залился красноречием Дюк, - а экран расплывался перед твоими серьезными глазками крутого отличника...
- Я не ревел!!! – хоть бы вырваться, блин, - я тупо не видел. Стёр! Ты зачем приперся вообще? Что тебе не лежится с Сергеевой в теплой постельке, а? Какого? Постебаться приехал?
Друг держал его крепко. Развернул, прижимая сильнее.
- Смешные у тебя валенки, Лап.
Дюк был довольный, в съехавшей набок вязаной шапке. Луна освещала лицо, с потрохами выдавая пляшущих в темных глазах хулиганских чертей.
Он стиснул Лапа покрепче и добавил:
- И ревнуешь ты тоже смешно.
Слегка наклонился, закрыл глаза и коснулся губами холодного носа Лапа. Запахло ванилью и дивным, родным теплом. Замерли.
Такая дурацкая тут тишина. Бесшумная вата с небес, страшные сосны, подглядывают. Делают вид, что прикрыли глаза лохматыми хвойными веками… сволочи.
- Ты конфеты жрал, - растерянно сказал Лап, - ты меня липким...испачкал...
- Вот и нет. Я целую тебя. Кто бы мог подумать.
- Зачем же?
- Потому что ты мой родной друг. Ты мой... черт тебя знает, кто. И я не знаю, что теперь делать. Поэтому просто...
И поцеловал осторожно, в губы.
«Словно девочку, - пронеслось в голове Лапа, - это же невыносимо как нежно...»
А дальше он умер, обвиснув в объятиях. Успел лишь понять и согласиться со всем.
- Эй, ты чего, - подхватил его Дюк, - Лапыч, ты чё... Ох ты, Амундсен мой.
***
Лап приходил в чувство на своем неразобранном зеленом диване. Был то ли вечер, или же раннее утро, врочем, неважно. В каникулы можно валяться, а можно бродить по ночам. Было бы, правда, с кем и куда.
Он в тысячный рассмотрел телефон. Экран был невинно спокоен, лишь в углу надоедливо кисли две глупые смс-ки от Мекса.
Никто не тревожил. По сосновским снегам волоклась, оставляя неровные красные метки, душа, обдираясь в лохмотья, по жесткому насту . Но так было надо, знал Лап.
***
Между ляжек Сергеевой Дюк оказался так быстро, что не успел изготовиться толком. Она потянулась к нему еще у подъезда, опасаясь, вероятно, перемены сценария – ну, вдруг он откажется подниматься в квартиру, или вообще передумает. Вполне профессиональный захват вымел из дюковой головы лишние мысли, и он даже не слышал скрипуче-ворчащего с лавочки:
- Третьего повела за неделю.
Они так и не расцепились в темной квартире, стирая собой, как ластиком, розоватые стены. Спотыкались об обувь, слепо давя ее зимними сапогами Сергеевой и кроссовками Дюка, рушили какие-то швабры. Потом он почуял – сейчас.
Он замер на миг, прижав тело Сергеевой к рябенькой гобеленовой плахе дивана. Угнездился прочнее меж теплых, послушно раскинутых бедер, пусть в верхней одежде, но это всё мелочи. Выбросил в сторону куртку, рванул ширинку.
Да, она была теплая, и какая-то очень удобная, славно созданная для погружения в неё.
Сергеева не тушевалась при укусах в соски, не поджималась при беспорядочных резких толчках, не жеманилась – она отдавалась безо всяких вопросов. Видно, что она была счастлива, поливая процесс своим внутренним соком для непрерывного удовольствия. Особенных действий не совершала, слушалась беспрекословно; только сбивчиво выдыхала - Дюк был тяжелый, давящий, не склонный к изысканным играм, сосредоточенный там, в глубине, на своем острие, бестолково ворошащий все устройство Сергеевой и свои ощущения заодно.
Голову вычистил первобытный инстинкт, и прежние страхи рассеялись. Он даже не замер на входе - опытный омут Сергеевой засосал его сам, не дав времени на разведку колко побритых окрестностей. Он провалился вовнутрь, и накатило.
«Горячо», - повело и нахлынуло, и сначала он испугался немного: как бы не кончить, и приостановился. Но вроде бы отпустило, подзамерев, и Дюк ошибочно быстро задвигался с почти осязаемой мыслью – подольше. Работало почти пару минут, и все-таки...
- Зачем же в меня,- недовольно заметили снизу,- не вытащить было?
«Мало», - догадался он. Через блаженную муть доходило, что она недовольна.
Выдравшись из-под Дюка, Сергеева вытиралась каким-то бельем, широко растопырив пухлые аппетитные ноги. Полезла по ящикам – долго двигала с шумом и треском, пока, наконец, не нашла. Таблетки.
- Извини,- сказал он,- а что за колёса?
- Таблетки, чтоб не было детки,- недовольно ответила та,- как маленький, честное слово. Первый раз, что ли.
«Вот ведь, - подумалось Дюку.- Наверное, все они так говорят. Красота».
- Ладно тебе,- примирительно сказал он,- иди лучше ко мне.
Сергеева враз помягчела и почти нежно пробулькала:
- Я в ванную...
- Сюда, я сказал, иди.
Человек лишь животное. Животное – не плохое, если вдуматься, определение. Люди сильно теряют, забывая о том, что их живой организм всегда все-таки зверь, а не шутовской венец всемогущей природы. Человек бы меньше болел и не сходил бы с ума. Он бы трахался больше и был бы доволен. Что за радость – прозябать у компьютера, читать чужой бред про эту же самую жизнь и воображать себя невесть кем. Лап образумится, думал Дюк через алкогольную дымку в мозгах, все наладится и будет, как прежде.
Так он думал все время, пока не рухнул в кровать, куда его толкнула Светлана Сергеевна, по совместительству мать. А наутро болела губа – она так распухла, что Дюк все вспомнил.
В душе он долго намыливал и смывал пену с натертого члена – первые опыты были приятными, но непривычными. Смывал и намыливал, думал – надо бы смазать, наверное.
Он вытерся насухо, промокнул пострадавшее место отдельно. Где-то он видел крем – не из тех многочисленных банок, занявших стеклянную полку, а детский, с ушастым зайцем. Где-то же был, знал Дюк, и полез через сонм угрожающих склянок вслепую, в глубину невеликого шкафчика. И тут же отдернул руку – с пальцев капало.
- А, блин,- ругнулся он.- Этого еще не хватало.
Мать хранила опасную бритву – старинную, из тех, что правят о сыромятный ремень. Бритва гордо стояла в стакане, даже не сложенная, то есть мать это мать...
- Ну батюшки светы,- Дюк сунул руку под кран,- ну вечно засунет.
Кровь бодро побежала из распаренных пальцев, хоть порезы и были несильные.
- Ма!!!- заорал он,- я из-за твоей бритвы чуть не истек! Кровью! Принеси бинт!
Позже, ковыряя за завтраком яичницу левой рукой, он отчего-то завис над тарелкой, и долго сидел, не шевелясь.
- Ты что не ешь,- спросила мать, - левой никак? Давай покормлю.
Дюк шарахнулся.
- Не надо,- сипло сказал он. – Обойдусь.
- Грубый стал, - вздохнула Светлана Сергеевна. – Как все мужики.
А к вечеру он позвонил Сергеевой, которая оказалась свободна, и, кажется, вполне ожидала в гости. Так и сложилось на время каникул – сон до полудня, быстрые хмурые дни ни о чем, отключенный телефон и ежевечерний податливый секс. В жизни все очень просто.
7.
- Вижу плохо в последнее время,- сказал Лап и плюхнул рюкзак перед носом Сергеевой.- Можешь на моё.
Мекс торопливо кивнул, и подвинулся вместе со стулом, демонстративно освобождая пространство. Сергеева оглянулась.
Дюк в упор созерцал всю компанию, положив ноги на стулья. Нехотя выпрямился, отодвигаясь.
- Не возражаешь? - Лап кинул на парту тетрадь,- как вообще каникулы?
Он был совершенно такой, как всегда. Никаких горемычных гримас или тоскливого взгляда. Отлично одет, вкусно и дорого пахнет.
- Хорошо выглядишь,- не удержался Мекс,- я заходил, тебя не было.
- За городом, с мамой. Там свежий воздух и снега полно. После этого всегда хорошо. С чего вдруг должно быть плохо? А ты что хотел?
- Так,- сказал Мекс и зарылся в портфель. Затылком он чувствовал какой-то неправильный взгляд с «камчатки», но ведь это могли быть и его, Мекса, фантазии.
Брякнул ленивый звонок, перед ними возник математик, мозг вяло заскрежетал отвыкшими за каникулы гайками – война-то войной, Мексиканец, а алгебра по расписанию.
Жизнь потащилась обыденным школьным путём, лишь за тем исключением, что ссору друзей ожидаемо горячо обсуждали. Делали это по-тихому - в столовой, туалетах, остальных потаённых местах. После школы, в спортзале – все давились догадками, наиболее верной найдя лишь одну: друзья не поделили Сергееву.
- Сергеева ****ь,- припечатал всех Рэпмен. – Херня это все. Такая овца только для одного годится.
- Ну а что,- приставали девчонки,- они же столько лет дружат!
- Да ничего, - отмахнулся Саня,- мне лично пофиг. И вам не советую.
Вскоре будто бы все улеглось, обсуждать перестали и немного привыкли. Напряжения не было – Лап все так же пускал по рядам решенные тесты, правил контрольные. Он, казалось, вовсе не изменился – здоровался с Дюком, как и со всеми, не реагировал на девчонок, быстро окруживших бывшего друга. Стало понятно – Лапин есть Лапин, независимо ни от кого, он есть и останется прежним. А Марков – что Марков? Перешел в разряд одноклассников, и ему достается обычная доля, такая же, как и всем остальным – спокойной доброжелательности и обычной лаповой отстраненности, без лишних эмоций.
Мексиканец таскался за Лапиным преданно, точно какая-то свита. Он неожиданно похорошел, облачившись в приятные глазу джемпер и джинсы, повесил на плечи модный рюкзак, стерев с себя имидж чудилы. Оказалось, что Мекс, между прочим, вполне симпатичный пацан – высокий и ладный, если б не волосы, росшие так беспорядочно, что впору было завязывать бантики. И Мекс завязал, стянув шевелюру черной невидной резинкой, сразу сделавшись кем-то богемным, вроде молодого художника.
- Тебе идет,- сказал Лап,- сразу стиль. Не стригись. Тебе если стричься, то очень коротко, но это всегда успеешь.
Уходили из школы вдвоем, не задерживаясь, и не особенно торопясь, перекидываясь о чем-то своем, свеже-приятельском, расставались на остановке – Лапу было недалеко, а Мекс лез в маршрутку.
Внешне и Дюк соблюдал реноме. Но пришлось посложнее: висящую липко Сергееву он возненавидел через неделю, но отлепить не умел. Терпел, все чаще срываясь к толпе одноклассников – примыкать удавалось, однако Сергеева шла за ним, как привязанная, дыша в спину. У неё были на это причины - школьные девочки, увидев свободного от Лапина Дюка, включились на полную мощность.
Её, счастливо восседавшую рядом, почему-то не брали в расчёт.Дюк сначала блаженствовал, но внимание девочек неожиданно быстро приелось. Болтовня, перестрелки словами, приглашения скрытые и не совсем – это всё щекотало приятно, но нигде не задерживалось. Секс был и так, а к большему он не стремился. Инстинктивно он понял, что с Сергеевой проще всего – без знакомства с родителями, походов в кино и прилюдных сосаний по скверикам. Поэтому он лишь слегка флиртовал, не отдавая никому предпочтения.
И неконтролируемо зверел, исподтишка наблюдая безмятежного Лапина. Стискивал зубы, проходя мимо их подоконника, где бывший товарищ листал, как обычно, электронный словарь, уютно устроившись между горшками с геранью. Думал догнать после школы, но нет: рядом тащился ненавистный Мекс, и Лап уходил расслабленным шагом.
Хотелось поговорить, все выяснить, помириться, разрешить ситуацию, забраться в светлую лапову комнату вместе, как прежде – но подходящего случая не было. Дюк злился и плёлся к Сергеевой, и это здорово помогало.
***
Он лежал вдоль неё с хорошим таким стояком, готовился к долгому сексу. Но медлил сегодня, чуть отодвинув желание, рассеянно тиская мягкую женскую грудь. Тело было готово, но мысли роились отдельно, объявив неожиданно автономию от либидо хозяина.
«Его может не быть никогда, - обвалилась вдруг сверху тяжёлая истина, - это не просто так ссора. Он если решил, то решил. Рыдать будет, вешаться, но уйдёт, пританцовывая»
Встал, нашел джинсы. Член недовольно торчал из трусов и сочился слезами.
Сергеева тоже не понимала, недоумённо привстав.
- Пойду,- сказал Дюк. – Вот случилось-то, а. Что я тут делаю, ты не знаешь?
- Ты куда,- удивилась она,- где что случилось?
- Друга я потерял, - он втиснулся джинсы, не глядя, - друга слил из-за бабы. Или он меня слил, неважно. Оба слили. Но это неправильно. Это нельзя.
- Да что с тобой такое, что ты вскочил? – Сергеева крепко вцепилась.- Потом и пойдешь.
- Пошла ты,- сказал ей Дюк, выдирая штаны, - нет, я пошел... короче, прости.
На лестнице быстро набрал сообщение: «Надо встретиться».
- Охуеть,- сказал себе в лифте,- Лапу смс-ки пишу. Раньше жил там практически. Что случилось-то, Лапыч, что у нас за херня?
Лап не ответил, но это всё это вовсе не страшно – звук на его телефоне частенько был выключен. А вот свет в его кухне - горел.
Дюк быстро потыкал в плоские клавиши.
- Кто,- испросил домофон.
- Надо поговорить,- волнуясь, ответил Дюк,- пусти меня.
- Кто это,- глупо прикинулись из блестящей коробки,- я не понял.
- Все ты понял,- озлился Дюк,- нажимай, я пройду всё равно.
- Сейчас спущусь,- сказал Лап и повесил трубку.
Вышел не скоро, тогда, когда Дюк уже собирался трезвонить по новой. Был в незастегнутой куртке, на ходу заматывая вокруг горла длинный шарф в черно-белую шашку. Удивленно спросил:
- Случилось чего?
Этот Лап раздражал и бесил. Кроме этого, у Дюка сильно ныло в паху – незаконченный секс глумился по полной над горе-любовником, так подло покинувшим битву.
- Пойдем в скверик,- сказал Дюк,- не у подъезда же. Я вижу, меня теперь и в дом не пускают.
- Мама дома,- коротко пояснил Лап, - да и ты не с ромашкой пришел. Что у тебя, говори.
- У меня,- хмыкнул Дюк,- у нас, Лапин, у нас. Кончай ты придуриваться.
Хотелось повесить его на этом стильном мягком шарфе. Чтобы выругался. Чтобы заорал или как-нибудь обозвался.
- Хорошо,- сказал Лап,- пойдем в скверик.
Он двинулся первым, скользя по подъеденной грязным сугробом дорожке. Из-под куртки-косухи виднелась оранжевая толстовка - любимая, знал Дюк. Отросшие волосы путались в крупной вязке шарфа, Лап сутулился, осторожничая на скользком, руки держал в карманах. Дюк рассматривал лапову спину, отмечая походку и всякие старые мелочи – раньше не обращал ведь внимания, надо же.
- Я тут...- Лап споткнулся, чуть оборачиваясь,- я тут наткнулся в инете на частные мемуары. Парень про семью свою пишет.
- Что пишет?
- Пишет, при Сталине людей забирали в домашней одежде. Его прадеда забрали в домашних тапочках.
- Ну и?
- Тапочки им вернули,- сказал Лап, - представляешь. Удивительный факт.
- А остальную одежду?
- В ней расстреляли. Нечего было возвращать. При чем тут одежда? Человека ведь не вернули.
- И что дальше, - Дюк был несказанно рад диалогу, но к чему клонилось, не понимал. Он чувствовал невыносимую муку.
Целых два месяца. Всё это время с ним никто ни о чём не шутил , ничего не рассказывал. Не задавал интересных вопросов, не заставлял шевелиться душой. Не будоражил воображение...
- Дальше? – Лап вспрыгнул на лавочку, уселся на отполированный чужими задам насест, - дальше семья эти тапочки похоронила. Как положено. Отпеть в церкви не дали, конечно, но зато есть могила. Есть куда прийти.
- Почти анекдот,- хмыкнул Дюк,- гроб и тапочки есть, тела нет.
- Не согласен,- Лап резко дёрнул за «молнию» куртки,- ты хотел пообщаться. О событиях двухмесячной давности, если я правильно понял. Что тебя не устраивает?
Дюк ошеломленно молчал. Он ощутил себя маленьким мальчиком, который был брошен на улице и который швырялся песком в незнакомых людей. Люди взяли мальчишку с собой на двенадцать немыслимо сказочных лет, а потом просто выбросили обратно, удивленно спросив: что тебя не устраивает?
Он готов был взбеситься, но удивительно чуткий сегодня мозг, опасаясь, что второго шанса может не быть, вновь включил автономное мыслеснабжение.
- Напрасно,- спокойно ответил он. – Я не верю, что тебе наплевать на меня. Я тупо не верю.
- Ты волен думать, как хочешь. Я спросил, в чем проблема?
Да, он всегда перехватывал нить, обращая ее в прочную леску, и тянул на себя. Из диалогов на щекотливые темы Дюк выдергивался, словно глупый карась, швырялся на берег, а позже бывал милосердно отпущен.
Но сегодня была не такая рыбалка.
- Мы дружили двенадцать лет,- сказал Дюк,- почему мы не можем продолжить? Я готов извиниться.
Лап хмыкнул:
- Да дело не в этом.
- В чем тогда?
- Ты всё правильно сделал. Я, скорее всего, да. Голубой.
Дюк запрыгнул на лавочку, сел и пихнул плечом:
- Ну, это не новости. Что, у голубых не бывает друзей-натуралов? Что нам мешает, скажи.
Он неожиданно почувствовал то, как дернулся Лап. Закрыл руками лицо.
- Эй?
- Заебал ты меня с этой дружбой.
- Не понял...
- Да не дружил я с тобой никогда,- промычал через руки Лап,- не дружил я. Любил. Все время... любил. И сейчас.
- Чего?!
Сквер белел старым, истоптанным снегом. Этот снег уже самоубился и ничего не несет – ни свежести, ни даже воды желающей солнца земле. Он прикрывает собачье дерьмо и пивные бутылки, препятствуя дворникам расправиться с ними.
Среди белых проплешин торчали пустые деревья – голые базы для беспардонных и хитрых ворон. Вышки для снайперов.
- В последний раз я… я просто не выдержал,- снова услышал Дюк,- я раньше пытался сказать тебе, по-разному. Ты просто не хотел понимать. Скажешь, нет?
- Я не слышал. Мне никогда не понять.
Помолчали. Как-то надо брести через всё это, и лучше вперед. Дюк сказал:
- Но ведь должен быть выход.
- Мы уже вышли, - выдохнул друг, - все сложилось. Почти без потерь. Время пройдет, ты привыкнешь. Все будет нормально.
- То есть всё?
- Всё.
Лап соскочил со скамейки – говорить больше не о чем. Но милосердно добавил:
- Это грустно. Согласен. Как тапочки хоронить.
Так вот куда приплывают печальные и чужие истории. Они приплывают к тебе.
- Это свинство,- выдавил Дюк.- Это просто кидалово. Ты решил, ты подумал, отлично. Какой крутой пидарас. Я в восхищении.
- Эмоции, - и Лап рассмеялся,- это пройдёт. Я тоже не с бухты-барахты придумал. Много прочел всего на этот предмет. Все равно разойдёмся, миры слишком разные. О том, что мне нужно и как, ты будешь думать всегда. Ну, ты понимаешь.
- Не понимаю ни слова.
- Не одному тебе хочется трахаться. Усёк? Начнутся другие контакты. Тебе вряд ли понравится, так? Кроме этого, сам рискуешь. Тебе же важна репутация мачо... или нет?
- Да ну хватит уже, блин...
- Всё это понятно,- снова улыбнулся Лап,- теперь дальше. Дело ведь не в тебе даже. Есть еще я.
Он подошел очень близко, и Дюк, наконец, разглядел мутноватую дымку в обычно прозрачных серых глазах. « А красивый он,- неожиданно выплыла мысль,- не замечал никогда»
Он вдруг понял, что Лапу больно, и это так странно кольнуло, так едко обидело – ну почему, почему все случилось, зачем?
- Представь,- Лап продолжил,- что рядом с тобой человек, которого ты много лет любишь. Которого хочешь... я не знаю, как это сказать... пусть будет так. Ты хоть однажды задавался вопросом, что я делал после того, как дрочил тебе? Куда я шел-то, ты знаешь?
- Куда? В ванную вроде... Ополоснуть там.
- Верно. А что я там делал, по-твоему?
- Что?
- Я слизывал твою сперму и целовал себе руки, представляя, что целую тебя. Вот что я делал. Я съедал её. Слизывал, понял?
Он стоял перед Дюком жестокий, прямой.
- Ну и как тебе это, - он усмехнулся,- как насчет дружбы? Нормально? Я тебе нужен такой?
- Ты. Ты, ****ь… лучше не говори ничего.
- Вот видишь.
Дюк притих, ощущая, как мерзнет между курткой и джинсами голая поясница. Голова стала ватной, с трудом пропуская в сознание хозяина.
- Ты натурал,- сказал Лап,- им и останешься. Жалеть меня я тебе не советую. Я хочу, чтобы меня любили, так, как мне важно и хочется. Не так уж много. Ты - не можешь, а мне оторваться от этого надо. Я справлюсь,за тобой мне таскаться бессмысленно. Мне нужна только дистанция. Потерпим до мая, а потом я уеду к родителям.Давно бы уехал... а теперь уже нечего.
- Как… уедешь?
Все чернело стремительно – снег приобрел белизну в наступающей ночи, вышки-деревья исчезли, вороны заснули, а насмешливый Лап перестал быть опасным. Дюк сказал:
- У меня есть желание. Право имею.
Нужно сделать, как прежде, как он раньше не понял. Дёрнуть его на себя, дать под дых, завалить и о землю побить. Вытряхнуть к черту всю дурь, накатившую вдруг на единственного… ****ь, на единственного в жизни вообще человека…
- Желание?- удивленно переспросил Лап, - алгебру сделать?
- Раз это все из-за ебли, насколько я понял… то ты отсоси мне,- жестко сказал Дюк, - как мечтаешь. По-вашему, по-голубому. Ты ведь умеешь уже? По-любому ведь будешь кому-то сосать. Под кем-то лежать. Почему бы?
Дюк мог поклясться, что слышал придавленный смех, но товарищ ответил из темноты совершенно серьезно:
- Ты уверен?
-Уверен. А вдруг ты мне врёшь. Вот и проверим.
- Что, прямо здесь?
- У меня,- сказал Дюк,- пошли, я замерз.
Жизнь проста, знал он. Посмотрим, насколько.
***
Он шел по хрустящей от мелких ледышек дорожке, чутко прислушиваясь к шагам позади. Лап там,наверное, по-прежнему съежившись, руки в карманах – странно, раньше он никогда не сутулился. Хотелось встать вкопанно – так, чтобы он налетел. Потрясти, чтобы он, наконец, оклемался.
Дюк слушал хруст льдинок и думал: зря я, наверное. Выбить немного из логики, большего он не хотел…. что Лап сочинит теперь. Ладно, будем беседовать дома. За чаем.
Он привычно свернул налево, к себе. Тишина отрезвила - хруст ледышек исчез. Лап добрался уже до подъезда и тянулся ключом к домофону.
- Стой!- заорал Дюк, и рванулся к нему,- Лапыч, стой… Подожди! Да я ж пошутил же, ну Лапыч! Я пошутил!
Тяжелая дверь с мягким чавканьем хлопнула перед носом.
- Лап! – и он забарабанил по глухому железу,- открой, я сказал! Я пошутил же!
Подняться в квартиру минутное дело, и Дюк стал давить домофон. Тишина - вероятно, отключен.
В кухне, в окне с полосатыми черно-белыми жалюзи, вспыхнул свет.
Наскрёб грязноватых осколков, прицелился и кинул в окно. Стекло звонко брякнуло. Дюк кинул еще.
- Я окно тебе сейчас разобью! Выходи! – заорал он,- или впусти меня, слышишь? Лап, сука, впусти меня, я выбью, сказал!
Он метнул еще раз, подрезав наличник – льдина глухим рикошетом отлетела к соседям в карниз. У соседей задвигались шторы.
Увидел, как безнадежно погас свет в кухне Лапиных, как ярко он вспыхнул в соседском окне. Скрипнула форточка.
- Лапыч! – крикнул он еще раз, - Лапыч, открой мне! Давай нормально поговорим. Лапыч, пожалуйста...
- Молодой человек,- прошипели из форточки,- мы милицию щас позовём.
- Пошла на ***,- сказал форточке Дюк,- мне надо.
Форточка скрипнула снова, и наступила совсем тишина. Никто не входил в подъезд, и не выходил из него. Двенадцатый час, завтра вторник, рабочее время.
- Ты меня бросил,- громко сказал окну Дюк,- слышишь, сволочь? Ты меня бросил. Ты сам все похерил, все моё! Своё!
Сзади тихонько хихикнули. На него с любопытством смотрели две девушки – по виду студентки. Или продавщицы какие-нибудь.
- Из какого подъезда?- спросил у них Дюк. Девчонки отрицательно покачали беретами.
- Ну и валите отсюда.
Крупно шагая, он вспахал уже кисший подтаявшей грязью газон, по пути вытирая о куртку грязные руки.
Значит, всё.
***
Мать, увидев его лицо, молча исчезла в кухне. Чем-то брякнула, что-то поставила.
- Иди сюда,- позвала она.
На столе, согревая одним своим видом, стояла бутылка-коньяк, пара рюмок.
- Сам найдёшь, если я не налью,- сказала Светлана Сергеевна, расчленяя лимон на тончайшие дольки,- рассказывай. Кстати, она звонила. Раза три.
- Кто?- Дюк уже протирал замысловатый стопарь, хрустально-изрезанный, явный привет из той эпохи застоя, что частенько хвалили люди постарше.
- Мадама твоя,- хитренько выдала мать,- голосочек такой обаятельный. Ты бы ей позвонил. Или мобильник включи.
- Завтра в школе увидимся,- сказал Дюк, и опрокинул напиток в себя.- Ерунда, не коньяк. Да не надо мне этот лимон.
Светлана Сергеевна настороженно наблюдала.
- А где был-то,- спросила она, - с Лапом опять?
- С Лапом был,- сказал Дюк, - разговаривали.
- Ну и как, помирились?
- У него новый друг,- сообщил, удивленно разглядывая забавную вещь – разноцветного петуха из зеленых и красных тряпичек,- это что за фигня тут у нас?
- Грелка для чайника,- удивилась Светлана Сергеевна,- уже год как стоит.
- Не замечал,- сказал Дюк, - понятно. А у моего друга другой друг.
И тут же поморщился – нагородил-то.
- Почему? Вы ведь даже не ссорились. Что ж такое случилось?
- Я просто ему надоел.
- Ерунда,- алкоголь догонял Светлану Сергеевну быстро,- Лап не девка капризная. Я думаю, ты виноват.
Дюк не верил ушам. Вот так мать. Говорит, называется, с сыном по душам.
- То есть как? – коньяк словно сам запорхнул в пищевод.- Ты ж не знаешь ничего, а туда же.
- А вот так,- она не дрогнула,- сам посуди. Где бы ты был, если бы не он? Да в колонии. Он тебя...- она поискала слово,- он тебя воспитал почти. Несмотря на то, что сам ребенок.
Из меня мать-то кукушка, сам знаешь. Спаиваю вот тебя,- она грубовато и как-то развязно хихикнула.
Откровение за откровением. Лап святой, а он, значит, гопник.
Мать поболтала бутылкой, подумала и плеснула еще – на два пальца, как водки.
- И как ты теперь без него,- спросила она,- своей головой будешь думать? Другого Лапа найдешь? Учти, друзья нынче - штучный товар.
«Да она пьяная,- понял Дюк,- такое несет. Штучки, товары...»
- Своей головой. Никто меня не воспитывал. Я это я.
- Ты, кто же спорит,- мать налила и ему,- весь в отца. Выпей.
Дюк вдруг заметил, что она чем-то мается. И коньяк неспроста. Так и есть.
- Вчера встретила общих знакомых,- сказала мать.- Спился твой папа и умер, сердце не выдержало. Такой же задорный был, как и ты, красивый и баб... женщин любил. Думал, сильный и смелый, все впереди. Рассказать?- мать мяла лимон, собираясь макнуть его в сахар.
Дюк нашелся кивнуть и затих.
- Забеременела случайно,- вздохнула мать,- танцевали-гуляли... Техникум, стипендия неплохая была. А он поезда водил, Питер - Москва и обратно. Веселый, красивый.Ах, какой был...
- Ты это уже говорила.
- У нас практика была в ресторане на Московском вокзале, там и познакомились. Он когда приезжал, оставался ненадолго. Как узнал, что ребенок, то сразу исчез. Сказал, что находится в поиске, ищет свой путь. Он вообще странный был.
- Почему?
- Ну,- мать внимательно рассматривала холеные руки,- какой-то он был как пустой. То есть умный, конечно, интересный, но вот в душе... Будто оттуда вынесли все без остатка. Он мне так и сказал: я своё отлюбил. Ничего его не цепляло, и никто. Была, вероятно, какая-то там история у него раньше. Нет, он меня не обманывал, я не в обиде. Пришел, когда тебе где-то полгода было.
- А зачем приходил?
- На тебя посмотреть,- ответила мать,- довольный такой. Правда, ни денег, ни продуктов – ничего не принес. А хотелось бы.
- А потом?
- И потом появлялся,- кивнула мать, - смотрел на тебя, уходил.
- Я не видел его никогда.
- А зачем,- пожала плечами мать,- он не рвался, а я так тем более. А потом ты подружился с Лапом. Я очень хорошо это помню.
- Помнишь? Ты?
- Да. Ты драться тогда перестал, припадки прошли.
- Какие ещё припадки?
- Кричал по ночам,- пояснила мать, - лет до семи. Нервное что-то, названия не помню. Как Лап появился, все успокоилось. Он тогда был похож на этого... - она морщилась в поисках нужного слова,- книжка была про принца, детская. По планетам еще летал. Не помню.
- А отец,- напомнил Дюк,- дальше что?
- Лет пять назад его видела, на Московском вокзале. Я тогда из Анапы приехала. Фрукты везла, помнишь?
- Да. В коробке,- припомнил Дюк,- в здоровенной такой.
- В ней,- Светлана Сергеевна достала початую пачку, - ну так тяжелая. А он там – кем бы ты думал? Носильщиком. Тележки волохают там с багажом, ну, ты видел.
- Носильщиком...
- Ну да. Увидел меня и мимо проехал со своей таратайкой. Разминулись на узкой платформе. Он же раньше водил поезда. Питер - Москва и обратно. А потом, видно, спился. Вся, собственно, встреча.
Дюк проглотил свою порцию. Чай - и тот вроде крепче.
- А умер он следующим образом,- мать пустила наверх дымно-вязкую в кухонном воздухе струйку,- напился зимой, уснул на платформе. Поезд ждал из Москвы на перроне. И инфаркт. Так и умер, на тележке этой своей. Охрана не стала будить, думали, поезд придет, он сам проснется. А поезд пришел на четвертый, левая сторона. А он ждал на третьей, тоже на левой, не знаю я точно. Говорили, он всегда этот поезд ждал. Пассажиры пошли, потрясли его, он и свалился. Странно вообще-то вышло.
Она встала и зло затушила окурок в раковине.
- Вот так он нашел свой путь,- сказала Светлана Сергеевна. – Всю свою жизнь искал.
Дюк рассматривал темно-янтарную горькую жидкость, согревая её ладонью. Лап говорил, что коньяк нужно сначала понюхать, а потом немножко погреть. Потом нужно по кругу плеснуть, чтобы он разошелся, а потом уже пить...
- Я не он,- отозвался.
- Один в один,- грустно сказала мать. – Силищи много, а все бестолковое, без руля и ветрил, как народ говорит. Кстати, еще об отце. С похоронами случилась странная вещь. Если бы не это, я бы и не узнала.
- Какая?
- В паспорте у него номер нашли. Так и было написано – в случае смерти звонить сюда. Позвонили. Приехал какой-то мужик с охраной и забрал его. Даже в морг отвезти не дал. Корочки показал, говорят, какие-то и забрал. Сказал, что могила будет на Южном кладбище. У меня подруга в тамошней церкви работает, она его узнала на отпевании. Этот же мужик его и хоронил, один. Даже нести до машины было некому, кроме него, людей просили с других похорон. Я ездила неделю назад, отыскала - и знаешь что? Могила такая богатая, места много, как кому-то оставлено...
- Тапочки,- сказал Дюк. – Это тапочки.
- Как? Да ты что... сыночка... ты плачешь, никак? Сына!
- Да уйди ты.
Он взял бутылку, в которой еще было ровно наполовину, резко поднялся и вышел. Заперся в ванной, и выпил остатки один, давясь коньяком и слезами, горечью, пьяными мыслями, которые не прогоняли тоски. Так и заснул, подломившись в коленях, скрючившись в тесном проходе – утром сосед по площадке выбил замок и его, наконец, уложили.
***
Светлане Сергеевне пришлось взять отгул.
Она кляла себя за развязавшийся пьяный язык, за дурную свою жестокость. «Кому отомстила,- выла она внутри себя,- сыну родному. Зачем рассказала?»
Она напекла своих фирменных пирожков, завелась было даже с варениками, но вовремя спохватилась – сын не любит вареников, вареники любит Лап, особенно с творогом.
Такая забывчивость ужаснула её окончательно, и она передумала звонить лучшему другу Дюка, решившись справляться с ситуацией сама, и только сама.
Отравленный дозой Дюк не спешил подниматься. То ли спал, то ли нет. Проснувшись, он грыз анальгин, пил клюквенный морс и снова ложился. На вопросы отвечал односложно, сказав для проформы обычное:
- Да все в порядке, мам.
В воскресенье он встал, оделся, попросил денег и пропал, оставив дома мобильник.
Мексиканец был счастлив. Он относился к породе людей, которые каждую малость воспринимают как благо: найденный рубль за подарок, а молчаливое снисхождение – за новую дружбу. Это было бы вовсе неплохо, если бы не страсть, с которой он стал дарить себя Лапу.
Мекс несся на всех парусах, не обращая внимания на то, что новый товарищ не требует рассказов о детстве и бабушке, глубокомысленных рассуждений о музыке... Впрочем, нет, на музыке Лап оживился – очевидно, в этой области знаний он имел небольшие пробелы.
– Ты пианист,- удивился, - мне так и показалось сначала, но потом я не подумал спросить.
- Да,- расцвел Мексиканец, радуясь счастливо найденной теме,- много лет. У меня неплохой инструмент дома.
- «Стейнвей»?- спросил Лап. – Они дорогие. Немецкие, говорят, лучше звучат, чем американские, хотя я не понимаю разницы.
- Ты разбираешься?- поразился Мексиканец, - нет, у меня «Фациоли». У него превосходный характер, очень послушный.
- Я и вовсе не разбираюсь,- признался Лап,- просто запомнил форумный спор музыкантов в инете. В конце они перешли на площадную брань.
Они рассмеялись.
После этого разговора Мекс впервые подошел к забытому, вот уже скоро как год, инструменту. На крышке кабинетного небольшого рояля накопились стопки журналов, вышивание, счета за квартиру - раньше все это считалось немыслимым. Мекс сделал попытку убрать эту кипу спокойно, но, чуть подумав, скинул на пол. Бумага рассыпалась, выручив своей мягкой подстилкой запрятанную неизвестно зачем толстую дедову линзу- с ней он читал.
- Ты меня ненавидишь, я знаю, - сказал он роялю,- скажи что-нибудь.
Он тронул аккордом, и инструмент отозвался – чисто, сочно. Пробуя руку, пробежался с нажимом по всему черно-белому ряду – нет, настройка не требовалась.
- Не обиделся,- сказал Мексиканец. Разыгрываться не хотелось, как выйдет, так и выйдет.
Пальцы сами нашли. Чайковский, «Подснежник». Его он помнил напамять.
«Потому что скоро апрель, - думал Мекс, упиваясь забытым полетом,- потому что отогревается всё».
Он играл, и рука не болела. В темном проеме двери кто-то маячил. Плакала бабушка.
***
Лап появился у них по забавному делу – разбирая библиотеку, он нашел партитуру с автографом. Это был Скрябин, огромная кипа потрёпанных нот, отпечатанная в старинной немецкой печатне.
- Что это,- не веря своим глазам, пролепетал Мексиканец, - почему ты принес его?
- Нипочему,- удивился Лап,- хочу узнать, чей автограф. Знакомо?
- Нет,- сказал Мекс,- это к специалистам надо. Но это очень старая партитура! Вот бы сыграть... Я исполнял Скрябина...
- Кстати,- будто бы невзначай обронил Лап,- Скрябин тоже в своё время руку переиграл. А играть не надо.
Он аккуратно сложил партитуру в специальную папку, и неожиданно улыбнулся:
- У меня от нот в глазах зарябило. Давай лучше что-нибудь очень спокойное... или любимое.
Так повелись среди них вечера, в которые Лап забирался на старый продавленный, как и все в этом доме, диван, открывал принесенную книгу и слушал. То ли слушал, то ли читал - неизвестно. Мексиканец все видел: как он молча сидит над страницами, как резко встает, делая вид, что хочет пройтись. Мексиканец не знал, что он слышит, понимает ли музыку – но тот приходил, оставался, давал утянуть себя в разговор ненадолго, и чуялось, что это ему помогает. Мекс играл ему Шуберта, Вагнера, часто – Чайковского из «Времен года», а иногда, разозлясь на его отстраненность, брался за труд, за этюды резковатого Черни. Заодно восстанавливал руки – странно, но те превосходно работали, и ни одна не болела.
Бабуля была без ума от Лапа.
- Таки я увидела ангела,- уверенно сказала она,- он вернет тебе руки, Боря.
- Он может,- ответил ей Мекс.
Но, пребывая в полёте от своей новой дружбы, он понимал, что в саму глубину её он никогда не пролезет. Может, спустя долгие, долгие годы? Наверное, тогда, когда этого Дюка не будет. Поэтому он, как умел, развлекал - играл в темноте, заполняя пространство чистыми звуками итальянского, не по обстановке квартиры, дорогого рояля и сдавленно ликовал.
Это было единственное, что ему доставалось.
***
-Надо перекантоваться с неделю,- сказал Дюк. Буза хитровато прищурился:
- Выпить есть? Или деньги?
- Само собой,- сказал Дюк и достал «журавля».- Когда я пустой приходил.
- Мать выгнала,- проник за пределы Буза,- смотри, ить менты приканают.
- Не придут,- сказал Дюк,- если не спалите. Если что, у меня с собой паспорт.
- Только неделя,- сказал Буза,- харч, как обычно, свой. Бабу не трогать.
- Хы,- улыбнулся Дюк,- я для вашей красавицы маленький. Не волновайтесь, пожалуйста.
Чердак у этого трио бомжей был сухой, относительно чистый и теплый. Остался великой загадкой тот факт, как сюда, в старый фонд на Васильевском острове, не забрался со своими деньгами охочий нефтяник-москвич. Дом был старый, доходный, со настоящими печками в каждой квартире – их уж никто не топил; насмерть сложенные, печи служили каркасом столетнему зданию. Старый фасад выходил на Двадцатую линию, в сердце имелся классический дворик-колодец, много кошек и любопытных старушек, уверенно доживавших свой век в коммуналке.
Словом, рай. Единственной горечью трио бомжей был домофон – не пускали. Приходилось частенько колотиться снаружи, пока кто-нибудь из жильцов не захочет войти. Однако и это решилось – народ попривык, сочтя поселенцев благонадежными, и нечаянно выбросил ключик у самой двери.
А, может, его потеряли.
Как бы там ни было, но так оказалось спокойнее: жильцы, вероятно, пугались, когда у парадной в ночи тихо трясся безропотный Шапка, или часто нетрезвая Соня-бухгалтер. Ключ был получен, а с ним весь чердак приобрел для бомжей высочайший из статусов - превратился в настоящую «хату».
Жили компанией, и были, наверное, счастливы – каждый имел свой заточенный городом промысел и твёрдую долю в помойке, которые худо и бедно кормили.
Буза был вор, завязавший после бурного прошлого, так и не ставший удачливым профи – быть абсолютно свободным по каким-то идейным соображениям ему показалось достойнее. Наверное, издержки тюремного быта родили в нём крайность, исходя из которой он стен не терпел.
Шапка благополучно был слесарем, пока не прибил начальника цеха тяжелым своим инструментом: тот умер, не приходя ни в какое сознание, да и сказать ничего не успел - но Шапка решил убежать. Срок поиска за его преступление в Хабаровском крае давно уже вышел, вряд бы Шапку нашли по чужим документам – но он продолжал бомжевать, потому что привык.
Соня-бухгалтер оказалась бродяжкой по дури – прилепилась к Бузе и оставила дом в Подмосковье, откуда её методично выживала сноха.
Троицу Дюк знал давно, с тех пор, как они лазали по питерским крышам с Лапом - Васильевский остров богат на сплошные и пологие скаты, как-то раз они очутились и здесь.
Чердак был, скорее, мансардой- с окошками, в которые било прожектором редкое солнце, с пыльными балками, с наваленной кучей сухой фанеры, тряпками, грудами стройматериалов, сваленных со времен капитальных ремонтов, и с голубями, влетавшими вовнутрь неизвестно откуда. Было довольно прохладно, но сухо, и жить было можно - особенно летом.
Дюк появился к вечеру, принес «журавля», и был принят на важном совместном совете - к водке ему была выдана корка, кусочек лимона и срез колбасы. Он отказался, доложив общаку упаковку сосисок, батон и шоколадную плитку, отчего был возлюблен всей троицей запросто. От него возжелали рассказов о том, как он дошел до жизни такой, и почему его выгнала мать.
- Просто пожить,- сказал он,- среди добрых людей.
После этого его полюбили серьезно и определили в углу – там теплее, сказали ему, и больше в душу не лезли.
Ночью лежал, наблюдая движения пыльных гирлянд в городском освещении – оно добиралось сюда, как ни странно. Не спал – не давала возня в углу, где любились Буза и тихушница Сонька. Шапка тоже ворочался, ждал своей очереди, шевеля на мотне шаровары. Одутловатая Сонька стонала так долго и громко, что Дюк озадачился – может, ей плохо? Но Шапка лежал спокойно, а значит, обычное дело.
Место было хорошее для того, чтобы как следует все обдумать. Получилось сбежать, обретя иной воздух – чужой, не пропитанный прежним. Валялся на лежке из тряпок в глубине чердака, на вершине чужого и странного дна, которое вынесло всё настоящее, оставляя лишь место для главного. В таких закоулках понятно, сильный ли тянешь вопрос, и,если он важный, то его не убьёт ни чердак, ни крики бомжихи.
Дюк чувствовал: идея работала, шли дни и голова прояснялась, самая суть наконец-то созрела. Он вычленил главный свой страх из сонма сомнений, и вывод потряс.
Он бродил по серому талому городу целыми днями. Было странно гулять одному – город спрашивал: «Где?».
«Нету, сэр Питер,- отвечал ему Дюк,- и поэтому я половины тебя не увижу».
Не дано, чуял он, ему не дано забираться фантазией в самые незаметные щели - он был прост, незатейлив, практичен, сам себя будить не умел. Не видел монеток под треснувшей плиткой, не замечал дивных граффити на белёных по-модному питерских стенах, не читал старых вывесок, все еще расположенных редко, но так по-домашнему на облупленном панцире маленьких улиц. Чумазые лебеди шлепались в луже у Дюка, а у Лапа они бы светились розоватым пером, отрастающим заново...
Вечером слушал рассказы бомжей, удивлялся. Незатейливость этих троих умиляла, до щемления где-то в носу – ничего ведь не требуют, никого не клянут, как растения – тихие, почти бестелесны под тряпками. Вот между собой иногда конфликтуют: из-за корочки хлеба, окурка - большие трагедии.
Ночью лежалось подальше от пахнущих улицей чердаковладельцев, думалось, терлось о черепную коробку, решалось. Сонькины стоны в углу неестественно возбуждали, и тогда вспоминалась Сергеева,а следом катилось и чувство неясной вины. Через всю непонятную муть наплывал прежестокий стояк, выдававший себя за нормальное возбуждение шестнадцатилетнего организма. Дюк знал, что можно совсем не стесняться, да и спал он ото всех далеко – расстегивался, доставал прихваченный в платном сортире рулон туалетной бумаги...
« А если попробовать»,- в ту последнюю ночь он, наконец, решился: представил не женскую грудь или задницу, не долбящий влагалище член. Представил другое.
Он залился слезами, когда разрешил себе думать. Упрямые губы и четкие контуры строгих бровей. Улыбка из-под светлых волос и лениво-отточенный поворот головы. Болью нечеловеческой - торкнуло.
« ****ец же какая тоска… это же ****ец…. Как мне с этим метаться?»
Нужно додумать до дна, до конца. Да, вот именно. Потянуть, словно хребет из спины, представить, как можно поцеловать, например…
«****ь, - в руке наливалось по-наглому, - это ж, мать твою, здорово можно. Он гибкий, удобный такой. Сколько раз тискал… боролись… всегда любил трогать. Вот ****ь»
Оно накатило само. По-звериному, из-под тоски, до восторга; отрегулировал ход – подольше, надо не торопясь все представить… Что там дальше обычно бывает... у них?
«Какая, блин, разница – что. Главное,покрепче прижаться. Чтобы он никуда не уехал»
***
В пятницу, рассеянно шлёпая по сырому граниту перчатками, по загаженной набережной , по Обводному, он добрел до Болта. Балтийский вокзал не любил – тот был специфический, быдловато-растерзанный, не пара чистюле Московскому. С неистребимым сортирным душком, масляным запахом дизелей, тьмой из несохнущих арок – казалось, он плотно заляпан каплями жира с шавермы. Суета и автобусы в разные пригороды обещали дорогу и пробки на выезде, а бегущий в метро индивид был похож на зверушку, спешащую в Ноев ковчег. « Обломитесь, товарищи, каждой твари по паре»,- механически думалось Дюку. Погрузку он разрешил только пенсионеру с собачкой – та по виду была адекватнее многих.
Он чуть не споткнулся, увидев себя в расколотой грязной витрине. На дешевом, подмоченном оттиске фото: двухлетней давности, не иначе. «Пропал мальчик».
- Ёлки зелёные,- спохватился он,- мать же. Раньше-то, ясное дело, зачем волноваться. Вот чёрт!
Дальше он долго не думал, и быстро свернул в направлении травмпункта – здесь Дюк знал всё.
Светлана Сергеевна ждала его сутки, а потом позвонила Лапу.
- У меня его нет,- сказал Лап,- даже не видел. Надо в милицию.
- Сутки,- зарыдала она,- Лапушек, мы с ним поссорились вроде бы как...
- Сейчас буду.
Милиция вяло всучила ей ручку, бумагу, взяла фотографию. И изрекла:
- Пацаны каждый день убегают. Придет ваш герой.
- Да вы что,- кричала Светлана Сергеевна,- детей вон крадут! Насилуют! Как вы можете!
- Шестнадцать,- милиция снуло пошевелилась на стуле,- взрослый. В армию скоро.
Армия скосила Светлану Сергеевну еще большей своей неизбежностью, и поэтому ей почти полегчало.
Лап вместе с Мексом обшарил все точки, прошел по тусовкам, ночным магазинам – нигде.
«Если совсем ничего, значит, намеренно спрятался»,- понял он. Он знал, что бесцельно бродить Дюк почти ненавидел, убить из-за шмоток его не могли.
Тут его ощутимо тряхнуло – в городе может быть все, что угодно. Тогда он почти поселился у Марковых, днём шатаясь по городу в поисках Дюка, а вечером слушая Светлану Сергеевну. Стало не то, чтобы страшно, а вот так - ужасней ужасного. Думалось сразу о многом; к вечеру пятницы Лап был полностью выжат, готов бы стоять на коленях, есть землю, просить прощения... да, был готов. Но когда забренчал домофонный звонок и в трубке сказали – «Пустите», он заорал :
- На улице будешь жить, сволочь!!!
Он выбежал к лифту, но тот уже ехал – невероятная скорость. Спустя полминуты оттуда показался растрепанный, грязный, пропахший чердачной пылью и улицей Дюк – куртка накинута сверху, на плечи. Желание было только одно – вломить от души, что Лап и сделал.
Блудня швырнуло обратно в обоссанный лифт, он потерял равновесие и сполз вдоль стены.
- А! – сказал он,- какая горячая встреча!
- Заткнись,- Лап снова тряхнул,- ты что это,- тряс он его словно грушу,- ты что себе позволяешь, скотина...
- А!- повторил Дюк, бессмысленно улыбаясь,- опять меня лупят.
- Где шлялся,- начал допрашивать было, но лифт закрыл дребезжащие двери и он обернулся.
- Он сказал – поехали,- брякнул Дюк, и они действительно двинулись.
Лифт поднимался, и они вместе с ним, сбившись в неразрывную кучу на грязном полу. Ждали, когда остановится,глаза в глаза, молча. Лап потянул Дюка наверх.
Двери открылись и возник пацаненок лет десяти.
- Ой,- сказал пацанёнок.- А вы почему тут валяетесь? Пол же грязный?
- Сейчас,- сказал Лап и нажал на нужную кнопку.- Потом поедешь.
Лифт снова закрылся, и его прорвало.
Он орал про то, как волнуется мать. Как она побежала за водкой, и как все рассказала. Что он облазил все чердаки, все морги, тусовки, больницы, и что его почти загребли в «обезьянник» по причине скандала у следователя. И что он заебался за эту неделю, не был в школе, жрал вместе с теть Светой одну только водку...
- Не выдали, значит, - хихикнул Дюк, - правильно, я им каждый вечер поллитру.
- Что?
- Бомжи, говорю, не выдали...
- Я же у них в понедельник был! Так ты, значит, там?! Урод!
Дюк странно и как-то по-новому улыбался.
- Да вставай же уже.
Чёртов скиталец поднялся, и куртка упала.
Лап отшатнулся:
- Т-ты... что с руками... ты почему сразу-то...
Друг, будто сдаваясь, медленно поднял наверх залитые гипсом и туго перебинтованные руки. Словно бурый медведь, которому по ошибке пересадили лапы от белого.
- Меня нужно вымыть,- сказал он. – Как следует.
Лап смотрел, потрясённый, совершенно растерянный, словно ребенок, которому только что сообщили, что в цирк - не пойдём. Хоть и собирались неделю.
- Так нельзя,- сказал он, наконец. – Так невозможно. Нет, я не буду.
- Придется,- ответил Дюк. – Кроме тебя некому.
- Тётя Света сейчас придет...
- Никаких баб,- сказал Дюк, - как ты и хотел. Никаких баб больше.
Чертов лифт снова нарушил пространство открывшимся белым проемом, Лап не двигался, изумленно уставившись, и Дюк вытолкнул их, наконец, из дурацкого ссаного гроба.
- Что... что ты имеешь в виду?
- Чего-то имею,- сказал Дюк, и сгреб его белыми твердыми крыльями. – Взял моду. Кто не с нами, тот натурал. Ты этот... как его ...маркобес.
- Отец Егорио*,- моментально среагировал Лап.
- Бальзака терпеть не могу. В ванную меня. Быстро.
Закрылись на синюю швабру – замка так и не было. Лап пустил воду, Дюк вынюхал ножницы.
- Надо снять,- помахал он руками, - он даже еще не застыл-то толком.
Тут товарищ откровенно не выдержал:
- Ты гребаный хитрожопый гоблин, - выдохнул он,- ты херов Гудини дворовый.
- Тебя не поймёшь,- хихикнул Дюк,- а что, надо было взаправду сломать?
- Ты зачем гипсовал, чтобы у матери инфаркт? Чтобы я тебе...
- Чтобы ты вспомнил, - оборвал его Дюк, - помоги мне.
Гипс был действительно мягкий и отваливался пластами и комьями. Руки под ним были испачканы белым – под всю бутафорию положили немного бинтов, потому как и незачем было.
Возясь, перемазались в гипсе. Выбирая сырые комки между пальцами Дюка, Лап успокоился, замер, слегка растирая, гладя кисть по запястье и выше. Гипс расходился влажной, изысканной пудрой, обнажая рельеф на торопливых руках…
- Ты античная статуя,- сказал неожиданно он.
- Вторую, - напомнил товарищ, и парни взялись крошить левую. Пальцы встречались на рыхлом, касались и разбегались - испуганно.
Лап отводил глаза, рассматривая обломки- куски, завалившие раковину. Вот и все, кажется, сняли. На Дюка смотреть он не мог.
- Давай,- выдавил он из себя, - отмывайся. Я, наверное, пойду...
Но не успел.
- Как умею, прости,- Дюк целовал его, всем весом своим прижимая к стене… - нет, ты не вырвешься.
Обмякшего, ошеломленного, ни во что не поверившего.
- Не бросай ты меня никогда, слышишь? Я не смогу.
Лап только вздрагивал и часто-часто кивал в плечо.
• «Отец Горио», О. де Бальзак. Слезоточивая история о несчастном отце и высшем свете Парижа. Для справки: Дюк – одна из трех древнерусских форм имени Егор.
9.
А вот тут, невзирая на сбитого с толку читателя и упавший в безвозвратный колодец стиль, неожиданно появляется автор. Какого он, спрашивается, приперся? Катилось неплохо, да и читатель привык. Но автор не выдержал, иногда с ним бывает.
Он не подглядывает, да нет… сидит с дебильным потерянным видом, жует незажженную сигарету, под глазами круги того же размера, что и на столике, где стоит его ноутбук. Круги эти мокрые, от стакана с очень крепким, густым, как сироп, семнадцатилетним скотчем, потому что другого писатель не пьёт. Опять ошибаетесь - он вовсе не крут: скотч заедается салом с ближайшего рынка, потому что на подобные странности автор имеет причину – от святого сочетания русского сала и шотландского виски, за которым он лично мотается на острова и тайно провозит литрами, словно какой-то бутлегер, у него никогда не болит голова. Сколько бы автор ни выпил.
Почему же он все-таки вылез, да еще полупьяный, спросите вы. Да почему-почему…
Потому что боится.
Когда он боится, он действует сам, не доверяя кириллице. Он опасается, что, если отдаст эпизод колким тоненьким буквам, в которых обычно долго копается, и будет описывать то, что хотел с присущим ему романтизмом, то рискнёт ненароком собственной памятью, которая не позволяет соврать. Автор умеет выдавливать сок из трусов, и читатель, вероятно, даже желает такого. Но права на это у автора нет, поэтому он прикинется стелькой в ботинке, молнией в лаповой куртке, конфетой в аквариуме - и все для того, чтобы было понятно: он все видел, молчал, а сейчас сделал так, чтобы повествование не превратилось в горку тухлого слеша, от которого кусают возбужденные губки наивные девочки, и до которого нет дела тем мальчикам, что желают этих девочек трахнуть, не зная, разумеется, как. Ужасно короткая фраза, согласен.
Поэтому автор добавит немного себя и выпьет столь же немного – хороший напиток должен быть крепким, градусов в пятьдесят, тягучим, как свежий еще- не-янтарь и он просто обязан дорого стоить. А вот от банок различного цвета автор давно отказался, потому что он совсем не зоолог, и не скажет вид мыши, которая старательно и многотиражно в эти самые банки ссала. Неизвестность обычно пугает, а автор совсем не герой.
Ну так вот, продолжаем.
Случилось – но никто не предвидит в шестнадцать того, чем нельзя управлять. Вышло наружу то самое, что нуждалось в строжайшем и тайном хранении,и, если учитывать пристальный интерес окружения, разумнее было держаться друг от друга подальше.
Лап «поплыл».
Привычный к железному самоконтролю, он не смог ничего поделать с собой. Изменился разительно: обычно бесстрастный, он потеплел – засветились глаза, обозначились чуткие брови, Лап улыбался - всему, что могло хоть капельку рассмешить. .
Такое бывает, если Шлиман находит Трою, а с войны возвращается парень, на которого уже пришла похоронка. Такое бывает, когда потеряешь ребенка, закроешь свою душу могильным крестом, а тебе сообщают - чудак, мы нашли его целым и невредимым. Но, если отбросить высокие штили, то такое же происходит с какой-нибудь девой, умучившей пальцами лоно в ожидании принца с конём… и тут вдруг она получает всё это – представьте.
Неподконтрольное, страшное чувство, хуже, чем яд, чувство сбывшейся, воплощенной надежды, вот что это было такое.
Лап не был ни Шлиманом, ни солдатом, размеры мечты были известны ему одному. Он думал, что можно просчитать свою жизнь, не сбиваясь на мелочи, соглашался терпеть и работать с душевным надрывом внутри, прикинув все то, что сулил ему выбранный путь – но к ответу, приятию был совсем не готов.
Он рассчитывал, расставляя известные фишки и сети, собирался играть на износ. Дюк его обошел,резко и грубо, игнорируя долгий мучительный тайм – он смел все фигуры с доски, как пьяный матрос, оказавшийся в шахматном клубе.
При единственном взгляде на Лапа всё становилось понятным. Он потерялся – когда они шли, казалось, что он держит товарища за край рукава, на самом же деле парни блюли расстояние. Сидели по-прежнему вместе, но казалось, что ближе, чем следовало – кто устанавливает дистанцию, спросите вы, где мы видим приятельский, дружеский флирт, а где ненасытную жажду касаться, быть рядом?
Они соблюдали приличия, ведя себя чинно: не тискались, как раньше бывало, не ели один шоколад на двоих, ни боже мой прятались по раздевалкам - ничего, совершенно. Но стоило Дюку обернуться к товарищу, тот начинал сиять. Нет, не смеяться или шутить – Лап зажигался особенным светом. Он читался в глазах, в развороте всем телом, в дрогнувших пальцах, все вместе его выдавало. Казалось, он ловит дыхание, чувствует запах, снабжает теплом, ему было трудно - от чувства его разрывало на части, и сделать хоть что-нибудь с этим он просто не мог. Не умел.
Было ЗАМЕТНО.
Невидная, но явно звенящая струнка играла столь ярко, что класс, затаенно притихнув, необычно, тактично - молчал. Класс-то молчал, а вот школа...
Дюк, напротив, внешне казался спокойной невозмутимой стеной: не делал ненужных движений, не шел на конфликты. Был неотлучен, держа под контролем окрестности, постоянно прислушиваясь и сторожа беззащитного друга от всей обстановки вокруг.
Это трогало, удивляло безмерно, заставляя задуматься и даже слегка уважать.
- Мы спалимся, Лапыч,- сказал Дюк.- Ну посмотри на нас. Ты же вообще не соображаешь.
- У меня романтические гормоны, - ненаучно ответил Лап,- я сам чувствую. Как девчонка расклеился... Очень заметно?
- Очень,- друг возился с его косухой,- жарко в этой, не надо её носить. У тебя, помню, другая была .
- Ну вот как после этого будешь суровым?
- Я к тому, что запаришься в ней,- вредным голосом говорил Дюк,- весна на дворе.Ты заметил?
- Я к ней привык за зиму,- капризничал Лап,- приду домой, сразу в душ.
- Я б тебя там держал вообще, позорище ты.
- Сам ты позорище. Куртку пусти! Задолбал, люди смотрят.
- Да и хер с ними.
***
Автор клянется, что он не хотел. Ему это незачем – он видел такое и раньше, но всегда от распущенности или праздного любопытства. Но, валяясь конфеткой в аквариуме, он не смог отвернуться, открыв в удивлении рот, и думал - а ни хрена-то ты, автор, не знаешь.
Впрочем, это были совсем простые движения – неловкие, голые и нерешительные вначале, с болью, покрытые лишней суетной стыдливостью. Спасала ирония Лапа.
- Больно?- пролепетал перепуганный Дюк.
- Да,- поморщился Лап,- но не думай об этом...
И тот продвинулся, неожиданно открывая свой личный, почти совершенный восторг – белые гадские боги, ведь это же Лап. Это же он, железной выдержки умник, лежащий так смирно и так покорно, такой уязвимый, доверчивый... Крышесносное, просто волшебное зрелище.
- Лапыч... я не могу. Я сейчас кончу...
- Бедняжка Сергеева,- раздалось ироничное снизу.
- Ты!!! – он смеялся и злился одновременно, делая глубокий толчок - и волна отступила вместе со смехом.
Замерли совсем ненадолго, свыкаясь.
- Чудо, как,- трудно выдохнул Лап, окончательно раскрываясь под ним,- чудо. Почти и не больно.
Дюк видел, что это не так, но безумно хотелось двигаться.
Он стоял на руках, нависая, и рассматривал Лапа. До него вдруг дошла одна очень простая вещь – он ведь сам так хотел. Хотел. Но только был не способен найти решение.
- Ты смог, - сказал друг и потянул его вниз, на себя. – Вот и все. Ты там как?
- Охуительно… я, Лапыч… я блин, охуительно...
Раз для того, чтобы рассмотреть этот космос, залив его светом хотя бы на миг, нужно всего лишь взорвать свою маленькую планету под названием Дюк – он готов. Разве это цена? Пустые гроши за прикрытые болью глазищи напротив, или не болью… не понял. За спину, послушную, гибкую, за бешеное сердцебиение. За то, что предельно понятно и честно.
Если такое возможно увидеть от этого действия... а потом оставить себе, насовсем - он готов.
А еще распирало от дикой, неведомой нежности, ревности неизвестно к чему, и понимания, что обнаружил способ против вечной, неистребимой иронии...
Он почувствовал.
Надо бережно, понял Дюк, надо нежно и не надо давать ему разговаривать. Против нежности нет никакого оружия. Ни у кого.
Все позабылось – пол и неправильность, странности и непривычность – были губы, тесный восхитительный вход, покорный и гибкий Лап в обеих ладонях и полная его, Дюка, власть и победа.
Автор, знаете ли, совсем не железный. Автор плеснет вискаря, выпьет, забыв про закуску, и быстро сбежит покурить. Он нынче другой, и циник в таких ситуациях обязательно лишний. Но, исходя из последнего, автор поправит участников действия в их измышлениях – подумав, он все же припишет, что победы и не было никакой. Был проигрыш – Дюк перешел Рубикон, и возврата оттуда ему никогда не напишут, хоть вы автора режьте.
- Ты меня сам изнасиловал, - шептал Дюк, - ты сам меня выебал. Не знаю, как ты это делаешь… как?!
Так и случилось, быстро сделавшись частым, желанным... да, юность бешено жарит напалмом присутствие разума в людях, заставляя их делать немыслимое. Улыбается, голая, выдавая безумства без счёта, задаром, легко и свободно, как и всегда - для любви.
Да, было так.
***
Кто сказал, что домашним мальчикам требуется ласка и пианино, или, к примеру, погладить по голове? Уткнуться в живот своей бабушки, выслушать песнь о своей уникальности, в очередной раз понять, что мир за пределами просто дерьмо? Гимн гениальности утробно отзвучит прямо в левое, или же правое ухо, неважно, но ничего не случится, знал Мекс.
Он стоял перед зеркалом, полностью голым, на скинутых комом, недавно отглаженных брюках и думал – ну и?
- Сука,- сказал, пробуя на язык незнакомое слово,- сука и все.
Прозвучало нормально, так же, как и у обычных парней. А может, и лучше.
Зрелище в зеркале не завораживало. Может быть, все оттого, что себе самому Мексиканец виделся сильным, с красивыми мышцами парнем. Зеркало было кривое – пацан в отражении стоял омерзительно белый, худой, с какой-то гусиной поверхностью. Торчали колени и странный кадык – этот вообще шевелился будто бы сам по себе, стоило Мексу приподнять голову. Мощная поросль в паху растопырилась черным, отчего гениталии смотрелись чужими – крупные, они были немного халтурно приделаны к детскому мексову телу.
Он поднял правую руку и напряг бицепс. Вырвалось:
- Сука.
Напрягать,точно, нечего. Мекс был длинным в руках и ногах, с большими ступнями и кистями рук. Ну и еще с большим членом, о чем Мексиканец пока не догадывался, ибо сравнивать было решительно не с чем. Он подумал о Дюке, самоуверенной, наглой скотине. О нём, чуть расхлябанном, но по-животному ловком; просторном в плечах, мощном, но точном в движениях... симпатичном, наверное. Сука.
Последнее дошло до него неожиданно, словно бы он проходил какой-то отбор или кастинг, что, впрочем, одно. Мекс приперся туда, где на двери написано - «Вход для красивых» и ломится, несмотря ни на что, потому что решил получить себе жизненно важное. И теперь он стоит перед публикой так же, как на последнем концерте и понимает – ты не сыграешь, дружок.
Понимание этого било в висок, оставляя проломленным самолюбие; жарко вонзилась обида на мать.
- Ты,- тихо сказал он вслух, - могла бы найти мне отца посолиднее. Ты даже этого не смогла.
Он с отвращением натянул водолазку и снова взглянул на себя. А что?
В черном фигура смотрелась приличнее – плечи казались не такими уж и узкими, в талии он был тонок. Ныряя в штаны, Мекс рассудил, что их лучше сменить. Возникла идея поискать себе новые джинсы – да вот хоть бы на Звёздную съездить, на рынок. Времени теперь до фига.
Выдумав дело, он не избавился ни от чего – от тоски, от обиды, от чувства обмана в непонятых им самим чувствах. Мучило так, что хотелось хвататься за горло и плакать, и он бы заплакал, если бы знал – почему. Он понимал лишь одно: в школе стало невыносимо.
Мекс врал сам себе, не желая сдаваться. Он метался по странному рингу своих ощущений, задавая проклятый вопрос – как? Как возможно упасть ниже дна океана в тот ничтожный момент, когда бывший сосед по парте просто проходит мимо тебя и ... не садится рядом? Вместо этого пахнет чужими духами, и возникает Сергеева, молча и с надутым лицом.
- Победила дружба, - ехидно сказала она,- понятно тебе?
- Понятно,- ответил ей Мекс, физически чувствуя наползающий ад,- еще как понятно.
Случилось то самое – Мекс возненавидел. Себя за доверчивость, Сергееву – за то, что она лишь Сергеева, Дюка – за всё.
Еще больше возненавидел он Лапина, который вдруг сделался светлым, улыбчивым, почти беззащитным. Он ненавидел так сильно, что хотел задушить.
- Убила бы этого пидора, - как-то сказала Сергеева, - убила бы, точно.
-Кого, - захлебнулся тогда Мексиканец, - кого?
- Лапина твоего, - выплюнула она,- дерьмо голубое.
И тут Мексиканцу стало понятно.
- Убейся сама, - сказал он, открывая рюкзак,- я тебя бы убил. Прямо сейчас.
- Меня?! Это за что?
- За женскую некомпетентность, - ответил ей Мекс. – У тебя ведь был шанс.
- На себя посмотри,- сказала Сергеева.- Неудачник.
Объединенные общей обидой, Мекс и Сергеева сделались откровенны друг с другом. Они даже почти подружились, слегка переругиваясь, – нет, их не видели в паре, они не сидели в столовой за столиком. Но у них вдруг возник ритуал: оба следили за парой товарищей, чутко ловя настроения обоих. Ревность всегда такова – ты становишься умным и хитрым, видишь невидимое и слеп к очевидному, злишься и буйствуешь, обливаясь обидой с презрением – да, это так себе смесь, ничего благородного. Хуже всего было то, что и Мекс, и Сергеева без конца подогревали друг друга в этой своей обиде, лишаясь возможности выдраться из проклятого варева.
Обида, тем не менее, постепенно сменялась внешней насмешкой, за которой пыхтела в холодном котле элементарная зависть, показывать которую было нельзя. Чему тут завидовать, думали оба, «голубым» отношениям? Если Сергеева еще сомневалась на этот предмет – ну, может быть, самую чуточку, то Мекс был совершенно уверен.
Завидовать вроде бы нечему, думали оба, но это не помогало.
И все-таки Мексу приходилось гораздо труднее, чем соседке по парте.
Ночью, развернув монитор от уснувшего деда, он листал порносайты для геев, и поражался. Оказывается, все не так уж и тайно – люди давно себе сделали выводы, выбрали жизнь и нисколько не прячутся – вон, сколько фото. Как-то они существуют, непросто, наверное, но им наплевать. Или нет? Совершенно другая реальность, думалось Мексу, интересно, что в ней?
Он разглядывал лица парней и мучительно думал - мне надо узнать. Кликнул на флаг регистрации, выдохнул.
«Ни одной фотографии нет, чтобы красивая,- понял он вскоре, - а может, и к лучшему»
И в восторге от собственной смелости он отправился спать, предварительно вычистив поиск.
***
Лицо Николаича имело забавный оттенок , название которому Дюк знал, но немного забыл в связи с обстоятельствами. Сравнение крутилось в мозгу, не давая словам Николаича бить полноценно, создавало барьер для того, чтобы не сорваться и не заорать: а какое твое, в жопу, дело?
- Помидор фирмы «Лето», - брякнул Дюк, неожиданно вспомнив, - только они еще с прозеленью такой.
- Что?! – задыхаясь, сказал Николаич. - При чем помидоры? Я вам про поведение ваше! Ты понял, что я сказал?
Дюк пожал плечами.
Лап сидел на присыпанном мелкой цветочной землёй подоконнике, и смотрел в распечатанное от зимы окно. Словно не слышал ни речи директора, ни про помидор. Школьный рюкзак лежал рядом.
- Поведение недопустимо, - продолжил директор,- мы вас столько с вашими драками прикрывали. Но это уже граница.
- Вы на границе служили? – Лапу неожиданно стало интересно.
- Двадцать лет,- гордо сказал Николаич,- я воспитывал пограничников.
- Ну и как там,- вил дальше Лап, -я имею в виду за границей? Враги?
Николаич застопорил бег, наносящий морщины ковровой дорожке его кабинета:
- Ну почему же враги,- удивленно сказал он. – Нарушители. Такие же люди, другая страна.
- Ну вот видите,- сказал Лап, - такие же люди. Вы же знаете все про границы.
Николаич стоял, и было явственно видно, как мысль трудным ходом добирается в его лысоватую голову. Как ползет прямо из левого уха по черепу, приподнимая румяную кожу изнутри.
- Мы их не нарушаем, - подсказал ему Дюк, - личная жизнь никого не касается.
- Школы касается! Вы нарушаете!- Николаич решил биться до крови, - ведете себя как эти...
- Как пидарасы, -помог ему Лап.
- Ну если так нравится, - ехидно сказал директор, - это школа, а не притон. У меня родители жалуются.
- Из нашего класса? – спросил Дюк
- На что? – одновременно произнес Лап.
- На дружбу вашу,- сказал Николаич, - на слишком близкую.
- Факты,- сказал ему Лапин.- Что конкретно?
Николаич обессиленно рухнул на стул. Потер переносицу.
- Чтобы я в школе вас вместе не видел. Осталось два месяца до экзаменов. Свободны.
Болейте, рассаживайтесь, пропускайте, школу меняйте – я отпущу. Я чтобы не видел. На домашнее вас обучение, как детей-инвалидов. Сдадите экзамены, и чтобы я больше… И пошли оба вон. Родители где?
Не дождавшись ответа, Николаич принял озабоченный вид. Он разрешил щекотливое дело и намеревался зарыться в бумажки. На самом же деле он желал накатить, хлопнуть неважно чего, но покрепче.
- Болеть, значит, можно,- сказал Лапин и поднял рюкзак.- Инвалиды мы, значит.
И вспрыгнул на подоконник.
- Э-э-эээ.... – директор отбросил листки, - ты это чего....
Лапин держал свой тяжелый рюкзак за окном, одной лишь рукой. Четвертый этаж тихо скалился навстречу асфальтовой плахе, которая очень манила – всегда интересно, как что-то летит, разбиваясь, или наоборот, глухо шлепаясь.
- Как долго я пролежу, если спрыгну отсюда, - спросил Лап у Дюка,- как думаешь? Нашему директору хватит?
- Лап, - тревожно сказал тот, осторожно двигаясь,- Лапыч, пожалуйста, не дури...
- Я никогда не дурю,- удивился Лап и придвинулся к проёму,- я отличник.
И он отпустил рюкзак вниз. Тот шлепнулся не сразу и глухо.
Николаич все шарил и шарил по вороту, пытаясь сглотнуть. Перед взором его вновь возникла картина: парнишка, который повесился в роте во время обеда, это было лет пятнадцать назад, в Дальнереченске...
Все повторяется, боже ты боже.
-Он спрыгнет, - сказал ему Дюк, - а я следом. Какие-нибудь другие решения будут?
Лап сдвинулся ближе.
- Идите,- прохрипел, наконец, Николаич, - идите... отсюда... к чертям.
Он долго глядел на аккуратно прикрытую дверь, все так же тщетно хватаясь за ворот.
Ощущение проигрыша давило, но мстить не хотелось.
Два месяца, и проблемы не будет, подумал он снова, дело уйдёт. Как-нибудь выкрутимся. Какое позорище, стыд… надо будет по теме поднять материал, отбрехаться. Чертово это роно.
Он наконец-то набулькал в кофейную чашку и выпил.
***
- Ничего не разбилось,- сказал Лап, проверяя рюкзак,- биться нечему.
- Еще раз так сделаешь, я тебе помогу. Мне так будет спокойнее. Полетишь с ускорением.
Лап прищурился и схватился за ухо. Заразмышлял.
- То есть ты думал, что я не прыгну?
- Я надеялся.
Лап внимательно всматривался, что-то решая, и выдал:
- Я **** их всех в рот, Дюк. Я тебя через это почти потерял, так что мне они? Остальные?
Друг помолчал, потянул за одежду. Немного прижал, мимоходом отметив в школьных окнах чей-то заинтересованный силуэт.
- Я не думаю, что ты слабый,- и он стиснул покрепче возмущенного Лапа,- ты сильный. Но я попрочнее, и поэтому оставь это мне, как обычно. Должен же и я что-то делать.
- Ты многое делаешь, - Дюк сразу почуял, как сладко-знакомо тряхнуло товарища и повело,- ты очень многое.
- Домой,- коротко выдохнул он,- блин, Лапыч, домой. Очень быстро.
10.
Круг замкнулся – так захотели всесильное Время и Небесный Учётчик - грехов,перечисленных в неубедительной книге. Чья-то дружба, вымыв с дна золотишко, струится в другие ручьи, стремится куда пожирнее; а нашим парням, вероятно, расклад показался ненужным.
Наверное, всякий, кто хочет повесить на шею большие медали, эту шею сначала растит, до бревна - потолстеть, упереться и мхом обрасти. А можно сбиться двум щепкам в занозистый плот, что бывает надежнее - летишь себе дальше, мимо толстых прожорливых рыб. Ну краешки вдруг обломаешь... все мелочи.
«Да,он сломал меня»,- думал Дюк, разбирая волнистые пряди тихо сопящего друга. Знал без горечи, без любого на то возмущения, лишь удивлялся чуть-чуть своему положению: всё виделось новым. О том, чтобы сделать движение назад,он и не мыслил, анализировал только.
Анализ сводился к тому, что в эту минуту он чувствовал мир абсолютно прекрасным, ловко устроенным - как никогда. Секс расставил слепые моменты их дружбы на нужные полки, определил направление– ну и что, думал Дюк, решение было моё.Секс - это здорово, так сложилось, необходимое приложение...
Здесь было место, где он беспощадно лукавил.
Утром смотрел на сомкнутые сном, слегка беспокойные веки - ладно тебе, ты проснулся – и думал: что, если бы Лап был девчонкой? И если бы он оставался Лапом при этом... в общем, если б он им оставался, но в женском обличии... Тут Дюк сильно путался, ибо представить такого совершенно не мог – друг был парнем, на двести процентов. Ну гибкий, ну кожа такая... ну нежная, в общем, стервозный, конечно – но парень! За девку его не принять, и никак не представить.
Тогда Дюк мешал по-другому - а я? Ведь если бы шарил в поисках сисек, или что-то смущало – нет.
Ему нравилось тело... да, заводило.
После первого раза Дюка скосило,как тонкую травку, с катушек снесло посильнее, чем когда-то с Сергеевой. Наверное, все потому, что Лап был точно таким же, как он: полностью ясен ему по реакциям, стонам, по шутливому сопротивлению. В эти моменты не думалось - чего и зачем - интуитивно выкладывался, заранее чуя. А, может, друзья совпадали, как Кока и Кола, чуть разнясь лишь по силе – Лап был все-таки ниже и легче. Еще была честность – абсолютная, ясная, без игры в измышления, грубоватая,черт побери. Без павлиньих концертов и других заморочек, без барьеров, присущих отношениям с женщинами.
Через всю эту жесткость безумно хотелось быть нежным... и он не держал в себе. И не боялся,совсем.
Размышляя, Дюк приходил к одному – есть константа у человека. Она незаметна порой, иногда неизвестна владельцу. Повезет, если кто-нибудь тронет и человек обнаружит, а, бывает, что она так и спит, не давая себя опознать.
«Так я, наверное, устроен,- говорил себе Дюк,- или разницы действительно нет. Что мужчина, что женщина, сосуд, да и только. Дырки эх, разные, но они ни при чем. Странно любить, что положено. Надо кого хочешь любить».
Сам он любил: просыпаясь пораньше, бежал в туалет, уже зная, что Лап не проснется к его возвращению. То есть не дремлет, но делает вид, что царевна валяется трупом – и исключительно на животе. Игра была ловкой: осторожно раскладывая и накрывая собой потихоньку, Дюк выслушивал преехидную отповедь спящего мёртво под ним человека.
- Шизанутые педики спать не дают… засыпал – не давали, проснулся и та же фигня.
- Даааа,- Дюк был уже там, - а вот не надо красиво ложиться... Раскрыто там так хорошо... Я тихонько, ты спи. Привыкай уже, что ли.
Лап расслаблялся, ни секунды не сопротивляясь, плавно впускал до конца, отзывался охотно. Отдавался негромко, раскрываясь на всю глубину. Бился потом, догоняя, Дюк придерживал и наблюдал, удивляясь – даже без рук, надо ж так. Красота, думал он, вот так бы и жил, не вытаскивал.
- Ты ни разу не голубой, - говорил ему Лап, едва отойдя,- да ты создан для гейского траха.
Потом он смотрел на часы:
- Бля-а-адь! Мы же в школу опаздываем! Чайник включи! Я в душ первый!
- Ага,- Дюк сдирал простыню и выискивал ночные презервативы, - вот видишь, сколько сразу энергии.
- С добрым утром, вообще-то.
***
Май накатился экзаменами и неожиданно жаркими днями. Дюк изнывал – все его существо восставало от подобных репрессий, Лапу было не лучше – хотелось таскаться по городу, трахаться и целоваться – весна ведь, а тут вдруг большие экзамены. Выпуск. О себе он и вовсе не думал, однако мыслительный вакуум друга слегка настораживал.
- Работаем,- Лап раскрывал конспекты,- надо покончить с вопросами. Включай полушария. Ну хотя бы одно.
Полушария мнились другие, но дело есть дело, и Дюк напрягался – особой статьёй была алгебра, в которой уже несколько лет он тащился за Лапом, слегка замечая процесс.
- Да сдам как-нибудь,- говорил он,- не парься. И в вуз никакой не пойду, ты же знаешь.
- Тогда в армию.Патриот ты наш, елки зеленые.
- Ну и что, - говорил ему Дюк,- постреляем, побегаем. Пацанов там полно симпатичных,- он подтрунивал, изредка взглядывая.
Армия Дюка была катастрофой для Лапа. Что творилось у друга в его голове – в голове была каша. Она замерла в полусъеденном виде, с блаженной клубничкой на самом верху, и желала остаться навечно. Но если захочется мяса и действия – а захочется, Лап это знал – каша сослужит неважную службу, потому что не будет зубов, они затупятся без дела.
Лап лавировал:
- Четыре билета – минет.
Но шантаж очень мало работал: Дюк якобы что-то считал и изрекал:
- Если все вспоминать, то я должен быть в Бауманке. На четвертом, примерно.
Лап молча раскладывал книги и садился учиться, товарищ, суетно вокруг покрутясь, обреченно вздыхал и пихал его локтем:
- Подвинься.
В один из таких вечеров прогремел домофон.
- Бабушка, что ли,- озадаченно поднял от книги лохматую голову Лап, - она не должна вроде.
Из домофона на «Кто?» раздалось неожиданно, резко:
- Ты пидор .Скотина и пидор. Я тебя ненавижу.
Дюк выпрыгнул в коридор.
- Сам-то кто,- спросил собеседника Лап, - чего надо?
- Пидор уродский. Скотина,- повторили доходчиво снизу и замолчали.
- Я щас, - Дюк катился по лестнице,- далеко не успеет.
У подъезда, обтирая железную дверь, скорчившись, с исковерканным болью лицом
сидел Мексиканец.
- Какого,- спросил его Дюк, разлетевшись впечатать в коричневый угол,- ты тут выступаешь? Бухой, что ли? Чего тебе тут надо?
Мексиканец смотрел на него исподлобья, обхватив почему-то живот. В школе сегодня он был совершенно нормальным – поздоровался вроде... или нет? Дюк не запомнил. Мексиканец молчал, а в глазах полыхала незнакомая злоба и что-то еще. Ради этого Дюк и присел:
- Тебе плохо? Ударили? Эй, ты чего?
И тут неожиданно Мекс разревелся и сел на асфальт. Штаны натянулись в коленях, открыв белоснежные, с кантом, носки. По левому, прямо в кроссовку, расползалась алая струйка, берущая жизнь из-под новой джинсы.
- Ну-ка, ты. Успокойся.
Дюк вздернул штанину – Мекс сильно брыкнулся. По левой сползала кровища, размазываясь.
- Успокойся, сказал. Скорую надо,- Дюк легонько прикончил истерику Мекса пощечиной, взвалил на плечо и сказал в домофон: - Открывай!
Мексиканец был совсем невменяем - он дрался. Неумело, махая большими кистями. Пинался, смешно поднимая колени, скривившись лицом, ненавидел.
- Зачем ты меня приволок, ты урод,- он нападал, а Дюк ловил его длинные руки, пытаясь скрутить – не бить же его, в самом деле. Повалили ничком, наконец, прямо в холле, вдоль недоумевающих книг.
Дюк уселся на Мекса, заломив ему руки и прижав ненормально орущую голову. Лап стаскивал обувь.
- С левой течет,- сказал он, сдирая носок,- вся кроссовка в кровище. Надо с него джинсы снять.
Мекс заорал.
- Да ёб твою мать! – не выдержал Дюк, - ты запарил! Мы помочь хотим! Тебя что, изнасиловали?!
Мекс опустился, обмякнув, и тихо заплакал. Лап подполз на коленях и внимательно посмотрел ему прямо в лицо.
- Кажется, можно уже отпускать.
«Кажется, да,- говорил он глазами, – в точку попал».
Его приподняли, и потащили – большая ступня, вся в крови, оставляла на светлом полу полукруглые красные отпечатки.
- Я справлюсь,- Мекса сгрузили на коврике в ванной,- ты далеко не ходи. Может, расскажет чего.
- Не запирайтесь,- и Дюк приготовился ждать. «Скорую» тут, вероятно, не надо...
Мекса согнули над ванной и пролили на голову мощную порцию холодной воды. Буйство истаяло, слабо цепляясь за остатки истерики, Мекс успокаивался, а на сердце ложился огромный и мерзостный стыд. Было так плохо, что не было духу даже встретиться взглядом с внимательно ожидающим Лапом.
- Джинсы снимай, побыстрее. Посмотрим, чего там.
- Выйди,- сказал Мексиканец,- я сам.
- Я выйду,- согласился с ним Лап,- но это моя ванная. Тебя изнасиловали? Мне можешь сказать.
Мекс был бараном с остановившимся взглядом, тупо буравил глазами и как будто бы в чём обвинял.
- А ну-ка, минуточку,- потряс его Лап, - ты пришел сюда. Проорал, что я сволочь. Дерешься. Кровь у тебя, я так думаю - это оттуда. Оно не смертельно, скорее всего. Давай, объясняй.
- Я сам,- сказал Мекс. – Я сам познакомился.
- Да ты офигел. А зачем!?
- Я хотел знать, что вы в этом находите.
- Мы да. Но не ты.
Мекс напряженно смотрел, изучая его выражение. Лап был готов разразиться язвительной проповедью.
- Нет,- сказал Мексиканец, - мне очень понравилось. Было клёво. Трахаться в задницу – это моё.
- Ну да,- Лап озадаченно смотрел на него,- ты что, мазохист? Тебя же порвали. Нехило, я думаю...
- Я сам виноват,- сказал Мекс, - всё неправильно сделал. Первый раз, сам знаешь.
- Хватит тут гнать, - вдруг не выдержал Лап, - после первого раза по ляжкам не хлещет. После первого раза бегут подмываться, а потом на второй. После нормального первого раза, - сделал он ударение. – А ты тут в кровище стоишь и понтуешься.
Дверь распахнулась.
- Мойся, - приказал ему Дюк, - Лап, пойдем, покажу.
В ванной, наконец, зашумела вода. На мониторе красовалась совсем полудетская рожица Мекса.
- Это же надо такую повесить, - морщился Лап, - мечта педофила. Надо зайти к нему в профиль. Наверняка переписка имеется. Этого, первого типа.
- Или первых,- сказал Дюк. – Кто его вообще надоумил. Он же вовсе не гей. Ладно,- он крутанулся на стуле,- пусть отмывается и валит отсюда. Пойду мазь отнесу.
Дверь он открыл безо всякого стука – Мекс дернулся от неожиданности и едва не упал.
- Ни хера себе!- вырвалось.
Тело было в таких синяках, словно его прогоняли сквозь строй. Багровые пальцы-кровоподтёки - на тонких руках. На захватанных бедрах – тоже. На кистях – они были перехвачены явно не мягоньким шарфом.
Церемониться было не время.
- Сколько их было?
- Трое,- испуганно сдался бедняга.
- В профиле есть?
- Где... а как вы...
- Вот так мы. Мы самые умные пидоры мира.
- Нет, я потер.
- Ты уверен, что тебе это надо?
Вопрос был такой, на который ответить так сразу не представлялось возможным.
- Да кто ты вообще, - сказал Мекс.
- А я тот,- сказал ему Дюк,- кто на страже своих интересов. Мне насрать, кто ты есть. Но ты хоть раз разместишь на моём горизонте свою охуевшую задницу, я тебя выдеру сам. А я, как известно, в твои планы совсем не вхожу. Не надо к нам клеиться. И жертвенных агнцев не надо. Секте не нужны добровольцы, усёк?
- Я не клеился...
- На, - Дюк протянул ему тюбик, - давай, подзамажься, поможет. Живи своей жизнью и найди себе девочку.
***
Да, Мексиканец всегда понимал, что этот урод далеко не дурак.
Он тащился до дома, ощущая не боль. Это было похуже, чем дико саднящая, развороченная незнакомыми членами задница.
Дюк снова достал его слева.
Он казался себе очень смелым, и очень гордился. Парень, назначивший встречу на улице, возле Макдоналдса на Московской, тоже его оценил:
- Ты молодец. Не боишься!
Сам то и дело оглядывался, вертел головой, ожидая, вероятно, засады родителей Мекса. Спросил и про возраст.
- Восемнадцать,- небрежно сказал Мексиканец,- просто такой вот. В Корабелке учусь, первый курс.
Дальше все происходило стремительно, и тут же мешалось, не останавливаясь в голове и почти не запоминаясь. Позже он понял - это такая защитная функция мозга, она подключается, когда сам хозяин не хочет испытывать стресса.
Квартира на Парке Победы, там были двое – нормальные парни, взрослые, оба здоровые. Познакомились, Игорь -Василий – Рашид. Дали выпить, и какое-то время казалось, что все образуется, стали болтать. Но потом Мексиканца толкнули на чьи-то колени, раздели, ощупали.
Он заморозился внутренне и благоразумно всему подчинился: пихали сосать – он сосал. С отвращением, чувствуя потный, слежавшийся запах. Когда опрокинули – а это случилось внезапно – вот тогда закричал. Его придушили, не то, чтобы по-настоящему, а слегка, а кто-то свободный рванулся задраивать окна. Он сильно задергался, помнится, и тогда-то его привязали.
Его взяли попользоваться, нужна была дырка, и Мексиканец спасительно быстро почувствовал это. Он сделался тряпкой и влип в расписные какие-то простыни поглубже лицом, отделив от себя свою заднюю часть на потребу уродам, и молился неведомым духам, повторяя одно: пусть оставят в живых.... пусть не переворачивают хотя бы. Перетерпеть это всё… и домой.
Молитва сработала - его так и не перевернули. Никто не хотел быть запомненным,потому что долбили все трое, с аппетитом, методично, по очереди. И, когда боль притерпелась, Мексиканец подумал: все они очень разные. Саднило теперь лишь на входе,напряжение было бессмысленным и очень болезненным, парень расслабился, всхлипывая и примиряясь. Почувствовал: третий пошел не втупую, немного по-своему – чуть приподнял за живот и меленько, неглубоко как-то двигался.
«Как собачку на улице»
И Мекс обнаружил, что тупо кончает – обильно, с разорванным мозгом, впервые за всю свою асексуальную жизнь.
После этого третий расстроился – вытащил, шлепнул по заднице, и вышел на кухню. Послышался смех.
Он остывал в луже собственной спермы – было противно и холодно, сильно зудело – член чесался, прилипнув к белью. Лежал минут двадцать – а потом пришел третий, и все началось опять. Двое других между тем собрались и ушли.
Этот, последний, лишнего больше не делал. Он долго раскачивал Мекса, тискал сильно, как куклу, думал при этом о чем-то своем. Порыкивал от удовольствия, потом отвязал, положил парня на бок, крутил, как хотел.
Мекс вспархивал длинными крыльями, ногами-руками, как полуживой мотылёк на игле - дядька вертел его сладостно этак и сяк, подминал... но не давил до конца, слава богу.
По-человечески на него посмотрел, когда Мексиканец оделся.
- Ну ... молодец,- сказал третий.
Оказавшись на лестнице, Мекс подумал о бабушке. Ехал в безлюдном метро и боялся садиться – было липко, словно из задницы капало. Ноздри были забиты тем запахом: крови, спермы, дерьма – его собственного. Дико крутило в кишках: казалось, что если он сядет сейчас, из него хлынет кровь – и он сразу умрёт...
Выйдя на улицу, он спохватился – бабушка тут ни при чем. Тогда он пошел к дому Лапа. Постоял перед дверью.
«Там все не так,- билось в его голове,- там что-то другое». Он вдруг представил, что вместо всех этих парней мог быть Лап... всё сложилось бы иначе. Однако он, Мексиканец, выдержал то, что Лапу не снилось! Он только что сделал такое, отчего бы бабуля свалилась с инфарктом. И про что он и сам год назад не хотел бы услышать ... он сейчас через такое прошел! Лапин должен узнать, непременно!
А вот Дюк раскусил этот грустный орешек на раз.
Он сказал: нам жертвенных агнцев не надо. Раунд был слишком кровавый, понимал Мексиканец, но все же полезный: Марк теперь знает, что он, Мексиканец, такой же. Такой же, как он.
Перед домом нашел кусок рейки с прибитым торчащим гвоздем. Наступил аккуратно, поморщился – кровавым носкам ведь должно быть какое-то объяснение, правда?
11.
Пришло настоящее счастье - закончилась школа. По этому поводу город развешивал алые флаги, закрывал для движения Невский проспект. Молодежь отрывалась от детских реалий и свободно кричала по городу – здравствуй, новая жизнь!
Те, кто стер каблуки, или просто устал веселиться, разбредались по гулким дворам – нагружаясь коктейлями, пивом; либо садились в квартире побольше и начинали гуляние.
Сколько надежд исполнялось и билось в ту ночь, какие тела становились доступными – никто не подсчитывал: взросление официально ломилось в умы; свобода – ею веяло, и её воспевали. Она прилетала легально с Островов Тесноты, Петроградки; взвивалась из холодных колодцев на Ваське, ходила метлой на широком Просвете, Гражданке, бултыхалась бухлом в бандитском Веселом Поселке – да поправит пускай молодой петербуржец, что еще не назвал – ну да ладно, примите мои извинения.
Для ребят это был, разумеется, праздник – срок закончился, стальную решетку подняли. В полупьяной толпе одногодков они были такими же, и целовались напропалую. Никто не шарахался, и не показывал пальцем - всем было не до того.
- Это так...
- Охуительно просто,- сказал другу Дюк. – Это просто космически охуительно. Целоваться в толпе и нас пока не убили. Продолжим!
Лап вис на друге, таща полбутылки текилы – милиция бдила, отбирали и пиво, но было откровенно плевать. Он отхлебывал, морщась и вовсю сожалея о факте, что никто не расставил по набережной блюдец с нарезанным тоненько лаймом, посыпанным перцем – Лап был пьян, беспримерно. Друг смотрелся достойнее: уяснив, что товарищу необходимо напиться, он решил воздержаться до вечера, ибо две крепких ноги всегда предпочтительней восьми неустойчивых лапок.
Молодежь распирала Дворцовую набережную, казалось, вот лопнет немедленно камень, и разноцветные платья, рубахи, костюмы и модные майки посыплются прямо в Неву. Со стрелки Васильевского грохотало – ревели гитары, там был рок-концерт.
- Смотри, запалили, - Дюк кивнул на Ростральные. Знать, действительно праздник.
- Поздравляем!!! – орали кругом одноклассники,- е-мое, счастье, народ!!!
Рэпмен бесился, собирая толпу, нёс обычную ахинею, наслаждался поклонницами.
Сергеева, в алом облегающем платье, терроризировала каких-то парней.
- Весь наш обезьянник, запомни, - громко выкрикнул Лап, - десятка отсидки как минимум вместе!
- Лапин пьяный,- хихикнули справа, - прикольно.
- Он счастливый,- парировал Дюк, - и он прошел в Первый мед, между прочим. У него все пучком.
- Лапин – будущий доктор? – удивилась Сергеева, - ничего себе. Я думала, он будет в Финэк поступать.
- Я буду хиру-ургом, - прокривлялся ей Лап,- ты сломаешься, а я тебя вылечу-у-у...
- Сам себя вылечи,- громко сказала Сергеева,- ты. Гомосек.
Лап вдруг застыл, а потом отцепился от Дюка. Пошел на Сергееву, крепко сжимая бутылку...
Дюк рванулся, но его кто-то сшиб – разлетевшись в комическом танце, какие-то девушки врезались больно в плечо.
- Лапыч, стоять!
Но он опоздал.
Сергеева уже обтекала текилой – та ползла по прическе, по намазанному лицу, хрустальными каплями дрожала на шёлковом платье. Но хуже всего было то, что крепчайший напиток попал ей в глаза.
Дюк растерянно заозирался: нужны были руки.
- Мексиканец! – тот был совсем рядом, - будь ты другом... Лапа куда-нибудь отведи. Я сейчас.
Мексиканец кивнул, подхватил друга под руку.
- Эй, Алён, - Дюк пихал ей платок,- надо вытереть. Давай, не расстраивайся. Глаз не трогай, - он выхватил бутылку с водой у ближайшего парня, - надо быстро промыть.
Сострадания к Сергеевой не было. Только желание её успокоить – пьяная злая Сергеева, он сразу почувствовал, может затеять больную и грязную свару сейчас.
Погасить удалось – с глазом все оказалось неплохо, а в сумке нашлась косметичка.
- Хорошо выглядишь, - сказал девушке Дюк. - Ты извини. Лапыч просто напился, я не уследил. С ним бывает. Да и ты хороша.
Вокруг колыхалась толпа - веселая, пьяная, и одноклассники потеряли к ним интерес – начинался салют. Все рванулись к Неве и мосту – посмотреть, поорать под богатые яркие всполохи в не темнеющем питерском небе. Сергеева же будто ослабла, цепляясь за Дюка.
Толпа поредела, а они всё стояли, и она силилась что-то сказать – возможно, в последний доступный момент. Он почти понял её, признавая вину и прощаясь, но она вдруг впилась в него. Всем своим шелковым телом и накрашенным ртом. И простонала:
- Я так по тебе скучаю...
Целовалась всегда хорошо, и Дюк рефлекторно ответил. Не железный, в конце-то концов...
Дальше было кино из нарезок, под условным названием «Море херни»: черно-белые кадры, переходящие в сепию, со словом «конец» в середине.
В каких-то там метрах, на пустом от толпы и машин безупречном асфальте – там был Лап, ни минуты не пьяный и внимательно наблюдающий. Сзади, словно приросшая тень, колыхался худой Мексиканец, брезгливо кривящий лицо.
- Всё,- сказал Дюк Сергеевой,- хватит. Считай, попрощались.
Он поднял глаза, но уже никого не увидел. Телефон Лапа был выключен. Поплутав еще в поисках, он дошел до Гостинки, влез в метро и поехал домой.
Жгло предчувствием, но он отгонял – Лапыч умный, и ссоры не будет.
.
Конечно же, у него были ключи. Свет не горел, и Дюк раздраженно подумал – шляйся-шляйся... как бы куда не влетел.
Прошел прямо в обуви – надо бы куртку, и пойти поискать дурака... и замер.
В светлом пятне, пролегшим сквозь сбитые жалюзи, на собранном в кучу покрывале дивана, трахались люди.
Дворовый прожектор глумился, не давая ни шанса чего-то нечаянно не рассмотреть.
Были понятны мексиканцевы слабые ребра, и ходившая тонко по ним полупрозрачная кожа. Понятны мосластые ноги, в редкой, пучками, шерсти. Коленки, воткнутые в ком покрывала, длинные - красные, в белых от напряжения суставах – пальцы.
Член Мексиканца, неожиданно зрелый, болтался свободно, неприбранный, махал головой.
Лица Лапа не было видно, только море отросших волос, он угадал лишь оскал - хищный и мстительный. Позже, включая стоп-кадр, Дюк разобрался в картинках, а сейчас ему было понятно: тот, ради которого он, в принципе, был … тут, в этой квартире... ****ь, да на этой земле...
Этот прекрасный объект безо всяких сомнений вдруг трахает первого встречного.
Это почему-то никак не укладывалось, ни в какой из отделов. Он бессильно свалился на крутящийся стул. Положил ногу на ногу и тупо уставился.
Мекс беспокойно заерзал, ему стало неловко.
- Не отвлекайся,- сказал ему Лап.- Все нормально.
Он даже не сбавил темп.
- По крайней мере, ты теперь сверху,- выдавил Дюк, - поздравляю.
- Пошел нахуй.
- «На ***» - это твоя позиция. Но в чём-то я даже рад за тебя. Растешь.
- В ****у,- сказал Лап и посмотрел на него, - в ****у. Там тебе самое место.
Дюк сидел, и ему становилось смешно. Словно драка в песочнице.
- Ты бы не отвлекался, - посоветовал он, - девочка вон заскучала.
И действительно - Мекс, оскорблённый таким поворотом, тихо выползал из-под Лапа.
- Куда,- спросил его Дюк,- ты чего испугался? Если хочешь, я выйду сейчас. Разгребайте свои стояки... а я чаю попью.
Он действительно встал, потянулся. Мексиканец запрыгал по комнате, собирая носки и другие свои мексиканские шмотки. Лап застыл: привалившись к стене, наблюдал. И вдруг засмеялся.
Дюк тоже хмыкнул и нажал выключатель.
Нелепый, Мекс был очень смешным. Глаза его были распахнуты, несмотря на слепящее электричество. Он прыгал в одном носке, пытаясь забраться в штанину, опасаясь присесть на диван. Рядом с Лапом, под которым вот только что так извивался. Член, серьёзно набухший, задевал и мешал, веселился отдельно ... черт, это вправду казалось смешным.
- Пляшущие, блин, человечки*,- машинально откомментировал Дюк.
- А-агата...- Лап умирал со смеху, - Это из Кристи-и-и...
- Что смешного,- не выдержал Мексиканец, - что вы ржёте-то? Ты мне сам предложил! – заорал он на Лапа.
- Предложи ему в следующий раз с крыши спрыгнуть,- посоветовал Дюк из дверного проема,- он и спрыгнет. Чаю хошь, Мексиканец?
- Какой еще чай,- звонко выкрикнул тот, - ты нам всю тему обгадил!
Он осмелел. Наконец-то он может ответить хоть что-то! На равных!
Дюк любезно подал ему недостающий носок и сказал:
- Тему? Это деточка, вовсе не тема. Я могу тебе показать, что такое настоящая тема. Желаешь?
И он потянул за ремень.
Лап у стены заходился сдавленным смехом:
- Соглашайся-а-а, - промычал он, - давай, соглашайся... ха-аа...
Мекс ошеломленно застыл. Да они ненормальные. Оба. Шизанутые гомики. И Марк... как он может вот так!
- Вы ненормальные.
Дюк отодвинулся, приглашая пройти.
- Ага. Мы долбанутые гомики. Я тебе говорил – добровольцы нам по хрену. Говорил?
Мекс боялся пройти, и стоял в нерешительности, прижимая бесценный носок.
- И я обещал, что я сам тебя выдеру – помнишь?
Мекс пулей унёсся в проём, а вслед догоняло:
- И теперь ты мне должен! Слышал ты там или нет?
- Шизанутые гомики! – крикнул он и выскочил на лестничную площадку.
***
Лап, наконец, отсмеялся. Следил за деловито снующим по комнате Дюком.
- Где мои синие джинсы? В машине?
- А зачем тебе, - это было совсем не смешно.- Куда это ты на ночь глядя?
- Ухожу, разумеется,- сказал ему Дюк, - освобождаю поляну. Я под все это, знаешь, не очень заточен. Вернее, никак.
- Подо что, - Лап занервничал, - о чем ты вообще... Мы же только что выяснили. Это просто реакция... ну, на Сергееву. Мы же вместе, ты знаешь. И будем всегда.
Дюк вышел, и Лап рванулся за ним. Джинсы да, оказались в стиральной машине.
- Напрасно ты нервничаешь, - торопился сказать ему Лап,- это же просто фигня. Я просто расстроился, когда ты там с Сергеевой... Ты же знаешь, меня клинит, когда ты с какими-то бабами. Клинит по-страшному! Дюк, ну пожалуйста, не загоняйся ты так.
Дюк оглядывал комнату и совершенно не слушал. Кажется, ничего не забыл. А, да.
Сел к компьютеру, нашел свои папки и принялся чистить.
- Я вены порежу.
Дюк хмыкнул.
- Знаешь,- сказал он, наконец,- я вроде бы понял. Ты мне когда-то поставил условие, я на него согласился. Вопрос, почему? Ответ - я сам так решил. Мне было так нужно, мне важным казалось…
Осталось ударить «delete».
- А сегодня я понял, зачем тебе нужен был я. Представляешь, сам догнал. Тебе просто со мной безопасно. Очень удобно – пацан я проверенный, годы знакомства. Ты ведь всегда хорошо все рассчитывал, в отличие от меня. А сейчас школа кончилась, секьюрити-ёбарь не нужен. В общем, я сам виноват.
- Ты ****улся,- выдавил Лап, - я же тебя...
- Да нет,- перебил его Дюк, - это, ****ь, не любовь к человеку. Не стал бы я тебя трахать – ты бы кинул меня тогда. Точно бы кинул. Ты посчитал, как всегда. Или - или. Или я становлюсь голубым, или же я пошел на хрен. В этом случае «или» не будет. Тем более, что замена имеется.
- Ты что несешь...
- Куры несутся,- Дюк очистил корзину компьютера,- а я беру голые факты. Всего лишь из-за того, что ко мне присосалась Сергеева, ты берешь и ебешься с первым же встречным. И тебе все это смешно. Я тут со всей своей жизнью... смешно.
Они посидели немного. Лап оглушенно, Дюк высматривал вещи: не забыть бы чего. А, да и фиг с ними, собственно.
- Мне было лет пять, - он хмыкнул, - я тогда нечаянно увидел, как мать мою трахают. Какой-то уродский еблан, лысый. Аж подкидывал, бошки мотались. Я до того её сильно любил, обниматься лез постоянно. После этого всё, как отрезало. Как и сейчас.
Он приподнял брови, как делал всегда, когда думал, что прав абсолютно. Безо всяких истерик. Протянул пятерню для пожатия, как все натуралы. Лап медленно взял. Подержал.
- В общем, я возвращаюсь к себе,- Дюк убрал руку,- откуда пришел.
- Куда это ...
- Давай, удачи тебе,- сказал Дюк.- Звони, если что.
И ушел.
- Вернись, сука! – закричал Лап в пустоту необъятной квартиры. – Вернись!
Так он и колотился два дня, а потом приехала мама.
***
Раунд проигран всухую, нокаут, подумалось Мексу. Скатился по лестнице, глуша раздражение и стыд, злоба душила.
Дома, в постели, он отодвинул всё это и вспомнил начало. То, как пришли, говорили, и как позволил себя уложить – очень мягко, естественно.
В этот раз оказалось не больно, да он еще раньше потёк, с поцелуев. Захлебнулся от пары прикосновений, от голоса , слов...
«Вот как у них, значит. Вот как бывает»
Обхватил себя крепко, бестолково подергал с минуту, и его залило. Мексиканец ревел, задыхаясь в подушку, и понимал, что бессилен.
***
Год пролетел стремительной ласточкой, режущей воздух непокорным крылом. Дюк не болтался без дела – устроился на автосервис, подделав для ксерокса дату рождения – шестерку исправил на пятерку. Получилось, что родился он в восемьдесят пятом году.
- Восемнадцать, - обаятельно улыбаясь, сказал он директору, - опыт работы в частной компании. Трудовой тогда не было – маленький был.
- Паспорт забыл, - наврал кадровичке, - ксерокс вот есть...
- Очень прекрасно,- ответила та, радуясь, что не надо тащиться в другой кабинет и копировать.
Деньги пошли неплохие и сразу – кредиты на иномарки давались легко, народ покупал и отчаянно бился – было время расцвета российской автоторговли, и работы на сервисах было невпроворот. Скучать не пришлось - отсыпаясь в субботу, Дюк начинал в воскресенье: ему, как салаге, доставались пока только такие «халтуры», но вскоре коллеги-товарищи зауважали всерьёз.
Приходил вечерами, часто и за полночь, провонявший автомобильным железом и маслом, ел, быстро мылся и падал в постель, для проформы потискав ночные каналы. Утром вскакивал, завтракал, убегал на работу – в общем, жил, и особо не тратил.
Алкоголь не прельщал – не нравилось быть ни разбитым, ни с больной головой: все это нарушало с трудом установленный график.
Почти ничего не читал – не было времени, да и так уставал, что слипались глаза. Над книгами ему размышлять не хотелось, чужие и умные мысли навевали тоску и вопрос – а не надоело вам, братцы? Брал желтую прессу, да кроссворды в метро – это сделалось чтивом, что выкидывал, выйдя на воздух.
Лапа он больше не видел, и никогда не звонил. Выкинул старую «симку» немедленно, когда получил от него сообщение, которое не прочел. Матери было наказано под страхом ухода из дома:
- Адрес места работы никому не давать. Появится – нахер гони.
Через два месяца он снял квартиру и вовсе уехал – мать, наконец, обустроила личную жизнь, и его переезд оказался логичным.
Ничто не тревожило память. Лишь иногда приходилось шерстить электронную почту от спама: от Лапа текли бесконечные письма, без текста, пустые. Он заблокировал было, но тот сменил адрес. Дюк бы снес этот ящик, но аккаунт был нужный и поэтому он просто терпел.
Иногда развлекался – заходил на сайты знакомств для геев и лесби. Конечно же,Лапин был там – игривое, очень красивое фото. В профайле стояло: «актив», без каких-либо там вариантов. Дюк усмехался и кликал «закрыть».
В субботнее летнее утро явились те самые люди – он открыл, разлохмаченный, только что из постели – кого там еще принесло? Люди были в зеленом и вручили повестку.
- Ну наконец-то,- сказал людям Дюк и с удовольствием расписался.
- Всё?- спросил он, - или еще где-нибудь ?
Оба перца в зеленом стояли в тупом онемении.
- Всё,- тихонько сказал тот, что потолще.- Вот спасибо-то.
- Служу России,- подмигнул ему Дюк и захлопнул дверь.
Армия была для него непростым, но спасением – он её ждал. На перроне его волновал только утренний ветер, холодил оголённую шею. Лохмы сбрил сам – не любил, когда трогали голову. Было слегка неуютно, но, в общем, терпимо. Он рассматривал будущих сослуживцев – пацаны были бодрые, большей частью худые, обыкновенные питерские, с разных районов. Строили из себя важных героев, кто-то ребячился или выслушивал мамочку, кто-то тискался крепко, взасос – по этому случаю всем выдают. Девушки словно пришли на парад: большей частью раскрашенные, кое-какие и с пивом. Были разные люди, но у всех через все эти долгие проводы пробивалось одно настроение: детей отправляют на бойню.
С матерью Дюк попрощался – он ей позвонил. Дал телефон хозяйки квартиры, поручил отдать деньги и вещи забрать, хоть и немного, но за год набралось. Мать заплакала в трубку:
- Как же так?! Когда поезд?!
- Завтра утром,- ответил ей Дюк,- я обязательно буду звонить.
И нажал на «отбой».
Он скучал и кидал под вагон уже третий бычок, как вдруг его самого по себе развернуло, и будто подкинуло – от вокзала, по узкой и острой ленте перрона, в белой распахнутой куртке, сквозь обнявшиеся по двое и трое фигуры, мчался растрепанный... Лап.
Он бежал и толкался, перепрыгивал через дорожные сумки, несся прямо на Дюка – яркий, нездешний. Чужой.
Вырос, четко отметилось где-то, совсем не пацан уже. Стрижка короткая. Плечи, смотри, наросли.
Тот Дюка не видел, все сливалось в единую джинсово-черную массу. Лап шарил взглядом по лицам, и был похож на слепого: казалось, он сейчас закричит.
Дюк быстро запрыгнул в вагон, прошел в середину, забился в углу. За ним потянулись другие: лейтенант подгонял, отцепляя суровым своим командирским фальцетом припаянных родственников – вагон наполнялся, надежно скрывая сидящего Дюка.
Парни падали на любые свободные полки, небрежно кидая вещи, пакеты, кричали в закрытые окна. Снежная куртка Лапа остановилась напротив, по ту сторону грязного, мутного от давнишнего времени шестидесятых, стекла. Видеть Дюка он вряд ли мог.
- Дюк, - он ударил в окно, - я знаю, ты здесь. Дюк, - и Лап перешел к соседнему блоку, - ты здесь, я же знаю. Давай, вылезай.
- Кто тут Дюк,- спросили в вагоне, но никто не ответил.
Лап шел вдоль вагона, уже зашипевшего крупной змеёй, обожравшейся пацанячьего мяса, ходил и лупил по стеклу. Быстро вернулся, остановившись напротив. И вдруг заорал – в никуда, просто поезду, увозящему целое поколение:
- Ни в какую Чечню не просись! Ты слышишь меня? Ни в какую, ****ь, горячую точку! Ты понял, мудак? Не просись ни в какую Чечню! Ни в какую другую страну! Слышишь меня, Дюк?
Стало так тихо, что услышался хруст поедаемых чипсов – там, где-то в конце вагона. На перроне заплакала женщина.
А Лап, никого не смущаясь, громко добавил в застывший и озадаченный воздух:
- Все твои горячие точки ждут тебя тут. Я жду тебя тут. Я буду тут, когда ты вернешься.
Слышишь меня?
И он закричал так отчаянно, что шарахнулись те, на перроне:
- Я буду!!!
***
Отвернувшийся Дюк был потревожен образовавшимся напротив соседом. Наступала другая реальность, с ней положено взаимодействовать, да.
- Андрюха,- сказал невысокий, улыбчивый, в джинсовой куртке.
- Егор,- отозвался Дюк.
- Твой, что ли, парень? – спросил Андрюха и хитро прищурился.
- С чего это?
- Ты один не смотрел,- сказал тот,- парень-то твой. Весь поезд на уши поднял.
- Тебе бы в разведку.
- Парень Горячая Точка,- рассмеялся Андрюха,- красивый.
- Да,- ответил Дюк коротко.- Мой.
12.
Вагон дребезжал, поправляя железными тоннами непараллельные российские рельсы. Несмотря на с трудом приоткрытые окна, воняло: перегаром, футболочным потом, домашней едой. Дюк ловил сквозняки, только так можно было немного дышать. Поезд оставил окраины города и шел в неизвестность – куда их везут, не знал никто.
По вагону мелькали срочники – высоченные, в морпеховской форме, сопровождение.
- Эй, командир, - смело крикнул неугомонный Андрюха, - а куда нас везут?
Солдат не ответил, быстро глянул и ушел в противоположный конец. Дюк поднялся:
- Пойду, подышу.
Морпех стоял в тамбуре, курил с удовольствием и ненавистью одновременно. На него посмотрел через дым – застоявшийся и густой.
- Выжрать успеем?- спросил его Дюк.
- Начинайте. Время в пути двадцать часов.
- Есть коньяк,- Дюк достал из-за пояса флягу, уважительно подал.
- Соображаешь,- одобрил морпех, и сделал глоток. А если точнее – глубоко присосался.
- Как зовут,- выдохнул он алкоголь, - я Александр. Куришь че?
- Марков Егор,- он отдал непочатую пачку. – Мурманск, что ли?
- Типа того. Водку выжрать успеете. Не тренди там.
- Спасибо, - и Дюк развернулся обратно.
А вагон уже булькал, позвякивал и колыхался – пацаны накрывали «поляны», добывая припасы, расставляли нестойкие пластиковые стаканчики, ломали нажаренных мамами кур – наступала великая дорожная пьянка, последняя перед суровыми армейскими буднями. Все понимали, что тормозить их не будут – водка стояла стеклянными теплыми литрами в каждом пакете.
Так полагалось.
Жизнь отчеркнула от старой налаженной жизни, и детские страхи полагалось топить-заливать по старинной привычке. Через пару часов вагон превратился в орущий и беспощадный к интеллигентному уху оркестр, через пять в полузаблёванном туалете перестали стесняться – дверь была нараспашку; бутылками завален был тамбур.
Пили Андрюхино – коньяк Дюк запрятал обратно. Еще пригодится.
- В армию кто идет? – пьяно качался Андрюха,- гопота. У кого бабла на откос не хватило. Вот у тебя не хватило, и ты тут.
- А у тебя чего не хватило,- спросил его Дюк, - ты тоже тут. Или, блин, это твой клон?
- У меня папа идейный,- ответил Андрюха,- он меня вообще раньше в кадетку хотел, только я не пошел. Даже ногу сломать хотел, специально. Мать просила-просила... а он затянулся реально. Пусть, говорит, служит, как все. У нас все мужики в семье служили, у всех всё нормально прошло. Ну по первости погоняют, конечно.
- Нда, - сказал Дюк. Говорить вообще не очень хотелось. В мозг, сквозь гудящий, орущий исключительно матом вагон, молоточком, словно колеса по рельсам, стучало:
« To-do-it-today. To do it today»
Что сделать-то, мучился Дюк от этой скороговорки, что сделать-то надо?
Эта фраза всегда была Лаповой – когда Дюк, обленившись, откладывал что-либо на потом, он начинал повторять, подражая стучанию поезда: ту-ду-ит- ту-дей...
Как правило, своего добивался – раздраженный и замученный, Дюк садился за книги.
Андрюха, тем временем, разошелся. Дюк прислушался.
- ... дядька в восемьдесят девятом,- рассказывал парень.- Так их с призывного в автобусах привезли в ДК Газа, и там на двое суток закрыли, человек сто. Ну они там бухали... за двое-то суток озверели, лишь бы уйти! Все съели, жрать было охота. А потом купцы пришли...
- Покупатели, - понял Дюк, - и что дальше?
- Ну, когда мареманы на сцену полезли... списки выкрикивать, кого и куда, так народ как ломанулся из зала – а нет! Все ж перекрыто. На флоте тогда три года,- пояснил он. –Можно было не отзываться, конечно, а толку-то, не уйти. Нам еще повезло – вон, родаков на платформу пустили...
- Пустили, - машинально повторил Дюк, - лучше бы не пускали.
- Это точно, - Андрюха заухмылялся, - такая подстава.
-Какая?
Молоточки вдруг стихли, определив себе цель. Тихо выплыло очень знакомыми буквами: безопасность.
- Ну как же, - лицо собеседника поплыло в понимающей и похабной усмешке, - пацан у тебя сразу понятно какой и зачем. Всё сказал, все догнали. Кстати, - будто бы вспомнил Андрюха, - гомосеков в армейке чморят не по-детски... мне вот дядька рассказывал...
- Покурим, - Дюк встал, - по-взрослому.
- Покурим, - согласился Андрюха, - так вот, у них в части...
Туалет был свободен, дверь в тамбур распахнута. Воняло спиртным, табаком и помоями – пакеты зевали полуобъеденными бутербродами, пачками из-под сока, огуречными жопками, мелкой яичной трухой. В проеме виднелась знакомая уже фигура морпеха.
Сильным рывком Андрюха был закинут в загаженный поездной туалет.
- Эй!! Ты чего?!
Но был сразу повернут и приплюснут щекой к стене, руки Дюк заломил ему в болевой.
- Слушай внимательно, балаболка,- сказал ему в ухо,- насчет гомосеков. Зря помнишь.
Резко сдёрнул с него зеленые, на широкой резинке, штаны.
- Ай-йя-я-яяя,- взвыл парень, - сука ****ая-а-а... отпусти!!
- Тихо,сказал.Потерпи.
Он оглянулся. На стенке увидел позабытое кем-то казенное белое полотенце – серенький поездной штамп, ткань типа «вафля». Обернул себе руку, и быстро, с силой, воткнул.
Андрюха завыл, хотел соскочить с крепко вбитых в упругую задницу пальцев. Руки скребли по стенке, не доставая до Дюка, парень визжал и лягался.
- Будешь дергаться – всю руку засуну,- сообщил ему Дюк, ощущая своё возбуждение,- теперь слушай.
Андрюха затих.
- Вякнешь хоть слово – лопату забью. Усек? Если хоть кто-то узнает – прицепом пойдешь. Ты теперь вроде как тоже.
- Я понял, - заливался слезами пацан, -я всё понял...
- Покурим,- сказал ему Дюк, - идем и спокойно жрем дальше.
Он вытащил руку из Андрюхиной задницы – полотенце было в дерьме.
- Форрест Гамп**,- услужливо выдала память, - на, вытирайся.
.
Он вышел из туалета, вымыв тщательно руки. Андрюха, забившись в углу, на толчке, потихонечку всхлипывал.
Дюк успокоился сам, уперевшись на выходе в широченную спину морпеха.
- Чего это,- ровно спросил Александр.- Парами гадите, что ли?
- Да блюет,- легкомысленно отозвался он,- пить не умеет. Помог.
Андрюха явился тогда, когда Дюк уже развалился на верхней своей боковой. Молча убрал со стола, выкинул мусор. Наверх косился испуганно, вел себя тихо.
До самого Мурманска его не было слышно, а потом он и вовсе исчез из сознательной жизни, был где-то там, в другой роте, кажется, Дюка это больше не волновало.
To do it today - хорошая скороговорка.
***
Армия вымела всё – от физических сил начиная и кончая ненужными мыслями. Это было именно то, что желалось – чем хуже, тем лучше, думалось Дюку. Раздражали лишь чувство вечного голода и неудобная обувь – ноги саднило. Тело болело от непривычных нагрузок, от недосыпа слипались глаза, от тычков старшины иногда подмывало как следует развернуться и врезать... Это мелочи, определил себе Дюк, все это мелочи, нужно привыкнуть. Это было и правда спасение – подчиняться приказам, не думать о будущем, не разговаривать много.
Он плотно закрылся, тем не менее, быстро наладив основные контакты – Александр из сопровождения его не забыл. «Дедом» он оказался совсем не последним – особенно Дюка не трогали, армейские штуки коснулись его незначительно: только раз его брили при помощи зажигалки, да однажды избили. Он чутьём понимал, что все это так, для проформы, потому что - положено. Со старшими не препирался – не шел на конфликт, но и особо услужить не старался.
Дюк был крепкий, накидавший за год в автосервисе тонны разного автожелеза; дворово уверенный, он дрался жестоко – в нем не виделась жертва, а выпендриваться он не спешил.
Затравленно не смотрел, оскорбленной невинности не демонстрировал, и, когда наступил подходящий момент, просто дал сдачи. Последняя вроде ответка за то, чтобы от человека отстали.
Он не повелся на «пидора» и «отсосать всему взводу» - расхожий набор для любого. Он просто сказал:
- Терпите до дембеля,- и на дальнейший обидный глагол среагировал адекватно – развернулся и врезал по самому главному.
На него навалились втроем, но приготовленный остро заточенный штырь, который крепился неширокой резинкой к руке в рукаве, послужил там, где надо – оказался у горла одного из троих. Без этой штуковины Дюк в расположении и не ходил – железка была незаметной, короткой - и вот, пригодилась. От него отступились, наградив погонялом «Егор-Эспебе», и статусом "бешеного", как и надеялся Дюк.
Вся эта возня и остальные события никак не затронули глобальной апатии – жизнь он не чувствовал, чувствовал лишь отупение, которое, впрочем, спасало. И было у него ощущение, что армия – это что-то навечно понятное, очень логичное – не думать о хлебе насущном, валиться на койку в изнеможении, бежать марш-бросок в полной выкладке, слушать ор ротного, чистить сортиры привязанным к шее изломанным лезвием «Спутник». Все это было нормально и правильно, лучше, чем белый конверт, который ему принесли за два дня до присяги, и лучше, чем все те десятки конвертов, которые он потом получил.
Буквы были печатные, а отправитель был неизвестен, какая-то женщина - Егорова М.
- Это не мне,- хотел сказать Дюк, но потом передумал.
- Дай почитать,- сказал ротный, - что за бабец. Девчонка твоя? Симпатичная? Фотку покажешь?
Дюк не успел ничего предпринять – ротный уже углубился в бумагу. Но через минуту сказал:
- Ботаничка какая-то замудреная. Ни хера не понятно. По английскому, что ли.
Смутился и отдал письмо.
Лап писал по-английски, но только первый абзац – ничего не несущий и содержащий приветствие. Дальше лился обычный интернетный транслит, но ржавый от армии мозг включился лишь на третьем его предложении.
«Деградирую, блин», - Дюк удивился себе самому.
Лап писал:
«Погода обычно-нелетная, сам понимаешь. Хотя, это, может быть, глупости и у тебя там такая же, и не надо об этом писать. Но не писать не могу, потому что купил сто четыре конверта и тратить их некуда. Эпистолярщина зря отмерла, между прочим – ты точно оценишь и будешь читать, потому что ты любопытный. Письмо – это тайна, в которую хочется сунуть. Я имею в виду твой нос».
Переворачивало – со страниц улыбался привычный насмешливый Лап.
«Я подумал, - продолжал читать Дюк,- что до нормального чтива ты там доберешься не скоро, а я тебя развлеку. Раз в неделю, железно. Ты, наверное, сейчас офигенно суровый и запаренный армией воин, и тебе не до разных материй. Про них и не буду, я про то, как у нас»
Бисерный почерк окатывал свежим дождем и кидал прямо в детство. Дальше захлестывало возбуждением – нереальным, жестоким. Читать было трудно, хотя Лап писал о простом, а в целом вообще ни о чем.
«Город готовится к спячке, и вообще захандрил – сыро, и листья гниют. Пахнет вкусно – как в Пушкинском парке. Я там вчера кошку кормил – или это был кот, я не знаю, но он почему-то напомнил тебя. Я примерно представил, каково это – хотеть постоянно жрать, и подумал, что кота я из этой участи выручу. А ему наказал, чтобы он помолился своим самым главным Кошачьим Богам, и они бы тебе передали – да хоть бы таких же сосисок в тесте, какие их подданный слопал ».
- Было бы очень кстати, - Дюк сглотнул, - вот скотина.
«А если серьезно, то отпиши, что прислать и куда. Этот адрес мне дали в военкомате, и даже не знаю, дойдет ли письмо. И еще».
Что еще, замерцало пунктиром, заколотилось, ну что же еще...
«Ты помнишь, у Бродского: « я любил тебя больше ангелов и самого»? Ты должен забыть про то, что там у него дальше написано. Стих отправляется на ***, как бы хорош он ни был. У меня большие запасы особого клея, им я буду заращивать дырки, которые сам и наделал. Может, я до смерти надышусь этой химией и помру, не узнав результата, не знаю. Но я надеюсь успеть. От тебя же мне нужно только одно – просто читай»
В конце строчки висел нарисованный смайлик, провинившийся в чате и сосланный на бумагу. Веселый, несмотря ни на что.
Белый исписанный прямоугольник разнес на куски возведенные стенки коробки, в которую посадил себя Дюк. Он думал, что крепко, а оказалось, что стены - это просто яичная скорлупа, как та, что валялась в загаженном поезде Санкт-Петербург – Мурманск. Осколки хрустели, впиваясь куда-то под сердце, но хуже всего было то, что письмо разбудило воспоминания.
Сразу нахлынуло сексуальное, и это было хуже всего. Несмотря на измотанность и недосып, вставало живое, животное и очень горячее: член раскаленной дубиной лежал вдоль бедра и просил – хоть потрогай ты, что ли...
Подрочить даже негде, сумрачно думал Дюк, вышагивая по плацу, как пацаны справляются? Ночей шевелящихся одеял он не заметил, поскольку всегда засыпал, как убитый. Но сейчас, после Лаповых строчек, оформилась мысль: здесь полно молодых пацанов. Теоретически можно – любому... тому, кто проявит сговорчивость.
Ошеломленный, он старался никого не разглядывать в душе. Удавалось хреново.
« Я думаю, как голубой». Ты и есть, отвечал ему воображаемый Лап, надо быть честным.
Ночами спускал в туалете, в пол-уха прислушиваясь к ночным шевелениям дневального. За переборкой, по звукам, занимались чем-то похожим. Адски тянуло туда посмотреть, но каждый раз в голове предостерегающе кликало и выплывало необходимое: бе-зо-пас-ность...
Горячие точки были не здесь, начинал думать Дюк.
Вскоре жизнь его несколько переменилась – в личном деле обнаружили последнее место работы. Автослесарь, ценнейшая вещь при любом механизме, имеющем двигатель, и жизнь в армии стала значительно легче.
Комдив был фанатом немецких моторов.
- По дешевке купил,- поделился он лично, - из Питера гнал.
Дюк вытянулся по струнке возле черного «шестисотого» «Мерседеса». Эти машины он знал хорошо – чинил и старьё, да и в новых успел разобраться за то время, что работал на сервисе.
- Как «жигуль» обошелся,- хвастливо продолжил комдив,- повезло. Четырехлетка!
- Разрешите обратиться! Машина с проблемой?
- Есть одна,- помедлив, недовольно раскололось начальство,- прежний владелец убит, родственники его продавали. А труп был в багажнике. Три дня там лежал, потом дворник запах унюхал. Обшивку, конечно, сменили, но все равно...
Дюк внимательно рассматривал «мерина». Становилось смешно. Генералу и так наколоться!
- Я багажник не открываю,- закончил комдив, - возить мне там нечего, а в салоне не пахнет. Ну, вернее, не очень.
Дюк открыл багажник. В нос ударил стоялый и приторный запах – его затошнило.
Это был очень, очень знакомый багажник. И обшивка была – знакомая. Её никто не менял. Почистили перед продажей, наверное, но чистка не всегда помогает. На неделю, бывает, не больше.
- Можно убрать,- сказал он,- но мне нужно время.
- Можно? – в детской надежде вздрогнул комдив.- Правда?
- Так точно, товарищ генерал,- сказал ему Дюк.- На нашем сервисе разное было. Это тоже.
-Действуйте, рядовой,- покачнулось начальство, - если получится, то... - комдив выразительно замолчал.
Комвзвода у него за спиной тихо крякнул.
- Есть,- салютнул рядовой.
Жизнь определенно налаживалась – наверное, кот не забыл помолиться самым важным Кошачьим Богам...
13.
Таня была не красавица, но генеральская дочка, что по армейским понятиям было одно и то же.
О Тане ходили различные слухи, хоть и видели в расположении каких-то два раза. Личность её обрастала легендами – поговаривали, что парень её крупный мент, и что учится Таня на медика. Кто-то приписывал ей похожденья а-ля Мессалина, другие клялись, что достойнее девы не видели. Впрочем, наверное, истина все же произрастала где-то посередине, а сама Таня была чуть больше, чем нужно, упитанной средненькой девушкой, с двумя жерновами крутых ягодиц, обтянутых модными джинсами.
Однако большое достоинство у Тани имелось, одно – внешность её была очень спокойная, русская, располагающая к себе – чуть вздернутый носик, ясные глазки, и длиннющая чудо-коса. Но это, как и другие приятные мелочи, слегка затерялось под воздействием разных второстепенных – возраст Тани определенно был призывной, а папа все-таки был генералом.
В третий раз гарнизону Татьяна явилась предтечей грядущего весеннего слабоумия. Стоял невозможный мороз, календарь же настаивал – март. Ох уж эта нам северная весна – неизвестно, отчего наступает: от смены сезона или от жара солдатских сердец и других частей тела. Таня несла себя гордо, так же, как повар Лаврухин, бесконечно влюблённый в себя человек, все перед ним расступались – конечно, для вида (кому же понравится пересоленный суп?)
И надо же было такому случиться, что в третье пришествие божественной Тани судьба натолкнула её прямо на Дюка. Тот скользил вдоль казармы, срезая углы – возвращался из гаража и спешил пообедать.
Есть хотелось ужасно, и, вылетев из-за бетонной стены, он с разбегу впечатался в рыхлую гордую Таню, метущую норковой шубкой дорожку.
Откуда-то послышался восхищенный присвист, а Таня нечаянно повисла на Дюке.
- Ой, блин...- от неожиданности выпалил он,- извините, пожалуйста!
Девчонка срисовала его моментально. Такие моменты бывают - с единого взгляда, как котлета и вилка, идеально и сразу. Тут можно съязвить, что котлете всегда безразлично, кто и как её слопает, хоть с земли, хоть руками, а вот вилке не все равно – ей все мягкое подавай.
Любовь, или как это можно назвать, оглушила генеральскую дочку надежно и сразу – дополнительным плюсом впоследствии сделалось то, что Дюк был из Питера, мечты мурманчанок. Впрочем, черт его знает, чем занимаются женщины в мыслях и как выбирают парней, но только Дюку вот так повезло.
Сам он девушку толком не разглядел – из-за длинной и взрослой шубы Дюк принял её за такую же взрослую даму, и, еще раз сказав «извините», рванулся в столовку.
- Ну ты монстр, - захихикали парни из третьего взвода, - генеральскую дочу помял!
- Да ну вас,- выискивал хлебушка Дюк, - заебался сегодня с подвеской.
- А че? А кого?- завертели клонами-затылками все остальные соседи в столовой, - че случилось-то?
- Марков Танюху прижал, - гордо молвили очевидцы.
Дюк же пихал в себя армейскую пищу, не обращая внимания на ажиотаж, хлебал и прикидывал – завтра вроде бы пятница. Лап писал про Сорбонну, и что мать наседает и хочет, чтобы он переехал во Францию, к ним. В пятницу обычно приходило письмо, интересно, что скажет.
Конверты текли аккуратно, словно друг обаял и наладил всю почту России. Наверное, и правда работает справно, думал Дюк, иначе ведь как объяснить ежепятничный кайф? Лап писал, развлекаясь и развлекая, словно был вовсе недалеко.
Дюк не знал иногда, что ему отвечать – письма казались ему диалогом. Если всплывало желание или вопрос – в следующей строчке содержался ответ, и весьма остроумный. Теперь он писал,как хотел, зачастую совсем откровенно - но так выходило, что понять его мог только Дюк.
Писал приблизительно так:
«Тема была «Анатомия мужского оргазма». Термины я опущу, ибо сплошь по-латыни, буду о сути. Про оргазм ты в курсе, а вот теперь анатомия. Её нам читает резкий профессор с убитой фамилией – писать неохота, прости. Ну так вот – мы оргазм получаем от малюсенькой штуки, такой семенной бугорок, там нервные центры. Сперма при выбросе их раздражает и тебе хорошо»
- Блин, да что с ним еще, с бугорком,- торопил его Дюк, - ты тоже красиво кончаешь.
«Ну так вот, есть особые способы, позволяющие это делать без выброса спермы. Практикуют, конечно же, на востоке, даосская техника как известный пример. Эти перцы, прикинь, насобачились возвращать свою сперму обратно, не допуская выброса – и могут иметь множественный оргазм»
- Ни фига себе,- говорил себе Дюк, - я слышал, но думал, что из области мифов.
«Анатомия пениса нам позволяет извергать сперму даже в мочевой пузырь, но для этого нужны тренировки»
- Какие?
«Это делается усилием воли»
- Ну, у тебя это точно получится, а к чему это?
« Впрочем, ну его на хрен, как ты понимаешь, речь не об этом. Профессор с убитой фамилией – женщина, и про болт, вероятно, знает из академических книжек. Я задал вопрос про простату – тему-то помнишь? Ну да, анатомия мужского оргазма. Пришлось сообщить, что простата еще существует, как центр раздражения и при правильных действиях может отлично помочь. Она мне знаешь, что выдала?»
- Ну?
«Это научно теоретически, а практически бывает нечасто. То есть она не встречала. И почему у меня интерес. Но добавила, что типа я прав и она подзабыла. Вообще, похожа на Турандот...»
- Турандот-2,- думал Дюк.
«...намба ту,- отзывался на реплику Лап, - их, наверное, где-то селекционно выращивают и запускают в учебные заведения. Если ей неприятно рассказывать про простату и про то, кто её трогает и при каких обстоятельствах, то при чем тут образование? На этом я кончил – и ее лекции и вообще»
Дюк хохотал:
- На твоем месте, чтобы быть последовательным в своей пропаганде гомосексуализма, я бы тему курсовой обозначил как «Простата и как с ней работать".
Но Лап не ловился на провокации, о своих приключениях ничего не писал и лишь отвечал, что истинный мастер подобного дела перестал консультировать, к сожалению, а сам он недостаточно знает.
Но такие письма получались нечасто, из чего Дюк делал особые выводы - друг не скучает. Прав он был или нет – это так и осталось неведомым, но потребности вставить и кончить природа не отменила, и поэтому Дюк был немного польщен вниманием Танечки-генеральши.
Осложнения были со статусом Тани – какая-то хрень, думал он. Ну ладно, хоть парни – понятно, атмосфера весьма не способствует, а тут вроде бы девушка, и тоже никак.
Служить еще было порядочно, и очень хотелось домой. Он раздумывал, отвечать ли на Танины взгляды, приветы- конфеты – особые вольности были мало возможны, ничего не поделаешь, армия.
Да, это была армия. Стрельбы были почти все боевыми, за год было несколько серьезных учений. Удалось пострелять по морским мишеням, войска береговой обороны должны были это уметь. Из всего широченного перечня функций морпеха срочникам не светило всего одного: воздушного десантирования, потому как авиатехники не хватало.
Генерал позаботился о талантливом автослесаре – Дюк не попал на Рыбачий, хоть очень хотел, и его не отправили на корабль, хоть и было ему интересно. Он оставался на берегу, при автоколонне комсостава, и сначала расстраивался, но уже в ноябре оценил преимущества. Приморская зимушка, завернувшись вдоль стылого берега, пробирала и ветром, и снегом, и седыми от инея углами в казарме - на берегу было холодно, а в море, как говорили, и вовсе «прогарно»
Нагрузок хватало - страну шевелило терактами, и жиреть даже особенно ценным специалистам никто не давал. Морпехов отправляли в Чечню, на Кавказ, а Дюк вспоминал узкий перрон и белую куртку, вороша хохолок на затылке – он бы точно пошел на контракт, если б не письма.
Таня летела навстречу на всех парусах. За зимние месяцы она посетила отца раз пятнадцать, каждый раз ухитряясь находить Дюка.
- У тебя когда увольнение? - надменно спросила Татьяна, не дождавшись реакции на непрозрачные вовсе намёки.
- Я не хожу,- сказал Дюк, - денег нет. Был пару раз, мне достаточно. Читаю обычно и сплю.
Дюк, конечно, лукавил. Добираясь до города, он накупал беляшей рублей так на сто, шел на почту, забивался в зелёный засаленный угол и там объедался, строча ответ Лапу. Вспоминал то, что было в запаленных письмах, отходил потихоньку, расписывался – иногда выходила такая порнуха…
Таня стояла в великом недоумении. Как это так? Она же генеральская дочь!
Но к чести её, была она девушкой гордой, но вовсе не наглой, и казалась расстроенной искренне, не по-генеральски. Дюк, пользуясь этим, прямо спросил:
- Хочешь немного поближе?
Таня поникла. Все преимущества положения враз испарились из её головы, и она покраснела.
- Появятся деньги, я сам приглашу,- отсрочил решение Дюк, - а так неудобно как-то.
И девчонка послушно кивнула.
Генеральскую дочь не разложишь на бампере генеральского же «Мерседеса», но так и случилось – спонтанно и яростно, коротко и понятно.
Май распоясался нежно-зелеными ветками, было тепло и выдали новую летнюю форму. Весна началась, наконец: борясь с наступавшим гормональным безумием, старший командный состав сочинял изощренный по трудности план тяжелейших учений. Те были призваны укрепить дух и проверить боеспособность, ну и самое главное - измотать молодняк до потери сознания, ибо запах стоящих с утра простыней вышибал за порог посильнее, чем запах портянок. Военно-физический труд усмиряет потенцию! Бля!
В гараже он возился один – косить от учений становилось уже западло, предыдущие он пропустил по мановенью руки генерала. Нужно было закончить майорский «Рено» - работа была небольшая, но муторная – замкнуло электрику, а с ней он не очень дружил. Гараж будто вымер, а напарник ушел, завалившись в казарме. Дюк мучил французские схемы, проклинал лягушатников и чертыхался – на часах было восемь.
Вопросов о Танином появлении у него не возникло. Девчонка плавно вошла с разговором, заводила по стоящему рядышком теплому «мерину» пальчиком, облизнула чуть влажные губки, подбираясь поближе, а он все еще размышлял, понемногу отшучиваясь.
А потом ему надоел этот цирк, потому что - смеркалось, казармы затихли, дневальные будут пить водку из чудо-ларька «ЧП Мамалеев» - того, что в двух километрах от КПП, а в рабочих замасленных морпехоштанах у Дюка откровенно стояло. Он плюнул.
- Давай помолчим,- обхватил её он. И она моментально обмякла в своих раздевчачьих романтических мыслях, подставив и шейку, и губки, и пухлые плечи под первые нежные ласки. Но таковых не случилось, а получилось технично: переворот на живот, укладка на бампер лицом, возня с облегающей джинсовой юбкой и четырнадцать резких толчков – вот и всё.
Таня надела трусы и заплакала.
- Прости,- сказал Дюк, - я могу только так. Не надо нам было.
Вытирался и думал: мда, попал. Что ни горе, так с женщиной, что за планида такая.
Но Таня его удивила. Отплакав, она забрала у него полотенце и героически молвила:
- В следующий раз будет лучше. Я понимаю, что воздержание...
За это пришлось её поцеловать – казнь откладывалась на неопределенное время, и ему оставалось лишь балансировать с Таней и держать ситуацию в тайне.
Было опасно, и физически легче не стало – хотелось еще. Однако же член перестал просить поршня в сортире, утро не кисло поллюцией, а пацаны в душевой привлекали все так же, но хоть не вставало.
Тем временем Танины рейды в гараж стали весьма регулярными, и Дюк озадачился: то ли ей нравился такой унизительный секс, то ли была влюблена? Как она это сносила? Приходила еще и еще, и Дюк понемногу задумывался - женщины тоже должны получать удовольствие, иначе выходит несправедливо. Вот с Сергеевой ему думать не приходилось – та была опытной кошкой и умела достать себе пользу, а эта другая. Тане нужна была нежность, слова, и она от него дожидалась все время, пока подставляясь для слива распирающей спермы. Ласкала сама, ожидая ответной реакции – но не так, и не там... с этим Дюку ничего не хотелось и делать, потому что ему для спортивного секса - хватало.
Быть нежным, целоваться-лизаться Дюк не желал и не мог. Он боялся её ожиданий, и размышлял над вопросом.
Нежным хотелось быть с Лапом. Все остальные – другое.
С остальными ничего не работало, кроме гормонов и техники – да, в общем-то, это было вполне хорошо, да только не в случае с Таней.
Так продолжалось все лето, с перерывом на Танечкин отпуск, марш-броски и учения. Генерал автослесаря, спасителя «мерина», холил – но рядовой почему-то не желал оставаться на месте, мотивируя действия чувством повышенного патриотизма. Комдив умилялся: хороший парнишка! Замкомвзвода, а если короче – «замок», по приказу сначала присматривал, но постепенно остыл – проблем не было.
А Дюк себе мыслил: скорее бы дембель, и, если случалась большая работа, запирался теперь в гараже, хоть и не положено было. Таню стал избегать, а она, применяя свои немудрёные женские средства – вопросы о Дюке, домашние пирожки и звонки прямо в роту, в два счёта раскрыла причину своих интересов для всех. Уж больно глобальной и лакомой была героиня фигурой!
Всей ротой их с Дюком вскорости «заженили», открыто завидуя и издеваясь (по-доброму), предвкушали реакцию «сверху». Такое вот было кино.
Подумав с неделю, Дюк сам отловил оглушенную горем Татьяну. Та дожидалась отца в достопамятном «мерине» - наблюдая как будто за группой салаг, выгребающих сор из газонной травы. Как ни метите по осени, все равно будет грязно весной, мучилась Таня посторонними мыслями, с замиранием сердца и комком в животе следя за идущим к машине Дюком.
- Привет,- сказал он, - рад тебя видеть.
Таня надуто молчала, решив, что сейчас он начнет извиняться.
- Мне поговорить с тобой надо, - продолжил он,- лучше не здесь. Отца дожидаешься?
Таня гордо не слышала, уверенная в тактической и несомненной победе. Пусть он помучается. Поуговаривает её.
Дюк подождал, наклонившись к окошку, оценил её профиль и хмыкнул:
- Ну, раз так, то отлично.
И пошел себе дальше - в казарму.
И что было делать? Бросаться за ним на виду у всего гарнизона? Таня взвыла от собственной глупости, горя и, конечно, великой любви, и еле сдержавшись до дома, кинулась папе на шею.
***
Бабушка умерла в воскресенье, и никто не заметил. Хватились лишь за полдень – спали долго, все, кроме неё. Она первой восставала из глубокой перины, подаренной, кажется, на восемнадцатилетие, и громогласно будила:
- Суслики, надо таки вылезать! Все дрыгнули завтракать!
- Циля, отключи артиллерию, - ворчал дед, - по-другому вставать невозможно!
Бабушка шумно возилась на кухне, собирая приблизительный завтрак: иногда она просто лила кипяток по присвоенным каждому чашкам и бросала пакетики – вот вам, питайтесь.
Но все собирались, доставали припасы, мазали хлеб безо всяких вопросов – и еда получалась совместной, воскресной и радостной.
В то воскресенье была тишина.
Дед вошел неожиданно, собранный, попросил телефон, забытый на тумбе у внука, и, мелко моргая, набрал нужный номер, будто бы знал наизусть.
Мекс обмяк и остался сидеть, пригвожденный известием - как же так? Почему?
Мать завывала на кухне, издавая воистину странные звуки. Она будто бы рухнула, обвалилась с веревок, как старая кукла – нитки порваны, двигать их некому, и что делать – кукла не знает.
Машина приехала лишь через восемь часов. Мексиканец увидел немного, приподнявшись на цыпочки – огромное тело было накрыто, носилки тащили с трудом. Выйдя на лестницу, мужики-несуны дали волю эмоциям:
- Вот же ****ь, слон. Седьмой, да без лифта...
- В лифт не влезет, угу, - мрачно ответил второй.
И они потащились, задевая носилками стенки, перила, и изредка переругиваясь.
Все дальнейшие события мозг Мексиканца фиксировал через плотную плёнку. Точно такую же, какая накрыла его в день изнасилования. Спасительной эта реакция стала настолько, что и горем-то Мекс происшедшее не очень считал – наблюдал и участвовал, но все это было не с ним.
Проснулся он только на кладбище, но лучше бы он этого не делал.
Слезы не закапало, но захотелось кричать. Мать он увидел белесой и страшной, заплаканной – ей удавалось, и, наверное, от этого было полегче.
«Совсем не похожа на бабушку»,- и его захлестнуло потерей, а в тело вошла резкая ко всему нелюбовь.
Дед был маленький, тихий, покорный... было много людей и лица их были похожи.
Мекс рассматривал их, не глядя на гроб. Выражение скорби – так, кажется. Скорбь огромного числа незнакомцев. Мексиканец подумал: а бывает ли радость от кучи друзей? Или они собираются только на похороны?
Так он стоял, рядом с ним находился какой-то мужчина, придерживал за руку. Мекс узнал – то был электрик из ЖЭКа, Павел какой-то Иваныч.
- Ничего, сынок,- сказал дядька. – Ей теперь царствие небесное.
От его пальтеца доносился запах жженого провода, Мекс отвернулся, и едва не упал.
По ту сторону ямы стояла высокая девушка и смотрела на Мекса. Просто смотрела.
- Бабушка,- сказал Мексиканец и двинулся.
- Осторожно, – тихо сказали ему, но он все-таки прыгнул, рассыпав в раскрытую яму подмерзший песок, и, скользя по обрыву, прорвался.
- Я Маша Фишман,- сказала девушка и подвинулась, освобождая пространство,- ты все-таки надень варежки.
Мекс всегда знал, что бабушка умереть - не может.
***
Лапа Мексиканец видел не часто – иногда они сталкивались в маршрутке, возящей в метро. Консерватория Римского-Корсакова, куда Мексиканец прошел на музыковедческий факультет, занимала все свободное время – любимая им атмосфера оказалась спасительной.
Встречались без паники с обеих сторон, здоровались, перекидывались общими фразами, в метро разбегались по разным тропинкам – то жетон, то за прессой в ларек приходилось. Про достопамятный секс, Мекс, разумеется, думал – но Лап не казался печальным - был совершенно чужим человеком, который не стремился общаться.
Год принес Мексиканцу хорошие связи – прежний багаж пригодился, он был окружен чем-то вроде внимания на факультете и кафедре: большинство составляли девчонки и было довольно уютно.
А когда умерла бабушка, в его жизнь вошла Маша – всё, в чем нуждался измученный рингом боксер, поверивший в глупую сказку о дружбе. Дюк, по слухам, был в армии, Лап плавал своими маршрутами – ринг опустел, овчинка не стоила выделки, а свежие связи манили куда интереснее. Манила и Маша – в её гостеприимное тело он вошел очень быстро, и с большим удовольствием, после нескольких встреч. Процесс она организовала сама, будучи явно поопытнее, да и постарше.
Мекс был очень доволен случившимся – с ней ему было тепло, защищенно.
Но иногда, оплывая и вздрагивая, не вытащив члена из тёмной норы, думал почему-то о Дюке.
«Я виноват. Марк виноват. Мы все виноваты...»
***
- Вызывал,- сказал генерал.
Настрой у большого и толстого был не ахти. Дюк приготовился.
- Таня мне все рассказала,- он сразу решил брать за яйца.- Надеюсь, ты все понимаешь.
- Виноват, товарищ генерал... - Дюк резко вытянулся,- я виноват. Не смог удержаться.
Генерал разбухал, наливаясь багрянцем. Из него вырывался мифический пар - конечно, невидный, но мощный. Нужна была крышка, чтобы её приподнять – не хотелось , чтобы товарищ комдив разорвался на части. Дюк лихорадочно думал, тиская фразу за фразой в уме: «Что бы такого сказать-то?»
Было действительно стыдно, ну да это потом, решил он, сейчас надо его успокоить.
- Ты что же думаешь,- по нарастающей зашипел генерал,- девочка так просто к тебе? Она легкомысленная, значит? На территории части!!!
Дюк смиренно молчал, пытаясь разведать стратегию генералова боя. Пока выходило две вещи: Таня призналась, что трахалась с ним, и огласка папаше не нравится.
- Паршивец!!! – заорал генерал, - тебе машины были доверены!!! Я же тебя...
- Виноват,- сказал Дюк, - готов понести наказание. Впредь обещаю.
Генерал захватал ртом напрягшийся воздух, потом взял себя в руки:
- Ах ты, ****ина...
Быстро ушел за стеллаж, чем-то звякнул. Вернулся, уже успокоенный.
- Садись, - сказал он,- ах, мальчишка. Щенок.
Дюк аккуратно пристроился.
- Значит, так,- деловито сказал генерал. – Дочь у меня одна. Репутация тоже. Через полгода уволишься, сразу поженитесь. Хотя насчет увольнения я бы тебе не советовал – карьера твоя, как ты сам понимаешь, получится.
- Извините, не понял.
Генерал был просто невероятен. «Это у них семейное, - понял Дюк. – Они мазохисты».
А толстый почти улыбался:
- Да я все понимаю,- он неожиданно подмигнул,- страшно ведь с дочерью генерала, а?
Тоже надо смелость иметь. Другой бы тебя сослал на галеры. Но любовь есть любовь, ничего не поделаешь! Я дочке только счастья желаю.
Он сиял, как надраенный самовар. Такой либеральный папаша. Понимающий нужды и чаяния, мать его так. Не хватало плаката на лысеньком лбу: «Отец - благодетель».
Генерал был доволен: после бессонницы, всхлипов, истерик он сделал любовный отеческий ход. Преодолел возмущение, гнев, прислушался к доводам разума, нашел выход. Его очевидно расперло от гордости за себя, мудреца-всепрощенца, удачно решившим позорную, безо всяких сомнений, проблему.
- В общем, на территории части не шлындайте – это раз. Если совсем невтерпеж, то бери увольнительную. Мать бы неплохо твою пригласить. Ты же с матерью?
- Да.
- Парень ты неплохой,- сказал генерал,- это два. Да и Танюшку пора пристраивать. Ничего, что зеленые оба – я сам в восемнадцать женился. Поможем.
Он помолчал, и добыл из стола чугунную пепельницу, в виде бески морпеха – большую, на окурки для целого взвода. Достал красно-белую пачку.
- Давай,- он протянул парню «Мальборо», - прямо тут. По- семейному.
Дюк молчал и вертел сигарету. Генерал затянулся, откинулся в кресле. И размечтался вдруг:
- Внуки пойдут...
Дюк поднялся.
- Нет, не пойдут,- сказал он, - извините. Я не буду жениться. Я не могу.
- Это еще почему, - великодушный отец не смутился, - Таня мне всё объяснила... Да ты не бойся.
- Это был просто секс. Я ничего ей не обещал.
Но взять генерала оказалось не так-то и просто. Он усмехнулся:
- Был бы умный – пообещал. Ты что же, - он встал и подошел вплотную,- поимел генеральскую дочь и в кусты? Ты за кого себя принимаешь? Женишься. И еще спасибо мне скажешь, - и он потрепал его левой рукой по щеке.
В правой он держал пепельницу. Та сильно воняла – не мыли, наверное, просто вытряхивали.
-Нет,- сказал Дюк, - я не буду. Делайте, что хотите.
- Сделаем,- сказал генерал,- тут не волнуйся. Сам прибежишь.
Он внимательно рассматривал Дюка.
- Странный ты. Тут вся часть спит и видит. А ты ерепенишься. Гордый, что ли?
- Я не буду жениться,- терпеливо повторил Дюк. – Я её не люблю.
- Слюбится, - сообщил генерал.
-Разрешите идти? - Дюк развернулся, не дожидаясь ответа, но был остановлен.
- Какая еще-то причина? Ждут тебя на гражданке? В этом дело?
Все потому, что враньё. Потому, что страх. И все это слишком ему надоело.
- Я голубой,- сказал Дюк,- а с дочерью вашей из безопасности. Да, меня ждут на гражданке. Вы ничего не добьётесь.
Стало так просто и хорошо, так свободно и правильно, что он даже не сообразил закрыться. Было так: перекошенный, с красным лицом, генерал размахнулся и всадил тяжеленную пепельницу чуть повыше виска. Мир умер для Дюка, и боли не стало.
14.
Сидел на шершавой сине-затертой скамейке в сквере напротив ворот. Замирал и рассматривал вход - в госпиталь не пускали. От излишка ненужного времени подмечал выходящих оттуда врачей, медсестер. Никто ничего не знал, лишь одна симпатичная девушка сообщила, что в отделении хирургии у входа - охрана. Вечером шел в гостиницу – успокаивать Светлану Сергеевну.
Та тихонько пила. Предлагала ему, он отказывался. От недостатка компании она отправлялась в кафешку, пропахшую маслом и пивом, как всё в этом маленьком городе.
Общаться с ней не было сил. Лап плелся тогда в Интернет-клуб – невеликую комнату с шестью еле ползающими машинами, садился и проверял переписку. Шарил по сайтам. Звонил.
Прошла неделя, а к Дюку никак не пускали. Сказали, что черепно-мозговая и кома.
Последняя длилась удачно недолго, и к моменту приезда он из неё уже вышел.
- Из-за тебя,- сказала Светлана Сергеевна в поезде, - из- за тебя крест несет.
Из-за тебя он ушел в эту армию.
- Он и раньше хотел,- ответил ей Лап,- он сам говорил, и не раз.
- Одно твое слово, и он не ушел бы. И деньги у него были. А
так он сбежал.
Лап молчал, считая населенные пункты в расписании стоянок их поезда. Спросил:
- Вы знаете про наши с ним отношения?
Мать Дюка пихала подушку в белую наволочку, сжимая ее по бокам, словно стригла овцу. Ударила хлестко, подняв облако пыли.
- Знаю, не дура. Только не понимаю,- сказала она,- несправедливо все как-то. Ты
в институте. Красивенький, чистенький, как с гуся вода. А он почему-то с проломленным черепом в армии. Странная очень у вас любовь. Баба такого бы не допустила.
- Кто бы говорил...
- Не хами,- резко ответила та, - мне отец его после такого как ты и достался. Сколько лет соображала, а вот недавно дошло.Ты бы отстал от него, Марк.
- Это еще почему?!
- Да отстал бы и всё. Пропал бы, уехал к родителям. Не для этого он. Жил ведь год, все было нормально, работал, мне помогал. А с тобой как завяжется – так сразу беда.
Интересно работает женская логика, думал Лап. Сама позвонила, когда у него в кармане уже лежал железнодорожный билет. Без неё бы поехал.
Утром шел к госпиталю, на КПП узнавали. Пустили совсем неожиданно - шла вторая неделя осады.
У дверей хирургии стояла охрана.
- Родственник? – спросили у Лапа.- Документы.
- Брат,- сказал он, - мать сейчас будет, у неё паспорт.
- Не положено,- сказал постовой,- только родственникам на отделение.
Лап достал телефон и протянул его парню. Тот подумал и быстро кивнул:
- Деньги-то есть?
- До Америки хватит,- сказал Лап, - звони на здоровье. Марков в какой?
- Тридцать вторая, - сообщил он, - оттуда только что следак умотал. Каждый день
к нему ходят. Видно, дело не белое. Да тут половина таких.
И он зачирикал кнопками телефона – разговор был окончен.
***
Следователь приходил ежедневно и задавал одинаковые вопросы.
- Я ничего не помню,- отвечал ему Дюк.
- Упала канистра с бензином,- терпеливо внушал ему следователь,- металлическая. Она хранилась на полке. Вы неудачно попали, в результате падения…
Канистры стояли, это была совершенная правда. Такие убитые временем ржавые емкости, пустые и легкие, хранились неизвестно зачем.
- Вероятно,- соглашался с ним Дюк, - всё так.
- Если что-нибудь вспомните, сообщите, - ласково говорил следователь и оставался в углу. Наблюдал процедуры, ждал с перевязки. Приходилось быть осторожным – «подзабыть» имена командиров, время призыва, срок службы, фамилию ротного. Многое.
- Не давать обезболивание, - уловил как-то Дюк. В этот день пришлось быть особенно тихим: следователь без конца его спрашивал – о доме, о службе, о пацанах в роте. На последнем еще поднажал – с кем Дюк дружит, кому доверяет.
- Увижу, может, узнаю, - говорил ему Дюк, - фамилию точно не помню...
И так продолжалось с неделю, пока следователь, наконец, сделал вид, что поверил. Или ему надоело.
- Подпишите,- сказал, наконец, и сунул бумагу.
Дюк подписался, не глядя. Видеть мелкие буквы не мог – зеленели, резкости не
было, все расплывалось. Перед тем, как писать, уточнил:
- Меня комиссуют?
- Естественно,- сказал следователь,- при всех обстоятельствах. Если они сохранятся.
Глаза Дюк держал закрытыми, так они меньше болели. Лечащий доктор сказал, что пройдёт, что это последствия черепно-мозговой. Эпидуральная гематома, кость черепа треснула незначительно, но ушиб мозга серьезный.
Плохо слушались правые рука и плечо. Речь и слух были на месте, и это весьма обнадеживает,снова сказал ему доктор. Мысли особо не путались, но текли очень вяло, и разламывалась голова.
Дверь заскрипела, но он не пошевелился, а глаза открывать было больно. Наверное, опять медсестрица- со- шприцем, кололи сто раз за присест. Дюк лежал, выставив сильно разбухшую руку, всю в черноватых потеках исколотых вен.
Хоть бы в ногу уже, подумал лениво, или таблеток, а то вон раздуло всего.
Послышался скрежет, словно кто-то возил по стене деревяшки, и он постарался открыть глаза. Черт... как все-таки больно. Свет был таким ярким,что, казалось, пронизывал мозг, доставая острейшую резь из висков и затылка одновременно, ломил молнией череп.
Запахло парфюмом, но посмотреть на пришельца было никак невозможно.Подождал.
- Убивать пришли, что ли, - не выдержал он. – Я же ясно сказал, что не помню. И не вспомню, скорее всего.
Никто не ответил, и Дюку сделалось страшно. Надо как-то открыть глаза.
- Ты бы подвинулся. Ишь, развалился... Дверь я на табуретку
закрыл.
Обнялись очень крепко, и казалось, что боль отбежала по делам ненадолго, дав
чуточку времени. Или не чуточку... но она отступила на время.
- У тебя лицо мокрое,- удивленно сказал ему Дюк.
- Дождь на улице,- отвечали ему.- Посмотри на меня.
- Я «великий слепой»*,- пытался иронизировать Дюк,- мне и так офигенно. Сколько я... два года тебя не видел?
- Два года три месяца,- уточнили ему недовольно,- диагноз какой?
- Да чихать на него,- сказал Дюк,- глаза я открою... больно сейчас. Доктор сказал,
что пройдёт. А чем ты там щелкаешь?
Это клацали кнопки рубашки, а потом чешуёй зазмеилась застежка от джинсов.
- Без резких движений,- сказали ему,- особенно не шевелись. У тебя все прекрасно работает,- ладонь плотно легла между ног,- жить будешь, точно. Да, черт... ну посмотри на меня.
- Узнаю сумасшедшего,- и Дюк, наконец, приоткрыл глаза. Лап был голый по пояс, в расстегнутых джинсах. Взрослый, лохматый, безбашенный парень. Странно, он не резал глаза, раздражая – напротив, он впитывал лишний поток.
- Дождь, говоришь,- сглотнул Дюк, - ****ь-****ь-*****... ничего себе Лапушек. Этак ты меня теперь вниз положишь. Просто принц датский.
- Гамлет был толстый,- поправили сверху,- а вниз по желанию. Давно как не чувствовал я тебя, а...
- А помнишь хоть?
- По-о-омню...
Расплелись лишь однажды, кое-что показалось неправильным.
- Почему ты ревел, - спросил Дюк,- ёлки, ты что, и сейчас? Плохо так выгляжу?
- Дождь на улице, я же сказал. И вообще отъебись. Я не знаю.
В окна било сентябрьское солнце.
***
Следак свое слово сдержал :Дюк был комиссован и отправлен домой – лечить здесь последствия травмы не было толку.
- Эпилептические припадки,- перечислял Лапу лечащий врач,- выплывают частенько. Возможны частичная слепота, нарушения координации. Головные, естественно, боли. Впрочем, Вы будущий врач, посмотрите сами. Вы ему, кстати, кто?
- Друг,- сказал ему Лап, - зрение по всем признакам падает. Была единица на левом, сейчас минус три. И светобоязнь.
- Спайки могут быть,- ответил хирург, - у вас Петербурге есть хорошие специалисты. невропатологи. Лучшее, что я могу сделать– отправить его домой. В течение года следите серьезно. Да и потом не мешало бы.
- Снимки дадите? – спросил его Лап, - вам ведь незачем? А нам пригодится.
- Рентген не отдам,- напрягся вдруг доктор,- и томограмму, нам не положено. Выписки будет достаточно.
Лап посмотрел на него очень внимательно.
- Странная форма канистры, вы не находите?
- Нет. Травма довольно типичная...
- То есть канистры тут валятся часто, – спросил его Лап,- прямо пачками?
Противно, ей-богу.
- Не забывайтесь,- ответил хирург, - я к этому отношения не имею. Моё дело –
лечить.
- Я бы тех, кто канистры швыряет, слегка полечил, - буркнул Лап, - лоботомией,
как минимум.
- Соглашусь,- сказал врач,- я бы тоже.
- Значит, ударили, - сделал выводы Лап, - я все понял. Спасибо. Если можно,сделайте очень подробную выписку. Очень подробную, насколько возможно.
Он вышел, а доктор озадаченно почесал подбородок – кажется, все-таки прокололся?
От Светланы Сергеевны женско - практической помощи не было. Она причитала, рыдала и висла на неустойчивом Дюке.
- Что же ты так убиваешься,- морщился тот,- я же живой. Ты бы ждала меня дома,мам.
Лап таскал её за собой по инстанциям необходимым прицепом –асписаться,забрать,пропечатать нужно-важные документы. Съездили и в часть, за вещами.
Их проводили к начальству, которое очень внимательно к ним отнеслось. Показали гараж, где случилась трагедия, сопроводив туда лично.
Лап встал перед полкой, на которой стояли канистры.Та висела на высоте до макушки.
- Мой рост сто семьдесят восемь,- сказал он.- У Егора почти сто девяносто.
Как могло прилететь, объясните? И даже если он вдруг наклонился или присел, пусть даже так. Траектория, и та не подходит. Я видел рану, измерил даже.
Он присел под канистрами и быстро взглянул генералу в лицо:
- Ну-ка, скиньте. Давайте, не бойтесь. В крайнем случае в плечо получу, а в голову пойдет по касательной.
- Ой, Лапушек, ну зачем же ты так… - промямлила Светлана Сергеевна.
- Не сходится,- резюмировал он, наблюдая за лицом генерала.- Высота для такого удара не та.
Генерал менял цвет на глазах.
- Шито белыми нитками,- сказал Лап,- вы же военные. Могли бы поумнее придумать.
- Вы ему кто,- сдавленно спросил генерал.- Что вы себе позволяете?
- Компенсация,- жестко сказал ему Лап,- Егор инвалид. Рекомендую подумать тому,кто не хочет расследования.
- Что за шантаж, молодой человек!Это был просто несчастный случай, мне все доложили. Вы ему кто?
- А какая вам разница? Родственник. Друг.
Генерал ухмыльнулся, гадливо прищелкнув мясистыми пальцами - так, словно стряхивал дохлую вошь.
- Без разницы, кто,- сказал Лап очень ровно, - и вот еще что. Он ведь может когда-нибудь вспомнить.
- Он все подписал,- лениво сказал генерал,- он давно все вспомнил. Всезафиксировано.
- Понятно,- ответил Лап. Для него не осталось загадок.
- Товарищ генерал объяснил тебе,- снова встряла Светлана Сергеевна,- всякое в жизни случается.
- Именно,- сказал генерал и отвернулся от Лапа.
В день выписки их поджидало такси – правая сторона все еще плохо слушалась Дюка.
К ним подошел человек в необъяснимом по чину военном мундире. Он невнятно
представился и увел обоих парней за низкий кустарник, мокший мертвыми октябрьскими листьями. Дюк ковылял, цепляясь за друга – все кружилось,а сыроватый морской ветерок пах северной рыбой и подмерзшей травой.
- Что вам нужно,- поморщился он, рассмотрев сквозь туман припыленный дождём «Мерседес»,- я сделал, как мы договаривались.
- Подпишите,- сказал человек, и сунул ему авторучку.
- Ничего я не буду подписывать,- сказал Дюк,- я читать не могу. Заебался подписывать.
Лап из-за плеча незнакомца глазами выхватывал текст. Бумага была машинописная, безо всяких печатей.
- Я ему прочитаю,- быстро сказал он.- Что еще вам угодно?
- Отказ от претензий по любому из фактов,- пояснил человек,- и расписочка в получении. Подарок от части за отличную службу.
- Пошел на ***,- сказал ему Дюк,- пусть он подавится. Лап, пошли.
- Нет,- возразил неожиданно тот.- Подпиши. Я тебя очень прошу. Поверь, страдать лучше с деньгами, чем без. Нам еще твоё зрение восстанавливать.
Минут через десять в руку Дюка лег теплый брелок. Человек передал ему папку: техпаспорт, страховка - все на дюково имя. Быстро согнулся и куда-то исчез, довольный донельзя.
- Машина-то как?- спросил Лап.- С виду отличная. Пафосная вот только. Сон гайца в петербургскую ночь.
- Машина что надо. Та самая, что мне руки пробила, веришь. Надо сразу продать, как доедем.
- Быть не может. Судьбоносная тачка.
- Хозяина кончили, а мерина слили – прикинь, генералу. С трупным запахом в нём рассекал, ну да я его выветрил. Вонь все равно возвращается, раз в неделю опять повторял, незаметно. Сейчас должно быть нормально.
- Значит, сам генерал, - сказал Лап. - У тебя, как всегда, всё по-крупному.
Он завелся, послушал мотор. Исследовал кнопки, тумблеры, переключатели, отрегулировал руль.
Нравилось.
- Знаешь, когда я решил стать врачом?
- Ну и когда же?
- Когда эта сука тебе пальцы сломала. Я тогда думал, что ортопедия. Но в свете последних событий тебе нейрохирург подойдет. Или просто хороший невропатолог.
Дюк рассмеялся:
- А если я жопой на ежика сяду, ты в аккупунктуру ударишься? А-ааа!
- Знать все подряд невозможно,- растерянно сказал Лап,- ты ежиков пожалел бы. А лучше бы берег свою задницу, что ли... и все остальное. А, Дюк? Как кстати, сейчас?
- Пелена,- сказал друг.- С зеленоватым отливом. Левый глазик, похоже, идет по звезде. Профессию собаки - поводыря осилишь?
- Сам ты пёс,- буркнул Лап,- а я люблю, чтобы мной восхищались. Поэтому ты обречен на хорошее зрение. Кстати, права у меня с собой.
- Я люблю тебя, Лапыч,- сказал неожиданно Дюк.
Всё замолчало. Оба смотрели в лобовое стекло: бодрые «дворники» хулигански гоняли ярко-красный весёлый кленовый листок.
- Ты не поверишь...- Лап произнес это медленно, вдумчиво трогая слова языком, - как охуенно, что ты наконец-то это сказал. Я сам тебя очень люблю. И всегда,наверное, буду.
***
Когда два мужика признаются друг другу в любви, заседая при этом в дорогущей машине, то читатель, наверное, делает выводы. Ах, плачет растроганно верный читатель, наконец-то вы поняли, встретились, трахнулись – как хорошо! А болезнь– что болезнь, когда рядом такие друзья? Все будет отлично, ведь правда же, автор?
А можно подумать иначе – двое пидаров, сидя в добытом шантажом «Мерседесе», разводят сопливый спектакль про любовь. «Ну и шнягу ты, автор, прогнал,- поморщится этот читатель, – в наше время потребно быть трезвым, практичным, и дружить с генералами, раз так повезло. Раз умеешь в два фронта – имел бы себе потихоньку ближайшего друга, тот бы точно на это пошел».
Автор согласен – пошел бы…
Всё это так, а пока что читатель уверен, что победила любовь: запорхали архангелы , птички запели с удвоенной громкостью, розы ядрёныевыросли вместо репейника,в общем, одна благодать.
А вот ***, извиняется автор. Он обычно вот так извиняется ,часто насилуя речь неприличными буквами – но, собственно, автору похрен. Слово «***» выражает огромное море эмоций – начиная с ругательства и заканчивая охуенным оргазмом ( вот видите!), и поэтому все его любят, а цензуры тут нет. А без предмета, который любимое автором слово обозначает, никогда бы сам автор тут несидел, да и вы не сидели бы тоже. То есть «хуй» значит «жизнь», ну а реальная жизнь такова, что её не напишешь как «фаллос». В общем, пенис мой спич побери – я отвлёкся, но надо рассказывать.
Если и были архангелы, то вовсе не голубые. Это были опасные черные воины в жестких плащах, все суровые, с хмурыми лицами. Их мечи обрезали нечаянно все, до чего доставали – конечно, нечаянно, ведь они не хотели ни крови, ни крика. Да, они были темными, но не злыми, а порезы они затирали подошвами, сожалея и каясь - этой любви были выданы только такие архангелы, и никакие другие.
Две тысячи пятый год ада настал, когда Дюк поселился у Лапа.
Сначала не думалось – слишком соскучились оба, так мало друг друга касались, и
поэтому первое время тонуло в безудержном сексе, таком, что описывать не захочу никогда.
Терзали друг друга до мяса, до невидимой в сумраке спермы – кончать было нечем, но им было мало. Дюк чувствовал - Лап на исходе, но остановиться не мог. Тот чуял – у любовника будто ободрана кожа на ребрах, но отпустить не хотел.
Вот так бы и сдохнуть, думали оба, вцепившись друг в друга, смешав уже кожу и
кровь, и наверное, гены. Но сдохнуть нельзя, ибо как продолжать?
С больными сосками, облитый масляным потом, губами опухшими,
влажно податливый на любой мало-мальский толчок – это все про обоих, без разницы.
Застеснялись даже темные ангелы, разойдясь по углам и оставив в покое – мешать двум животным нельзя, ибо можно случайно погибнуть.
Так было, но вскоре настало их время.
Через месяц, вытянув тело из утренней скомканной простыни, Дюк схватился за
голову и закричал.
Бился недолго, а потом прошептал:
- Я тебя левым не вижу. Не вижу...
15
Рождение не обсуждается,ибо рождаемый не выбирает сию процедуру, и выхода нет, кроме как вылезти в мир. Но, немножко пожив и поняв что к чему, он может решить – быть ему в принципе или не быть. Вопрос подзагаженный, как пол в коммуналке, и на него отвечали, перебивая друг друга, все те, кто хоть как-то умел говорить. Выбирают, конечно же, первое - все, кроме самого персонажа, который безумно устал - ему надоело, и всё. Без истерик к такому вопросу подходят, наверное, только японцы. .
Дюк не был японцем, он родился простым, не особенно умным; к тому же он стал человеком, почуявшим наступление тьмы.
В двадцать неполных нелегко обнаружить себя наполовину незрячим. Правый глаз видел, но паника, схватившая мозг целиком, сообщила владельцу – он тоже, вот-вот.
С парнем сделалось то же, что и обычно: замкнулся в своем, отстранился от мира и Лапа, ничего нового. Друг находился в вип-секторе здоровой и радостной жизни, обнимающий с той стороны, сующий таблетки и опускающий руки в бессилии. Он стал не нужен – Дюк мучительно думал над главным вопросом: как привыкнуть к своему положению, и зачем в таком положении жить?
Если откажет второй, я ослепну, размышлял он. Это может случиться, а, возможно,пройдёт стороной. Желалось забиться в густую и совсем непроглядную тьму, чтобы ни за что не понять, что ты видеть по сути умеешь.
- Не трогай меня,- ответил он Лапу на нерешительный ласковый жест,- я сам.
Самостоятельность заключалась в неподвижном лежании на диване с закрытыми плотно глазами. Изредка Дюк открывал,проверяя, видит ли правый. Морщился, если рядом садился любовник, который всегда успокаивал, лишь беспокоя – слова раздражали залитые воском отчаяния уши. Так продолжалось неделями: Дюк послушно питался таблетками, от которых мутило и душу, и тело, ночью огораживал себя одеялом. Проснувшись, пил утренний чай и даже не замечал отсутствия Лапа в квартире. Чем тот занимался, где был – всё это неважно и неинтересно.
На диване лежалось спокойно, и Дюку казалось, что, если он вдруг куда-нибудь выйдет, то свет замерцает и исчезнет совсем от человеческих криков, шума машин, или вида дороги.
Тело ослабло от отсутствия воли и просто движений: Дюк сделался флорой, не слыша потоков в себе, разбухал, как растение. Как огурец, он выращивал неправильной формы решение: необходимо куда-то уйти, никому не мешать, и чтобы никто не трогал. Никто не был должен носиться вокруг, причитать – он болезненно думал о матери. А Лап – тот вообще не обязан, он Дюку не поводырь.
Наконец-то, облегченно выдохнул Лап, когда Дюк вдруг озвучил однажды с утра
огуречного вида решение. Наконец-то.
- То есть ты хочешь уйти? – уточнил он на всякий случай.
Дюк согласно кивнул.
И тут разразилась драка, которую Дюк проиграл: был не готов. Били его методично – аккуратно, жестоко, по-вражески.
Он уворачивался, катаясь по твердой кровати, прикрыл только голову.
- Ты с ума сошел, что ли, - сипел он растерянно, вытирая бегущую из носа кровь, - это. за что?
Лап молча тряхнул его, игнорируя сопротивление, перевернул на живот и содрал тренировки. Сгреб за волосы и больно вошел без защиты. Дюк заорал, изворачиваясь, но не смог - завыл и уткнулся в подушку.
- Хорошо,- прохрипел ему Лап.
Он накачивал жестко, принуждал, оставляя следы, ломал, заставляя выгибаться неподатливым телом. Не жалел.
До Дюка дошло, наконец – он это часто проделывал. Ни фига себе, сладенький мальчик. Иначе откуда такая отточенность?
Он сдался, затихнув, отдался и слушал – как там, наверху. Наверху были черти, ей-богу, особо опасные, сильные.
«Я сегодня давалка. Вот же блин, коленкор».
Коленка и вправду болела, прижатая…
Лап кончил не скоро, отпустил, больно толкнув от себя, откатился,дыша тяжело.
- А теперь убирайся. Как хотел, так и делай.
Дюк лежал лицом вниз и не шевелился.
- Как только ты выйдешь, я о тебе забуду. Я не помню своих шлюх. А ты – шлюха.
Дюк чувствовал холод на мокрой от пота спине.
- Почему?- спросил он.
- Вставай же,- пнул его Лап,- собирайся. Я только что слышал гундеж опечаленной шлюхи. Она не целуется в губы,несчастная доля, а в дому у неё плачут дети. Не дай бог ей влюбиться в клиента, конечно. Как ****ь ты мне дорого встанешь. Пожил, поебался, ушел. Независимо так.
- Как много ты знаешь о шлюхах,- сказал Дюк,- большой опыт, наверное.
- Коло - ссальный,- Лап поднялся, - освобождай территорию. Аритмия мерцательная.
Он швырнул ему джинсы.
- То есть мне не мерцать?
- Ты всегда отрекаешься первым. При малейшей возможности. Почему ты такой? Почему ты не хочешь на меня положиться? Не надоело героя корячить, ты…
- Я не хочу, чтобы кто-то. Мне трудно… обузой.
- Если трудно – смоги. Знаешь,- Лап примостился поодаль, - я всегда ощущаю странную вещь. Даже когда ты во мне… даже когда все идеально, я чувствую маленький люфт. Будто я для тебя – это временно, и, как только представится случай, ты отползёшь.
Дюк потрясённо молчал.
- Я каждое утро стараюсь внушить себе, что я параноик, - сказал Лап, - что не надо бояться тебя потерять.
- Я ослепну и ты меня бросишь. На хер тебе инвалид. Вот об этом я думаю, ты, идиот.
Дюк почти разозлился. Задница, между прочим, болела, а разговоры пошли чисто бабские, из сериала «Спартанцы в истоме».
- Поговорили, как Зита и Гита, действительно, - Лап рассмеялся, - он его бросит, комедия. Столько красивого мяса, ха-ха, да мы его сами сожрём. Нашей коптильне неважно, с глазами ли, без… А видеть ты будешь. Будешь.
Он уж не слушал ответных ироний, лаская. Легонько потерся:
- Будем кончать, солнце мое, - сказал он.- Всех будем кончать, если надо. На всех
будем кончать, фейерверком. Вместе.
Тьма уходила бесследно туманом, в ухо вливался ласковый шепот, Дюк понял лишь то, что ни разу не вспомнил про зрение.
- Веди меня сам тогда,- сказал он.- сам веди.
***
Катилась зима, бесснежная дура, никак не решившая – дать холодов или мокнуть
по- прежнему декабрьским дождем. Грязью лился с небес несостоявшийся снег, гадя на золото Рыцаря Питера – даже вороны попрятались, отказавшись хранить купола под разбухшими перьями. Темная и сырая зима не разбавляла депрессии – та не ушла, обретя непривычные формы. Сдавшись под натиском друга, он не смог отключить свою панику, точно так же, как нервные центры не могли включить зрение в левом глазу.
Лап методично рассказывал, обводя очертания пятен на снимке:
- Это спайки, которые давят на зрительный нерв. То, что ты сейчас принимаешь, помогает их размягчить и ослабить давление.
- Да в болото!!! – Дюк истерил, швыряя от себя томограмму, - сколько сожрал и
все без толку...
- А быстро не будет,- отвечал ему Лап. Истерики его не пугали, он их понимал. Становилось понятно, что чувствует и что имеет в виду.- Быстро случаются кошки и трах в туалете Макдональдса.
- Вот сколько мы уже ползаем по врачам,- кипятился Дюк,- как калики прохожие . Ты сам-то не задолбался?
- Задолбался,- честно говорил ему Лап,- особенно когда ты делаешь грустную рожу у доктора. Ты вообще чего ждешь? Когда я тебе сам правый выбью? С ним все отлично, мы левый с тобой восстанавливаем.
Дюк швырялся еще чем-нибудь и ехидно дерзил:
- А прикинь, я совсем ослепну? Ну вот что ты со мной будешь делать? Так и будешь водить, как собачку? Кормить меня, гулять, задницу вытирать...
- Я тебя к койке тогда привяжу. Вниз лицом. И буду трахать под музыку из
«Призрака оперы» целыми днями. Устрою Призраку офигенный реванш...
***
Утром Лап убегал в институт. Дюк спал до полудня, после полз в кухню за кофе с
печеньем, ополаскивал чашку и маялся дурью. Компьютер и книги были запрещены ,отжиматься и подтягиваться ему надоело, от таблеток в голове пелена. От безделья нашел три диска с аудиокурсом английского: от нечего делать принялся слушать, и вскоре втянулся. Ходил по квартире и орал месте с дисками, пока не вызубрил все.
- Отлично,- сказал ему Лап,- я в грамматике не особенно, но ошибок особых не вижу. Тебе надо лексику нарабатывать. Я тебе еще принесу интересного. Слушать на инглише будешь? Книги какие-нибудь?
- Ну, тащи, - товарищ сиял ярче медного таза. – Послушаю, что уж.
Так было в период затишья, но были и другие моменты, когда очень хотелось все бросить и, может, повеситься, что ли...
Об своих измышлениях Дюк горемычно поведал товарищу. Тот покрутил у виска, и ничего не сказал. А с утра Дюк полез за тарелками и не нашел ни одной –вместо них в стильном кухонном шкафчике возлежали блины, одноразовые. Такие же белые палки торчали в ведерке, где раньше топорщились сталью вилки и ложки, а еще паразит перекрыл воду и газ, а вентили куда-то исчезли. Дюк не нашел ни станка для бритья, ни какой-нибудь стеклянной посуды. Он позвонил на мобильник – Лап был на лекции.
- Это что за фигня,- сказал он,- самоубиться-то нечем. Ты зачем это сделал?
- Исходя из последних твоих настроений, любимый,- согнувшись под лекторским
взглядом, издевательски прошипел в трубку Лап,- мало ли что!
- Если я захочу, я и без этого обойдусь,- в тон ему ответил Дюк, - в окно и
привет!
- Окна на сигнализации, дурила, - ехидно сказал стервец,- только дерни, там
наряд будет.
- А я в ванной запрусь,- осенило тут Дюка,- заполню старинными книгами и подожгу. Погибну в дыму, так сказать. Как тебе?
- Книги не тронь, - забеспокоился Лап,- я тебе сам цианидику. Принести?
Дюк уже хохотал, представляя убитого горем товарища, хоронящего пепел от книг на престижном погосте...
- Ужина нет,- сообщил он, едва отсмеявшись,- пиццу купи.
Приёмчик сработал – умирать оказалось и вправду ужасно смешно, посуда вернулась на место, вентили тоже, а Дюку был выдан ключ от квартиры для свободных перемещений по городу.
Улица быстро лечила – к отсутствию глаза он постепенно привык, не хватало
обзора, но правым он видел. Доезжал на метро, выхватывал Лапа, гуляли, болтали – всей грязищей катилась весна. Свет, оказалось, никуда не девался, пусть даже и не такой, как обычно - важное было на месте . Дюк успокаивался, привыкая, возвращался к себе и осторожно планировал жизнь. Денег катастрофически не хватало, Лапычу предлагалась жестокая сессия, мать запила не на шутку - дел оказалось по горло. Дюк вылез наружу из злобной депрессии – надо было искать работу.
16.
Залётный турист, приезжающий в Питер, вряд ли знает про улицу Салова. Кто такой, чем известен - разве что аборигены подскажут,те,кто двенадцати лет, прилежно учившие историю города в школе. Остальные зароются в карту или совсем умолчат в том случае, если они не имеют машины. Улица Салова,впрочем, не новая, и была она раньше Михайловской, которую с Ново-Михайловской объединили. А Салов - просто советский пацан.
С той разницей, что был он боец и летчик, не успевший к Отечественной, стрелок и радист, себя не ценивший, а все-таки Родину. Погиб в двадцать два, и страна заплатила, как водится - подарила Героя посмертно, и еще эту улицу - длинную, с битым асфальтом, которую знает та часть петербуржцев, каковая имеет в хозяйстве хоть что-то, похожее на предмет с колесом (садовые тачки в расчет не берем).
Мало что изменилось с тех пор: несколько грязных её километров были так же уставлены деревянными стойками в черных бочинах протекторов, мелкими магазинами «Автозапчасти»,в которых водилась важнейшая дичь: любые предметы автомобильного толка, химия, масло, мастика и что душа пожелает. Улица благоухала бензином, железом и выхлопными туманами; блистала автосалонами, все вперемешку - Европа и Азия топорщились флагами, отражая в панелях замурзанный хаос, размножая его в зеркалах.
На обочинах стыли железные кони рабов автопрома, приехавших «так, посмотреть» и залипших на тюнинг в каком-нибудь ржавом ангаре. Ушедших за литром тосола с полудня и не вернувшихся до ночи – цены на Салова были всегда интересные, разные.
Пахнуло знакомым.Здесь Дюк работал до армии: первое место, которое он посетил, был родной автосервис.
Директор Ванеев сидел, отдуваясь, с недовольным лицом. Дюк позвонил ему предварительно, Ванеев ответил без лишнего энтузиазма – мол, приходи, разумеется, может, на что и сгодишься. Ванеев лукавил, так как знал Дюку цену, а тот, в свою очередь, понимал – за хорошие деньги с Ванеевым важно душевно беседовать, обсудить ситуацию рынка, похвалить изменения. Ванеев сначала нахмурится, скуксится и внешне расстроится, сказав, что такую зарплату платить он не сможет. Позже предложит чайку, расспросит про армию, вспомнит своё, пехотинское; Дюк расскажет морпеховское, они посмеются. Дюк станет прощаться, собираясь зайти к конкурентам поблизости (дружба дружбой, а работа нужна), и наконец-то Ванеев предложит. Не столько, сколько затребует Дюк, но вполне подходяще. Тот замнется и якобы сильно задумается, а потом согласится, конечно.
Таковы были танцы, обычные в этих делах, если ты неплохой автослесарь и старый знакомый; и к тому же не видишь всего в полной мере. Чтобы глаз не бросался в глаза – да простят мне читатели эту ошибку – Дюк пристроил очки на носу. Они ему шли, да и солнце уже разгулялось – весеннее, плавило улицу Салова, буравя застывший бензиновый наст беспощадными струйками талой воды, блестело в слюде черных луж и вселяло надежду.
Но толстая физиономия Ванеева оказалась гораздо скучнее, чем Дюк ожидал, и пришлось
спросить прямо:
- А что, Пал Владимирыч, Вы грустный такой?
Пал Владимирыч пил вовсе не чай. Он сидел, развалясь, отпустив на свободу обширный живот. Он бы и ремень расстегнул, кабы не статус.
- Будешь тут грустным,- ответил Ванеев и поскреб красноватую шею,- проблемы нешуточные.
- Неужели налоговая?
- Да бог с тобой, - директор едва не подпрыгнул,- бизнес разваливается, всего ничего. Нас же двое, ты знаешь. Партнёр у меня.
Дюк кивнул. Площадка под сервис, два магазина, плюс место на рынке принадлежали Ванееву и компаньону с фамилией Шмайцер, который делами не слишком болел, предоставляя партнёру львиную долю заботы- работы.
- Уезжает в Германию на ПМЖ,- откровенничал Пал Владимирыч,- желает продать свою долю. Я купить не могу, только в квартиру вложился. Я ему – подожди, оставь на полгода, кредит подоспеет, выкуплю у тебя. Нет, уперся – развязаться хочет с Россией совсем, деньги срочно нужны. А продаёт-то - смех! За бесценок готов, уж не знаю, что там ему в голову вдарило. Чужого пускать… да в налаженный бизнес...- тут Пал Владимирыч застонал.
- За сколько,- тихо спросил его Дюк,- сколько он хочет?
Ванеев назвал цену, с надеждой посмотрел на него и сказал:
- На ремзоне бардак. Магазины без присмотра немного. Шиномонтаж под завязку забит,сам згаешь - весна. Я не справляюсь, у меня диабет! Знаешь кого подходящего?
- Пятьсот могу,- сказал Дюк,- утрясёте, наладим.
- То есть,- завороженно ответил Ванеев,- а вот я утрясу. Договорюсь... постараюсь! Ты действительно можешь?
- Могу,- сказал Дюк,- чистая прибыль какая? Доля какая?
- Все нормально,- заторопился Ванеев,- сейчас я все тебе обскажу. Аренда выходит в полтинник примерно...
- Мне точно. Давайте посмотрим все точно.
Злополучный мерсюк был продан без долгих историй и быстро. Такая машина классический случай, не выходящий из призрачной моды крутых чуваков. Мерс загнали на ремзону к Ванееву, посмотрели, обнадежив клиента до крайности, и вскоре уже сосчитали наличку в кабинете все того же Ванеева. Все остались довольны, юристы сработали быстро – и часть бизнеса перешла в руки Дюка.
Лап выслушивал новости и удивлялся всему бесконечно. В машинах и связанных с ними премудростях он был обычным водителем, то есть клиентом, и поэтому впитывал тонкости первого дюкова дела с большим любопытством.
- Откуда ты все это знаешь?
- Все – это что?- Дюк наспех завтракал, размышляя, стоит ли лопать таблетки, которые, как он считал, не помогали.- Автосервис я знаю как... Год работал, а в армии столько всего перебрал, вплоть до уазиков. И до того из дерьма собирал, помнишь восьмерку последнюю-то? И если честно, всегда мечтал о своём. Придумывал даже, как это будет работать.
- Я про то, как дело вести,- пояснял ему Лап,- у тебя теперь не механизмы, а люди. Сколько там у тебя человек? Восемнадцать? Да еще бухгалтерия.
- Бухгалтерия ноль,- соглашался Дюк, - не мешало бы изучить на досуге. Остальное как в армии – есть устав и система. Систему я знаю и с клиентом умею. Как этот бизнес устроен и на чем зарабатывать, тоже понятно. Да и вообще – научусь. Ты тоже учись, Лапундер. Ты и так из-за меня из своих эмпиреев выпал. Всё у нас будет в порядке.
- Я рад за тебя,- сказал ему Лап,- честно, рад. Не забывай про лекарства.
Дюк молча дохлебывал кофе. Утро катилось прекрасно, потряхивало от новизны ощущений, он слегка волновался, как перед прыжком – здорово все-таки делать любимое дело. Раньше простым автослесарем гнулся, а теперь и стратегией можно заняться.
Но что-то казалось в зазубринку, неуловимо неправильным.
- Ты не беги,- взглянул он на Лапа,- меня подожди. Вот пойдём-ка.
Он допихал друга до спальни, и там повалил на кровать.
- Слушай, Лапыч,- сказал он ему, - давай вот так разбегаться не будем. Как-нибудь будем прощаться всегда. Мало ли что...
- Ты о чём,- рассмеялся товарищ,- что-то ты мне бабушку напоминаешь. Сентенции сентиментально-суровых бойцов на привале.
- Не-е, дело не в этом. Я одиннадцать лет с тобой в школу ходил. И дальше хочу.
- У нас теперь разные школы.
- Именно.
Он лежал на теплом и вкусно пахнущем Лапе, сминая очередную крутую рубашку. Деловито рассматривал, с какой-то насмешливой нежностью даже.
«Интересно, как он по улицам ходит. Видно же, что гей. В троллейбусах ездит, тачки ловит. Гадство какое».
- Ну ты чего?
- Тебе машина нужна,- сказал Дюк,- срочно. Моему принцу нужна тачка.
- Пара через сорок минут. Мне пора уже, правда.
- С таким стояком далеко не уйдёшь. Я быстро.
- Мне ясно,- Лап улыбнулся,- ты хочешь, чтобы я вообще никуда не пошел. Щи варил, тебя с работы ждал. Квашня чтоб на кухне. Трынде-ец, докатился…
- Можешь меня убить,- прервался Дюк,-но это моя мечта. Самая что ни на есть голубая.
- А вот ***...
- Я знаю, что это. Давай, наслаждайся...
***
Судьба, отнимая , иногда компенсирует – приобретение бизнеса оказалось для Дюка небывалой удачей. Метаморфоза его положения вмиг обеспечила разуму необходимую твердость: предстояло справляться с махиной еще незнакомых проблем. Паники он не испытывал, лишь упрямство и истинный интерес, а проколы его не смущали. Был еще внутренний, благоразумно сокрытый азарт, оказавшийся в жилу и отлично вписавшийся в нужды привядшего дела.
Таблетки он выбросил потихоньку от Лапа, полгода напрасной надежды, решил себе Дюк, и травля всего организма. Удивительно, но в голове прояснилось: захотелось курить, проснулся былой аппетит и появилась энергия, вся дремавшая ранее масса. Успехи свои Дюк оценивал по партнеру Ванееву – через три месяца тот совсем перестал появляться, погрузившись в насущное. Ему, вероятно, нужен был отдых, как любому загнавшему себя человеку.
Все вертелось и так – Дюк справлялся, раздобыв на ленивую смену толкового мастера, отставного военного, отладил клиентский поток, сделал рекламу, и убрал магазин, не дававший дохода. Летом шиномонтаж прозябал оттого, что рядом, на Салова, находилось таких же четыре: ажиотаж приключался с автовладельцами лишь со сменой сезонов, когда меняли резину с зимней на летнюю и наоборот. Летом такая услуга изрядно скучала, и шиномонтажники нервничали, перебивая клиентов и цены. Посчитав смехотворную прибыль, Дюк тут же прикрыл мастерскую на лето, устроив навес и завезя туда велосипеды - торговля рванула вперед. Горожане хватали китайский товар, покупая попутно насосы, крепления к автомобилю, фонарики и прочую мелочь.
Встряхнул и второй магазин – тот стал подороже, побогаче на всякий каприз, и клиентов прибавилось. Взял продавца, настоящую байкершу Варю с большим ирокезом и аппетитным размером груди. Из-за какой-то из прелестей Варьку не брали в простую торговлю, Дюк же едва не подпрыгнул, увидев её – это ж какой попугай, то, что надо! Кроме этого, девушка шпарила автомобильными терминами, не сверяясь с бумажкой, и пыхала сочными шутками - мужики, зацепившись за острые Варины перья, начинали смеяться. Она отвечала, а затем заходил разговор то про жесткость подвески, то про затирки и воск, про антикор и безумные цены – словом, народ отходил заскорузлой душой в разговоре на любимые темы, да еще с молодой понимающей девушкой. Короче, клиент приживался.
За это Варюха имела неплохую зарплату, ибо девушка с таким арсеналом и умением слушать совсем не простой продавец, а находка. Втайне Варвара млела от Дюка, но байкерский опыт подсказывал, что лучше не делать ни ножкой, ни грудью, как бог, называется, даст. Главное, чтобы хозяин заглядывал чаще, довольный – и Варя старалась.
Дюк втянулся, аккуратно меняя ненужных людей, наблюдал за новинками, отслеживал прибыль, приструнив разгильдяя бухгалтера, незаметно сторожил конкурентов. Новизна очень быстро слетела, оставив хлопотный труд – он ушел в него так глубоко, что с трудом отходил в выходные.
К осени у него получилось.
- На чем будешь ездить, придумал?- спросил он у Лапа за ужином.
- А черт его знает,- оторопел тот,- что, у тебя все так хорошо?
- У нас хорошо,- уточнил Дюк,- гольф-класс мы потянем безо всяких кредитов. Европейца или японца?
- Неожиданно,- схватил себя за ухо Лап,- дай подумать. А ты что посоветуешь?
- Фольксваген,- сказал ему друг.- Давай по салонам поездим. Хочешь?
Лап не ломался, и Дюку это ужасно понравилось.
Его можно баловать, с удовольствием чувствовал он, можно дарить что-нибудь. Тратить деньги на Лапа удивительно радостно, не все же на лечебницу матери, оплату квартиры и прочие необходимые вещи.
«Денег должно быть так много,- подумал впервые Дюк, - чтобы о них не думать»
Самому ему руль не светил: наполовину слепой, он и сам осторожничал. Права прикупить не проблема, сейчас все продается. Но однажды он сел за баранку, у себя на работе: решил припарковать чью-то «Мазду». Понял мгновенно – беда. Наполовину наощупь – так можно водить только за городом, в мегаполисе можно заказывать гроб. Идиотов полно на дороге, их бампер никак не почувствуешь, каким бы хорошим водителем ни был.
В это ноябрьское воскресенье Дюк предвкушал приключения, тест-драйвы и жаркие споры, а Лап чуть прищурился на ближайший автомобиль и просто сказал:
- Пусть эта.
- Это «Гольф». Классика жанра, да и вообще, комплектация стрёмная…
- Пусть будет она,- сказал Лап,- только серого цвета.
Менеджер вился вокруг, открывая то багажник, то двери.
- Посиди за рулем хоть,- посоветовал Дюк,- тебе же водить. Просто почувствуй. А что это с тобой?
Лап странно капризничал где-то внутри и, кажется, был недоволен. И ехал молчком, неохотно.
- Ты точно не в настроении,- тихо сказал ему Дюк,- ну что за капризы? Не хочешь, давай в другой раз.
- Паршиво мне как-то,- ответил,- как, ****ь, цацку жене выбираешь, чтобы тише терпела. Погано.
***
Захотелось курить – так отчаянно, что он даже не слышал реплики менеджера. Развернулся, сильно ударил по медленно едущей в разные стороны двери. Вытащил и смял сигарету.
Обратно уже не пошел. Докурив, оценил расстояние до остановки и направился прямо туда. Воскресенье оказалось испорчено, и, добравшись до центра, он завалился в маленький бар, заказал себе скотча и медленно выпил.
- Лед у вас кончился?- хмуро спросил у обслуги,- к скотчу лед полагается в лучших домах. Я вообще-то просил. Судя по ценам, у вас тут Рокфеллер бухает.
- Сейчас сделаем,- звонко откликнулся молоденький парень.- Извините, я забыл принести. А Рокфеллер заглядывал!
Официант неожиданно рассмешил. Дюк даже хмыкнул, проводил его взглядом. Гибкий и симпатичный пацан, лет семнадцати. А, может, и больше.
Парень быстро вернулся, неся уже свежий специальный бокал, стекляху со льдом и даже с щипцами для оного.
- Все, как в лучших домах,- сказал он,- что-нибудь еще прикажете?
Дюк пьяно прищурился:
- Ну разве только тебе?
Подождал, наблюдая за сменой эмоций на хорошеньком личике. Мальчишка залился румянцем, расставляя предметы. Расставил и тихо сказал:
- А я и не против.
Тесна ты, подруга Земля голубая, подумалось Дюку. Вот если бы старый пердун сотворил мужиков в день седьмой, то те согрешили бы сразу, еще не обсохнув.
Чего только не лезет на пьяную голову, спохватился вдруг Дюк. Официант ожидал, стиснув крепко блестящий поднос, защищаясь, смотрелся в него.
- Да нет,- сказал он.- Ты меня извини. Я просто расстроен.
Парень мотнул головой, покраснел.
- Но ты мне скажи,- Дюк продолжил, - вещь одну. Если твой друг и любовник решил подарить тебе что-то... ну, скажем, машину. Как ты это воспримешь?
- Не знаю,- замялся пацан.- У меня нет такого богатого друга.
- Ну представь, что он есть. Примешь подарок или на фиг пошлешь?
- Смотря, какой друг,- парень явно старался быть честным,- если хочет купить, то навряд ли. Если хочет сказать спасибо – наверное, приму.
-То есть два варианта? Бывают ведь и другие причины. Иногда просто хочется радовать, знаешь ли. Ну, сказать ему как бы, что… В общем, неважно.
- Тогда бы я принял,- засмеялся мальчишка,- но потом бы все время думал о том, чем могу отплатить. Ну не минетом же. Это женщинам можно. Неравноценный обмен предполагает зависимость. Лично меня напрягает.
- Суть демонстрация превосходства,- согласился задумчиво Дюк.- Ты мне реально помог.
Пацан усмехнулся по-взрослому и спросил:
- Ну так как? Я Вас вроде порадовал? В прейскуранте не значится.
- Оно,- согласился Дюк,- хочешь равноценный обмен?
Официант наклонился к нему, отёр со стола разбрызганные талые капли:
- Не пожалеете.
И убежал, благородно вильнув целомудренной задницей.
Почему бы и нет, отряхнул с себя совесть Дюк, толкая дверь в мужской туалет. Вот почему бы и нет.
Когда все закончилось, парень сказал на прощание:
- Я завидую Вашему другу.
- Спасибо тебе.
С этим Дюк и ушел.
Вернулся он за полночь, обойдя еще пару других заведений. Темнота напрягала и мучила неизвестностью слева, от выпитого начинало покачивать, поэтому он изловил «носорога» - усталого азера на старой «семерке», заодно подсказав по дороге, где ему починить. Лап сидел за компьютером – с мокрыми волосами, в одном полотенце.
- Трахался?- поинтересовался он.
- Как и ты,- сказал Дюк,- только я еще и напился. А как ты это определяешь?
- По тебе всегда видно. Я дома был, кстати.
- Что так,- спросил его Дюк,- ты же вроде не хочешь быть женушкой. Хочешь быть самостоятельным голубым. Ну так давай, будь после... последовательным. Лучший способ сказать мне об этом – какого- нибудь мексиканца заделать. Прям тут.
Лап внимательно слушал весь бред, ухватившись за ухо и наклонив голову.
- Ты всё ещё не забыл, так ведь? Неужели ты так никогда и не забудешь?
- Да забыл я, забыл,- отмахнулся Дюк,- я тебя ни о чём и не спрашиваю. Что там у кого из нас было, это всё чушь, ерунда.
- Я спокойно как раз отношусь. Дело не в ****стве.
Дюк с размаху упал на диван. То ли время пришло, то ли выпил так много, что язык не держался во рту.
- Да, я помню. Каждый раз, когда с тобой трахаюсь, вспоминаю. Не поверишь, самое сильное потрясение за всю жизнь. Честно. Я вообще уже мало что понимаю. Кто мы, зачем мы. Что ждёт, как жить будем. Что обычно при этом делают, кем друг другу приходятся. Что можно и что нельзя. И какие подарки дарить...
- Мы вместе,- спокойно сказал ему Лап,- для меня всё естественно. Нормально. Как в детстве.
- Мы не в детстве,- сказал ему Дюк,- мы выросли. Дальше-то что? Знаешь,- он неожиданно сел,- у меня тогда было забавное чувство... ну как объяснить... ну вот, допустим, яйцо. Яйцо, только с мягкой такой скорлупой. Мягкая скорлупа, точно замшевая, можно пальцем её продавить. А внутри всё расплавленное, как серебро, горячее что-то. Дорогое и чистое... нет, металл не с земли, это точно. И он там плескался внутри... нет, не плескался, он перекатывался иногда, когда центр тяжести изменялся.
- А потом...
- После того раздавилось. Оно не делось никуда, нет. То ли я плохо сберег, то ли придавило его, но не целое больше. Металл подтекает и от этого жжет.
- Это ты жжешь сегодня,- сказал Лап.- Ты же знаешь, я делал, что мог.
- Почему ты сегодня мне это сказал,- продолжал Дюк,- что за бред ? О чём ты подумал?
- А ты,- Лап отъехал на стуле,- чем ты сам-то подумал? Почему ты мне должен что-то дарить, зная, что я отдариться не в состоянии? Или то, что я заставлял тебя пить таблетки, требует благодарности? Да я, ****ь, был счастлив, когда тебе череп пробили! Я, *****, был счастлив как никогда!
- Ну ни фига себе…
- Ты тут лежал, был рядом, не выёбывался и ... ****ь, ты просто был рядом. А ты, сука... ты встал. Ты встал, отряхнулся, метнулся и выиграл. И начал машины дарить.
- Благодаря тебе, - потрясенно сказал Дюк,- только благодаря тебе. Я бы крутил до скончания века гайки на сервисе, если бы не ты. Ты же всё, что у меня вообще есть. Так какого ты хрена? Мне не нужен никто.
- Ну конечно,- язвительно фыркнул друг,- никто не нужен. Сегодня вон тоже... успел.
- Тупая разборка,- отмел его Дюк,- простой туалетный трах. Парень сам предложил, ты бы тоже не отказался. Между прочим, я думал о том, чтобы ты не ходил, а ездил. Когда ты в машине, мне будет спокойнее. И вообще-то смешно – у меня автосервис, а в семье нет машины. Сам я уже не вожу, и не смогу больше... сам понимаешь.
- В семье нет машины,- повторил Лап.- Это другой разговор.
Дюк облегченно вздохнул и снова свалился – алкоголь причинял добро, звал ко сну и прекращению боевых действий. Но последнее слово просилось наружу.
- Если ты хочешь быть вовсе счастливым, можешь мне заново башку проломить. Только слева опять же, ладно? Видеть все-таки хочется.
Лап опустился рядом, мешая заснуть.
- Есть еще кое-что,- сказал он,- это важно.
- Ну,- спросил Дюк,- переляг только, а то ни хрена не вижу.
- Те колеса, которые ты принимал... Часть из них была вовсе неправильная.
- Я догадался.
- Сильное седативное.
- Да я понял. Это ты мне их назначил, правильно я понимаю? Чтобы я сидел и не дергался.
- Знал и молчал?!
- Я не знал, доктор ты хренов. Я к ним привык, и они перестали работать. Потом влез в Интернет, и там сообщили, что они чуть ли не волю парализуют. Я их и выкинул.Сволочь ты, Лап.
- То есть знал и молчал!
- Знал. Дебильная любовь у тебя, Лапин. Другой бы на моём месте давно бы сбежал. Экзекутор поганый... Но, как ни странно, тут я тебя понимаю.
Лап молчал и сопел виновато.
- Ты меня до смерти не залюби,- сонно сказал Дюк,- потому что дебилы должны жить парами. Поодиночке дохнут. Вот я и вывел платформу для нашего с тобой совместного проживания. Будем на ней теперь жить.
- Я так больше не буду...
- Будешь,- сказал Дюк и, наконец, уснул.
Лап лежал и разглядывал друга. Стащил с него джинсы, накрыл. Рассматривал снова при призрачном свете компьютера. Думал.
- Хватит ли силы держать тебя. Хватит ли мудрости мне…
Сказал так, лег рядом. Уже засыпая, подумал: «Отраву крутейшую ел, а трахался как при этом... да ни хера мне не хватит»
17.
Мать сильно сдала, видел Дюк.
Её было и жаль, и не очень. Чувство вины перед ней не отпускало – мало был рядом, мало вникал. С другой стороны, и она не особенно интересовалась, гоняясь за чем-то, что её успокоит. Раз, вороша свои детские воспоминания, он даже задумался - а что у них с матерью было?
Котлеты и пирожки, думал Дюк, еды было много, голодным никогда не сидел. Одет и обут был всегда. Волокла, как могла, ну сказок в постели ему не читала – как за это судить?
Судить не хотел и не мог. Мать есть мать, выше того, что умеешь, не прыгнешь. Как могла, так растила, претензий совсем никаких. Ну, подумаешь, он не согрелся, но зато он нашел себе Лапа, всё потому, что там было тепло.
Все эти мысли сейчас не годились, история старая, ошибки за гол не считались – Светлана Сергеевна выходила из клиники, а оставлять пациентку саму на себя запрещалось.
- На два дома придется,- ответил он Лапу на молчаливый вопрос,- врачи сказали, что в первые месяцы нужен строжайший контроль.
- Я понимаю,- Лап, казалось, не нервничал.- Уложишь в кровать и домой.
- Да нет,- возразил ему Дюк,- надо понять ситуацию. Вдруг она среди ночи в круглосуточный двинет. Пока поночую.
- Логично,- Лап уткнулся в компьютер,- но у тебя же работа еще. Днём-то как? Может, тетку какую нанять? Пусть бы была компаньонка.
- Ты прав. Над этим надо подумать.
- Не будешь же ты с ней все время,- ситуация выходила из-под контроля,- бывших алкоголиков не бывает. Так же, как наркоманов. Вот в Европе, к примеру, её бы направили на социальную реабилитацию…
Дюк разозлился.
- Вот я и буду,- резко ответил он,- она моя мать, между прочим. Тебя как послушаешь, так лучше всех пристрелить, чтобы тебе не мешали.
Лап щелкал клавиатурой, делая вид, что увлеченно читает.
- Месяц, а там я придумаю что-нибудь. Вечером позвоню,- он чмокнул неподвижного Лапа в макушку,- не грусти. Буду скучать всю ночь.
Убежал, вспоминая попутно - дома зудел изголодавшийся холодильник. Было пропито все, что имело какую-то ценность – прежним, наполненным жизнью там даже не пахло. Дюк вымыл квартиру и переклеил обои, но стыдный болезненный облик не покинул жилища, и предстояла работа.
Светлана Сергеевна стала болтливой, словно старушка. Отчасти из-за болезни, сломившей её, отчасти от радости, что, наконец, будет с сыном. Тот год, что Дюк прожил у Лапа, она беспробудно пила – все сложилось поганой и проклятой картой: дюкова травма, разлад с кавалером, увольнение с работы – она скатилась мгновенно.
- Все, мамуленция,- оборвал её Дюк, составляя пакеты в прихожей, - вспоминай кулинарные навыки.- Есть хочу, не могу. Отдохнула и хватит.
- Сыночек,- лепетала она,- сейчас я тебе и борща, и котлеток. Ты останешься на ночь?
- Конечно, останусь,- успокоил её и приобнял,- тут хозяйство разрушено, надо в порядок его привести.
- Ой, как стыдно, Егорушка,- мать внезапно заплакала, прижимаясь,- как стыдно мне, сыночка.
- А что стыдного, мам,- Дюк ущипнул её за нос,- что ты как бабка расклеилась. Пропила мой компьютер – вот теперь возвращай. От стыда толку нет, а Интернет пригодился бы. И телевизор вообще-то.
- То есть как,- мать воззрилась на него удивленно,- да где ж я денег возьму?
- Печень твою не купят,- рассудил любящий сын,- она у тебя нездоровая. Почки, я подозреваю, тоже. Остается работа, девушка ты у нас сильная. А вздумаешь пить – привяжу к батарее.
Мать застыла. Жалеть и выслушивать исповедь вперемешку с соплями, видимо, никто не желал. Светлана Сергеевна изумлённо взглянула на сына. Тот поднял брови и пнул батарею.
Спуску не даст, поняла она вдруг, всё серьёзно. И ведь точно, привяжет.
Она ушла в ванную и раздобыла какую-то засохшую тушь для ресниц, поплевала в неё и накрасилась. Нашлась и какая-то пудра-помада – через двадцать минут Светлана Сергеевна стала напоминать себя прежнюю.
- Так,- подбоченилась, заглянув в принесенные Дюком пакеты.- Масло зачем дорогое такое купил?
- Нормальное масло, оливковое, - крикнул Дюк из гостиной, - а что? У тебя на бутылки реакция?
- Как ты с матерью-то разговариваешь!
- Ха-ха,- отозвался оболтус,- жрать дадут или нет? Мам, бутерброд мне хоть сделай.
На этом страдания Светланы Сергеевны не кончились. За ужином её обуяло уныние - захотелось поплакаться, выпить, рассказать про тоску и несчастную долю. Она изготовилась было, подперла щеку рукой, но наевшийся сын притащил ей тетрадку.
- Ну,- сказал он,- а сейчас мне рассказывай.
- Ох,- начала было Светлана Сергеевна,- бес меня, сына, попутал...
- Да бес тут при чем. Говори, с кем пила. По соседям сначала пройдёмся.
- Ну как это,- удивилась она,- с Василий Михалычем из тридцать шестой. Он всегда так поддерживал...
Дюк вырвал лист, положил перед ней карандаш.
- Знаю я Васю-бухарика,- хмыкнул он,- вот и пиши.
- Что писать?
- Да так и пиши. Ты, ****ый, ****ь, алкоголик Михалыч, мать твою так. Если ты, сука упитая, еще раз ко мне с алкоголем припрешься, сын тебе яйца отрежет. И гореть тебе, сука, в аду.
Мать шарахнулась.
- Я не буду такое писать!
- Пиши,- сказал Дюк,- если не будешь, то прямо сейчас и пойдём к нему. И я заставлю тебя это сказать. С кем еще пила? Всех называй.
- Это не по-человечески ведь, Егорушка...
- То есть мне твоих собутыльников расцеловать? Они ж завтра все у тебя под дверями построятся. И ты напьёшься, как весь этот год напивалась. Да их на пушечный выстрел нельзя!
- Я не напьюсь!
- А то,- сказал Дюк,- за дурачка-то меня не держи. Была бы ты сильная, смаковали коньяк бы сейчас. Пиши, или сам наваяю такого...
Причитая, она до ночи царапала непотребные письма. Маялась: сын нависал, диктовал безобразные фразы, следил. Собрал в тонкую стопку и спрятал в карман.
- Доставим по адресу, не сомневайся.
И опять это было не всё.
Утром Светлану Сергеевну передали раскрашенной в разные краски Варваре. Отперев магазин, и вполголоса напевая, девчонка полировала свой мотоцикл, живущий у входа и прикованный цепью к специальному столбику. Сине-бело-зеленая Варькина голова задорно торчала из-за холёного байка. Посетителей не было, а времени даром терять она не любила.
- Уборщица, Варь,- распорядился Дюк.- Мама моя. Пока пусть порядок наводит, а попозже тебе на подмену. Поучи её тут разбираться с товаром. Ну или байк натирать.
Светлана Сергеевна хлопала только глазами, дивясь на Варвару. Дюк отвел девушку в сторону:
- Глаз не спускай – никаких банок, бутылок, ни даже конфетки со спиртом. Усекла?
- Будет сделано, шеф,- сказала Варюха,- молоко и печенье! Работой загрузим!
- Клиентов ей можешь подкидывать для поболтать, - хмыкнул Дюк, - все тебе легче.
- Всенепременно,- ответила девушка,- вообще-то клево придумано, самое то! А то разрываюсь в последнее время.
- Вот и ладушки,- и Дюк укатился работать, обозначив для матери путь. Тут, на Салова, просто идиллия - масло, железо, грязища. А главная гадость отсутствует, даже пиво в кафешки не возят, не идёт оно тут.
Получше, чем дома, так думал Дюк, и полно мужиков. То, что матери надо. Так-то.
Варвара и мать подружились мгновенно. Сурово лишенная исповедей, Светлана Сергеевна наконец обрела благодарную слушательницу. К тому же, Варвара ей очень понравилась.
- А что у тебя с головой,- осторожно выспрашивала она,- это знак специальный, или просто так нравится?
Варя делилась, что каждые шесть месяцев она обновляет у байка дизайн. Ну и, чтобы соответствовать, красится тоже.
- Мы с ним как братья,- говорила она.- Ну как брат и сестра, должны быть похожи. Я с него сколько раз улетала – ногу ломала два раза вот тут, - и она задирала над прилавком лодыжку, демонстрируя немалую гибкость,- ребро один раз. А еще он меня понимает.
- Это как?
- Ну вот, к примеру, когда пива выпью и хочется полихачить...
- Ой-ой-ёй...- пугалась Светлана Сергеевна
- А он не заводится,- победно говорила Варвара.- Он не заводится и всё тут. Не желает работать, правила знает!
- Хороший тогда мотоцикл,правильный. Егорка вот технику тоже любит до ужаса. В детстве только и пропадал в гараже.
- Ну и сейчас пропадает,- хихикала Варя, - только гаражик побольше. Никакой личной жизни, наверное, у него.
Светлана Сергеевна замолкала, но внутри распирало – хотелось болтать и делиться. Она осторожно кидала:
- Хорошая ты девушка , Варя. Прямо как я в молодости. Заводная, приветливая. Парень-то есть у тебя?
- Да всякие были,- смеялась девчонка,- сейчас как-то некогда. Работаю вот до восьми. Вы научитесь в магазине, директор мне даст выходной, даже два обещал!
- С мужиками проблема,- невпопад соглашалась Светлана Сергеевна, - это точно. Я вот тоже всю жизнь одна и одна. Сына вырастила зато вон какого... Егор у меня просто подарок от бога.
Варя чуяла след и добровольно глотала рекламу. Женское любопытство никто не убьёт никогда, а источник был самый надежный.
- Да уж точно,- говорила она,- будет какой-нибудь девушке счастье.
- Мне бы твои годы…
- Да ладно вам,- льстила Варвара, - вы женщина привлекательная, какой такой возраст. Моя мама говорит, что она невеста, пока внуков нет.
- Да какие мне внуки,- вздыхала Свтелана Сергеевна, - дождешься от них...
Значит, девушка все-таки есть, понимала Варвара и думала: ну еще бы. Разлетелась ты, Варя, в монгольские степи на байке. Слюну подотри.
Так и работали – споро, хозяйственно, с огоньком.
А вот Дюка словно драло рыболовным крючком, как беднягу-пескарика, про которого рыбак до конца не решил - кинуть обратно, или все же снести на уху.
Мать приходилось таскать за собой – оставлять её без присмотра казалось опасным. Не нравился Лап, за последнее время Дюк выдержал от него немало истерик. Это резало, но причину найти он не мог.
- Ты молчишь постоянно,- сказал он ему,- что случилось, Лапундер?
- Все нормально,- ответил он как-то,- с другой стороны, о чём нам говорить? О железках твоих? Или о вскрытии трупа?
- Можно о вскрытии,- хмыкнул Дюк,- тебя не стошнило? Как все прошло?
- Давно потрошу. Это не первые опыты, я этим занялся на первом курсе еще. Я писал.
- Я забыл,- Дюк смутился,- ты прости. Мы пойдём куда-нибудь?
- Я занят,- сказал ему Лап,- хочу перейти через курс. Шесть лет слишком долго учиться.
Так что давай без меня.
- Мы неделю не виделись.
- Да неужели.
Дюк взбесился.
- Ты ведешь себя, словно ревнивая девка. Мне что, цветочки тебе принести? На колени упасть? Ну работаю я, ты пойми. Матери нужен, сейчас у неё ремиссия. Если сорвется, то всё, по новой. Ну Лапушек, ну что за херня, ну на ровном ведь месте психуешь.
- Я не психую,- сказал Лап,- я, ****ь...
- Ты, ****ь – чего? Что с тобой происходит? Что я не так опять сделал?
Лап помолчал и сказал:
- Я хочу пробить тебе голову.
Дюк опустился на синий диван. Вот, наконец-то приехали. Вот и причина.
- Ты же мне, помнится, разрешил,- сказал Лап.- Я об этом и думаю. Ты останешься здесь, со мной. А остальные пусть как-нибудь сами.
- Да ты ****улся,- тихо проговорил Дюк,- ты зациклился, ты какой-то другой человек. Я устал повторять, мне не нужен никто.
- Да, я болен.- Лап кликнул по вкладке, открылось окно в мониторе.- Болен. Последние дни анализировал своё состояние, искал причину, вот и нашёл. Это зависимость. Пришел к выводу, что она у меня с раннего детства. В таком состоянии субъект добровольно лишается воли, способности к саморазвитию, перестает принимать решения, растворяясь в предмете любви.
Дюк расхохотался:
- Ты железный всегда был, не парься. Я, скорее, в родильную горячку поверю. Ну, помнишь, как у того англичанина? Джерома, кажется.
- В том и парадокс,- сказал Лап. – Наверное, эта железность росла из сопротивления перед зависимостью. Как только реальная необходимость в сопротивлении отпала, то есть когда мы… В общем, как личности, мне наступает кирдык, если проще.
- То есть, ты не тот, за кого себя выдавал много лет. Не мели ерунды,- Дюк сбросил пуловер. – Сегодня останусь. Но если я буду носиться из квартиры в квартиру, я вымру, как мамонт. Если ты, как ты себе выдумал, болен, то собирай шмотки и поедем ко мне. То есть пойдём. Будет у нас психбольница.
Он выдохнул.
- Ну просто ёбнуться с вами со всеми.
Лап посмотрел на него, теребя свое левое ухо:
- Опять ты решаешь. Да, это зависимость, точно.
- То есть ты готов к жесткому сексу, насколько я понял. Кровавому, я бы сказал. Какие диагнозы, в баню. Меня самого, между прочим, корёжит.
Лап настороженно слушал. И тихо спросил, наконец:
- Серьёзно? Насчёт переезда?
- Ну да. А ты что, думал, я строю из себя натурала? Мне это некогда, веришь. Я вообще-то работаю. Есть что-нибудь выпить?
***
- Я, ****ь, всё понимаю. Как ублюдок себя веду. Воображение, знаешь, богатое. Знаешь, что меня всегда поражало? Ты вот ни хера ничего не боишься, суешься по жизни внаглую…
- А как еще-то?
- Мать я твою ненавижу, я просто её ненавижу... Понимаю, что это не норма, диагноз нашел. Честно, сидел бы в углу где-нибудь, в автосервисе этом твоём, тихо бы так. И мне было бы в кайф, веришь. Всю волю вот сюда собираю и на лекции иду вместо этого... учу-у-усь.
- Ха-ха. Был бы я кенгуру, я бы в карман тебя посадил, как детеныша. Носил бы с собой, а ты бы оттуда вещал че-нибудь, ха-ха-ха.
- Дюкозависимость грёбаная,- кивнул Лап,- два года прожил, на автопилоте. Я же пробовал соскочить тогда, знаешь ли.
- Ты не рассказывал. Ну-ка?
- Ух, я пробовал.- Лап отхлебнул коньяку из бутылки, поморщился.- Перед тем, как ты в армию ушел. Сначала я трахался напропалую, в этом, как его... клубе-то. Решил вести сообразную ориентации жизнь. Что, думаю, страдать.
- В «Танкере»?
- Ага,- Лапа качало от выпитого, однако бутылка оказалась замечательным ключиком и Дюк не спешил отбирать,- елки зелёные, оргии. Километры ***в пропустил. Там стенка есть у парилки такая, где все ходят. Я лицом к ней вставал и давал. Всем подряд. Сосал без разбору... как только не подцепил ничего.
Дюк молча курил в потолок.
- Меня выкинули оттуда, ага, - Лап отхлебнул,- больше не пустят. Сказали, что у них добропорядочный клуб. Вообще плотно затусовался тогда, думал – вот оно, счастье. А потом вижу: весело, да, ***, размалёвка… а в внутри ну такая тоска. Перманентная вроде истерика.
Он сглотнул и поморщился.
- На сайте болтался... чего я только там не писал,- он продолжил.- Да всё, кроме наркотиков было. Даже деньги брал. Напился да и взял. Была, в общем, ломка.
- На сайте я видел.
- Потом что-то там щелкнуло и мне надоело Тогда я подумал: наверное, надо завести отношения... ну подружиться сначала, в кино походить, понять, что к чему. Кто-нибудь должен быть постоянный, нормальный. Как понимаешь, таковых не нашлось.
Люди попадались отличные, классные, круче даже нас с тобой. А я сидел и решал – трахнуть или сразу послать? Раз привел домой, вот сюда...
Он замолчал и закрылся руками.
- Раз оставил одного ночевать. Все хорошо вроде, парнишка спокойный, улыбчивый такой, собеседник отличный. Даже не пили с ним, все на раз, знаешь, сложилось А утром…
- Вампир оказался?
- Не. Кофеёк мне принёс.
- Унылый какой буржуин. Ты же через боль у меня просыпаешься.
- В общем, выпиваю я кофе, и сразу к компьютеру – надо же письмо тебе было отправить. Заодно понимаю, что единственный смысл в мониторе, и больше нигде. Выставил парня, короче.
А потом тебя в армию забрали... вот тогда-то я чуть не сдох. Хотел прямо там, на вокзале, раздеться. Как ты там выкрутился, не знаю. А когда на письмо мне ответил, я, блин, ревел.
- Ты можешь.
- Ну и ревел,- Лап пьяно махнул коньяком,- все равно ты не видел. Зато я тебя видел почти каждый день.
- Это когда же?
- Когда ты переехал,- сказал ему Лап,- автобус сто сорок восьмой, он до Салова. Он как раз останавливается, где двести шестнадцатый. А двести шестнадцатый идет до моего института. Вылезал и смотрел, как ты на работу приходишь. Ты за год ни разу... ты ни разу не обернулся. Лечь хотелось под этот автобус, блин.
Лап не мог больше пить, сожжено было горло, и горечь давила желудок, грозя рвотой.
- После письма сразу в норму вошел, моментально. Ну и учился все время, как проклятый, несмотря ни на что.
- Мда,- сказал Дюк, - хреновый рассказец. Меня тоже кидало, но по-другому.
- Тебя по-мужски кидало,- сказал ему Лап,- а меня вот по-пидарски. Природа такая. Так что болячка моя не мгновенная. Осложняется тем, что эту зависимость я хорошо понимаю, но лечить не хочу. Категорически нет.
Дюк быстро думал.
- Хорошо,- он взъерошил отросшие волосы. - Что насчёт переезда?
- Да,- сказал Лап,- хочу спать с тобой. Хочу чувствовать, остальное неважно. Сколько ты спишь, шесть часов? Буду надеяться, моему аккумулятору хватит.
Сравнение рассмешило обоих, пьяный Лапыч стал теплым, послушным и вялым.
- Вот не буду любить тебя, пьяного. Морса наболтаю пойду, полведра.
Укрыл, ослабевшего, долго курил, выпуская красивые кольца в окно. Старался свести в монолит ситуацию, мысленно выстроить здание, где у каждого был бы кусок от него.
А что для себя? Эта мысль не мелькала ни разу. Он как-нибудь напитается общим довольством и счастьем. Курил, понимая, что принял большое решение, замыкая концы, объявляя не детскую дружбу, не странный каприз. Признавая.
- Вроде женюсь,- наконец, он нашел объяснение своему состоянию. – Хорошо, хоть с невестой знакомить не надо. А мать... она справится.
Он курил уже двадцать какую-то, не чувствуя дыма. Отметил, что утро уже занялось – неожиданно светлое, полное. Чуть замер, поднёс руку к правому глазу, прикрыл.
- Черт,- сказал ошарашенно,- ****ь! Лапыч , пьяная морда, проснись!
Тот сопел, и не слышал.
- Лапыч, проснись,- тормошил его Дюк,- у меня глаз заработал! Мы победили!
***
- Он не будет тут жить,- сказала Светлана Сергеевна,- это мой дом. Не будет и всё.
Поставить вот так, перед фактом, плохая идея. Не просто плохая, а сумасшедшая. Но утром, отпрыгав от радости по поводу дюкова зрения, Лап, между прочим, собрался. Так быстро, что Дюк не успел обсудить ничего из того, что хотел. Конечно, мать следовало подготовить, но, видя такие молниеносные сборы, решился: попробуем так.
- Это и мой дом тоже,- осторожно напомнил он,- мама, ты зря так волнуешься. Это же Лап.
Светлана Сергеевна вдруг сделалась неузнаваемой. Что-то проснулось в ней, и проявилось, как темные полосы на серых рентгенах, которых так много валялось у Лапа в столе. На этих полупрозрачных листках был его, Дюка, череп - точки и полосы, заметные только врачебному взгляду, те самые, которые запрещали увидеть.
Мать будто зажглась новым пламенем, сизым, как газ на плите. Касаться её было страшно. Сквозь зубы она процедила:
- Что он тут будет делать?
- Жить,- сказал Дюк,- жить со мной. Он мой друг, мы спим вместе, и ты это знаешь.
- У него-то нельзя? В дом зачем эту гадость тащить?
- Минуточку, - сын закрыл собой Лапа, - ты, помнится, мне сама говорила…
- А что я тебе говорила?- вскинулась мать,- Я про дружбу тебе толковала. Детство кончилось, подружили, пожамкались и хватит. Ты теперь сам на ногах. Надо нормальную устраивать жизнь!
Лап стоял у стены, опираясь на сумку – та сплющилась под его весом, он прогнулся вперед. Вид был слегка нагловатый, будто он подпирает панель и ему неохота от неё отделяться... в общем, довольно развязный.
- Пусть уходит,- сказала Светлана Сергеевна,- у них квартира большая. Что нам в двух комнатах. А перед соседями просто стыдобища. Что мне им говорить? Что мой сын с мужиком живёт? Ты сам-то хоть что-нибудь понимаешь? Или отшибло всё в армии?!
- Отшибли,- ответил ей Дюк. – Лапыч, пошли.
Мать раскраснелась, некрасиво вспотела, ей сделалось стыдно и плохо. Её заранее мучил позор и несостоявшиеся ещё пересуды. Светлана Сергеевна яростно вытерла руки о фартук и ушла в глубь квартиры, на кухню.
Лап отлип от стены и направился следом за Дюком.
- Хреново,- сказал он и сел на кровать.- Квартиру-то как разнесла. Даже телевизора нет.
- Ты его смотришь?
- Ну как же,- сказал ему Лап,- телеящик предмет интерьера, обязан стоять. Показатель того, что в жилище цивилизация.
Он выпустил сумку:
- Пойду побеседую с матушкой.
- Может, я сам?
- Разложи мои трусики,- насмешливо поддел его Лап,- ты уже разговаривал. Как начнет сковородки метать, тогда приходи.
- Постройся свиньёй,- посоветовал Дюк,- как шведы на Чудском. Она если упрется, то финиш.
- Не,- сказал Лап,- Кочубей с Пересветом как минимум. Только ты не подслушивай, очень тебя прошу. Если что, зажги моё тело и пусти по воде.
И он удалился, а Дюк, подождав, покрался на кухню, ловить разговоры. Было до смерти интересно, что можно такого сказать, чтобы яростный пыл его матери вдруг поостыл. Что такого умеет товарищ, чего не знает он сам?
Поймал за полбуквы какую-то фразу:
- ...стыдно?- это спрашивал Лап.- А когда я Вас от ларьков по ночам оттаскивал? Мне было стыдно тоже. А в милиции?
- Ты меня к сыну моему не пускал,- шипела Светлана Сергеевна,- навещать не давал!
- Ах боже ты мой,- передразнивал Лап,- да какие инстинкты у нас материнские! Да вы трезвой-то не были, ползали тут по подъезду... мне соседи за вас прописали раз сто!
«Ох, ну елки - моталки,- подумалось Дюку.- Он и с ней, оказывается, возился».
- Пьяные это нормально,- выдала Светлана Сергеевна,- а вот ты извращенец. Одно дело, когда где-то там, а не тут, на глазах у соседей. Как жить?!
И она зарыдала совсем непритворно. Через всхлипы сказала:
- Лапушек... да я, может, и поняла бы... Только вы же меня позорите оба. Что же вы друг в друга вцепились-то? Нарожали бы деток, женились бы, дальше бы и дружили, и никто бы не знал ничего. Всю жизнь раскорячите себе, мальчики-и-и...
- Кто себе что раскорячил, это мы еще выясним,- сказал Лап,- пока что у нас только один алкоголик. Вот как только им быть перестанете, сразу уйдём. Все зависит от вас, Светлана Сергеевна, чем скорее, тем лучше.
На кухне забулькало, и Дюк рефлекторно напрягся. Прислушался – да нет, вроде чайник.
А потом мать спросила:
- И вы тут что, собираетесь ... это?
- Это вы, мама, про что? – хмыкнул Дюк, заходя. – Про ****ься?
Мать и Лап собирались чаевничать, а он думал, что бойня. Друг резал сыр, мать раскладывала печенье.
- Ты когда себе мужа искала, я тоже всё слышал. Ну так я не в обиде.
- Масло достань,- сказали ему, - кофе? Чай?
- Мне какаву. С полчашкой горячего молока.
- Размечтался,- Лап улыбался,- какао отсутствует. Чай зато отличный имеется.
Эти двое, как раньше когда-то, возились на кухне. Дюк осторожно поглядывал, чувствуя – это просто картинка, отблески прошлого. Детство кончилось, мать не смирится, а Лап не отдаст.
А пока он студил толстостенную чашку, пытаясь напиться душистого чая, и думал, что абсолютной гармонии не существует. А еще он подумал, что гармония – это, наверное, просто отсутствие бойни и крови, а если при этом удаётся смеяться, то это и есть хорошо.
«Не хоти себе много,- раздумывал он,- радуйся миру».
***
Видимый мир был шатким и призрачным, но сделалось легче. Оба родных человека находились поблизости, и он мог отслеживать их настроения. Дюк понимал, что в квартире живёт здоровенная бочка, не то, чтобы с порохом, с тонной тротила, и кнопка сжималась ручонкой старушки- случайности. Но всё-таки оба бойца были рядом и цедили сарказмы у него на глазах, а потому он и сам не молчал, выступая в конфликтах - если хочешь понять их течение, то тоже греби, думал Дюк.
Он впервые задумался, наблюдая домашние позиционные войны: мать билась открыто, выражая презрение только лишь Лапу, словно не Дюк был причиной всему. Это казалось в новинку, потому что обычно сын бывал у неё виноват. Лап презрения к ней не выказывал, но с видимым удовольствием подтрунивал: алкоголик и телевизор пропьет, кидал он, и даже ориентацию сына. Светлана Сергеевна мучилась и вспоминала: да, если бы поменьше работала, то они бы, возможно, не познакомились вовсе. Все было бы как у людей!
А потому, резюмировал Лап, не надо Светлане Сергеевне плевать на плоды своего воспитания, ведь он, например, очень рад таковым, да и Дюк вроде тоже...
- Иезуит ты,- в бессилии говорила Светлана Сергеевна,- болтолог учёный, замучил!
- М-м-м, языком он умеет работать,- встревал Дюк,- ты лучше не спорь, все равно останешься виноватой. Прирождённый церковник.
Лап хихикал себе над конспектами и говорил:
- Вы бы радовались мне, прихожане. Я вам истину сообщаю и дарую на всё оправдание. На все ваши ранние действия даю индульгенцию! На все жизненные ошибки!
- Доктора мне,- стонала Светлана Сергеевна,- это невыносимо!!!
- Тут я,- немедленно реагировал Лап.
Лап был верен себе. Дюк опасался, что в неустроенном доме ему будет не очень уютно, однако ошибся – друг успокоился, снова стал прежним, чуть язвительным и дружелюбным одновременно. Пропали истерики – вероятно, присутствие Дюка являлось тем важным, что держало его в равновесии. Выходки матери Лап щелкал, как семечки, хоть и приходилось держать оборону. Соседи, конечно, косились: кое-кто зачастил вдруг за солью, но это он быстро пресёк.
Было тихо, с перерывом на выпады Светланы Сергеевны, тесновато и зыбко, но иного пока не предвиделось.. Оставив волнения, он погрузился в работу.
18.
Маша вошла в мексиканские прерии просто, как будто вернулась домой. Она без труда опознала присутствующих, разобралась в диспозиции - слабую и косноязычную мать аккуратно и вежливо двинула в сторону. О деде заботилась, но ненавязчиво – тот не терпел разговоров о высоком давлении и о болячках, а вот программы о спорте любил. И еще военные старые фильмы.
Поболтать за просмотром такого кино – это ведь тоже забота, а плата за это огромный кредит под названием «доверие».
Сам Мексиканец молился на молодую жену. Маша служила отныне и телом, и духом – всем тем, чем он был жидковат. Будучи несколько старше, Маша знала откуда-то, чего она хочет. Наверное, ей не нужен был сильный, а вот просто такой - Мексиканец, которого можно затискать, как бедного котика, ощущая в себе материнство при этом. Маша имела и другую причину: с рождения имела она пиетет к талантливым в чем-нибудь людям; быстро поняв её слабость, супруг не лажал. Он часто играл ей, рассказывал музыкальные байки, поражая знакомствами с сильными в мире искусства, отчего молодая супруга приходила в восторг и волнение. Она представляла огромные белые, с люстрами, залы мировых филармоний, и гениального мужа на сцене. Ну и себя в самом первом ряду, бок о бок с Галиной Вишневской, как минимум.
В общем, Маша была из надежной еврейской семьи, воспитанной в точно такой же, как у Мекса, манере, с той только разницей, что родители Маши были людьми состоятельными и не интересовались искусством.
На Мекса они посмотрели с большим подозрением. Деньги, как говорится, должны быть к деньгам. Но потом успокоились – Мексиканец был очень приличной знакомой фамилии, вероятно талантливый, очень воспитанный. Всё это, вместе с жилплощадью, засчитали ему в капитал.
Родители-Фишманы устроили детям солидную свадьбу, уведомив молодоженов, что жить они будут у мужа, чьи возможности вполне позволяли.
Никто и не возражал.
То есть теперь Мексиканец сделался человеком семейным. Об этом ему сообщали едва ли не каждое утро, целуя то в лобик, то в плечико. Ему приносили свежесваренный кофе в постель, готовили ужин, хвалили, зачарованно слушали все, что бы он не сыграл. Мексиканец оттаивал: после бабушки все ожило, в дом вернулось тепло, откатилась тоска, поедавшая тело и мысли. Конечно, он очень любил свою Машу, но гораздо сильнее он был ей признателен – просто за то, что была. Что согрела.
На свадьбу ни Лап, ни тем более Дюк не пришли. Да он и не ждал, если честно, и даже побаивался – вдруг начнут целоваться при всех, что он скажет приличной родне?
Но, столкнувшись на улице с Лапом, он не смог удержаться:
- Как у Егора дела? Как его зрение?
- Он поправится,- сказал ему Лап, - поздравляю с женитьбой.
Он был немного взъерошенный ветром, в распахнутом полупальто, откровенно ухоженный и неуловимо нездешний. Как-то особенно, что ли, шмотки на нём – вроде бы обыкновенные шмотки. Смотрел прямо и немного насмешливо, будто имел там чего-то в виду.
Мекс зачем-то смутился и покраснел.
- Нет у меня проблем,- выпалил он. Помолчал и продолжил:
- Между прочим, у меня есть отличная книга. Жена разбирала стеллаж и нашла. Тургенев, прижизненное издание. Представляешь?
Лапа словно переключили. Вид его из равнодушного стал чуть маньячным - глаза заблестели, и он облизнулся.
- Покажи,- сказал он, - хочу посмотреть. Года какого, издатель?
- Я не помню сейчас, если хочешь, зайди посмотри.
Тот долго не размышлял, на следующий день позвонил, а в субботу пришел к Мексиканцу.
Маша открыла ему, принаряженная в новый голубенький фартук с огромными вишнями на животе. Она жарила гренки на растительном масле, и была раскрасневшаяся, как всегда у плиты.
- Боренька, это к тебе! Твой товарищ! – прощебетала она, и быстро исчезла, сдирая резинку с пропахших волос и меча в угол фартук. Такой молодой человек посетил, а она в беспорядке! Ну Борька, ну хоть бы предупредил, негодовала она.
Быстро соображала - ведь надо же чая. Или все-таки кофе? Такой утонченный парнишка, ухоженный, наверняка растворимый не пьёт.
Дотянулась до круглой жестянки, встряхнула - так ведь нет его, кофе.
- Есть чай с мятой,- сказала она, войдя в комнату, - будете... э-э?
- Марк,- ответил ей Лап.- Я ничего не хочу, и я ненадолго. Мексиканец, мне можно чуть-чуть полистать? Минут десять, не больше.
- Мексиканец?- переспросила Борю жена,- это что, твоя школьная кличка?
- Давай-ка на кухню,- сказал тот, - да, кличка школьная. А чаю бы я выпил.
Лап любовно листал раритет. Страницы желтели изысканно временем, кое-где наблюдались потеки. Хрупкие нити крошились – снести бы её к реставраторам. Шрифт завораживал, из книги ласкался девятнадцатый век золотой, ощутимо дышал на ладонях, проникая до самого дна , прямо в коллекционерскую лапову душу.
«Интересно, за сколько продаст,- подумал он и прислушался,- не просто ведь так он похвастался. Самому-то ему она не нужна, это точно»
А из кухни до уха долетал разговор. Ясно услышалось:
- Твой друг просто куколка,- Маша мелко хихикнула,- ты мне никогда не рассказывал. На голубого похож.
– Тихо ты,- раздраженно сказал Мексиканец,- слышно же всё. Ничего не похож.
Жена Мекса в ответ прошипела - невнятное что-то, на издевательском выдохе.
Лап поднялся.
- Мексиканец,- крикнул он в сторону кухни, - за сколько книгу продашь?
Тот появился, смущенный и с виноватым лицом. Следом возникла супруга. Лицо у неё было крайне заинтересованное.
Плохая идея, ощущал Мексиканец. Не надо было его приглашать. Хотел похвалиться налаженным бытом, солидным, что называется, обликом. А вышло опять, как всегда, по- мексикански и глупо.
- Да ни за сколько,- сказал он решительно. – Так забирай. Подарок.
Лап удивился, но сказать ничего не успел.
- Да ты что,- возмущенно воскликнула Маша,- эта книга у букинистов ты знаешь, почем? Это же раритет! И вообще это дедушкина библиотека, ты у него должен спросить.
Мексиканец беспомощно посмотрел на жену.
Лап внимательно наблюдал за обоими. Поставил Тургенева бережно, чуть огладил по переплёту.
- Спасибо, что дал посмотреть. Книга действительно редкая. Подумай о деньгах,- последнюю фразу сказал, обращаясь не к Мексу – к Маше.
Откланялся вежливо и ушел.
- Ты,- Мекс растерянно посмотрел на жену, - ты зачем это сделала?
- Я? Ты хочешь, чтобы я поддержала, когда ты разбазариваешь неизвестно кому?
- Ты бываешь удивительно... глупой,- вдруг сказал Мексиканец.
Это была их первая ссора.
***
Окна были немытыми, и это немного нервировало. Светлана Сергеевна сидела внизу,на лавочке у подъезда, а Лап, свесив ногу за борт, оттирал непрозрачные стёкла. Мать под присмотром, дело нашлось – все лучше, чем пикироваться в отсутствие Дюка.
Он тер и прислушивался к глупому разговору двух тёток - к Светлане подсела соседка.
«Из тех, что не пьёт, вроде бы» - настороженно рассмотрел её Лап.
Дамы болтали, а он размышлял о своём – интересно, как можно уговорить Мексиканца на книгу. Жена у него презабавная, но она тут большая помеха. Наверное всё-таки лучше разговаривать с ней. Он вытер стекло и посмотрел вниз: там было без изменений. Прислушался. Дама, подсевшая к Светлане Сергеевне, сочувственно говорила:
- Спасать Вам Егорушку надо! Он ведь такой паренек, работящий. А дети какие бы были! У нас вон мужик какой пошел выморочный, бледный да алкоголик, а у вас вон красавец! Моя вон Наташка... от своего нездорового. Так мы все мучаемся с младшеньким, а всё он виноват, все наследственность.
Светлана Сергеевна уныло кивала, понимая, что Лап нависает над ней на втором этаже.
- Вот эти гомосексуалисты,- продолжала соседка,- это же грех. Это как секта. Надо вам, Светлана Сергеевна, сыночка спасать. Как тут не запьешь, раз такое,- сокрушалась соседка, - весь дом говорит про Егора вашего.
Лап вытер насухо подоконник и набрал номер.
- Ты когда будешь,- спросил он у Дюка,- я отъехать хочу ненадолго.
- Я занят,- сказал ему Дюк,- перезвоню.
Вернулся он далеко за полночь, свалился в постель, пробурчав что-то вроде «грёбаные они пидарасы». Уснул, не сходив даже в душ, а с утра, проглотив бутерброд, убежал, чмокнув Лапа и мать – одинаково. Распорядился:
- Не ругаться и не скучать.
Супермаркеты были единственным местом, где Светлана Сергеевна казалась спокойной. Наверное, работали яйца памяти,те,что хранятся в картонных лотках измусоленной жизни. В них еще бултыхались желтки позитива от совместных блинов и пельменей, смешных посиделках на кухне, оставшихся в прошлом. Россыпь еды успокаивала Светлану Сергеевну, в продуктах и Лап разбирался. Возникало некое подобие союза и даже почти единения.
- Транжирить не надо,- говорила она, и Лап соглашался.
Ходили – один выбирал, вторая считала. Они походили на дружных мамашу и сына, катая тележку с продуктами. Позже сгружали добычу в сияющий «гольф», всё же купленный Лапу для перемещений.
Так было и сегодня, только вот Светлана Сергеевна внезапно исчезла. Навязчивым чувством тревоги накрылся покой – Лап занервничал.
Кто, ****ь, строит все эти ангары стокилометровой длины, злился он. И зачем миллион закутков, из-за которых не видно?
Он прошелся вдоль прежних рядов – вдруг вернулась за чем-нибудь? Пометался у касс, проехался по бакалее.
Светлана Сергеевна исчезла бесследно, и Лап испугался.
Внезапно над ухом бухнул динамик:
- Водитель Фольксвагена – Гольф с номером сто тринадцать! Подойдите к стойке администрации! Срочно!
Лап оставил тележку с продуктами и рванулся туда.
–Я водитель Фольксвагена,- сказал он сильно накрашенной девушке,- мать потерял. Нашлась?
Девушка молча кивнула на комнату для задержаний.
Там, на расползшемся пластмассовом стуле, висела Светлана Сергеевна. Мерзко, бессмысленно пьяная, она издевательски улыбалась.
- Что, не уберег ты меня, дружочек? Вот теперь тебя Егорка мой... он тебя в-ы-ыгонит!
И она захихикала, мелко и гадко.
Сзади надвинулся серый, мышиный охранник. В руках он держал белый лист.
- Акт,- сказал ему парень. – Выпила прямо в отделе бутылку виски. Стоимостью две тысячи восемьсот рублей. Оплатите или оформлять будем?
- Оплачу,- сказал Лап, - присмотрите, чтобы она никуда не ушла. Это очень важно. А как вы меня отыскали?
- У неё ключи от машины были,- сказал охранник,- по ней и нашли. Пьяная, прав не было, мы и подумали, что она не одна. По сигналке нашли.
- Спасибо, что задержали, даже не знаю, как благодарить-то вас...
Светлана Сергеевна громко икнула и сообщила:
- А он голубой! – и показала на Лапа.- Он только прикидывается нормальным! А так он гомосексуалист! Ты, сынок, от него отойди, а то он тебя попортит.
Мадам веселилась вовсю; развалясь на неустойчивом стуле, она сильно раздвинула ноги. Глаз от Лапа не отрывала, искала реакции и желала скандала.
- Подождите,- сказал охраннику Лап,- я по-быстрому оплачу. Не пускайте её никуда. Или вот... просто деньги возьмите.
- Не положено, надо в кассу,- ответил мышиный охранник, - да не парься ты. Я прослежу.
***
Дотащили её сообща: Светлана Сергеевна без конца упиралась, требуя почестей и душевного к себе отношения. Гармонично сливаясь с Фольксвагеном, мышиный охранник сказал:
- Видел пьяных. Но женщины, это такое... Справишься?
- Сколько она успела выпить,- спросил Лап,- бутылка, я так понимаю, литровая.
- Семьсот пятьдесят, - усмехнулся охранник,- все выпила. Как только влезло. Я вот люблю вискарь, но и то не способен.
Светлану Сергеевну укрепили ремнями, отбиваясь от беспорядочно машущих рук. Глаза её остекленели, пряди прилипли к вспотевшим щекам, рот вис в безобразном безволии.
Лап смотрел на неё и его вдруг ударило : мать показалась ему утонувшей в огромном флаконе, живой и еще шевелящейся. Словно плавала в мутном рассоле, отбиваясь руками от стенок огромной посуды, которую позже поставят в Кунсткамеру на самое видное место. А рядом пришпилят табличку, на которой напишут...
Надпись не стала являться, вместо этого страшно и ярко побежало кино: глаза у Светланы Сергеевны вылезут из орбит и побелеют от едкого, как у рыбы вареной. Она будет глотать свой рассол, стараясь добраться до воздуха, тонкой пленкой живущего прямо под крышкой. Будет давиться, широко разевая бесформенный рот, но ничто не поможет.
Волосёнки восстанут страшными водорослями, розовый джемпер поблекнет, его нити быстро разъест кислота. Розовое растает, и вылезут отвислые груди в синеватых сосудах, со втянутым левым соском грязно-бурого цвета.
Юбку Светланы Сергеевны тоже разъест, она окажется полностью голой в огромной стеклянной пробирке. Мать удивится своей наготе, медленно чавкнет правым замаринованным веком, подмигивая, и свернется в гигантский клубок, выдавив жир с живота на бока. Сольется опять в эмбрион, и, случайно заметив застывшего Лапа, с трудом развернется спиной, на которой, как большая маслина, задрожит, напитавшись каким-то дерьмом, жирная бородавка.
Он затряс головой, отгоняя видение. Мышиный охранник махнул на прощание белым помятым листком.
По дороге мать Дюка вела диалог с кем-то, кто слушал внимательно.
- Они думают, я больная какая-то. Пьющая да, это стыдно, только пьющие под забором. А у меня сын!
Она сильно ударила в спинку водительского сиденья. Лапа качнуло, он едва не затормозил.
- У меня сын, и машина хорошая. Могу позволить порадоваться себе! Ты понял меня или нет? Ты чего там молчишь, извращенец? Думаешь, Егорка меня на твою жопу променяет? Королеву давай... кха... домой! Будем с сыном коньяк на кухне пить... с лимоном.
На время она замолчала. Лап открыл передние окна – в машине воняло спиртным и женским прокисшим потом.
Утопил кнопку радио, всё веселее.
- Выключи, - приказала Светлана Сергеевна,- мне говорить неудобно. Что, слушать не хочешь? Я тебе сейчас все скажу. Ты клещ чертовый, лишний, он тебя выгонит. Егор тебя выгонит, дай срок, все сделаю. Бабу найдет, все хорошо будет. Что молчишь? Это раньше я думала, что Егорка у меня никудышный, а он теперь бизнесмен, позорно ему. А ты... ты чертовый клещ. Сидишь за своими книжками, как и сидел!
И она снова ударила ногой по сиденью. Лап не выдержал:
- Колбасы бы хоть взяли.
- Какой... кхэ... колбасы?
- На закуску украли бы,- сказал Лап,- не развезло бы так.
Сзади послышалось горловое хихиканье.
- Ты мне лекции здесь не читай, наслушалась. Научился языком телепать. Егора моего пидарасом сделал. А он нормальный, Егорка-то. Он заради друга что хочешь может, он путает просто. Ему главное, чтобы всем кругом хорошо, о себе не думает. А был бы ты друг… кха-х …оставил бы в покое. А не-е-ет! Сосёшь, и тебе хорошо. Ты ж никому не нужен, извращенец. Ты и ему не нужен, жалеет он тебя... Об тебя Бог споткнулся, ты и прилепился. А я... я тя отдеру. Отдеру-у-у…
«Права,- усмехнулся про себя Лап. – Сосу и мне хорошо».
Он выехал на Дальневосточный проспект, руки тряслись, он забыл включить поворотник. Девчонка в зеленой «Шкоде» злобно ему посигналила, покрутив у виска. Разошлись борт о борт, очень плотно... бывает.
- Сама дура, - ответил ей Лап. Понял не сразу, отвлекшись на сложный маневр: сзади как будто бесшумно рвануло огнетушитель, и на него вдруг обрушилась жижа.
Рвота, спасая желудок Светланы Сергеевны, хлынула горлом прямо в просвет между креслами, заполняя вонючей субстанцией мелкие кнопки, блестящие тумблеры, щель рукоятки коробки, глубокие узкие пропасти вентиляции. И правую лапову руку, лежащую на передаче.
- Да ёб твою мать! – от неожиданности выкрикнул он, - предупредили бы! ****ь!!!
Было облёвано всё, что вошло в траекторию. В омерзении он хлопнул по обтекающей рвотой кнопке аварийной остановки. Встали прямо посередине проспекта.
- Кха-ха,- сказала Светлана Сергеевна, и снова свалилась в просвет. Теперь её рвало старым – не виски, а почти переваренной пищей. Рвало густо и громко.
Стирать эту склизкую кашу и намертво въевшийся смрад было просто бессмысленно До дома-то было всего ничего, поэтому он бросил Светлане Сергеевне салонную тряпку, кое-как вытер руку… мутило от запаха, мерзости. Он бы вылез сейчас и унёсся вон в те вон кусты, и там уже сам проблевался бы.
Снова всплыло почему-то – дебелое тело в огромной пробирке, и жирная черная бородавка на белой спине.
Он трудом дотащил до квартиры, обмякшую, очень тяжелую в своём нежелании принимать от него хоть какую-то помощь. Смотрел на ступеньки, считал: марш-пролёт, ровно десять ступеней, измазанных коричневой масляной краской по краю. Чей-то резиновый коврик с отпечатком кроссовки. Сигаретный окурок, дожёванный до дешевого фильтра.
Дошли, наконец.
У лица он почувствовал сильный, омерзительный запах – волосы справа засохли.
«Попало», - он сгрузил свою вялую ношу у стены в коридоре. Дошел до воды, врубил кран на полную мощность, и, не дожидаясь тепла, сунул голову под струю. Через мокрое снял с себя свитер.
Светлана Сергеевна зашевелилась, вероятно, ей стало полегче.
- Сейчас мы отмоемся, - сказал примирительно Лап,- желудок, считайте, промыли. Пить, адсорбенты и спать, Светлана Сергеевна.
-Ути-путеньки, в добренького он играет. Ты ж удушить меня хочешь. Мешаю я тебе, ох, мешаю...
- Давайте уже успокоимся, - сказал Лап, ибо песня давила на нервы. – Уйду я, как скажете. Сейчас отмоемся, ляжем. Отдохнёте, и все решим.
- Сейчас уходи,- упрямилась Светлана Сергеевна, - потом Егор не даст. Сейчас собирайся.
Лап умел убеждать, но алкоголик - бессмысленный собеседник, он это знал.Принёс свою сумку, покидав для проформы туда пару тряпок, и сунул в лицо недоверчивой Светлане Сергеевне.
- Вот, уже собираюсь. Ваша очередь мыться и спать.
Та сидела, широко развалив вялые бедра по полу, поперек неширокого коридора. Стала вставать, некрасиво выламываясь, обнажая разорванные колготки. Лап смотрел, не решаясь помочь, раскачивал сумку – как кусок мяса для тигра. Чтобы тигр сделал шаг на крутящийся барабан дрессировщика, нужно мясо... как тут без мяса. Не хлыст же.
- Раньше ты очень полезный был,- бормотала Светлана Сергеевна,- очень даже полезный. Егор он ведь кто был... шалопай. А вырос, смотри-ка… надёжный. Я сама себе такого искала, а не нашла вот. Вот сын получился. Это мне Бог дал вместо мужа. Я-то дура, бегала-бегала... а оно вон где оказалось.
На розовом джемпере высохла рвота. Юбка синела огромными мокрыми пятнами, в мелких волокнах.
«Хорошо, Дюк не видит,- подумалось Лапу,- он бы убил. Ну и меня заодно».
Она уже взобралась по стене и смотрела на Лапа, словно ожидая команды.
- В ванную, - устало проговорил он,- вонь от вас.
- Раскомандовался,- и Светлана Сергеевна вдруг сильно встряхнулась и, шатаясь всем телом, пошла в глубь квартиры. Лап вздохнул и поплёлся за ней.
- Раскомандовался,- повторила Светлана Сергеевна,- тут я хозяйка. Хочу ходить грязная – буду ходить. Тебе же не нравится? Быстрее уйдёшь.
Нда, эта женщина превращалась в серьёзный отряд чингачгуков, говоривших на странном ему языке, махавших оружием, про которое только читал.
С ней немыслимо было сойтись в ближнем бою, потому что из неё могло хлынуть, какая-нибудь новая мерзость; с ней неважно получался бой дальний, на поражение – ведь это была мать Дюка.
Видя его нерешительность, Светлана Сергеевна наслаждалась. Пьяная удаль несла её вверх, в полузабытые эмпиреи, где она пребывала в гармонии с миром, делалась храброй, плевала на сотню соседей и обходящих её первых встречных. Но недолго.
Разнузданным мозгом она поняла, кого опасалась всё время – вот этого мальчика, смотрящего на неё исподлобья. Он был голый по пояс, с мокрыми прядями длинных волос, и он вовсе не был похож на знакомого много лет милого Лапина. В серых и жестких глазах у него полыхало ненавистью, а на голове его были рога. От него исходила забытая правда, та, которую она плотно топтала ногами - там кривлялся фантом её материнской вины. В любом её пьяном кошмаре присутствовал этот красивый и обличающий чёрт, забравший любимого сына, оставивший мелкую запись в просроченном паспорте о том, что она его мать.
Светлана Сергеевна откачнулась.
- Изыди!- заорала она.- Пошел вон!!!
Чёрт не дрогнул на крики, он ровно сказал:
- В ванную и в постель.
- Отойди от меня!!!
Чёрт, несмотря ни на что, приближался. Светлана Сергеевна стала карабкаться на подоконник, спасаясь, оконная рама трещала под весом её, прогибаясь наружу, треща.
Движения неловкой гориллы в квадрате окна - юбка мешала ей выпрямить ноги, но она все же встала, возвысившись, на подоконник.
Комедия сильно затягивалась. Существо не желало ложиться в разумные схемы, и поэтому Лап произнес:
- Вы успокойтесь, Светлана Сергеевна, или я вызову доктора. Давайте не будем до клиник доводить.
Что-то щелкнуло в пьяном, отравленном спиртом и безумием мозге и она распахнула оконную раму. Там, у подъезда, должна быть та самая добрая женщина, которая говорила, что надо спасать! Она ей поможет, нужно просто позвать, покричать, рассказать ей...
- ****ь,- заволновался вдруг чёрт,- щеколды наверху не закрыл.
Радуясь чёртову промаху, она, наконец, распахнула окно.
- Теперь ты попугайся, хвостатый,- сказала она,- в клинику захотел меня. Как же. Вот ты какой у нас добренький.
Лап было кинулся к ней, но спохватился – нельзя.
- Светлана Сергеевна, я ухожу. Не надо так нервничать. Все хорошо, сейчас Егор уже будет.
Он сглотнул и достал телефон, руки тряслись.
- Вот, звоню, чтобы не задерживался. Вы бы закрыли,- он уговаривал, стараясь не двигаться.- Холодно ведь, вы простудитесь.
Он наговаривал ровным убедительным тоном, как будто бы не было пьяной безумной на кромке непрочного, старого, как и весь дом, окна. Внутри все дрожало: хотелось напрыгнуть гигантским прыжком - и накрыть, замотать в одеяло, чтобы она не кусалась, вымочить в чистой горячей воде и, связав, уложить на три ночи. Чтобы проснулась нормальной, здоровой, хорошей...
Но она так не думала. Победно качнувшись, Светлана Сергеевна зацепилась колготками за облупившуюся краску окна и рефлекторно, по-женски озаботилась этим, резко согнувшись. Не устояв, проскребла по стеклу и быстро исчезла в проёме с непонятным ему междометием.
Мгновенно – Лап даже не понял. Упала.
Скатился по лестнице.
Тело лежало спокойно, отдыхало от бестолковых движений. Он плюхнулся рядом, нащупал артерию и сразу же понял – всё.
Сверху восторженно проговорили:
- Ну ни *** себе.
Под неестественно вывернутой головой расплывалось пятно, озерцом натекавшее в жирную пыль. Кровь заползала в неглубокие шрамы-полоски от метлы нерадивого дворника, изображая плоды ирригации дельты далёкого Нила.
«Трогать нельзя ничего,- вспомнил Лап, - милицию нужно и « Скорую». Или сначала милицию, а там они сами уже?»
Он рассматривал тело безо всякого страха. Перелом основания черепа, костей таза, судя по позе. Смерть в результате падения, а вот точная какая причина?
Голова отрабатывала полученный опыт удивительно четко, Лап видел лишь тело, объект изучения, где-то внутри гудел зуммер - жива, я ошибся. Ошибся.
Поборов искушение перевернуть, он пригляделся.
Из- под плохо прокрашенных, тонких волос пробивалось дрожание, студень. Оглядевшись по сторонам, он подвинул налипшую прядку с песка. Сгусток был длинный, как будто им выстрелили, унизанный алыми нитями, мутно-белого цвета. Лежал неделимой соплёй в луже крови, обрывок глазуньи в черно-алом белке. Он стеклянно подрагивал, словно живой, от снимаемых пальцами грязных волос.
«Вон оно что,- понял Лап,- открытая, череп. Неудачно упала как. Всего-то второй этаж»
Дальше он и сам не особенно понял собственных мыслей. Оглянувшись повторно, словно вор, забирающийся в ночной магазин, он помусолил указательный палец, макнул его в мозг Светланы Сергеевны и облизал. Вкус был совсем никакой и даже без спирта. Без виски.
Сверху ошарашенно ахнули. Тогда он опомнился и достал телефон.
- Милиция,- сказал он,- у нас тут женщина из окна выпала.
И зачем-то продиктовал врачебное заключение. То же самое он повторил и для «Скорой».
Дюку сказал:
- Ты срочно нужен. Все отложи и, пожалуйста, приезжай. Без тебя бесполезно.
- Да блин,- сказал Дюк,- мы с бухгалтером тут. Что там у вас?
- Это у нас,- сказал Лап,- в жопу бухгалтера. Быстро сюда.
***
В квартире толпился народ: трое замученных мужиков в милицейской форме. Сосед из тридцать второй. Алкоголик Василий, соседка из тридцать девятой. Ни Лапа, ни матери.
- Документы,- сказал ему опер. Дюк добыл из кармана свой паспорт и протянул.
- Вас дожидаемся,- смилостивился мент,- тело уже увезли. Парня тоже.
- Что за тело, - спросил Дюк,- чье еще тело? Лап где?
- Матушки Вашей,- сказал ему милиционер,- вы разве не в курсе?
Дюк застыл у стены. Мент что-то рассказывал, подробности, видимо. Он выразительно ухмылялся и шевелил непричёсанными, как ерш туалетный, бровями. Махал перед носом ручкой с изгрызенным верхом, показывал почему-то в окно. Что-то спрашивал.
- Как?- наконец, среагировал Дюк.- Что вы сказали?
- Я говорю, кем вам приходится Лапин,- рука опера зависала над исписанным криво листком на планшете,- почему он тут проживает?
- А он вам что, не сказал?
- Почему же,- мент ухмыльнулся,- сказал. Вас послушать желаем.
- И что он сказал?
- Вас не касается,- обозлился вдруг опер,- отвечайте на вопрос. Тут я спрашиваю, а вы отвечаете.
- Он мой друг,- сказал Дюк,- вот и живём. Нигде не написано, что нельзя.
Мент опять усмехнулся.
- Нельзя чужих матерей из окон выбрасывать,- пояснил он,- жить как угодно хотите.
Он черканул в кондуите:
- Как угодно всем сейчас можно. Вот, е-мое, и живёте. Попробуй тут из окна не прыгни.
Дюк молчал и смотрел на него. Достал телефон и набрал номер. Лап молчал, и он снова набрал.
- Допросят, а там до дальнейшего,- сказал мент,- он сам милицию вызвал. И «Скорую».
Ничего, посидит. Подпишите.
- Зачем посидит?
Букв Дюк не видел. Ухватил только оттиск печати на казенном планшете – двадцать восьмое отделение. Расписался и вышел на кухню. Алкоголик Михалыч, тот, который Василий, с блестящими от любопытства глазами сидел на месте матери и хотел разговаривать.
- Я тут на кухне курил,- сказал он,- а она окно открыла и закричала. Изыди, говорит, Сатана! Пошел вон, говорит, черт поганый! Белочку ваша мама словила, точно вам говорю. Я вот пью и ничё, сколько лет! В нашем деле надо меру знать, вон оно как! А когда не пила-не пила и вдруг – раз! У меня такое было, целый месяц в завязке, а потом как накушавши...
- Пошел вон,- сказал Дюк, - пошел на хрен отсюда.
Михалыч поёрзал, но упрямо остался:
- Мне товарищ начальник сказал тут сидеть. Буду давать показания.
- Тогда тихо сиди. Не забудь рассказать, сколько ты в неё влил. Сколько вместе пропили. Включая квартиру.
Он рванул в отделение, но там его резко отшили – задержанный, как ему объяснили, сейчас в разработке. Завтра, типа, звоните. Кое-как выдрав из памяти знакомое имя, стал листать список контактов – нужна была помощь, оставлять в каталажке Лапа было нельзя.
А потом он сидел на окне и пялился вниз, на асфальт, затонувший в пыли городской. Вокруг темного места, обведенного мелом, то и дело появлялся народ, обсуждал, задирая свои любопытные головы. Заметив сидящего парня, народ тушевался и быстро линял, не переставая жужжать, как навозные мухи. Дюк же смотрел на дорожку, ведущую прямо к подъезду, ожидая найти на ней Лапа и мать. Он не знал, как и что ему чувствовать, что ему делать – он пока ни во что не поверил. Хотелось увидеть кого-нибудь близкого, того, кто ему рассказал бы – тут, брат, такая бодяга, ты только не нервничай, брат…
Устав от сидения, и замерзнув от накативших сентябрьских сумерек, он спустился к «Фольксвагену». Отшатнулся – не остывшая от осеннего солнца машина, казалось, протухла. В памяти всплыл «Мерседес».
- Это правда,- сказал себе Дюк,- значит, всё это правда.
Лап пришел ночью, на третьи сутки, с остекленевшими от алкоголя глазами. Тихо зашел в незакрытую дверь, посмотрел равнодушно, сел напротив.
- Я утром за тобой собирался.
- Отпустили.
Они замолчали, глядя в разные стороны. Дюк в одну точку, где-то у Лапа в районе рубашки. Тот, напротив, как будто искал пятый угол в простецкой и не заставленной мебелью комнате.
- Что разговаривать,- выдавил он. – Я виноват.
- В чём виноват. Расскажи, как все было.
- Неважно, как было. Главное, что я хотел. Вот её и не стало. Странно, что меня вообще отпустили. Спасибо тебе.
Дюк не напрягся. Удивляться у него причин не было, возмущаться не было сил.
- То есть ты её выбросил, предварительно напоив? Так, что ли?
Лапа качнуло:
- Да нет же, блин. Я просто не смог удержать. Целых два раза, что равносильно убийству. Наверное, я не слишком старался.
- Но ведь ты попытался? Ты хотя бы попробовал?
Лап усмехнулся:
- Что я слышу... Ты мне что, оправдание ищешь? Я ж мать твою... Я же твою мать... не уберег. Какое мне может быть оправдание-то?
- Ровно такое, какое я тебе выдам,- сказал Дюк,- ровно в тех граммах, которые ты мне отвесишь для выводов. Я хочу знать, почему. Я же доверил её тебе.
- Именно так,- сказал Лап,- ты мне доверил. А я просрал. Я сейчас тебе расскажу, всё как было и ты мне простишь. Как ты можешь быть вот таким... Ты, ****ь, как Боженька хренов. Все помолились, и он им простил. Я себе - не могу, а ты?!
Он откинулся в кресле и посмотрел на любимого лучшего друга. Странно взглянул, с вроде бы даже презрительной миной.
- Ты уже мне кучу всего простил. На всё согласился, - он сам поразился такому вполне очевидному выводу,- это же надо. Ты же точно как на кресте,- он взъерошил макушку,- она как-то раз говорила об этом. Висишь там все время и тебе явно похуй. Так нельзя, ты ведь живой человек. Чего ради ты всё это делаешь? Ты по-другому не можешь, что ли?
- О чём ты? Я не понимаю тебя.
- А, может быть, ты идиот,- Лап поднялся и нервно забегал по комнате, плодя беспорядок, хватаясь за стол, за диван, за висящие вещи,- точно, ты идиот. У тебя инстинкт самосохранения отсутствует. Или самоуважения... в общем, какой-то такой элемент, который у всех людей есть. Должен быть какой-то порог. Болевой. Если бы ты не уберег мою мать, то я бы тебя... Я не знаю, что бы я с тобой сделал.
Дюк слушал внимательно.
- А что бы ты сделал,- поинтересовался спокойно,- представь, что это была твоя мать. Твои действия? Раз говоришь, значит, знаешь.
Лап остановился растерянно и снова взъерошил макушку.
- Я бы?
- Взялся за ***, так соси,- сказал ему Дюк.- Неврастеник говённый. Мне алкоголиков хватит. Рассказывать будешь? Если бы это была твоя мать, что бы ты сделал? Говори.
- Я не знаю,- сказал ему Лап. – Если учитывать всё, что случилось, то я бы...- и он замолчал.
- Ты бы простил?
- Я не знаю.
- Вот и я погожу,- сказал Дюк,- как-то вот так и поступим. Спи тут, а утром давай-ка к себе.
Утро уже надвигалось, разрезав осеннее небо кровавым восходом - не напыщенно ярким, а петербургским, скудным, как старая кровь на несвежем бинте.
***
События шли, как положено было отделом районной милиции – дознание, вызовы к следователю, опросы очевидцев. На теле Светланы Сергеевны обнаружилась масса свидетельств борьбы с подозреваемым Лапиным. Сосед - алкоголик Михалыч показал, что Светлану накрыла горячка и поэтому она сиганула в окно. Светлую нотку добавил только мышиный охранник, сообщив, что в таком опьянении он людей никогда и не видывал, а уж тем более женщин. Насторожило поведение сына погибшей – тот никого не винил, о подозреваемом отзывался тепло, и предоставил немыслимое количество всяческих справок из клиники, где лечилась Светлана Сергеевна.
- Пидоры они,- раскрыл тайну следователь Чумович,- друг друга всегдапокрывают.Сами прикиньте. Сын живёт с мужиком у неё на глазах. Бедная женщина и не выдержала. Я бы квалифицировал это как доведение до самоубийства.
- Да, дельце простое,- соглашался сержант Кунаков,- как там у них было взаправду, кто знает.
- Ну вот вашей бы маме понравилось? - подначил ехидный Чумович.- Ну вот честно?
- Сначала бы жене не понравилось,- не разозлился сержант,- но она бы взяла поварешку и так надавала бы. Моя бы в окно не полезла.
- Мда,- чесал потную черную голову следователь,- черт его знает.
Из головы на покатые плечи Чумовича падала перхоть, покрывая его мелкой пылью.
«Чем он голову моет, интересно,- думал он, задавая вопросы холёному Лапину, который гулял под залог,- как у девки густые». У Чумовича был дискомфорт: зарождалась обширная лысина, и он думал когда-нибудь найти чемодан с миллионом. Связь между этими пунктами с первого взгляда почти незаметна, однако была она самой прямой: на счастливо найденный миллион он, Чумович, пересадит себе преогромную массу красивых волос. Как в рекламе, отсюда-сюда. Вопрос - а откуда он возьмет так много материала для пересадки, Чумовича пока не заботил: чемодана-то все равно нет. Поэтому Лапин с густой шевелюрой его раздражал. А еще он был очень спокойным и вежливым, светился нездешними шмотками, пах свежим парфюмом, и был, разумеется, педиком.
Несмотря на ухоженный вид, лишних денег у Лапина не было, был он просто студент, и поэтому неинтересен.
Деньги были у Маркова, но тот повёл себя осторожно и грамотно:
- Я привык к качеству, знаете...
- Понимаю, - ответил Чумович.
Марков подумал минуту и четко направил:
- Несчастья случаются.
И Чумович работал вовсю, понимая, что весь чемодан, ему, конечно, не светит. Ну, может быть, малая его часть. Да и серьёзных доказательств ему не хватало - тетка могла сигануть и сама, алкоголя в крови у неё набиралось на целую роту. Со стороны Лапина к тому же потянулись свидетели – соседи по лестничной клетке, которые помнили выходки Светланы Сергеевны, продавец из ночного ларька. Все они чуть ли не хором сказали, что подозреваемый Лапин потерпевшую Маркову целый год от пьянки спасал. Вот если бы он её прошлой зимой не нашёл, она бы и раньше замерзла.
Мотив преступления сыпался снегом и таял, Чумович рассматривал дело и не напрягался: все шло замечательно, и на затылке, возможно, удасться прикрыть наготу.
Но, вероятно, Чумович немного замешкался, набивая себе невозможную цену, потому что с утра ему вдруг позвонили.
- Ты чего это там развёл, Чумович, мать твою, - прямо в ухо сказал ему подполковник Агеев.- Что там за дело у тебя с пидарасами?
- ГГ..гы... товарищ п-пполковник,- проблеял еще сонный Чумович, зачем- то напялил несвежий носок и добавил: - так почти отработал.
- Что накопали?- спросил подполковник, - серьёзное что-нибудь есть?
- Да в том-то и дело, что ничего... Сама она.
- Закрывай его нахуй,- распорядился Агеев,- чтобы никто ничего. Дело - мне.
- П-понятно,- ответил Чумович. И подумал уныло: ходить ему лысым во веки веков.
Деньги Дюка пошли чуть повыше - влиятельным родичам мексиканцевой Маши. Те, моментально во всем разобравшись, установили тариф и сделали пару элегантных звонков. Они вовсе не думали, кто пидарас, а кто нет, и где справедливость. Главное, чтобы дело решалось и деньги платились, и мексовы родственники не подвели.
Дюк выдохнул эту проблему, не сообщив о ней Лапу. Он был свободен, ибо сделал, что должен. Лапу скажут, что дело закрыто за недостаточностью улик, он сможет нормально готовиться к сессии, жить, как привык, развлекаться.
Встречались они лишь по суровой необходимости – у следователя, и у Дюка в квартире. Лап несколько раз приходил за вещами, пока Дюк не собрал всё сам – поставил у входа баул и компьютер.
Спросил:
- Донесешь?
Лап молча кивнул и уже не вернулся.
Дюк слышал, что приехала Лапова мать, и что забирает во Францию. И действительно, когда грянул морозный декабрь, Лап снова пришел, попрощаться.
- Уезжаю,- он переминался в прихожей и в глаза не смотрел,- мама хочет, чтобы мы были семьёй.
- Семья это святое,- насмешливо процитировал Дюк, и демонстративно потянул с себя майку,- дети должны быть с родителями.
- Она тоже так говорит,- он стоял, словно зомби, боясь посмотреть.- Отец приболел, нужна помощь.
- Да понятно. Нужна так нужна,- опять согласился Дюк,- счастливо тебе. Где эта Сорбонна вообще? Во Парижах?
- Примерно...
- Ну звони, если что. Сам я, видишь, погряз в бизнесменских глубинах,- Дюк почти улыбнулся. Растерянный Лап был необычной картиной – ненастоящей и жалкой.
Он сделал навстречу небольшое движение, огладив себя по ширинке.
- А я вот только в Финляндию на недельку, к оленям. Ну и потрахаться. Ну, не с оленями.
Он внимательно следил за лицом, но Лап не оттаял. Вместо этого он поспешно, согласно кивнул:
- Да-да.
Помялся еще, перебирая ремень мягкой коричневой сумки и, наконец, посмотрел из-под гривы волос:
- Ну... я пошел?
- Счастливо,- пожал плечами Дюк.
Так и расстались.
В сером Пулково-2, в самолёте и на таможнях Лап ощущал гулкий стук где-то в венах, а может быть, в самой аорте, где-то там, глубоко. Он старался не обращать на него внимания, затирая оживлёнными разговорами с мамой, дорожными хлопотами, новизной ощущений и радостной встречей с отцом. В Орли, разобравшись, наконец, с багажом, он не выдержал.
- Я в туалет.
Белые двери, хирургический кафель, многочисленный, все больше арабский, галдящий народ... Он защелкнул сияющую дверную задвижку, врезал по кнопке слива и дал себе волю.
- Потерял,- зашептал он под шум туалетного водопада. Сквозь арабскую громкую речь, крик детей и визг чемоданных колесиков, попадая в такт ритму из собственных вен, повторял:
- Всё, ****ец. Потерял... по-те-рял...
19.
Дюка ничто не тревожило. После похорон ему стало спокойно, будто он умер, но мог контролировать все на земле. Ну, не всё, только то, чем владел: родной автосервис, еду в холодильнике, плазму на отремонтированной стене, серебристый «Пежо» ( это пидарская машина, по секрету сказали ему, и он сразу купил), стеллажи, наполняемые им регулярно разнообразными книгами, шмотки, к которым внезапно почувствовал вкус. Стал ходить в рестораны, которые становились приличными и с хорошей обслугой. Не то, чтобы кухня была зашибись, просто стиль кое-где привлекал.
Он обнаружил, что ему двадцать два, он был абсолютно свободен, никому не обязан и ни капли не должен. За все заплатил, чувствовать временно разучился, и, наверное, сделался счастлив.
Быстро выросли из-под асфальта грибы, всё знакомые люди – те, кого знал по нехитрым школярским делам. Они разрослись - кто во что, обзавелись идеалами; плотно закрыли собой институты, кафе, дискотеки, и неожиданно устремились общаться.
Дюк знал всему этому цену, и использовал разнообразие, исходившее от этих людей. Не сближаясь ни с кем, Дюк выдавливал долю веселья из студенческих яростных пьянок, шатаний по городу и тусовкам в кафе. Я молодой, вспомнил он. Просто вспомнил.
Клубное синее пламя захватывало, тащило к раскрашенным лицам, скользким от пота телам, горьковатым губам, женским, мужским, молодым и всегда одинаковым. Тело желало тереться о незнакомую кожу, изголодавшийся зверь пожирал изнутри: хотел плотного мяса, отчаянных выкриков, беспощадных толчков и естественных запахов секса.
Он не отказывал зверю. Внешности свежих партнёров не помнил: если случалось пересечься вторично, узнавал запах. Мальчишку, знал Дюк, можно вспомнить по аромату между лопаток, если поближе, то по вкусу в паху. У девушек проще – флюиды ловились за кромкой волос, у красивого ушка, или же в районе подмышек, там, где майки врезаются в сочную плоть, у плеча. Он ловил своих жертв равнодушно, пропуская прелюдии из болтовни - прикасался как будто нечаянно, проверяя выносливость тела, чуя «да» или «нет». Потом он приманивал, доводил до пещеры, а уж там распинал, изливался в своей резковатой манере, поил жертву чем-нибудь пьяным, давал на такси… ну, иногда продолжал.
На пол однодневки внимания не обращал, он лишь желал, чтобы мясо под ним извивалось и плавилось, терялось в реальности, отдавало энергию, сочилось хоть чем-то – да пусть и слезами. Трудно сказать, что за секс он давал – кому-то и пытка, а кому и единственный стоящий раз за всю жизнь. Сам он об этом не думал: ловил и кормил ненасытного зверя – часто и много. Только боялся, что тот заскребется голодными зубьями, рванёт что-то там изнутри, и оттуда вдруг хлынет.
Ресторанные церемонии расслабляли беседами на отвлеченные темы, а полутёмные бары дарили простое общение – Дюк дурковал, забываясь, заливаясь галлонами пива, стучал по столам, орал «го-о-ол». Всё путём, думал он, всё каким-то путём.
Компания, принявшая его, благоразумно молчала о прошлом, лелея совсем не благие намерения – самбуки и виски хотелось вкушать эстетически много, а Дюк зачастую платил.
Ближе всех оказался случайно попавший в компанию Рэпмен. Он вроде как сдался - его рифмоплётство вдруг сделалось тайной от юной жены. Теперь он бузил на совместных тусовках, стесняясь читать свои вирши при ней.
- Вот будет жена, и поймешь, - отозвался поэт на иронию Дюка,- подумаешь, рэп.
По иронии девки-судьбы, супруга Санька готовилась стать литератором, и опасения Рэпмена имели под собой основания.
- Нда,- говорил ему Дюк,- а в туалет ты тоже тайком от неё ходишь? Мальчики, типа, не пукают? Я бы, наоборот, почитал ей стишата – может, поправила бы чего.
Саня отбрыкивался и не обижался.
С ним просто болталось, иногда ни о чём. При ближайшем контакте Санёк оказался невредным, и сам при деньгах, что уравнивало. Он не стал, как и Дюк, колотиться о высочайшие сферы, а сделался программистом, да и в компьютерах разбирался отлично. Работал Санёк в основном по ночам, и часов до одиннадцати на него можно было рассчитывать в баре, и боулинге, да и везде. Пили ребята немного, темы всегда находились – приятельствовали.
Работа вошла саморезом в готовое к стали умение Дюка - он получал удовольствие. От пыльного утра на улице Салова, от будки охраны на входе с новым шлагбаумом, от мокрого духа сырого асфальта перед зданием сервиса, и от вылизанной чистой конторы.
Ему нравилась ругань с клиентами, переговоры с партнёрами, смешили обычные хитрости слесарей – ему ли не знать. Дело шло хорошо, электорат был прикормлен, цены держались стабильно, налоги и другие поборы тяготили не слишком: любимое дело тащило добычу,а, значит, свободу.
Как-то раз, размышляя, он спросил себя – кто я? Помаялся чуть и решил: все одно работяга. Мысль немного побилась о черепную коробку - а что дальше, хозяин? – и умерла, не взлетев.
Неприятность случилась только с Варварой, но тут он был сам виноват.
После похорон матери он долго не мог войти в русло рабочей реки. Дал слабину, разболтался. Зашел вечерком, перед самым закрытием, уселся на самый прилавок, оценил помещение, будто ни разу не видел.
Варя слушала-слушала, да и пожалела, как водится. А потом отвезла до парадной на раскрашенном байке, ну и поднялась на второй.
То было насилие чистой воды. Варины прелести вызвали полузабытых чертей: армия, дочь генеральская Таня и секс через жалкое сопротивление.
- Представь, что ты парень,- сказал он девчонке, и резко вошел. Она закричала, но ему было именно - по-***.
Потом отмывал с потревоженной кожи дивана втертые бурые пятна – размазывал и матерился. А вот что это были за пятна, он даже подумать не смел.
На следующее утро Варюха уволилась – позвонила Ванееву, и Дюк её больше не видел.
Так катились обычные дни, превращаясь в недели и месяцы, тревожили изредка, не доставляя особых хлопот. Сыпались летним горохом до осени, плавно слетали кленовым листом к сыроватой зиме, грязью сливались в весну – так, по кругу, он жил свою жизнь.
Мексиканец возник, как всегда, неожиданно, при забавных весьма обстоятельствах. На работе у Дюка был маленький праздник, и он вызвал такси. Повернули на Славы, у известного всем казино, и водитель просяще взглянул:
- Может, этих возьмём?
На обочине прыгали парни – оба длинные, в кожаных куртках, зябшие на осеннем ветру.
- Скинешь – бери.
В машину ввалились, наполняя салон парфюмерным амбре, табаком, алкоголем, наносило слегка специфическим – шлейфом недавнего секса. В одном из парней Дюк узнал Мексиканца.
Тот его не увидел, и громко спросил:
- Через Володарский поедем?
- Поедем,- ответил усталый водитель. Сегодня определенно везло.
Ехали молча, друг Мекса вылез и Дюк оглянулся:
- У тебя, между прочим, на шее засос.
И хихикнул.
- Где?! – возмущенно прокричал Мексиканец,- Ого! Это ты, что ли?! Ну и шуточки у тебя! Машка убьёт!
- Ну ты красавец,- сказал ему Дюк,- да ты, никак, продолжаешь? Мало я тебя тогда попугал?
Мексиканец, затянутый в угольно-черную кожу, узкий, как лезвие, был агрессивно лохмат, чуточку пьян и заносчив:
- Творческим людям полезно,- он помолчал и добавил: - А я и не прекращал...
А потом они поехали к Дюку, и как-то случилось, что Мекс сварил кофе в его новенькой кофеварке. Потом он нашел в Интернете приятную музыку, под которую хозяина совсем разморило. А потом получилось, что он стал захаживать – рассказывал новости из своего мира, внимательно слушал о разных машинах, хвалился журналами, сплошь на английском – там были его музобзоры. Визиты не доставляли волнений, как любовника Дюк его не принимал отчего-то. Интуитивно он понял - Мекс отдыхает от душного дома, обязанностей и, наверное, притворства. Парень казался домашним лемуром - большеглазый, дрессированный и неконфликтный, заполнявший пустоту разговорами и не мешающий жить.
Он не задавал ненужных вопросов. Только однажды не выдержал, напоровшись в компьютере Дюка на подборку серьезного порно.
- Это кто?! – подскочил он на крутящемся стуле,- это же...
- Билли Брандт,- сказал ему Дюк.- Порноактёр.
Мексиканец разглядывал ролик и успокаивался:
- Билли Брандт это английский фотограф вообще-то. Просто очень похож…
- Псевдоним,- сказал Дюк. – Да, есть немного.
Мексиканец осторожно потрогал языком пересохшие неожиданно губы, и хрипло спросил:
- Ты... ты еще... помнишь его? Вы общаетесь?
Дюк усмехнулся:
- Ну, разумеется, помню. Друг детства. Память еще не отшибло.
- И что,- Мексиканец почуял, что может быть зверски избит. Но Дюк показался спокойным, поэтому он продолжил: - так вы не общаетесь?
- Нет,- сказал Дюк.
- Но следствие установило, что он не виновен?
Дюк подошел и выключил ноутбук.
- При чем тут виновен. Я задал вопрос, он ищет ответ. Когда обнаружит, тогда и решим, кто виновен. Или нет.
Мекс озадаченно покрутил головой:
- Марк всегда знал ответы на всё. Что за вопрос-то? Может, я ...
- Достал ты меня, Мексиканец,- оборвал его Дюк. – Шёл бы ты к своей Маше, или кто она там у тебя.
***
Они не расстанутся, думалось Мексиканцу по дороге домой. Они никогда не расстанутся.
Если они разлюбили, то, значит, её не бывает - любви.
***
Это случилось сразу после Нового года. Еще не осыпались елки, под ногами попадались кружки конфетти, улизнувшие от пылесоса. Эти праздники длятся в России так долго, что считаются отпуском – так и было для Дюка, и для Мексиканца, пришедшего за компанию в «Танкер», известный гей-клуб.
«Танкер» у Дюка был прикормленным местом, для него там всегда находился свободный отсек. Там лили в чистейший стакан неразбавленный виски, и часто имелись знакомцы, которым не требовалось объяснять. В «Танкере» ему отдыхалось спокойно, заведение блюло репутацию - спокойный, душевный круизинг за стеной дискотеки, и конечно же, сауна, как без неё.
- Пару лет уже как,- он делился с новичком Мексиканцем,- уютное место. Располагайся. Если стесняешься, можно вон в то полотенце.
Сам он сидел безо всякой одежды на расстеленном мягком халате, поигрывал телом. Все тряпки на территории «Танкера» штука неправильная, считал он. Прилипчивых пацанов не любил, выбирал, что покрепче, с хорошими мышцами и не жеманных. Простых.
Мекс хлебал вкусное пиво и скоро расслабился - в полуоткрытую дверь виднелись снующие в сауну и обратно ребята, и он понемногу приглядывался.
Кабинетец настраивал,определённо: тепло-кремовый, с бликом на стенах. Мебель спокойная, на вид не дешевая, сообщала интимность бархатной шкуркой. В неё не провалишься, чувствовал Мекс, это тебе не для праздных валяний. Для битвы нужна именно эта поверхность - гладкая, но в которую можно вцепиться.
Зеркало располагалось под идеальным углом, а на ореховом столике Мекс не увидел ни намёка на круги и царапины. Полигон, в общем,знатный, а в остальное добавьте фантазии.
- Вот чего ты женился, не понимаю,- разглагольствовал Дюк, вытянув ноги на теплом диване,- чего тебе там прибыло? Денег?
Мекс дергал плечами в недоумении от себя самого, но возражал:
- Жена это пропуск в приличное место. Так сказать, гетеросексуальный тыл. По крайней мере, я пару лет совершенно был в этом уверен.
- Всё это понятно. А потом? Когда разуверился? Так и будешь таскать свою задницу?
- Вдруг надоест,- заржал Мекс,- нет, брак хорошее дело. Только с еврейской женой выдаёшь серьёзную долговую расписку. Вот это меня убивает.
- Какую же?
- Ну,- Мексиканец расположился удобнее, подтянув полотенце, - обязательство быть гениальным. Прославить фамилию.
- Ну так это нормально,- сказал ему Дюк,- все мамопапы такого хотят. Дети заложники их гадских амбиций. Не знал, что ли?
- Да знал,- Мексиканец хлебнул еще пива,- это ладно. Но когда они смотрят большими глазами, как ты ешь, как ты ссышь и куда повернулся – это, поверь, напрягает.
- Ты ж вроде еврейский пацан,- Дюк рассмеялся,- у вас же это нормально. Вы же плотными семьями и живёте, друг у друга под шапками. Ругаетесь, маетесь – но остаётесь и держитесь. И, если честно,- он поучительно поднял указательный палец,- мне это нравится, смысл есть какой-то. Передумаю быть голубым – женюсь на еврейке. Будет меня охранять!
И он опять рассмеялся.
Мекс смотрел на него, мешаясь в своих впечатлениях – тоски, восхищения, жалости, зависти и хрен его знает чего. Дюк был свободный, никем не давимый, прекрасный и одинокий. Он мог трахнуть любого, любую, да хоть бы публично, и мало кто смог бы отказать. У него было всё, что хотел бы иметь человек в свои двадцать четыре: свобода и деньги, здоровье и силы, работа. А ещё этот цельный, но странно беззлобный цинизм – непробиваемый, как живот сумоиста. Ты вроде бы целишь туда головой, кулаками, он сотрясается, ты тихо ликуешь – а, вот она, брешь! Но это обман, и ты безнадежно проигрываешь: колыхнувшись поверхностным слоем, живот обретает обычный объём. В итоге и ты не ушибся, и дюков цинизм не пробит.
Дюк отсмеялся и прямо спросил:
- Кого хочешь,- он погладил себя,- кого тебе нужно? А, ты у нас пасс. Как ты знаешь, я друзей не...
- Кого посоветуешь, никак не могу присмотреться. Ты же знаешь, у меня это редко случается. Кого- нибудь аккуратного мне... Сосать у случайных не очень люблю...
- Любители, елки, - сказал ему Дюк.
Мекс хотел бы продолжить совсем о другом, он ведь за этим пришел, но смолчал. Но все-таки дал увести себя и не пожалел: получилось, как надо, с неброским, внимательным, кажется, Сашей. Тот не лез с поцелуями, был не слишком большой, аккуратный, любил отсосать. Выдал почти по-семейному порцию мягкой вначале и по нарастающей крепкой программы, точно попав на те кнопки, что жили внутри,и куда так хотелось иногда надавить...
Мексиканец любил: не работая, довериться и разомлеть, раскрыться и ни о чём не заботиться. Партнёр, если опытный, сделает так, чтобы его мексиканское тело расслабилось, не мешаясь с семейными думами и ревнивой женой. Только тело, а так он нормальный, не думайте.
Был он ленивым в постели, наш Мекс.
Через сорок минут он уже отрывал себе ломтик сушеной оленины к пиву, Дюк все так же лежал на диване, пуская дымок в потолок.
Он чему-то смеялся, где-то там, про себя. На бицепсе Мексиканец увидел совсем свежую, красную нитку царапины.Значит,тоже успел.
«Что это он курит сегодня,- осенило вдруг,- о, черт. Ну я и дурак». Время расслабленно капало, унося допустимые паузы в вечную прорву упущенных мигов, и Мексиканец наконец-то сказал:
- На панихиду-то полетишь? Я думаю, что это важно.
Тот повернулся к нему удивлённо:
- Какую еще панихиду?
- Ты не знаешь?
Не может быть так, чтобы Дюк не знал. Этого просто не может быть.
- О чем,- пребывая в своём, без сомнения, очень приятном, Дюк не хотел никаких панихид. Никаких дискомфортных известий.
- Самолёт в Индонезии,- сказал Мексикнец,- самолёт не нашли до сих пор.
Тот подпрыгнул на мягком диване и неестественно расхохотался:
- А какого мне хрена за дело,- он смеялся до слёз, сотрясаясь почти что в рыданиях.- Что за лирика… ха-ха… ты на всех панихидах планеты рыдаешь? Какое мне может быть дело до чуваков в Индонезии? Они по миру пачками падают. Ну, охуеть,- и он сбросил окурок с дивана.
- Вот тебя на ерунду растащило,- он погремел пачкой Кента, - прямо на лоскутки. Сегодня они, завтра я. Или ты. Смерть без паники тётка.
- Там был Марк,- глухо сказал Мексиканец. – Они летели в составе миссии от университета, сопровождали неизлечимых детей. Он давно там работает... работал. А сейчас панихида, на месте аварии. Это на Сулавеси, лететь долго. Самолёт не нашли, и поэтому...
- Какой еще Марк, - перебил его Дюк,- Лапин, что ли?
Мексиканец потрясённо посмотрел на него.
- Лапин. Какой же ещё?
Ни мышцей не дрогнув, Дюк плавно улегся на уютный диван. Затих.
Мекс осторожно сказал:
- Я полечу двадцать первого января. Если хочешь, то можно вдвоём...
- Дата смерти дедушки Ленина. Вы, евреи, такая ироничная нация.
Помолчали.
-Ты, ****ь, умеешь весь кайф обломать,- садясь, сказал Дюк.- Никуда я с тобой не поеду. Лететь далеко, опять же. Опасно. Ну его на.
- Он же был твоим другом,- пролепетал Мексиканец.- Как-то странно. Не пора ли забыть вообще все. Я почему-то подумал, что тебе будет важно…
- Лети, Мексиканец,- сказал ему Дюк,- передай там привет духу Лапина. Скажи, что я занят и боюсь самолётов. Все полёты для душечки Лапина наше семейство исполнило. Так что!
Он картинно взмахнул рукой и взялся за телефон.
- Ты иди, я трахаться буду. Вот сейчас позвоню.
- Ты урод,- проговорил Мексиканец. – Он же твой лучший друг был. Он же любил тебя. Так, как никто никого... Никогда.
Дюк рассмеялся. Он так свободно и открыто смеялся сегодня, так заразительно, что Мекс против воли и сам улыбнулся. Несмотря на момент.
- Ла-а-апин,- сказал ласково Дюк,- он был не друг. Он был мой лучший и первый любовник. Таких больше не делают. Он был...- Дюк чуть помялся, словно подыскивая эпитет,- он был от Господа Бога Пидор. С большой, охуенно огромной буквы.
.
Мекс слушал, забыв закрыть рот. Так всё просто, оказывается, и всё так цинично. Без глупых обид и камней, что лежат у задетых за мясо в загашнике. Для того, чтобы вынуть потом и ударить того, кто обидел. Без загнанных вглубь сожалений, тоски и печали.
Надо просто пройтись по душе, провести там инвентаризацию, обесценить наивные воспоминания, чуть-чуть посмеяться над своими обидами, и всё – ты здоров...
- С охуенно большой буквы Пэ,- сказал Дюк.- Это кстати, была самая первая буква, которую я изучил. Он читал мне про Питера Пэна. Мне было семь, ему шесть.
- И после этого,- вопрос прозвучал невпопад, но Мексу хотелось узнать,- он что, не заслуживает панихиды?
- Он безбожник. Какая ему панихида?- Дюк затянулся.- Вот если бы у меня был его труп, то я отвез бы его в Карелию и положил бы на плот. Зажег бы и пустил по Вуоксе.
Вот это бы была панихида. А сейчас,- он посмотрел на мобильник, поморщился, - сейчас то же самое. Он сгорел и уплыл по воде. Он даже сдохнуть сумел, как планировал. Так чего мне там делать, на этих заразных и тухлых кусочках земли, именуемых, ****ь, Индонезией?
Он лежал в остановившемся сигаретном дыму, чуть размытый в своих очертаниях, погрузившись в какие-то мысли, известные ему одному. Мне не постичь, думал Мекс, хоть я и чувствую эту железную логику. Я чувствую всю эту правду. Но я никогда не смогу ей последовать, потому что я не...
- Я не Мексиканец,- сказал он себе,- я просто слабый еврей, который завидует трупам. Который не выдержит члена.
Ты можешь стоять панихиды, составляя ту самую массу жалельцев, обожающих церкви и похороны. Ты даже можешь потрахаться в задницу с парнем, налепив себе радостно радужный штампик свобод от условностей, но при этом ты будешь сосать титьку Маши, считаясь нормальным. Быть мужчиной, наверное, не значит жениться, родить, посадить, понял Мекс. Он ясно почувствовал, что единственно правым был тот, кто валялся в обкуренной комнате на засыпанном пеплом диване. Мекс, наконец, осознал свою зависть, разгадал свою главную боль.
Всё это Мексиканец почуял, когда, наконец, догадался: собеседник хороший притворщик. Дюк знал всё до него, без всяких сомнений. Даже то, где лежит самолёт.
***
Телефоны менялись ценой и моделями, а забитые в память контакты оставались незыблемо.
- Ольга Марковна,- сказал Дюк в телефон,- как вы там? Вам что-нибудь нужно?
Зазвенел женский голос, потом он сменился на нотки пониже. Дюк кивал, соглашался, попутно рассматривал ногти.
- Ладно,- сказал в телефон,- но приехать я не смогу. Всё привезут, не волнуйтесь. Если чего перепутают, дам ваш номер. Сколько вы ждёте людей? Ничего себе… Одноклассники? Да какие у нас одноклассники, елки...
Трубка тихо и укоризненно что-то сказала, и Дюк покорно кивнул:
- Хорошо.
Зачем Индонезия, мрачно подумал, пиная полуоткрытую дверь кабинета, есть же Сосново, в конце-то концов. Каждый прощается так, как считает достойным.
Мексиканец отменил путешествие. Маша расстроилась – она-то уже прикупила купальник в расчёте на небольшие отступления от горя. Но муж отказался:
- Загоримся и уплывём по воде,- сказал он ей странную фразу,- это не наша смерть. Наша дома, в постели.
Маша, конечно,была недовольна, но согласилась. Всё равно дорогие билеты.
В прохладное Дюково логово неудержимо тянуло - там было все для мужчины. От простых полотняных салфеток на кухне, до стакана на полочке в ванной. У него, Мексиканца, повсюду цвели ужасающе красные розы, во многочисленных емкостях на краю раковины можно было запутаться, а банки - смахнуть и разбить.
Квартира походила на студию - Дюк жил в одной комнате, которую полностью переделал: снес стену у кухни. Вторую же комнату Мекс так и не видел, была заперта.
- Всякий хлам,- сказали ему,- свалил туда да и запер. Все равно там не живу.
Стены были безо всяких рисунков, потолок – отражением пола, видеотехника, стеллажи да и мебель – все смотрелось спокойным и сдержанным, но лишь по дизайну, не по цене. Окна висели большими багетными рамами, с бамбуковым мелким рисунком. Они украшали, придавая унылому миру за ними статус картин, написанных грустно и быстро: двор с его вечными лавочками и покосившейся урной имел дорогую оправу и выглядел стильно. Одежда хранилась в зеркальном шкафу, куда помещалось так много, что не было смысла разбрасывать вещи.
«Всё, как у Марка,- решил Мексиканец при первом визите,- даже цвета одинаковые».
Жильё не смотрелось пещерой плейбоя, чувствовал он, это было...
Воспоминание, памятник, размышлял Мексиканец, тоскливо бродя залоснившейся мышью по дебрям состарившегося компьютера. Его собственный дом давно провонял подгоревшими гренками, лекарствами, пустыми стекляшками из-под пробных духов.
Тяжелая пыль покрывала пространство. «Фациоли» капризничал, чуть отсырев за последнее время, сделал глухими обычно звенящие звуки. Дом требовал свежести, света, ремонта. Как и хозяин.
Ночь спасала, оставляя ему очертания мебели, освобождала от запахов и толчеи. Ночь дарила минуты свободы ему, одинокому.
Он нечаянно скрипнул сиденьем старого стула, чуть подождал - не проснулась бы Маша. От неё он скрывался лишь за этим компьютером, утробно урчащим и виснущим из-за собственной старости. Хотелось уйти, но звонить было поздно, и Мекс приоткрыл Интернет. Выскочил список контактов: почти неживой, лишь пара каких-то зеленых ромашек. Мекс присмотрелся.
***
Дюк лежал на диване. На огромном экране спортивно тащились мальчишки, без пошлого звука. Рядом висели часы: на большом стилизованно- вычурном полузигзаге застыло без четверти два.
Вспоминал.
Да, было как-то вот так – он смотрел на часы, а потом утыкался в пшеничные волосы. Не смотрел... почему не смотрел, почему… Кажется, что-то казалось неправильным.
Он поднялся и добрел до второй, запечатанной комнаты. Тут все было, как тогда, никаких изменений. Сел на кровать, погладил редкую елочку старого пледа.
Сколько лет прошло? Скоро четыре. Все ответы получены, кроме последнего. Два года со времени смерти, а он всё не может поверить.
Здесь не было логики, мучило. Лап не мог так ответить, и никакая слепая случайность не могла помешать – ни техническая неисправность того самолёта, ни пьяный пилот, ни какой-нибудь шторм. Он умел чуять мир, безошибочно, он сам был оттуда, из ткани энергии логики, сам мог устраивать связи. Умел управлять.
Дюк бы заплакал, он очень хотел.
Получалось, конечно, но почему-то во сне. К утру опухало лицо, подушка сырая какая-то. Системы жизнеобеспечения напоминали ему – командир, снова утро, по коням. Позавтракать, в душ и побриться, работы до дури.
«Жениться мне, что ли,- иногда издевался, прикидывая, - не, рановато. Хотя мелкие дети такие прикольные. Подрастают и такое иногда говорят, хоть записывай. Буквы будем учить».
Так он ворочался, а потом засыпал, уткнувшись лицом в прокуренный плед.
Снились сны.
В них Он смеялся, бросая оранжевый мяч по кольцу, и промахивался. Дюк злился – ты слабак, кричал он, целься нормально, елки. Тот собирался, послушно прицеливался, собирался в струну и бросал.
И снова промахивался.
Дюк подбирал у кольца и жестоко кидал ему в голову: целься. Он хватался за щёку, и кричал ему – сука!!!
Снова брал мяч, зло прищуривался и попадал. Высокомерно задирал подбородок, а Дюк снова передавал ему мяч – повтори!
Через сон проходил серый тип в капюшоне, он мешал баскетболу. Какие-то черные всполохи, как ненужные кадры, рвали фигуру девятилетнего Лапа. Дюк выкручивал шею, стараясь смотреть через них, раздраженно отмахивался.
Потом было солнце и крыша на Тринадцатой линии. Будем прыгать, сказал Ему Дюк. Он ответил - не буду, я до чертиков боюсь высоты.
Но прыгнул.
Упал бы, но Дюк успел подхватить. Втащил, усадил, а потом разбежался и прыгнул обратно – давай сюда, эй. Там, где ты есть, не спуститься на землю, чердаки заколочены.
Сволочь ты, сказал Он и вернулся. Приземлился спокойно уже, с хорошим запасом; грянув ветхим железом, прошёл через серую тень в капюшоне - сквозь. Потом Он расплакался от запоздалого страха. Дюк, конечно, ругался.
Это где-то в двенадцать?
Самый красивый был тот, что про тушу. Солнечный такой сон, яркий.
Серый тип в капюшоне стоял рядом с Дюком, как друг. Наблюдал, задевая просторной одеждой. Дюк её чувствовал, грубую.
Он был напротив – руки и майка в крови, челка сначала хлестала по потному лбу, а потом прилипала. Бил по туше, висящей на крепком крюке. Задача простая: лупить, пока не замерзнет свинина. Не можешь по человеку - лупи по свинье, помогает. Дюк увидел такое в каком-то кино.
Он старался, удары ложились неглубокими вмятинами в свежую желтокоже-кровавую тушу, звуки вяло съедались многослойной стеной холодильника.
Дюк наблюдал, выжидая, когда загорится тот самый, хороший огонь – злой, полезный. И тогда наносил удар сам - отвечай мне, давай!
Тип в капюшоне доставал из плаща два обрубка и делал вот так – аплодировал.
Дюк вытирался от крови, Он хохотал и был счастлив. Потом обнимал, прижимался.
Да, он уже тогда это делал. Вис на шее, как девочка, Дюк обычно отпихивал, превращая сценарий в баталию.
Во сне отвечал по- другому.
Во сне он хватался за воздух и всё.
Это было в четырнадцать.
Снились ему и другие, поганые. В таких он не видел лица – он мало что видел, лишь чувствовал. Было тело – Его запах и кожа, сведенные сильно лопатки, прижатые к простыни руки. Било в живот и захлёстывало, он пытался увидеть лицо, найти нераскрытые губы, чтобы облизнуть их по мягонькой кромке, как любил, сказать Ему прямо вовнутрь...
Не находил.
Дюк поднимался и видел уходящую серую спину, несущую в цепком обрубке пшеничную голову. Тип тащил её за длинную прядку волос и раскачивал,словно бросовой вещью, нечаянно найденной – сгодится, наверное, в хозяйстве.
Отдай, кричал Дюк. Под ощутимым горячим пятном лип коричневый плед. Пустая материя, ничего больше.
И просыпался.
Звонок грохотал, словно строй необученных барабанщиков. Колотился о стены ночного жилища, раздражал и пугал. Чертыхаясь, Дюк добрался до двери – по пути зацепил краем глаза светящийся циферблат – скоро два. Громко выругался:
- Черт, кого это тащит в два ночи?
Звонок задыхался, как будто бежал от погони. Дюк раздраженно открыл тяжеленную дверь.
На пороге, вспотевший под курткой, согнувшись, стоял Мексиканец – дышал, округляя большие глаза.
- Ты охренел,- сказал ему Дюк,- жена, что ли, выгнала? Времени два.
Мексиканец схватился за горло и взглядом попросил: подожди. Отдышался и хрипнул:
- Ромашка горит!
Не понимая, Дюк глянул на лестницу и принюхался – да ничего не горит вроде.
- Кошками пахнет,- пожал он плечами,- ты сгорел, что ли?
- ****ь, идиот,- сказал Мекс,- у тебя вообще есть аська?
- Нет,- удивился Дюк,- а нафига она мне?
- У меня, в списке контактов... я не удаляю никогда ничего,- Мекса трясло, - у меня там ромашка его горит. Да ты вообще что-нибудь соображаешь?! Проснись ты уже!
- Горит? – уточнил Дюк,- Какие цветочки? Ты спятил?
- Да ник его! В аське, Егорыч, ник «captain»! У меня старая версия, я не менял, а сегодня случайно...
Дюк молча смотрел на него.
- Ага,- сказал он, наконец, - я тебя понял. Да мало ли кто. Совпадение.
- И всё,- спросил Мексиканец,- и это всё, ****ь?
- Он разбился, - сказал ему Дюк,- тебя домой отвезти? Зря бежал, позвонил бы.
Тот ощерился, размахнулся руками, ударил себя по бокам. Дюку увиделись черные птицы - вороны, скорее всего, мексиканские.
- Ты ёбнутый, Марков!- выкрикнул Мекс. – Ты чемодан запечатанный... Кого ты обманываешь? Не надоело ещё? Давай! Иди тогда к черту! Я сам!
И он с шумом запрыгал по лестнице вниз, сотрясая перила. Дюк аккуратно закрыл свою дверь.
Посмотрел на часы: без четверти два. Подцепил циферблат за сияющий край, отлепил от крючка и прислушался – никаких звуков.
- Так стоят же,- осенило его,- и давно, интересно?
Ногтем поддел батарейку – надо положить на виду, не забыть заменить.
На блестящей поверхности мертвого механизма, отражающей свет фонаря - большие и черные буквы: «Сделано в Индонезии».
Сделано, ****ь, в Индонезии. В Индонезии сделано, *****…
Вытер ладони о ни в чем не повинный диван. Не включив электричества, нашел телефон.
- Саня, - спросил,- Сань, ты уже спишь?
- Я только покушал, - Рэпмен был свеж и весьма позитивен.- А ты там тусишь, что ли?
- Найди мне,- сказал он, теряя последнее самообладание,- найди мне его. Ты же можешь найти пользователя, да? Скажи, что ты можешь, да, Саня?
20.
Ванеев был красен, несчастен и сильно потел.
Страдая от новости, он пыхтел от волнения - по красного цвета футболке пошли мокрые точки. Из горловины топорщилась шерсть, лишний раз утепляя Ванеева - зачем, непонятно. Живот распирал сине-белую надпись с воззванием "Пить и курить", и тяжело шевелился при каждом движении. Штаны на Ванееве имелись широкие, на ногах сандалеты.
"Похищенный дачник",- подумалось Дюку. Но жалеть его не было времени.
- Но почему?! - снова спросил компаньон.- Чего тебе здесь не хватает? Тут же роща зелёная, пик продаж! Виноградник! Дно золотое!
- Планы,- сказал ему Дюк.- Тебе незачем волноваться, я уже нашел покупателя. Но первый, конечно, ты.
Ванеев прихлопнул колени:
- Не потяну. Нет, я бы выкупил. Но сейчас не ко времени. Ты знаешь, сколько я в девяностые с ним нахлебался - во. Ты меня идеально устраиваешь. Ты ж мне как манна небесная. У тебя же талант...
- Ну, извини,- сказал Дюк.- Парень, который хочет купить, тоже вполне разбирается. Но ты всё равно контролировать должен, сам понимаешь. Гарантий дать не могу, как сработаетесь. Я бы на твоём месте выкупил долю,тут налажено всё. Это ты сам развалился.
- Я? - возмутился Ванеев,- я в порядке! Поправился чуть.
- Работать начнёшь, похудеешь,- сказал ему Дюк.- На размышления где-то неделя.
- Это судьба,- поник нечастный Ванеев,- видно, действительно, надо. Выкуплю я у тебя.
Дорого просишь, кстати. Сам-то за бесценок купил.
Он откинулся резко назад, хитровато прищурившись.
Торг, значит, торг. Но времени нет.
- Если не выкупишь,- сказал Дюк,- или не дашь продать, взорву нахуй. Всё спалю.
Ванеев моргнул, в разинутом рту засияла коронка.
- Взорву, и никто не докажет. Страховку захаваем, мне-то как раз. Я тут тебе наработал за тысячу менеджеров... дорого ему, блин. Нормальные деньги, сейчас так и стоит.
Ванеев сидел, обтекая со лба на живот липким потом, и сильно пониже.
- Вот ты какой,- выдавил он из себя,- не ожидал я...
- Ну и,- Дюк раздражался, - что скажешь? Уезжаю, деньги срочно нужны.
Помолчали. Минут через десять Ванеев сказал:
- Есть только наличка и в баксах.
- Пойдёт,- согласился Дюк.
***
Ночью снова приснилось.
Первым появился тот серый, в страшном своём капюшоне. Он вприпрыжку, и по какой-то косой, одному ему ведомой линии, двигался к Дюку. То подскакивал близко, то отбегал, словно дразнил.
"Что ему нужно,- настороженно думалось,- куда-то зовёт? Издевается?"
Серый подпрыгивал и хлопал обрубками. Видя, что Дюк размышляет, покрутил у виска, остановился и показал себе за спину.
Там был силуэт - в белой куртке, с засунутыми в карманы руками. Не узнать невозможно.
Дюк присмотрелся.
Силуэт наклонил голову влево и взялся за ухо.
Надо просто подумать, понял он. Надо подумать, как Лап.
Серый запрыгал, как будто под ним был батут. На минуту мелькнуло лицо, оно не было, кажется, жутким.
"Это не Смерть,- понял Дюк,- у неё только маска. Кто тогда? Что он хочет сказать?"
***
Сергеева была преогромной. Такой здоровенной, что Дюк, не скрывая своего удивления, свистнул:
- Ну ты даешь! Ты же замуж вроде не вышла?
Большая Сергеева, казалось, с трудом помещалась в комнате при турагентстве. Носила себя осторожно. Дюк не ездил за границу давно, уже скоро полгода, поэтому был потрясён сергеевским изменившимся видом.
- Хам, моралист, - надулась Сергеева. - Чтобы ребенка иметь, мужик теперь не нужен.
- Как это так,- возмутился Дюк,- сперматозоиды научились выращивать синтетические? Фигасе, задвинули нашего брата.
- Ну, я неправильно выразилась. Замужем вовсе не обязательно быть. Я это имела в виду.
- Знакомо,- сказал примирительно Дюк,- ну ты извини. Я просто не ожидал, вот и вырвалось.
- Да ладно,- беззлобно махнула Сергеева,- на самом-то деле я уже нагулялась. А ребенка и правда хочу. Правда-правда. Врач выскребать отсоветовал, да и мать поддержала. Ты зачем прибежал-то? На север тебя, как обычно? Есть Норвегия, на фиорды. Ты, я помню, хотел, как раз есть.
- На юг,- Дюк рассматривал карту,- а вот скажи мне, Алёна... Есть какая-нибудь такая страна, где можно остаться по-быстрому и надолго? Ну, не несчастная Африка, а что-нибудь более цивильное? Хочу на время уехать куда-нибудь. Года на два, пошарахаться.
Сергеева посмотрела внимательно и очень по-бабьи обхватила живот. Рассмеялась легко, словно в школе, от легкой и доброй подначки.
- Ты будешь в истерике,- сказала она, улыбаясь,- ах, что я тебе говорю... ты будешь совершенно доволен. Страна есть, и никаких проблем с видом на жительство. Еще - там тепло. Там тебе очень понравится.
- Посылай, - сказал Дюк. - Посылай.
***
Выспаться в этом прожаренном городе трудно, но это и к лучшему, думал Дюк.
Маленький номер отеля стремительно нагревался - с половины девятого из окон давило жарой. Свежесть спускалась в ночи, да и то ненадолго, раскалённые стены с трудом отдавали тепло. Когда становилось прохладно, он натягивал простыню, и засыпал, наконец. До первых лучей вездесущего солнца, пока на мощеную улицу не выползал этот хмырь, рано, чуть ли не в семь. Хмырь ставил под окнами грузовичок и орал в мегафон: дыни!!! Арбузы!!!
Дюк просыпался, материл мегафон и хмыря, а заодно и отель - кондиционер не работал.
В ресторан он спускался так рано, что там никого еще не было - европейцы и прочая иностранная публика отдыхала от ночных приключений. Лишь пара немецких старушек куриными цапками мазала мягкое масло на тостеры, за своим столиком, у развесистого цветка.
Есть не хотелось, но он набирал себе все же: сыра, зеленых оливок, помидоров и сладкого перца, лил масло и уксус. Кофе и тосты, а еще эта сладость, бугатца. Дюк называл про себя - бугага.
Кредитки, часы и видеокамеру сдавал на хранение в сейф - красоты снимать надоело, покупок ему не хотелось, да и публика в городе была вороватая.
Он шел в Ано Поли, старинное место, которое врать не умело - от старости, что скорее всего. Тротуар туда вёл неширокий и пыльный, идти неудобно - казалось, бесчисленные мотоциклисты сорвут с тебя что-нибудь, и ты не догонишь. А они помахают оторванной майкой и крикнут по-гречески - хей, малакас!**
По пути всё менялось, наступала прохлада от спокойных старинных камней, уложенных в крепкие стены. Древние улочки уютно вились, нависая цветными домами с балконами, глуша редкие вопли туристов; между камнями стертым узором кудрявился мох, по бокам созревал виноград - Дюк щипал его по пути, освежался. Он знал,что, если долго идти, можно добраться до Сикьес, долины инжира. Но сворачивал, поплескавшись в ближайшем фонтанчике, шел через город, к Собору Святого Георгия.
Там было место надежды, которая таяла с каждой минутой, но как-то жила.
- Это рядом,- сказал ему Рэпмен. - Мы были там с женой после свадьбы. Я особо в сеть не ходил, медовый месяц, все дела. Там вроде кафе какое-то было, с инетом, или просто вай-фай. Человек забежал с ноутбуком, пообщался, с кем надо и дальше пошёл. Но расположено там.
Мексиканца Дюк тоже напряг:
- Сиди и отслеживай, тупо,- сказал он ему,- когда он заходит. Как только включается - сигнализируй. Сам ничего не пиши, вдруг спугнёшь.
Мекс обрадованно кивнул, и сидел, как военный радист, у компьютера всеми ночами. И дождался - ромашка снова зажглась развесёлым зелёным огнём.
Рэпмен довольно кивнул:
- Адрес прежний. Будете брать супостата?
- Я тоже поеду,- сказал Мексиканец.
- Мне не нужны добровольцы,- оборвал его Дюк.
Место он отыскал быстро - в небольшом помещении , длинном и узком, было темно и прохладно. В первом зале подавали кальян, много сортов исключительно вкусного кофе, местные сладости. Во втором находились компьютеры - низкие бортики перегородок росли, как заборчик в саду. Между ними торчали арбузы в наушниках: кто-то изгнанный из дому геймер, кто-то так - побродить, переписка, да мало ли. Дюк тихонько прошел по рядам: какие-то левые спины, балахончик монаха да спортивные майки.
Привычно уселся на низкий диван и заказал себе кофе, кальян. Вторая неделя.
Затянулся нездешней травой, побулькав водой, призадумался.
Тот мужик в капюшоне из сна... он не Смерть, это точно. Кто их носит, такие одежды?
Инквизиторы, или священники... нет, не они. Да кто, черт их носит-то?
Телефон запищал смс-кой: "в сети", писал Мекс.
По лицу пробежал холодок, и слегка затрясло. Этот, серый... он ведь всё рассказал ему, и показал. Даже карта, которую дали в отеле, замялась на сгибе огромными буквами. Старый Афон, монастырь.
Кальян опрокинулся, звонко ударив начищенным боком о мраморный пол. Потревоженный официант заулыбался от стойки. Дюк трясущимися руками достал телефон, и в четыре прыжка оказался у крайней перегородки.
Прицелился маленькой камерой и хрипло сказал:
- Можешь гасить Интернет, малакас.
***
Усталость забавная штука. Случается, ноги гудят - тянет где-нибудь в икрах, до судорог. А бывает, наскачешься в зале с мешком, отобьешь себе пальцы. Ну и руки гудят, тоже усталость. Или, к примеру, лезешь в безвестную высь, безо всякого адреса, просто затем, что - так надо, крепишь крюк к замысловатой скале, через обувь цепляясь ступнёй к равнодушному камню. Тут не ноги болят, а терпение. Здесь главное - тщательно закрепиться, не до вспышек геройских рывков. Ровнее дышите, сапёр-альпинист, аккуратней. Нет в мире, конечно, профессии этой, автор пока не встречал.
Нда, друзья - как писать? Ленты желтые строги: not cross, ахтунг, warning. Хрен с ними, закроем глаза и пойдём. Рухнём, так встанем, чуйка подскажет, куда. Главное, чтобы вперёд.
Серый повел его прочь из прокуренной насквозь кафешки. Полотно балахона, которому вряд ли имелось название, спасало пока что, колыхалось опущенным занавесом.
Выше шеи глаз поднимать не решался, но Дюк все ж схватил: соломенный ежик отросших волос, скулы мрачные, вскользь прикоснешься - обрежешься. Цепкий, одновременно какой-то растерянный, взгляд.
Шли куда-то, довольно уверенно, даже бежали. Серый несколько раз ловил воздух рукой, позади, проверяя - идет ли.
- Здесь я, - сказал ему Дюк. - Ты же видел меня. Я мог протупить и уйти.
- Ждал, когда ты подойдешь.
Если обоих накроет насмешкой, или обидой, что будут делать они? Все это было.
Где-то тикала отвлеченная мысль, в отсеке "отдел безопасности": в таверне очки позабыл, и портмоне тоже, кажется.
Дюк машинально проверил карманы, тормозя нервный бег. Где это адское место, в котором объясняются люди, где они воскресают в конце-то концов?
Он достал телефон, слепо тыкая в кнопки - греческий белый напалм издевался, на экране не видно ни символа.
Остановились.
- Повернись, - сказал он. - Фотку для мамы твоей, - не видя, щелкнул несколько раз, понимая, что ничего не получится. Детский театр для простой передышки, сколько можно бежать. - Куда ты несешься?
Язык, наконец, заработал.
.- Были поминки, - прдолжил, - там у тебя три родных человека. Они думали, что тебя больше нет. Им прислали бумажку, я видел.
Сосновая редкая тень легла сетью, цветы у фонтана, казалось, с трудом выдыхали свой сваренный жаром нектар.
Лап, наконец, материализовался из слепящего солнца и всполохов серого. Обернулся:
- Но ведь ты так не думал.
- Не думал. Но уже начинал.
Этот труп вызывающе жил, беспечно решив, что ему непременно простится,
недоумевающий искренне - что здесь такого? Он ведь ожил, валяйте, любите по-прежнему.
Стоит, удивляясь, притворяясь безвинным и маленьким, он, издевательски все рассчитавший. Автор диких сюжетов, воистину, до бешенства ловко занявший их мысли. И его, Дюка, тоже.
Где-то должен быть выход из темной норы, изо всей этой так нахлобучившей дряни, он же справлялся, частенько. Сколько раз представлял, и все прахом. Нужно вырулить, аккуратно и правильно, на вторую ошибку нет времени жизни.
- Тогда все нормально,- Лап улыбался. - Тогда хорошо. Когда выбираешь, приходится жертвовать. Они мне простят. Они ведь не ты.
(Сейчас он ведёт. Нивелирует, гасит. Если начать возражать, то выиграет, вывернется. Кинет децл финтов для защиты, отступит, собьёт его с толку и выйдет обиженно-непобеждённым, вмазав парой заумных цитат, черт знает, сколько всего он придумал. Ага).
Дюк хорошо понимал бой прямой, софистика не входила в последнюю битву. А еще он знал древний, вживленный природой, неслышный и редкостный, самый главный язык.
Молчал, собираясь с ответом; Лап между делом ловко забрал у него телефон, стал копаться в меню. Отключил.
Дюк вдруг понял, что тот суетится и нервничает. В расписанной партии главная линия выглядит так: тени предков побиты. На королеву три славных туза, полновесных, живых.
Как и не было нескольких лет, просто - партия. Карты, не шахматы.
- Жестоко, - он совсем успокоился, - хоррор с сердцами любимых людей впечатляет, конечно. Но только в кино.
- Я ответил тебе и расплатился. Ты же знаешь, что я их люблю.
- Это не стоило.
- Я отвечал на вопрос, я ответил. И, в общем, не радовался. Что бы ты ни сказал, это цена. Я заплатил, и о родителях мы не будем сейчас, с ними я сам разберусь.
(Хм, неужели все это так дорого стоит. Никогда не подумал бы).
- Слишком жестоко.
- Предлагаю оставить владельцу. Что дальше? Что у нас с тобой?
Ангелы...
Бродят, мешая случайную грязь с гравием мелких надежд, не зная, что ходят по коже. Воспоминания - как не свои. С детством, наверное, прощаются именно так: защемляя протоки у слез, заглушая подробности из простого инстинкта. Чтобы выжить, как максимум.
- Ты почему здесь? Ты приехал зачем!?
(Все, кажется его потащило)
- Искал, - сказал Дюк,- вот, нашел. Как ты и планировал.
И замолчал, привыкая к незабытому голосу и прямым попаданиям. Где-то уже улыбалось, внутри, бесконтрольно. Топило уж в нежности, слабости, играло тихонько.
- Ну и зачем? Что решил? .
- На предмет?- спросил Дюк, еле сдерживаясь.
Есть же руки, ими можно сдержать выползающий смех. Торопиться не бу-удем. Пусть понервничает, здесь он всегда раскрывается.
- Дурня, значит, включаешь. Ну-ну. Значит, бабы, - быстро вычислил Лап,- этого, собственно, следовало... Был скотиной, скотиной остался.
Он дернулся, словно задумав ударить. Вот они где, настоящие страхи.
- Я так и знал. Ну, конечно же, бабы. Ты, биссектриса неровная, как я вас ненавижу. Ты и тогда меня парил своим гребаным этим... В подпольщики, значит. Чего от тебя ожидать -то.
Дюк и не знал, что все это будет настолько красивым. Бесящийся Лапыч, как я отвык.
- Да-а-а...Тебя всегда надо было пасти. Или кто-то хороший пролез? Тихий-послушный, жрать тебе варит? А? Или ты сам завьюжил? Чего ты молчишь, ****ь?!
(Как бы так не заржать, и не забрызгать слюнями окрестности? Сцена ревности, оперный театр... кха-ха-ха... )
- Не увиливай,- Лапа кидало. - Я тупой пидарас, да? Я зря всё? Ты приехал тогда на хрена?
Эх, как много людей проходило поблизости. Туристки в соломенных шляпах и с блестящими лицами. Пузатые дядьки в широких штанах и очках в пол-лица. Передвижные тележки с напитками - строем, будто где-то назначен парад. Все шаркало, цокало, звенело браслетами, блестело часами, цепями, воняло парфюмом - всё мимо, сплошная бессмыслица. Пару раз обессилено плюнул водой
желтоватый, в коричневых жилках- потёках, фонтан. До того было пусто, как на разбитом снарядом танцполе. Надо, наверное, заканчивать: на кричащего Лапа уже обращали внимание.
Кашель сойдет для прикрытия, да.
- Если я правильно понял, ты сейчас тут о верности, - наконец, сказал Дюк.- Вообще-то смешно, столько лет. Я-то живой, не прикидывался. Еще я твой друг. Но, - он состроил простецкую мину, - другом ты быть никогда не желал. Ты любви пожелал, и всего вообще. А потом ты свалил, за какими-то, ****ь, доказательствами. Какие ко мне-то претензии? У меня насчёт тебя тоже фантазий немало.
- Ты дурак? - Лап стоял, открыв рот. - Тебе память отшибло?
- Может, тебе? Ты и вправду тупой пидарас. Или враг, раз не хочешь быть другом.
- Враг?!
(Получите расчет, господин оформитель смертей).
- Но, раз мы о верности тут, - он продолжил, - то есть мнение. Оно не мое, но я, в общем, согласен. Верность, как я понял однажды, лучше всего удается в отношении врагов. Она, знаешь, вечна. Что до меня... раз я здесь, то могу обеспечить любую. То есть уже обеспечил.
Смеяться хотелось до колик. Может, рухнуть на мелко уложенный мрамор? Жестковато придется, однако, травинки здесь квёлые, чуть колышутся в трещинах. Побиться о землю по-тихому, эпилептически так.
- Что за чушь ты несешь, - сказал Лап.
( Ну, эй. Ты же всегда умел слушать. Внимательно-чутко, не прорастая до зыбких эмоций, чуял сквозь бред).
Сил притворяться у Дюка уже не осталось, и он рассмеялся, дав себе волю. Давай же, почувствуй, как ты умеешь. Сам же учил меня чувствовать ради себя.
Только тогда Лап рванулся, и они, наконец-то, сцепились. Запах слегка припалённый, родной. Губы обветренные, неловко все, жестко и сильно... елки, не здесь же!
- Люблю тебя, - хрипло,- без башни люблю.
***
- Наблюдательный смертный, - разглагольствовал Лап, - способен заметить опасность заранее и избегнуть ловушек. Множество, знаешь ли, есть мелочей. Как там у Паланика, помнишь? То, что мы называем случайностями - это всего лишь закономерности, которые мы не в состоянии расшифровать.
В комнате было прохладно, отель извинился починенным воздухом. Дышалось отлично уже четвертые сутки. Дюку казалось, он в гипсе, рук-ног не поднять.
( Натёрт, как старинный янтарь, тёплый, искрит. Довольный и светится).
- Я не сел в самолёт, прошёл регистрацию и не полез.
- Ммм...
- Накануне возился с мальчишкой, у него к основному диагнозу ещё эпилепсия, ну так вот...
(Любоваться им надо тихонько, не слишком палясь).
- Самым проблемным из всех был. Устали дико, детей по деревням собирали, дороги там условные, плюс влажность. А парень этот даже не спал - прилепился, как обезьянка, знаешь, держался всю ночь за рубашку. Потом стал шептать что-то на своём. Я, конечно, не понял, переводчица спит, будить жалко. Всю ночь с ним промаялся, а утром, перед самой посадкой, он снова в припадок. Как выдерживал только. К самолету мы с капельницей, а они - нет, и все. Спецтранспорта не было, на гражданском летели.
(Курит. Видно, давно, это его успокаивает. Сигарету не мучает, и не играет. Не поза).
- Не пропустили, в общем. Решили оставить, позже забрать. У них там, на внутренних рейсах, регистрация быстрая - билет показал и беги, документов вообще не смотрят. Пока передал его, да бумаги там разные. Побежал через поле, слышу - орёт. Так кричал, что через двигатель голос. И тут,- Лап поднялся и стряхнул сигарету,- тут меня как прибило. Я себя вдруг в пробирке увидел. Голым и в формалине. Заспиртованным. Я уже видел такое - в день, когда умерла твоя мать. Бегу, знаешь, а сам будто в растворе гребу.
- И ты не полез в самолёт...
- Не полез. Метров тридцать до трапа осталось. Асфальт такой битый, а я встал на нём, как осел. Обратно пошел. А они борт задраили и улетели. И тишина такая, ни голосов, ни машин.
(Движения быстрыми стали. Резковатые, но без суеты, точные, без аристократского этого… Изнеженность сникла куда-то, пена сошла, что ли. Больше опасности стало, толковой такой. Врач, да. Манкий, ****ь, на расстоянии шибает. Нд-а-а. Что-то я бегемот).
- Самолёты у них, как маршрутки, почти каждый час и недорого. В общем, долетел до Джакарты, и тут объявили, что группа разбилась.
- Что ты почувствовал?
- Все пошло довольно-таки, - сказал Марк, - но я опять скажу правду. Словно дар принял. Решил, что смогу наконец-то ответить тебе на вопрос. Гон был все время, как у собаки, когда та по лисице. Каждый день ползти хотел, веришь. С чем ползти к тебе? А тут такой шанс.
- И ты оказался в Греции...
- Денег только туда и хватило. Сначала в Афины, потом до Салоников, дальше в Афон. Там полно нелегалов, русских не любят, но я по-русски не говорил. Да и паспорт французский. На работу нанялся, там её много, скит обустроил. Правда, погнали - вроде летом хозяин приедет, сказали. Ну, я тогда при монастыре пристроился. Главное, мордочку не светить, не купаться, не раздеваться. Чтобы по серенькому, и никто не погонит. Монахи серьёзный народ, но на тело один черт реагируют. Разговаривать начинают, кормить. Там монастырей много, как примелькаюсь - переходил.
- Плохо тебя там представляю. Где ты, где монахи.
- Не думал, что надолго затянется,- сказал Марк,- но там мне попался интересный мужик, лекарь, монах. Я ведь учился, ты знаешь. Увлёкся. Мне Сорбонна путягой после него показалась. Столько узнал! Лечить теперь много умею, там практика, а медикаментов по минимуму. Травматология дело решенное, рук собрал штуки три, вывихи, много по мелочи, народ потянулся. Хочу в хирургию сейчас, оперировать.
- Ты молодец...
- И потом,- он прикурил новую сигарету,- я уже через несколько месяцев аську зажег. Заработал немного, и сразу поехал. На Мексиканца надеялся. С него ведь вся дурь началась.
- Ты мог позвонить,- сказал Дюк, - просто номер набрать. Матери хоть.
- Проболтались бы. Ты бы узнал, был бы фарс. Как в дурацких историях про нежданных гостей. Вроде поплакали, похоронили, расслабились - дальше живут. И тут Марек весь в белом. А так все сработало.
- Марек, весь в голом, мог остаться рабом на Афоне до конца своих дней. Жег Интернет бы до старости, как романная дева. Хлипкая слишком идея.
- Каждому, солнц, свое молево. У тебя тоже было, наверняка. Расскажешь мне как-нибудь?
(Ластится он не снаружи. Все на дальнем идет расстоянии, будит из глубины, изнутри. Еще не коснулся, но у Дюка из мозга и вдоль позвоночника катится, порабощает, как вирус. Живет, верно, там).
- Кстати, я совсем не устал,- сказал Дюк.
- Подожди. Беспокойно мне. Дальше-то как... ну ты понял. Ты еще ничего не сказал.
Ни жужжащей зверушки над ухом, ни липкого пота от жаркого дня. Рая кусок для неизбранных.
Из постели зачем бы: душ и еда, что еще? Плотно и прочно, сплетаясь, размеренно-нежно, уж на исходе четвертого дня - любилось. Слова были готовы, давно отшлифованы, стали субтитрами, но для верности нужно, конечно, озвучить. Дюк просто забыл.
- А, да, - накрыл по-хозяйски собой, - сейчас возвращаемся. Приводим могилку в порядок твою.
- Ах, как смешно.
- Бизнес я продал, а дальше имеется мысль. Есть такая страна, которую можно освоить в предложенных нам обстоятельствах. С видом на жительство особенных сложностей нет, то, что умеем, востребовано. Даешь приключения. То есть, с нуля.
- Ну ничего себе. А что за епархия? Это не в тундре?
- Там тепло, - Егор стал серьёзным,- представь, что мы в школе. Думай, как я.
- Так и знал, - Марк взъерошил соломенный ежик, - мы, значит, теперь мексиканцы. Ошибки природы.
Смеялись лениво, ласкаясь.
- Разумеется, да, - он ответил, не думая, просто. - Да.




5 комментариев