Дафна дю Морье
Ганимед
Аннотация
Одна из замечательных новелл Дафны дю Морье о мальчике, чувство к которому так и не реализовалось. Начавшись поэтичной, почти средневековой балладой, история жестко ломается, становясь экспрессивной и устрашающе экзистенциальной.. История о странностях любви, об обманутых ожиданиях человека, живущего почти в.... виртуальном мире.
Повесть опубликована в переводе Н.Тихонова.
Одна из замечательных новелл Дафны дю Морье о мальчике, чувство к которому так и не реализовалось. Начавшись поэтичной, почти средневековой балладой, история жестко ломается, становясь экспрессивной и устрашающе экзистенциальной.. История о странностях любви, об обманутых ожиданиях человека, живущего почти в.... виртуальном мире.
Повесть опубликована в переводе Н.Тихонова.
6
Он поставил поднос на стол у окна и широким жестом показал на балкон и Большой канал.
— Сэр Джонсон про-оводил здесь целый день, — сказал он. — Целый день он лежал на балконе со своим, как вы его называете?
Он поднял руки, словно поднося к глазам бинокль, и покачался из стороны в сторону. Улыбка вновь обнажила зубы с золотыми коронками.
— Мистер Берти Пул совсем другое дело, — добавил он. — Катером до Лидо и обратно затемно. Маленькие обеды, маленькие вече-еринки с друзьями. Он любил весели-иться.
Он понимающе подмигнул, чем вызвал у меня нескрываемое отвращение, и навязчиво стал наливать мне кофе. Это было уже слишком.
— Послушайте, — сказал я, — я не знаю, как вас зовут, и не знаю, как все это вышло. Если вы сговорились с портье из отеля «Байрон», то я здесь абсолютно ни при чем.
Он с удивлением поднял глаза.
— Вам не нра-авится комната? — спросил он.
— Конечно, нравится, — ответил я. — Не в том дело. Дело в том, что я сам заранее обо всем договорился, а теперь…
Но он прервал меня.
— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, — сказал он, маша рукой. — Вы платите здесь меньше, чем в отеле «Байрон». Я за этим прослежу. И никто не приходит, чтобы вам мешать. Со-овсем никто. — Он снова подмигнул мне и тяжелой походкой направился к двери. — Если вам что-то понадобится, — сказал он, — просто по-озвоните в колокольчик. О'кей?
Он вышел из комнаты. Я вылил кофе в Большой канал. Не исключено, что он был отравлен. Потом я сел и стал обдумывать положение, в котором оказался.
В Венеции я был три дня. Как я полагал, комната в отеле «Байрон» была мною заказана на две недели. Таким образом, у меня оставалось еще десять дней отдыха. Готов ли я провести десять дней в этих восхитительных апартаментах, за что, как меня уверили, мне не придется вносить дополнительную плату, под эгидой этого назойливого типа? Очевидно, он не держал на меня зла за свое падение в канал. Пластырь был явным свидетельством этого досадного случая, но он даже не упомянул о нем. В светло-сером костюме вид у него был не такой зловещий, как в белом макинтоше. Возможно, тогда я позволил слишком разгуляться своему воображению. И все же… Я окунул палец в кофейник, затем поднес его к губам. У него был приятный вкус. Я взглянул на телефон. Если я сниму трубку, ответит его голос с гнусным американским акцентом. Пожалуй, лучше позвонить в отель «Байрон» из другого места, а еще лучше выяснить все лично.
Я запер шкафы, комод и свои чемоданы и положил ключи в карман. Я вышел из комнаты и запер дверь. У него, без сомнения, есть запасные ключи, но уж тут ничего не поделаешь. Затем, держа трость наготове на случай возможного нападения, я спустился по лестнице и вышел на улицу. Внизу не было заметно никаких признаков моего врага. Дом казался необитаемым. Я вернулся в отель «Байрон», рассчитывая получить там необходимую информацию, но удача мне изменила. За конторкой стоял не тот портье, который утром сообщил мне о моем переселении. Несколько новых постояльцев ждали очереди на регистрацию, и портье проявлял заметное нетерпение. Я уже не жил под их крышей и потому не интересовал его.
— Да, да, — сказал он, — все в порядке, когда у нас нет свободных номеров, мы действительно расселяем своих клиентов в других местах. Жалоб никогда не поступало.
Стоявшая у конторки пара тяжело вздохнула, я их задерживал.
Так ничего и не добившись, я вышел из отеля. Казалось, делать нечего. Ярко сияло солнце, легкий ветерок покрывал рябью воду Большого канала, гуляющие без пальто и шляп не спеша ходили по набережной, полной грудью вдыхая морской воздух. Я подумал, что могу к ним присоединиться. В конце концов, ничего страшного не произошло. Я был временным владельцем комнаты с видом на Большой канал, одного этого было достаточно, чтобы пробудить зависть во всех этих туристах. О чем мне беспокоиться? Я немного проплыл на vaporetto, затем дошел до церкви рядом с Академией, вошел в нее, сел и стал рассматривать беллиниевскую «Мадонну с младенцем». Созерцание картины успокоило мои нервы.
Днем я спал и читал газету на балконе — в отличие от сэра Джонсона, кем бы он ни был, — не прибегая к помощи полевого бинокля, и никто не подходил ко мне близко. Насколько я мог судить, к моим вещам не прикасались. Небольшая ловушка, которую я расставил — купюра в сто лир между двумя галстуками, — лежала на месте. Я вздохнул с облегчением. В конце концов, возможно, оно и к лучшему.
Прежде чем идти обедать, я написал письмо моему начальнику. Он проявлял склонность относиться ко мне покровительственно, и мне доставило удовольствие уколоть его, сообщив, что я нашел квартиру с прекраснейшим во всей Венеции видом. «Между прочим, — писал я, — каковы в отеле „Маджестик" возможности для молодых официантов повышать свою квалификацию? Здесь есть один очень славный мальчик с прекрасной внешностью и манерами, как раз то, что нужно для вашего отеля. Могу я дать ему хоть слабую надежду? Он — единственная опора матери-вдовы и сестры-сироты».
Я пообедал в моем любимом ресторане — несмотря на пропуск вчерашнего вечера, я уже стал там persona grata13 — и не спеша пошел на площадь Сан-Марко, не испытывая ни малейшего беспокойства. Этот тип, конечно, мог появиться, белый макинтош и прочее, но я слишком хорошо пообедал, чтобы думать о нем. Оркестр окружали матросы с эсминца, ставшего на якорь в лагуне. Кругом шел обмен бескозырками, раздавался смех, требования исполнить ту или иную популярную мелодию, и слушатели, увлеченные общим весельем, аплодировали матросу, который сделал вид, будто выхватывает у скрипача его скрипку. Я громко смеялся вместе со всеми, и Ганимед стоял рядом со мной. Как права оказалась сестра, поддержав мое решение отправиться в Венецию вместо Девона. Как благословлял я выходку ее кухарки!
В самом разгаре веселья мой дух покинул тело. Надо мной и подо мной плыли облака, моя правая рука, вытянутая на спинке свободного стула рядом с моим, была крылом. Обе мои руки были крыльями, и я парил над землей. Но у меня были и когти. Когти держали безжизненное тело мальчика. Его глаза были закрыты. Потоки ветра увлекали меня вверх сквозь тучи, и я испытывал такое торжество, что тело мальчика казалось еще более драгоценным, будто принадлежало оно не ему, а мне. Затем я вновь услышал звуки оркестра, смех, аплодисменты и увидел, что в своей вытянутой руке сжимаю руку Ганимеда, который не делал ни малейшей попытки высвободиться.
Я смутился. Отдернул руку и стал аплодировать вместе с другими. Затем я поспешно взял стакан кюрасо.
— За удачу, — сказал я, поднимая бокал за толпу, за оркестр, за весь мир. Негоже было особо выделять ребенка.
Ганимед улыбнулся.
— Signore доволен, — сказал он.
И только, ничего больше. Но я почувствовал, что он разделяет мое настроение. Я импульсивно подался вперед.
— Я написал другу в Лондон, — сказал я, — директору большого отеля. Надеюсь через несколько дней получить от него ответ.
Он не выказал удивления. Он наклонил голову, затем сжал руки за спиной и посмотрел над головами толпы.
— Это очень любезно с вашей стороны, signore, — сказал он.
Интересно, подумал я, насколько велика его вера в меня, превышает ли она веру в его римских друзей.
— Тебе придется сообщить мне свое имя и другие данные, — сказал я ему, — и полагаю, взять рекомендацию от владельца этого кафе.
Короткий кивок головы показал, что он меня понял.
— У меня есть документы. — Он произнес эти слова с такой гордостью, что я не смог сдержать улыбки и представил себе досье со школьной характеристикой и рекомендацией тем, кто, возможно, примет его на работу. — За меня будет говорить мой дядя, — добавил он. — Signore должен только спросить моего дядю.
— А кто твой дядя? — поинтересовался я.
Он повернулся ко мне, и на его лице впервые появилось немного скромное, немного застенчивое выражение.
— Signore, кажется, переехал в его квартиру на виа Гольдони, — сказал он. — Мой дядя большой деловой человек в Венеции.
Его дядя… этот отвратительный тип был его дядей. Все объяснилось. То была родственная связь. Мне не стоило беспокоиться. Я тут же определил этого человека братом его ворчливой матери и решил, что оба играют на чувствах моего Ганимеда, который, стремясь к независимости, делает все возможное, чтобы избавиться от их опеки. И все же положение у меня было не из завидных. Я вполне мог смертельно оскорбить этого человека, когда он споткнулся и упал в канал.
— Конечно, конечно, — сказал я, делая вид, будто обо всем знаю, в чем он, по всей видимости, не сомневался. К тому же я вовсе не хотел предстать перед ним в глупом виде. — Очень комфортабельная квартира. Ты ее знаешь?
— Естественно, знаю, signore, — улыбаясь ответил он. — Ведь это я буду каждое утро приносить вам завтрак.
Я едва не лишился чувств. Ганимед приносит мне завтрак… В одно мгновение такое невозможно постигнуть. Я скрыл свои чувства, заказав еще кюрасо, и он бросился выполнять заказ. Я пребывал в том состоянии, которое французы, кажется, называют bouleverse.14 Одно дело снимать восхитительную квартиру — к тому же без дополнительных затрат, — но видеть в ней Ганимеда с завтраком на подносе… перед таким человеку живому почти невозможно устоять. Я всеми силами старался вернуть самообладание, прежде чем он вернется, но его заявление привело меня в такое возбуждение, что я с трудом мог усидеть на месте. Он вернулся со стаканом кюрасо.
— Приятных сновидений, signore, — сказал он.
Приятных сновидений, поистине да… У меня не хватило смелости посмотреть на него. Я проглотил кюрасо и, воспользовавшись тем, что его позвал другой клиент, незаметно ушел, хоть до полуночи было еще далеко. Я вернулся к себе на квартиру, движимый скорее инстинктом, нежели сознанием — я не видел, куда иду, — и вдруг заметил на столе все еще неотправленное письмо в Лондон. Я мог бы поклясться, что, уходя обедать, взял его с собой. Но его можно отправить и утром. Я был слишком взволнован, чтобы снова выходить на улицу.
Я постоял на балконе и выкурил сигару — неслыханное излишество, — затем просмотрел те немногие книги, что привез с собой, с мыслью одну из них подарить Ганимеду, когда он принесет мне завтрак. Его английский был так хорош, что заслуживал награды, а в мысли поощрить его чаевыми было нечто безвкусное. Троллоп для него не подходил, Чосер тоже. Том мемуаров из времен короля Эдуарда был бы ему непонятен. Смогу ли я расстаться с моим изрядно потрепанным томиком сонетов Шекспира? Как трудно принять решение. Я положу его под подушку и буду на нем спать, если сумею заснуть, что казалось весьма сомнительным. Я принял две таблетки сонерила и заснул.
Проснулся я около десяти утра. По движению на Большом канале можно было подумать, что день в полном разгаре. Утро было ослепительно прекрасным. Я вскочил с кровати, бросился в ванную и побрился — обычно я делаю это после завтрака, — сунул ноги в комнатные туфли и выставил на балкон стол и стул. Затем с трепетом подошел к телефону и снял трубку. Послышалось гудение, щелчок, и, чувствуя, как кровь приливает к сердцу, я узнал его голос.
— Buon giorno, signore.15 Вы хорошо спали?
— Очень хорошо, — ответил я. — Принеси мне, пожалуйста, cafe complet.
— Cafe complet, — повторил он.
Я повесил трубку, вышел на балкон и сел. Затем вспомнил, что не отпер дверь. Я исправил оплошность и вернулся на балкон. Я очень волновался, хоть и понимал, что это глупо. Меня даже слегка подташнивало. Через пять минут, показавшихся мне целой вечностью, в дверь постучали. Он вошел, держа поднос на уровне плеча, его манеры были столь царственны, осанка столь горделива, словно он подносил мне не кофе и булочки с маслом, а амброзию и лебедя. На нем была утренняя куртка в тонкую черную полоску, вроде тех, какие носят лакеи в клубах.
— Приятного аппетита, signore, — сказал он.
— Благодарю, — ответил я.
На колене я держал свой небольшой подарок. Сонетами Шекспира придется пожертвовать. Они незаменимы именно в этом издании, но не важно. Ничто другое не подошло бы. Однако, прежде чем вручить свой подарок, я обратился к нему.
— Я хочу сделать тебе небольшой подарок, сказал я.
Он вежливо поклонился.
— Signore слишком добры, — пробормотал он.
— Ты так хорошо говоришь по-английски, — продолжал я, — что должен слышать только самое лучшее. Скажи мне, кто, по-твоему, был самым великим англичанином?
Он задумался. Он стоял совсем как на площади Сан-Марко, сжав руки за спиной.
— Уинстон Черчилль, — сказал он.
Мне следовало бы знать это. Естественно, мальчик жил в настоящем или, что правильнее, в данное мгновение, в самом недавнем прошлом.
— Хороший ответ, — сказал я улыбаясь, — но я хочу, чтобы ты подумал еще. Нет, я задам вопрос немного иначе. Если бы у тебя были деньги и ты бы хотел истратить их на что-нибудь связанное с английским языком, что бы ты купил прежде всего?
На сей раз он ответил без малейшего колебания.
— Я бы купил долгоиграющую пластинку. Долгоиграющую пластинку Элвиса Пресли или Джонни Рея.
Я был разочарован. Не на такой ответ я надеялся. Кто они такие? Эстрадные певцы! Ганимеда надо воспитывать на более достойных вещах. По зрелом размышлении я решил не расставаться с сонетами Шекспира.
— Очень хорошо, — сказал я, надеясь, что мои слова не прозвучали слишком грубо. Я сунул руку в карман и достал купюру в тысячу лир: — Но я советую тебе лучше купить Моцарта.
Смятая купюра исчезла в его руке. Он сделал это очень скромно, и я полюбопытствовал в душе, успел ли он взглянуть на цифры. В конце концов, тысяча лир есть тысяча лир. Я спросил, как ему удается уклоняться от своих обязанностей в кафе, чтобы приносить мне завтрак, и он ответил, что его работа там начинается не раньше полудня. К тому же владелец кафе был в хороших отношениях с его дядей.
— Похоже, — сказал я, — твой дядя в хороших отношениях со многими людьми. — Я имел в виду портье из отеля «Байрон».
Ганимед улыбнулся.
— В Венеции, — сказал он, — все знают всех.
Я заметил, что он бросает восхищенные взгляды на мой халат; когда я купил его специально для путешествий, он казался мне несколько ярковатым. Вспомнив пластинки, я мысленно сказал себе, что, в конце концов, он всего-навсего ребенок и от него нельзя многого ожидать.
— У тебя бывает выходной? — спросил я.
— По воскресеньям. Я беру его по очереди с Беппо.
Беппо… наверное, этим крайне неподходящим ему именем зовут смуглого юношу из кафе.
— А что ты делаешь по выходным? — поинтересовался я.
— Гуляю с друзьями, — ответил он.
Я налил себе еще кофе и подумал, хватит ли у меня храбрости. Получить отпор было бы досадно и обидно.
— Если у тебя не будет ничего лучшего, — сказал я, — и в следующее воскресенье ты будешь свободен, я возьму тебя проехаться в Лидо.
— На катере? — поспешно спросил он.
Я растерялся. Я рисовал в воображении обычный vaporetto. Катер стоил бы слишком дорого.
— Это будет зависеть от обстоятельств, — уклончиво ответил я. — Я почти уверен, что на воскресенье все катера уже заказаны.
Он энергично затряс головой.
— Моя дядя знает одного человека, который дает катера напрокат, — сказал он. — Их можно нанять на целый день.
Силы небесные, да это будет стоить целое состояние! Не к чему связывать себя такими обязательствами.
— Мы посмотрим, — сказал я. — Это будет зависеть от погоды.
— Погода будет отличной, — сказал он улыбаясь. — Всю неделю продержится хорошая погода.
Его энтузиазм был заразителен. Бедный ребенок, должно быть, у него не много развлечений. Весь день и полночи на ногах, обслуживает туристов. Глоток воздуха на катере покажется ему раем.
— Ладно, хорошо. Если погода будет хорошей, мы поедем.
Я встал, смахивая крошки с халата. Он решил, что я его отпускаю, и схватил поднос.
— Могу я сделать для вас еще что-нибудь, signore? — спросил он.
— Ты можешь отослать мое письмо, — сказал я. — То, о котором я тебе говорил, моему другу директору отеля.
Он скромно потупил глаза и ждал, когда я дам ему письмо.
— Вечером я тебя увижу? — спросил я.
— Конечно, signore, — сказал он. — В обычное время я оставлю для вас столик.
Я отпустил его и пошел принять ванну. Лишь когда я лежал в горячей воде, в голову мне пришла неприятная мысль. Что, если Ганимед также приносил завтрак сэру Джонсону и ездил на катере в Лидо с Берти Пулом? Я отогнал эту мысль. Она была слишком оскорбительной…
Как он и предсказывал, всю неделю простояла хорошая погода, и с каждым днем меня все больше завораживало то, что я видел вокруг себя. В моих апартаментах ни следа чьего-либо присутствия. Моя кровать убиралась словно по волшебству. Дядя оставался perdu.16 А утром, стоило мне прикоснуться к телефону, как я слышал голос Ганимеда и он приносил мне завтрак. В кафе меня каждый вечер ждал столик с опрокинутым на него стулом, стакан кюрасо и полбутылки эвианской воды. Пусть меня больше не посещали странные видения и сны, зато не покидало настроение радостного возбуждения, ничто в мире не заботило, и между мной и Ганимедом окрепла связь, для которой я не нахожу иного названия, кроме как «телепатическое взаимопонимание» и «поразительное родство душ». Для него не существовал ни один клиент, кроме меня. Он выполнял свои обязанности, но всегда являлся по первому моему зову. А завтраки на балконе являлись кульминацией дня.
Воскресенье началось как нельзя лучше. Сильный ветер, из-за которого нам пришлось бы отправиться на vaporetto, не предвиделся, и, когда он принес мне кофе и булочки, выражение его лица выдавало волнение.
— Signore поедет в Лидо? — спросил он.
Я кивнул.
— Конечно, — сказал я. — Я всегда исполняю свои обещания.
— Я все устрою, — сказал он, — если signore к половине двенадцатого подойдет к первому причалу отсюда.
Он так спешил, что впервые за все время, что приносил мне завтрак, исчез без дальнейших разговоров. Я немного забеспокоился. Ведь я даже не спросил его о цене.
Я присутствовал на мессе в соборе Сан-Марко — трогающее душу зрелище пробудило во мне самые возвышенные чувства. Величественная обстановка, безупречное пение. Я искал глазами Ганимеда, почти надеясь увидеть, как он входит, держа за руку свою маленькую сестренку, но в заполнившей собор толпе его не было. Ну конечно же, он так волновался перед поездкой на катере.
Я вышел из собора на ослепительный солнечный свет и надел темные очки. Лагуну покрывала едва заметная зыбь. Как бы я хотел, чтобы он выбрал гондолу. В гондоле я смог бы беззаботно лечь, вытянувшись во весь рост, и мы бы поплыли в Торчелло. Я даже мог бы взять с собой сонеты Шекспира и один или два прочесть ему вслух. Вместо этого мне приходится потворствовать его юношеским прихотям и вступать в век скорости. Ладно, забудем о тратах! Но больше такое не повторится.
Я увидел его стоящим у самой воды, он переоделся в шорты и синюю рубашку. Он выглядел гораздо младше, совершенным ребенком. Я помахал ему прогулочной тростью и улыбнулся.
— Посадка окончена? — весело крикнул я.
— Посадка окончена, signore, — ответил он.
Я подошел к причалу и увидел перед ним великолепный, выкрашенный лаком катер с кабиной, маленьким вымпелом на носу и большим мотором на корме. У мотора в ярко-оранжевой рубашке с расстегнутым воротом, обнажавшим волосатую грудь, стояла громадная, неуклюжая фигура, вид которой поверг меня в смятение. При моем появлении он нажал на клаксон и мотор издал оглушительный рев.
— Мы отправляемся, — сказал он. — О нас будут пи-исать все газеты. Повеселимся.
7
Со свинцовой тяжестью на сердце я взошел на борт и тут же чуть не потерял равновесие — наш отвратительный механик завел мотор на полную мощность. Чтобы не упасть, я ухватился за его обезьянью руку и он усадил меня рядом с собой, одновременно настолько открыв дроссель, что я испугался за свои барабанные перепонки. Мы с устрашающей скоростью неслись через лагуну, каждое мгновение с таким грохотом ударяясь днищем о поверхность воды, что всякий раз наше судно едва не разваливалось пополам; водяные стены, вздымавшиеся у обоих бортов, не оставляли ни малейшей надежды увидеть изящество и краски Венеции.
— Нам обязательно надо ехать так быстро? — изо всех сил крикнул я, чтобы быть услышанным через оглушительный рев мотора.
Мерзкий тип осклабился, обнажив золотые коронки, и крикнул в ответ:
— Мы поби-иваем все рекорды. Это самый мощный катер в Венеции.
Я покорился судьбе. Я не только не был готов к подобному испытанию, но и не оделся соответствующим образом. Мой темно-синий пиджак был уже весь забрызган соленой водой, а штанины перепачканы машинным маслом. От шляпы, которую я купил, чтобы защититься от солнца, не было никакой пользы. В чем я нуждался, так это в авиационном шлеме и защитных очках. Покинуть мое ничем не защищенное место и проползти в кабину означало бы подвергнуть немалому риску мои конечности. Помимо прочего, у меня развилась бы клаустрофобия, а шум в замкнутом пространстве был бы еще сильнее. Мы все неслись вперед и вперед, в направлении Адриатического моря, раскачивая на оставляемых нами волнах каждое судно в пределах видимости, когда, дабы продемонстрировать свое мастерство рулевого, сидевший рядом со мной монстр принялся выписывать огромные круги, стараясь попасть на нами же оставленный след.
— Смотрите, как он по-однимается, — гаркнул он мне в самое ухо, и мы действительно поднялись, да на такую высоту, что при мысли о грохоте, с которым мы низвергнемся вниз, в животе у меня все перевернулось, а водяная пыль, из которой мы не успели выскочить, попала мне за воротник и потекла по спине. На носу катера, с развевающимися на ветру волосами и наслаждаясь каждым мгновением этого безумного полета, стоял Ганимед, морской дух, радостный и свободный. Он был моим единственным утешением, и лишь то, что я видел, как он стоит там, время от времени оборачиваясь и улыбаясь, помешало мне приказать немедленно возвращаться в Венецию.
Когда мы прибыли в Лидо — поездка туда на vaporetto довольно приятна, — я не только промок, но и оглох в придачу: объединенные усилия воды и рева мотора успешно заблокировали мое правое ухо.
Весь дрожа, я молча ступил на берег и почувствовал острое отвращение, когда этот тип фамильярно взял меня за руку и повел к ожидавшему нас такси; Ганимед скользнул на переднее сиденье рядом с водителем. Куда теперь, спросил я себя. Как пагубно рисовать в фантазии картину дня. В соборе, во время мессы, я видел, как вместе с Ганимедом схожу с небольшого, покойного судна, управляемого кем-то незаметным, и мы не спеша идем в маленький ресторан, который я присмотрел в мой прошлый приезд. Как восхитительно, думал я, сидеть с ним за угловым столиком, выбирать меню, смотреть на его счастливое лицо, видеть, как оно постепенно розовеет, возможно от вина, слушать, как он рассказывает о себе, о своей жизни, о ворчливой матери, о маленькой сестренке. Потом, за ликером, он будет строить планы на будущее в случае, если письмо моему лондонскому начальнику возымеет последствия.
Ничего подобного не произошло. Такси резко затормозило перед современным отелем, выходившем на купальный пляж Лидо. Несмотря на поздний сезон, везде кишел народ, и мерзкий тип, очевидно знакомый с метрдотелем, стал через говорливую толпу прокладывать путь в душный ресторан. Идти за ним по пятам было само по себе достаточно неприятно, из-за пылающей оранжевой рубашки он сразу бросался в глаза, но худшее было впереди. Вокруг большого стола в центре зала сидела куча жизнерадостных итальянцев, разговаривавших на пределе своих голосовых связок; при моем появлении они все как один поднялись и отодвинули стулья, освобождая место. Крашеная блондинка с огромными серьгами в ушах, источая запах духов, обрушила на меня поток итальянских слов.
— Моя сестра, signore, — сказал тип. — Она вас приветствует. Она не говорит по-английски.
Неужели это мать Ганимеда? А полногрудая молодая женщина с ярко-красными ногтями и звенящими браслетами — его маленькая сестренка? У меня закружилась голова.
— Это великая честь, signore, — пробормотал Ганимед, — что вы приглашаете мою семью на ленч.
Я сел, чувствуя, что потерпел поражение. Я никого не приглашал. Но от меня уже ничего не зависело. Дядя — если он действительно дядя, этот тип, этот монстр, — раздавал всем меню размером с плакат. Метрдотель угодливо согнулся перед ним пополам. А Ганимед… Ганимед улыбался в глаза какому-то отвратительному кузену с волосами «ежиком» и подстриженными усами, который пухлой смуглой рукой изображал движение катера по воде.
Я в отчаянии повернулся к типу.
— Я не ожидал такого количества гостей, — сказал я. — Боюсь, я не взял с собой достаточно денег.
Он прервал разговор с метрдотелем.
— Не беспокойтесь… не беспокойтесь… — сказал он, беззаботно махнув рукой. — Предоставьте счет мне. Потом мы все уладим.
Потом уладим… Прекрасно. К концу этого дня я уже ничего не смогу уладить. Передо мной поставили огромную тарелку лапши, залитой густым мясным соусом, и я увидел, что мой бокал наполняется тем особым сортом бароло, которое, будучи принято днем, означает верную смерть.
— Вам весело? — спросила сестра Ганимеда, прижимая мою ногу туфлей.
Через несколько часов я оказался на пляже, по-прежнему между ней и ее матерью; переодевшись в бикини, они, как две морские свиньи, лежали по обеим сторонам от меня, а тем временем кузены, дядюшки и тетушки, крича и смеясь, плескались в море, снова возвращались на пляж, а Ганимед, прекрасный как ангел небесный, восседал перед невесть откуда взявшимся проигрывателем, бесконечно прокручивая долгоиграющую пластинку, которую он купил на мою тысячу лир.
— Мама очень хочет поблагодарить вас, — сказал Ганимед, — за то, что вы написали в Лондон. Если я поеду, то она тоже приедет туда с моей сестрой.
— Мы все поедем, — заявил его дядя. — У нас будет одна большая компания. Мы поедем в Лондон и подожжем Темзу.
Наконец это закончилось. Последнее купание в море, последний удар красной туфли сестры, последняя бутылка вина. Голова у меня раскалывалась, и меня буквально выворачивало. Родственники по одному подходили пожать мне руку. Мать обняла меня, рассыпаясь в благодарностях. Никто из них не собирался сопровождать нас на катере в Венецию и продолжать веселье там — вот единственное утешение, которое мне оставалось под конец этого злополучного дня.
Мы вошли на катер. Заработал мотор. Мы отчалили. Не такое возвращение рисовал я в своем воображении — спокойное, беспечное возвращение по гладкой воде, Ганимед около меня, за время, проведенное в обществе друг друга, нас уже связывает иная, новая близость, солнце склоняется к горизонту и превращает остров — Венецию — в сплошной розовый фасад.
Примерно на полпути я увидел, что Ганимед возится с веревкой, сложенной на корме нашего судна, а его дядя, снизив скорость, оставил управление и помогает ему. Нас стало покачивать из стороны в сторону, что вызвало у меня легкую тошноту.
— Что сейчас будет? — крикнул я.
Ганимед откинул волосы с глаз и улыбнулся.
— Я встану на водные лыжи, — сказал он. — Я последую за вами в Венецию на водных лыжах.
Он юркнул в кабину и тут же вышел из нее с лыжами. Дядя и племянник приладили веревку, затем Ганимед сбросил рубашку и шорты. Он стоял выпрямившись — маленькая бронзовая фигурка в плавках.
Его дядя кивком подозвал меня.
— Вы сядете здесь, — сказал он. — Вы травить веревку вот так.
Он закрепил веревку на швартовой тумбе и сунул ее конец мне в руки, затем бросился к месту водителя и включил мотор. Раздался оглушительный рев.
— Что вы имеете в виду? — крикнул я. — Что я должен делать?
Ганимед был уже в воде и закреплял лыжи на голых ступнях, как вдруг — совершенно невероятно — он рывком выпрямился и катер двинулся. Дядя нажал на клаксон, и судно, набирая скорость, помчалось вперед. Веревка, закрепленная на швартовой тумбе, натянулась, я крепко держал ее конец, а за кормой на фоне исчезающего вдали Лидо четко вырисовывалась маленькая фигурка Ганимеда, неколебимо, как скала, стоявшего на своих танцующих лыжах.
Я сидел на корме и наблюдал за ним. Он вполне мог бы быть возничим колесницы, а его лыжи беговыми конями. Его вытянутые вперед руки держали путеводную веревку, как руки возничего держали бы вожжи; когда мы свернули раз, другой, он, изгибаясь всем корпусом, повторял наш курс, поднимал руку в знак приветствия и на лице его играла улыбка торжества.
Море было небом, водная зыбь — клочьями облаков, одному Богу известно, какие метеоры мы разогнали и рассеяли — этот мальчик и я, — взмывая к солнцу. Я знаю, что иногда нес его на плечах, иногда он ускользал, а однажды мы оба словно ворвались в жидкий туман и был он ни морем, ни небом, но светящимися кольцами, окружающими звезду.
Когда катер снова лег на курс, он сделал мне знак рукой и показал на веревку, укрепленную на швартовой тумбе. Я не знал, что он имел в виду: надо ли мне укрепить веревку или, наоборот, ослабить, и я сделал совершенно не то — я резко дернул ее, он тут же потерял равновесие и упал в воду. Он, наверное, поранился, поскольку я видел, что он даже не пытается плыть.
— Остановите мотор! Дайте задний ход! — взволнованно крикнул я его дяде.
Конечно же, надо было совсем остановить катер. Дядя вздрогнул и, не видя ничего, кроме моего испуганного лица, дал задний ход. От резкого толчка я упал, а когда снова поднялся на ноги, мы были почти над самым мальчиком. Под кормой была мешанина из бурлящей воды, перепутанной веревки, расщепленного дерева, и, наклонившись за борт, я увидел стройное тело Ганимеда, затянутое лопастями винта, и его ноги, превратившиеся в сплошное месиво; я наклонился, чтобы вытащить его. Я вытянул руки, чтобы схватить его за плечи.
— Следите за веревкой, — крикнул его дядя, — вытащите ее!
Он не знал, что мальчик был рядом с нами, под нами, что он уже выскользнул из моих рук, которые всеми силами старались его удержать, что уже… О Боже, уже… вода начинала окрашиваться в красный цвет от его крови.
8
Да, да, сказал я дяде. Да, я выплачу компенсацию. Оплачу все, о чем они меня попросят. Это была моя вина, ошибочное суждение. Я не понял. Да, я оплачу каждый пункт, который он сочтет нужным включить в список. Я телеграфирую в мой лондонский банк, возможно, мне поможет британский консул, что-нибудь посоветует. Если я не сумею сразу собрать деньги, то буду выплачивать столько-то в неделю, столько-то в месяц, столько-то в год. Да, всю оставшуюся жизнь я буду продолжать выплачивать, буду поддерживать лишившихся близкого человека, ибо то была моя вина, я согласен, это была только моя вина.
Допущенная мною ошибка была причиной несчастного случая. Британский консул сидел рядом со мной и слушал объяснения дяди, который держал в руках записную книжку и пачку счетов.
— Этот джентльмен уже две недели снимает у меня квартиру, и мой племянник каждый день приносит ему завтрак. Он приносит цветы. Приносит кофе и булочки. Он настаивает, чтобы мой племянник ухаживал только за ним и ни за кем другим. Этот джентльмен очень привязан к моему мальчику.
— Это правда?
— Да, это правда.
Похоже, что за освещение полагалась дополнительная плата. И за отопление ванной. Ванну надо было особым способом отапливать снизу. Мужчине требовалось время на то, чтобы прийти и починить ставню. Мальчику, сказал он консулу, чтобы приносить мне завтрак и до полудня не ходить в кафе. А время, на которое он взял отгул в воскресенье? Он не знал, готов ли джентльмен оплатить эти пункты.
— Я уже сказал, что за все заплачу.
Вновь справились с записной книжкой, и всплыли поломка мотора на катере, цена водных лыж, которые невозможно починить, оплата судна, которое отбуксировало нас в Венецию, отбуксировало с Ганимедом, лежавшим без сознания у меня на руках, и вызов по телефону машины скорой помощи. Один за другим он прочел все эти пункты по записной книжке. Оплата медицинских услуг, гонорар врача, гонорар хирурга.
— Джентльмен утверждает, он за все заплатит.
— Это правда?
— Это правда.
Желтое лицо над темным костюмом казалось еще более жирным, чем раньше, распухшие от слез глаза косо смотрели на консула.
— Этот джентльмен, он пишет своему другу в Лондон про моего племянника. Может быть, там его уже ждет работа, работа, которую он не может принять. У меня есть сын, Беппо, мой сын тоже очень хороший мальчик, этот джентльмен его знает. Джентльмен так любит этих мальчиков, он следует за ними до дома. Да, я вижу это собственными глазами, он следует за ними до дома. Беппо хотел бы поехать в Лондон вместо своего несчастного брата. Может быть, джентльмен это устроит? Он снова писать своему другу в Лондон?
Консул осторожно кашлянул.
— Это правда? Вы следовали за ними до их дома?
— Да, это правда.
Дядя вытащил большой носовой платок и высморкался.
— Мой племянник очень хорошо воспитанный мальчик. Мой сын тоже. Никогда никаких неприятностей. Все деньги, какие они зарабатывают, они отдают семье. Мой племянник, он очень верит этому джентльмену, и он говорит мне, говорит всей семье, своей матери, что этот джентльмен возьмет его с собой в Лондон. Его мать, она покупает новые платья, и сестра тоже, они покупают для мальчика новую одежду, чтобы ехать в Лондон. Теперь она спрашивает себя, что будет с одеждой, ее нельзя носить, она бесполезна.
Я сказал консулу, что за все заплачу.
— Его бедная мать, у нее разбито сердце, — продолжал голос, — и его сестра тоже, она потеряла всякий интерес к работе, она стала нервной. Кто заплатит за похороны моего мальчика? Тогда этот джентльмен, он любезно говорит, что не остановится перед затратами.
Не остановится перед затратами, так пусть же они пойдут и на траур, и на покровы, и на венки, и на музыку, и на рыдания, и на процессию, бесконечно длинную процессию. Я оплачу и туристов, щелкающих фотоаппаратами и кормящих голубей, которые ничего не знают о случившемся, и за влюбленных, обнимающихся в гондолах, и за эхо ангела, звучащее с колокольни, и за плеск воды в лагуне, и за пыхтение vaporetto, отходящего от причала, которое превращается в пыхтение угольной баржи на Паддингтонском канале.
Они, конечно, проходят — не баржи там на канале, я имею в виду приступы ужаса. Ужаса перед несчастным случаем, перед внезапной смертью. Видите ли, потом я сказал себе, что если бы не это несчастье, то была бы война. Или он приехал бы в Лондон, повзрослел, располнел и превратился в типа вроде своего дяди, уродливого, старого. Я не хочу ни в чем оправдываться. Я не хочу абсолютно ни в чем оправдываться. Но из-за случившегося моя жизнь стала совсем иной. Как я уже говорил, я сменил квартиру и переехал в этот район Лондона. Я бросил работу, я порвал с друзьями, словом… я изменился. Я по-прежнему вижусь с сестрой и племянницами, время от времени. Нет, у меня нет другой семьи. Был младший брат, но он умер, когда мне было пять лет, и я его совсем не помню; никогда о нем даже не думал. В течение многих лет сестра была моим единственным оставшимся в живых родственником.
А теперь, прошу меня извинить, мои часы говорят, что уже почти семь вечера. Ресторан на дороге скоро откроется. Я люблю приходить туда вовремя. Дело в том, что мальчик, который учится там на официанта, сегодня празднует свое пятнадцатилетие и у меня есть для него небольшой подарок. Нет-нет, ничего особенного — я не сторонник того, чтобы баловать этих ребят, — кажется, певец по имени Перри Комо очень популярен среди молодежи. У меня есть его последняя пластинка. К тому же он любит яркие цвета — вот я и подумал: возможно, синий с золотом галстук придется ему по вкусу…
Примечания
1
Речной трамвай (ит.).
2
Дворцы (ит.).
3
Джон Булль — воплощение типичного англичанина.
4
Св. Павел, когда он еще не принял христианства, отправился в Дамаск и на пути испытал чудесное явление света с неба, от которого пал на землю и на время потерял зрение.
5
Щеткой (фр.).
6
Болеутоляющее средство (ит.).
7
Дождь (ит.).
8
Добрый вечер, синьор (ит.).
9
Кончено (ит.).
10
До завтра (ит.).
11
Двойной кофе (фр.).
12
Войдите (ит.).
13
Желанным лицом (лат.).
14
Взволнованный, потрясенный (фр.).
15
Добрый день, синьор (ит.).
16
Невидимым (фр.).



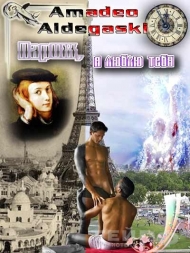
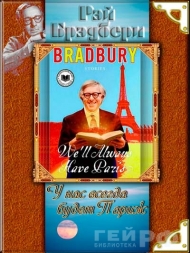
1 комментарий