Дафна дю Морье
Дом на берегу
Аннотация
Они встретились студентами в хоре, объединённые любовью к красоте одного их поющих юношей. Они пронесли через годы свою сильнейшую эмоциональную привязанность, несмотря на женитьбу одного и полное погружение в научные исследования второго. Однажды один предложил другому участие в опасном, но захватывающем эксперименте. Никто из двоих не представлял, что за вихрь событий ворвётся после этого в их судьбы, ведь эти приключения могут стоить и жизни...
Глубокий, обладающий тонким психологизмом и наполненный загадками роман Дафны дю Морье "Дом на берегу" (1969), написанный незадолго после декриминализации гомосексуальности в Англии, помимо всех прочих сюрпризов, несёт в себе гомосексуальный подтекст и характерные авторские намёки. Перевели с английского: Л. А. Бондаренко, Н. В. Зонина.
Они встретились студентами в хоре, объединённые любовью к красоте одного их поющих юношей. Они пронесли через годы свою сильнейшую эмоциональную привязанность, несмотря на женитьбу одного и полное погружение в научные исследования второго. Однажды один предложил другому участие в опасном, но захватывающем эксперименте. Никто из двоих не представлял, что за вихрь событий ворвётся после этого в их судьбы, ведь эти приключения могут стоить и жизни...
Глубокий, обладающий тонким психологизмом и наполненный загадками роман Дафны дю Морье "Дом на берегу" (1969), написанный незадолго после декриминализации гомосексуальности в Англии, помимо всех прочих сюрпризов, несёт в себе гомосексуальный подтекст и характерные авторские намёки. Перевели с английского: Л. А. Бондаренко, Н. В. Зонина.
Дорога была узкая и круто спускалась вниз к долине, по обе стороны от нее простирались поля, а в самом низу, где уклон был особенно резкий, вдруг выныривала на горбатый мост, под которым проходила железная дорога, соединяющая Пар с Плимутом. Я притормозил у моста и услышал гудок паровоза, которого еще не мог видеть, поскольку он выходил из туннеля справа от меня, но через несколько минут, грохоча, появился и сам поезд, он прошел под мостом и сразу повернул, направляясь через долину к Пару. Вновь в памяти всплыли наши студенческие годы. Мы с Магнусом всегда приезжали сюда на поезде, и как только он выходил из туннеля, на отрезке между Лостуитиелом и Паром, мы обычно снимали с полки чемоданы. Мне хорошо были знакомы тогда и эти поля на высоких крутых склонах слева от состава, и долина справа, поросшая тростником и приземистыми ивами — и вот уже станция, где на большой черной доске белыми буквами написано: «ПАР. ПЕРЕСАДКА НА НЬЮ-КЭЙ». Это означало, что мы приехали.
Теперь, наблюдая, как поезд исчезает за поворотом в долине, я совсем иными глазами смотрел на эту местность — по-видимому, появление железной дороги приблизительно сто лет назад не могло не сказаться на ландшафте, на рельефе холмов, ведь дорога была буквально врезана в склон. А кроме железной дороги я обнаружил и другие следы насильственного вторжения в эту местность. Открытые карьеры обезобразили противоположную сторону долины в верхней ее части, где столетие назад во всю действовали шахты по добыче железной и медной руды. Я помню, как капитан Лейн рассказывал однажды за ужином, что во времена королевы Виктории на рудниках работали сотни людей, а когда промысел пришел в упадок, многие шахтеры покинули этот район, другие устроились на более перспективные каолиновые разработки.
Когда поезд скрылся из виду и грохот колес затих, в долине вновь наступила полная тишина, полная неподвижность, только лениво передвигались стада коров, пасущихся на низинных лугах у подножья холма. Я с выключенным двигателем медленно катил по дороге до того места, где снова начинался резкий подъем вверх уже на противоположной стороне долины. Здесь через луг протекал тихий ручей, через который был перекинут низкий мост, и тоже паслись коровы, а чуть выше, справа от дороги, находились старые фермерские постройки. Я опустил стекло и посмотрел вокруг. От фермы с лаем бежал пес, за ним следовал человек с ведром в руке. Я выглянул из окна и спросил, не Тризмилл ли это.
— Да, правильно, — ответил он. — Если поедете прямо, попадете на шоссе из Лостуитиела в Сент-Блейзи.
— А вы не знаете, — спросил я, — где тут старая мельница?
— От нее ничего не осталось, — ответил он. — Вон там, где то здание, там и была мельница. Да сами видите, что осталось от реки. Главное русло давно изменили, еще до моего рождения. Говорят, пока не построили мост, здесь был брод. Река текла прямо поперек этой дороги, и чуть не вся долина была затоплена водой.
— Да, — сказал я, — да, вполне возможно.
Он указал на небольшой дом, стоявший по другую сторону ручья.
— А здесь когда-то была пивная, — пояснил он, — когда вели разработку на шахтах в Лейнскоте и Каррогете. В субботу вечером там собирались шахтеры — так мне рассказывали. Да, немного уж осталось людей, кто еще помнит старые времена.
— А вы не знаете, — спросил я, — нет тут в долине какого-нибудь фермерского дома, который когда-то, в старые времена, мог служить помещичьей усадьбой?
Он ненадолго задумался, потом ответил:
— Там, позади нашей фермы, есть ферма Тривенна, прямо на дороге в Стоунибридж, но я не слышал, чтобы их дом был старый; потом Тринадлин и еще, конечно, Триверран — вон там в долине, недалеко от туннеля. У них, пожалуй, старый дом, даже очень, построен сотни лет назад.
— А не знаете точно, когда он построен? — спросил я, заинтересовавшись.
Он снова задумался.
— Однажды о Триверране даже в газете писали, — сказал он. — Приезжал какой-то господин из Оксфорда, специально взглянуть на него. Если не ошибаюсь, вроде бы говорили, что он построен в 1705 году.
Мой интерес сразу угас. Постройки времен королевы Анны, железные и медные рудники, пивная через дорогу — все это возникло много столетий спустя, гораздо позже того времени, которое меня интересовало. Наверное, такие же чувства испытывает археолог, обнаруживший, что вместо стоянки бронзового века, он раскопал позднеримскую виллу.
— Спасибо, вы мне очень помогли, — сказал я. — Всего вам доброго.
Я развернул машину и поехал назад вверх по склону холма. Если Шампернуны в 1328 году спускались по этой дороге, путь им должен был преградить ручей с мельницей; может быть, правда, через него тогда был перекинут мост — разумеется, другой, старый, а не тот, который я только что видел. Проехав полпути до вершины холма, я свернул влево на проселочную дорогу и вскоре, как мне и говорили, увидел три фермы. Я достал карту. Проселочная дорога, на которой я стоял, на вершине холма соединяется с главной — длинный туннель, вероятно, проходил глубоко внизу под этой дорогой (поистине впечатляющее достижение инженерной мысли). Так, все правильно: справа ферма Тривента, впереди Тринадлин, а третья, у самой железной дороги, должно быть, Триверран. Что же мне делать — спрашивал я сам себя, — объезжая их по очереди, стучаться в каждую дверь и говорить: «Вы не против, если я у вас тут посижу с полчасика „задвину дозняк", как говорят наркоманы, и посмотрю, что будет дальше?»
Что ни говори, археологам все-таки легче. Раскопки всегда кто-то финансирует, вокруг тебя теплая компания таких же энтузиастов, и никакого риска, что к концу дня ты попадешь в психушку.
Я развернулся и поехал назад по той же проселочной дороге, потом вверх, к вершине холма на Тайуордрет. На полпути до вершины мне перекрыла дорогу машина с домом-фургоном на прицепе, которая пыталась въехать в ворота небольшого дома у дороги. Я затормозил, практически съехав в кювет, чтобы дать возможность водителю продолжать свой маневр. Он прокричал мне свои извинения, и в конце концов успешно припарковался у самого дома.
Выйдя из машины, он направился в мою сторону и еще раз извинился.
— Теперь наконец можете спокойно ехать, — сказал он. — Простите, что задержал.
— Ничего страшного, — ответил я, — мне не к спеху. Ловко вы справились с этим фургоном.
— Да, привык уже, — сказал он. — Сам-то я живу в этом доме, но летом, когда люди приезжают на отдых, фургон нас очень выручает.
Я взглянул на табличку над воротами.
— Нижняя часовня, — произнес я. — Необычное название для дома.
Он широко улыбнулся.
— Сначала нам тоже так показалось, когда мы только строили этот дом, — сказал он. — Но потом решили оставить старое имя — испокон веку это место называется Нижняя часовня, а поля за дорогой — Церковный парк.
— Это как-то связано со старым монастырем? — спросил я.
Он не отреагировал.
— Раньше здесь стояло несколько домов, — сказал он, — один, кажется, был молельным домом методистов. Но поля получили свое название гораздо раньше.
Из дома вышла его жена с детьми, и я завел машину.
— Путь свободен, — повторил он, и я, выехав из кювета, направился дальше, вверх по дороге, к повороту, за которым дом уже не был виден. Тогда я развернулся и заехал на стоянку у обочины справа, где была свалена груда камней и бревен.
И вот я на вершине холма. Тут дорога поворачивала и бежала вниз, к Тайуордрету — уже можно было внизу разглядеть несколько домиков. Нижняя часовня… Церковный парк… Неужели здесь раньше находилась часовня? Может, она стояла на месте дома, где живет владелец фургона, а может, прямо здесь, возле парковки, где сейчас красуется только что отстроенный дом?
Внизу, за домом, видны были закрытые ворота, которые вели прямо в поле. Я перелез через них и пошел вдоль живой изгороди, огибавшей поле, все ниже и ниже, пока не убедился, что теперь меня никто не увидит с дороги. По словам владельца фургона, это поле называлось Церковный парк. Ничего примечательного, правда, я в нем не заметил. У дальнего края паслись коровы. Я дошел до нижней границы и, пробравшись сквозь густые кусты, обнаружил, что попал на поросшую травой площадку, за которой сразу начинался обрыв: внизу в нескольких сотнях футов проходила железная дорога, и вся долина лежала передо мной как на ладони.
Я закурил и неторопливо осмотрелся. Ни одной часовни на горизонте, но зато какой вид! Справа от меня, в отдалении, ферма Тризмилл, пониже — две другие, все три хорошо защищены от ветра и непогоды; прямо подо мной — железная дорога, а еще ниже — поразительная панорама долины: здесь уже не было пахотных земель, и долина представляла собой сплошной ковер, сотканный из крон ивы, березы и ольхи. Истинный рай для птиц весной и прекрасное место для мальчишек, где можно спрятаться от неусыпного родительского ока, — правда, нынче мальчишки уже не охотятся за птичьими гнездами, по крайней мере, мои пасынки точно.
Я устроился на траве и, опершись на живую изгородь, докуривал сигарету, как вдруг вспомнил, что у меня в нагрудном кармане лежит фляжка. Я вынул ее и некоторое время разглядывал. Она была небольшая, удобная, и я подумал, не иначе она досталась Магнусу от отца — хорошо держать ее при себе во время плаванья и, когда крепчает ветер, взбодрить себя глотком рома. Вот если бы Вита раздумала лететь и решила добираться пароходом, у меня было бы в запасе еще несколько дней… Громкий стук колес вернул меня к действительности, и я взглянул вниз на долину. Паровоз, один, без вагонов, похожий на жирного шустрого слизняка, мчался с невероятной скоростью — сначала над ивами и березами, затем прогромыхал под мостом и наконец исчез в зияющей пасти туннеля в миле от меня. Я отвинтил колпачок и залпом выпил все содержимое фляжки.
Ну и ладно, думал я, и пусть. Пусть я извращенец. Вита все равно пока еще летит над Атлантикой. И я закрыл глаза.
Глава шестая
Я рассчитывал, что на этот раз, если сидеть спокойно, с закрытыми глазами, удобно откинувшись на изгородь, может быть, мне удастся уловить сам момент перехода из одного времени в другое. В обоих предыдущих случаях смена декораций заставала меня в процессе движения: в первый раз я шел по полю, во второй — по кладбищу. Теперь же все должно быть иначе, поскольку я настроился не пропустить момент начала действия препарата. Теперь я знал, чего ждать: наступит ощущение благодати, как будто с души свалилась тяжесть, и одновременно невероятной легкости, словно я стал невесомым. Сегодня все мне благоприятствовало: не было ни внутреннего страха, ни наводящего уныние дождя. Стало даже тепло — наверное, из-за туч уже выглянуло солнце: даже сквозь закрытые веки я ощущал яркий свет. Я в последний раз затянулся и выбросил окурок.
Если бы мое блаженное состояние продлилось подольше, я вполне мог бы уснуть. Даже птицы радовались появлению солнца — я слышал, как где-то в кустах у меня за спиной пел дрозд, и уж совсем меня порадовал крик кукушки, раздавшийся сначала довольно далеко, в долине, а затем совсем рядом. Как я любил эти звуки: нахлынули воспоминания детства, когда тридцать лет назад я, счастливый и беззаботный, бродил по лесам. Вот она опять прокуковала, теперь уже прямо у меня над головой.
Я открыл глаза и стал наблюдать за ее причудливым полетом, и вдруг, не сводя с нее глаз, вспомнил, что ведь уже конец июля. Короткое кукушечье лето в Англии заканчивается в июне, как, впрочем, и пение дрозда, да и примулы, пестреющие в траве вокруг меня, должны были отцвести еще к середине мая. И неожиданное тепло, и яркий свет принадлежали уже другому миру и говорили о том, что на дворе ранняя весна. Значит, оно свершилось, а я так и не уловил этот момент, не зафиксировал в сознании, несмотря на весь мой настрой. И опять все склоны холма были окрашены в этот ярко-зеленый цвет, который так поразил меня в первый раз, а долина с ковром из ив и берез была погребена под водами гигантского извилистого морского рукава, врезавшегося в сушу и обрамленного песчаными отмелями. Я встал и увидел Тризмилл, а чуть ниже — реку, которая в этом месте сужалась и сливалась с пенящимся потоком, вырывающимся из-под лопастей мельничного колеса. Фермерский дом выглядел совсем по-другому: теперь он был вытянутый, с соломенной крышей; густые дубовые леса покрывали горы напротив, и зелень была свежая, нежная — весенняя.
Прямо подо мною, там, где в моем времени был обрыв и внизу железная дорога, простирался гораздо более отлогий склон, и по середине его проходила широкая дорога, ведущая к морскому рукаву, прямо к причалу, возле которого на якоре стояли суда. В этой части залив был достаточно глубокий, образуя естественную гавань. В центре фарватера стоял большой корабль с приспущенными парусами. С его борта до меня доносилось пение. Затем я увидел, как от него отчалила небольшая шлюпка, видимо, чтобы доставить кого-то на берег. Человек в шлюпке поднял руку, требуя внимания, и пение тут же прекратилось. Теперь я посмотрел кругом: живой изгороди не было и в помине, склон у меня за спиной порос густым лесом, как и тот, что напротив, а слева, где только что росли кусты и утесник, теперь тянулась длинная каменная стена. За ней, в глубине, стоял жилой дом — из-за деревьев выглядывала верхушка его крыши. Прямо от причала наверх, к дому, вилась тропа.
Я подошел ближе к краю и посмотрел вниз: человек вылез из шлюпки на причал и начал взбираться по тропе, направляясь прямо ко мне. Снова закуковала кукушка — вот она пролетела низко над землей. Человек остановился, поднял голову и проводил ее взглядом, заодно переводя дух после быстрого подъема. Все его действия были такими естественными и обыденными, что, сам не знаю почему, я сразу проникся к нему симпатией — впрочем, может быть, именно потому, что он-то как раз и был живым, а я лишь неким призраком из другого времени. Интересно, что всякий раз я попадал в новый временной отрезок: вчера была осень, Мартынов день, а сегодня, судя по кукушке и цветущим примулам, настоящая весна.
Он поднимался все выше и был уже довольно близко, и тут я сообразил, кто это, хотя выражение его лица было гораздо серьезней, я бы сказал, мрачней, чем вчера. Мне подумалось, что лица этих людей из прошлого, словно карты из потрепанной пасьянсной колоды — трефы, черви и пики: как ни тасуй, все равно заранее не угадаешь, какая выйдет комбинация. Ни мне, ни им самим неведомо, как сложится игра.
Это был Отто Бодруган, за ним следом карабкался его сын Генри, и, когда Отто в знак приветствия поднял руку, я тоже инстинктивно махнул рукой в ответ и даже улыбнулся. Конечно, мой жест не имел ни малейшего смысла — отец и сын, чуть не задев меня, проследовали к воротам дома, откуда им навстречу вышел управляющий Роджер. Он, вероятно, стоял там давно, наблюдая, как они приближаются, но я не видел его. Ничего общего с царившей вчера праздничной атмосферой, никакой насмешливой улыбки на лице вчерашнего претендента на роль любовного посредника. Все трое были одеты в темные туники, и все были одинаково серьезны и собраны.
— Что нового? — спросил Бодруган.
Роджер покачал головой:
— Он быстро угасает. Надежды почти никакой. Моя госпожа, Джоанна, и вся семья в доме. Из Бера приехал сэр Уильям Феррерс с супругой Матильдой. Сэр Генри не испытывает страданий, мы позаботились об этом, вернее, мы должны благодарить за это брата Жана, который не отходит от постели больного ни днем, ни ночью.
— Но все же, что с ним?
— Ничего нового, просто общая слабость да простуда, которую он подхватил во время последних заморозков. Он бредит, говорит о своих страшных грехах и просит его простить. Приходский священник исповедовал его, но этого ему показалось недостаточно, и он настоял, чтобы его еще исповедовал и брат Жан.
Роджер отошел в сторону, пропуская Бодругана и его сына в ворота. Теперь можно было как следует разглядеть дом: сложенный из камня, с черепичной крышей, он стоял в глубине двора. В покои второго этажа вела наружная лестница — такие лестницы в наше время используют в фермерских амбарах. За домом находилась конюшня, а за каменной оградой, извиваясь, бежала вверх дорога на Тайуордрет — там, в крытых соломой жилищах, обитали крестьяне, те, кто обрабатывал все эти земли по обеим сторонам дороги.
При нашем приближении во двор с лаем выбежали собаки, но Роджер прикрикнул на них, и они, поджав уши, приникли к земле — из-за дома вышел слуга с испуганным выражением лица и увел их. Бодруган и его сын Генри в сопровождении Роджера прошли через двор к дому, а я, как тень, неотступно следовал за ними. Мы вошли в длинный, во всю ширину дома, зал, со створчатыми окошками по обеим сторонам, на восточной стене они выходили во двор, на западной — прямо на залив. В дальнем конце зала находился открытый очаг, в котором едва тлел уложенный горкой торф, а поперек зала стоял стол на козлах и вдоль него — скамьи. Зал был очень темный, отчасти из-за маленьких окон и висевшего в воздухе чада, а отчасти из-за красного цвета стен, придававшего этому помещению торжественный, но мрачноватый вид.
На скамьях сгорбившись сидели дети: два мальчика и девочка. Судя по их позам и понурому и подавленному виду, они не столько были удручены горем, сколько растеряны и напуганы близостью смерти. Я узнал старшего — это был Уильям Шампернун, которого представляли епископу. Теперь он первым встал и подошел к дяде и двоюродному брату поздороваться. После некоторого замешательства его примеру последовали и двое младших детей. Отто Бодруган наклонился и обнял всех троих. Затем, как это делают все нормальные дети, когда в напряженную минуту внезапно появляется кто-то из взрослых, они воспользовались случаем, чтобы покинуть комнату, и заодно увели с собой кузена Генри.
Теперь у меня появилась возможность рассмотреть остальных присутствующих. Двоих, мужчину и женщину, я никогда прежде не видел: мужчина светловолосый, с бородой, а женщина тучная, и выражение ее лица было крайне неприветливым и ясно говорило, что с ней шутки плохи. Она заранее оделась в траур, готовясь к печальному исходу: белое покрывало на голове и черное платье. По всей видимости, это были сэр Уильям Феррерс, который, как сказал Роджер, поспешно прибыл из Девона, и его жена Матильда. Ну, а третью персону я узнал без труда — на низком табурете передо мной сидела моя Изольда. Печальные события нашли весьма своеобразное отражение в ее облике: ее платье было траурного лилового цвета, но при этом отливало серебром, а заплетенные в косы волосы были изящно подвязаны лиловой лентой. Атмосфера, похоже, была накалена до предела, лицо Матильды Феррерс пылало от негодования — казалось, вот-вот разразится скандал.
— Мы ждем тебя целую вечность, — набросилась она на Отто Бодругана, едва тот направился к ней. — Сколько же нужно времени, чтобы переплыть залив? Вы, может, по пути еще и рыбу половить успели?
Он поцеловал ей руку, не обращая внимания на злобный выпад, и посмотрел на человека, стоявшего за ее стулом.
— Как поживаешь, Уильям? — спросил он. — Ровно час от моего причала до здешнего — не так уж и плохо, если учесть, что ветер на траверзе. Верхом было бы дольше.
— Да я-то понимаю, — пробормотал он. — Раньше ты никак не мог прибыть. И в любом случае, здесь уже ничем не поможешь.
— Ничем? То есть как? — отозвалась Матильда. — А нас всех поддержать в трудную минуту, скорбеть вместе с нами, выгнать французского монаха, а из кухни вышвырнуть этого пьяницу, приходского священника? Если он не сможет использовать свое право брата и заставить Джоанну прислушаться к голосу разума, то кто же тогда сможет?
Бодруган повернулся к Изольде. Он едва коснулся ее руки, а она даже не подняла головы и не улыбнулась ему. Их сдержанность, несомненно, была вызвана осторожностью: любое слово, сказанное слишком доверительно, могло бы быть превратно истолковано.
Ноябрь… Май… Со времени приема, устроенного в монастыре в честь приезда епископа, прошло целых полгода, которые я перепрыгнул одним махом.
— Где Джоанна? — спросил Бодруган.
— В комнате наверху, — ответил Уильям. И только тут я заметил его сходство с Изольдой. Это был Уильям Феррерс, ее брат, но только лет на десять — пятнадцать старше: его лицо было испещрено морщинами, волосы припорошены сединой.
— Ты ведь знаешь, что нас беспокоит, — продолжал он. — Генри никого к себе не подпускает, кроме французского монаха Жана. Ни от кого, кроме него, он не принимает помощи, отказался от услуг хорошего лекаря, которого мы привезли с собой из Девона. Теперь уже ясно, что монах не справился: больной без сознания, и конец близок — вероятно, остались считанные часы.
— Но если такова воля Генри и он при этом не испытывает страданий, о чем тогда говорить?
— Потому что все делается не так, как положено! — воскликнула Матильда. — Генри дошел до того, что высказал желание быть похороненным в монастырской часовне. Этого просто нельзя допустить. Всем известна репутация монастыря, недостойное поведение самого приора, распущенность монахов. Нечего сказать, подходящее место, чтобы такой человек как Генри — с его-то положением! — обрел там вечный покой. Это значит — опозорить нас на весь белый свет!
— Какой такой свет? — спросил Бодруган. — Этот твой свет охватывает всю Англию или только Девон?
Матильда побагровела.
— Не думай, что мы все забыли о твоих подвигах семь лет назад, — сказала она. — Изменник, вставший на сторону развратной королевы, которая осмелилась пойти войной против своего сына, нашего законного монарха — вот кто ты! Немудрено, что французы имеют в твоем лице надежного союзника, чего ни коснись: ты с одинаковым рвением будешь приветствовать неприятельскую армию, если она одолеет Английский канал[3] и вторгнется на наши земли, и защищать распутных монахов какого-то иностранного ордена.
Уильям положил руку жене на плечо, пытаясь ее успокоить.
— Не стоит бередить прошлое, так мы ничего не добьемся, — сказал он. — С кем был Отто во время бунта — сейчас это неважно. Однако… — Он посмотрел на Бодругана. — Матильда кое в чем права. Все же не подобает Шампернуну покоиться рядом с французскими монахами. Было бы во всех отношениях пристойнее, если бы ты позволил похоронить его в Бодругане, учитывая, что к Джоанне в качестве приданого отошла изрядная часть твоих земель. Со своей стороны, я почту за честь похоронить его в Бере, в нашей церкви, которую мы сейчас перестраиваем. В конце концов, Генри мой кузен: он мне такой же близкий родственник, как и тебе.
— О, ради Бога, — вдруг раздался голос Изольды, — пусть Генри лежит там, где сам того желает. И вообще, не пристало нам делить шкуру неубитого медведя.
Я впервые услышал ее голос. Она, как и все, говорила по-французски сильно гнусавя, но либо потому что она была моложе других, либо я был просто необъективен, но мне показалось, что речь ее гораздо музыкальней, а звуки чище. Не успела она договорить, как Матильда вдруг разрыдалась к полному ужасу ее супруга, а Бодруган отошел к окну и стал угрюмо смотреть на улицу. А сама Изольда, которая вызвала этот всплеск эмоций, нервно постукивала ногой с выражением надменного презрения на лице.
Я оглянулся на Роджера — он с трудом сдерживал улыбку. Затем он сделал шаг вперед и с большим почтением ко всем присутствующим (хотя, как мне показалось, он пытался обратить на себя внимание Изольды) сказал:
— Если вам будет угодно, я доложу госпоже о прибытии сэра Отто.
Его слова остались без внимания, и, приняв молчание за знак согласия, Роджер поклонился и вышел. Он поднялся по лестнице в верхние покои, и я не отставал от него ни на шаг, как будто мы были связаны с ним одной веревкой. Он вошел без стука, откинув тяжелые портьеры, прикрывавшие вход в комнату, которая была размером, наверное, с половину нижнего зала — большую ее часть занимала застеленная кровать. Маленькие окошки почти не пропускали свет, поскольку в них использовался промасленный пергамент, и зажженные свечи на столе в ногах кровати отбрасывали огромные тени на выкрашенные в желтый цвет стены.
В комнате находились трое: Джоанна, монах и умирающий. Безжизненное тело Генри де Шампернуна было обложено подушками — казалось, что он сидит, подбородком почти касаясь груди: голова его была обмотана белой тканью наподобие тюрбана, который придавал ему нелепое сходство с арабским шейхом. Глаза были закрыты, и, судя по мертвенной бледности лица, мучиться ему оставалось совсем недолго. Монах, наклонившись, что-то помешивал в чаше на столе. Когда мы вошли, он поднял голову. Это был тот самый молодой человек с лучистыми глазами, который служил секретарем или клириком у приора во время моего первого визита в монастырь. Он не проронил ни слова и продолжал заниматься своим делом, а Роджер повернулся к Джоанне, сидевшей в другом конце комнаты. Она сохраняла полное самообладание, никаких следов скорби на лице, и занималась тем, что вышивала на пяльцах цветным шелком.
— Все здесь? — спросила она, не поднимая глаз от своей работы.
— Все, кто был приглашен, — ответил управляющий, — и уже переругались друг с другом. Леди Феррерс сначала бранила детей за то, что они громко разговаривают, а сейчас сцепилась с сэром Отто: леди Карминоу, по-моему, не рада, что приехала. Сэр Джон еще не прибыл.
— И навряд ли прибудет, — ответила Джоанна. — Я предоставила это решать ему самому. Если он слишком поспешит со своими соболезнованиями, это может показаться подозрительным — да его же сестрица, леди Феррерс, первая не преминет из этого устроить какой-нибудь скандал.
— Уже устраивает, — заметил управляющий.
— Не сомневаюсь. Чем быстрее конец, тем для всех лучше.
Роджер подошел к кровати и посмотрел на своего умирающего господина.
— Сколько еще осталось? — спросил он монаха.
— Он больше не очнется. Можешь до него дотронуться, если хочешь, он ничего не почувствует. Остается подождать только, чтобы остановилось сердце, и тогда госпожа сможет объявить всем о его смерти.
Роджер перевел взгляд с кровати на стол с чашами.
— Что ты ему дал?
— То же, что и раньше: мак — сок цельного растения в равных пропорциях с беленой.
Роджер взглянул на Джоанну:
— Уберу-ка я лучше все это от греха подальше, а то могут возникнуть ненужные вопросы. Леди Феррерс говорила о каком-то своем лекаре. Они, конечно, вряд ли посмеют идти против вашей воли, но мало ли что.
Джоанна, по-прежнему поглощенная вышиванием, пожала плечами.
— Если хочешь, забери, что осталось, — сказала она, — хотя все настои мы вылили вон. Чаши можешь на всякий случай убрать, но я думаю, что брату Жану опасаться нечего. Он действовал с предельной осмотрительностью.
Она улыбнулась молодому монаху, который в ответ промолчал, только посмотрел на нее своими выразительными глазами, и я подумал, уж не снискал ли он по примеру отсутствующего сэра Джона ее особой благосклонности — за те несколько недель, что провел у постели больного. Роджер и монах собрали посуду из-под зелья, хорошенько завернули ее в мешковину. Тем временем снизу из зала доносились голоса: по-видимому, миссис Феррерс оправилась после рыданий и вновь обрела красноречие.
А что говорит мой братец Отто? — спросила Джоанна.
— Он промолчал, когда сэр Феррерс высказал мнение, что лучше похоронить Генри в фамильной часовне Бодруганов, а не в монастыре. Мне кажется, он не будет вмешиваться. Сэр Уильям Феррерс предложил еще один вариант — похоронить его у себя в Бере.
— Зачем?
— Может быть, ради собственного престижа, кто его знает? Я бы не советовал соглашаться. Если только они завладеют телом сэра Генри, то хлопот не оберешься. В то время как монастырская часовня…
— Все будет хорошо. Воля сэра Генри будет исполнена, и нас оставят в покое. А ты, Роджер, проследи, чтобы не возникло никаких проблем с крестьянами. Люди здесь не слишком жалуют монастырь.
— Если их хорошо угостить на поминках, никаких проблем с ними не будет, — ответил он. — Можно пообещать уменьшить размеры штрафов в конце года, простить им прошлые провинности. И они будут довольны.
— Будем надеяться. — Она отложила пяльцы, поднялась со стула и подошла к постели. — Еще жив?
Монах взял в свою руку безжизненное запястье и нащупал пульс, затем наклонился, чтобы послушать, бьется ли сердце.
— Почти остановилось, — ответил он. — Если хотите, можете зажигать свечи — к тому времени, когда все семейство соберется, он уже скончается.
Они говорили о муже этой женщины, лежавшем на смертном одре, как о какой-то старой, уже никому не нужной вещи. Джоанна вернулась к своему стулу, взяла в руки черную вуаль и покрыла ею голову и плечи. Затем протянула руку и взяла со стола серебряное зеркало.
— Как ты считаешь, оставить так или лицо тоже закрыть? — спросила она управляющего.
— Если вы не можете выжать из себя хоть одну слезу, — сказал он, — то лучше, конечно, закрыть.
— Последний раз я плакала, когда выходила замуж, — ответила она.
Монах Жан скрестил умирающему руки на груди и крепче затянул повязку под подбородком. Затем отступил на шаг, чтобы взглянуть на свою работу и, словно нанося последний штрих, вложил ему в скрещенные руки распятие. Тем временем Роджер отодвигал стол.
— Сколько ставить свечей? — спросил он.
— В день смерти полагается пять, — ответил монах, — в память о пяти ранах Господа нашего Иисуса Христа. Найдется черное покрывало на постель?
— Там, в комоде, — сказала Джоанна, и пока монах с управляющим застилали постель черным покрывалом, она, прежде чем опустить на лицо вуаль, в последний раз взглянула на себя в зеркало.
— Осмелюсь дать совет, — пробормотал монах, — все выглядело бы трогательней, если бы госпожа соблаговолила опуститься на колени у постели, а я бы встал в ногах усопшего. И когда члены семьи войдут в опочивальню, я мог бы прочитать молитву по усопшему. Хотя, возможно, вы желаете, чтобы ее прочел приходский священник.
— Он слишком пьян — ему и по лестнице-то не подняться, — сказал Роджер. — Если только он попадется на глаза миссис Феррерс, песенка его будет спета.
— Тогда не трогайте его, — сказала Джоанна, — и давайте начинать. Роджер, спустись вниз и пригласи всех сюда. Первым пусть идет Уильям — как наследник.
Она опустилась на колени у постели, скорбно склонив голову, но, когда мы выходили, вновь подняла ее, бросив через плечо своему управляющему.
— Когда умер наш отец, похороны в Бодругане обошлись брату в пятьдесят марок, не считая скота, забитого к поминкам. Мы не должны ударить в грязь лицом, так что денег не жалей!
Роджер отодвинул полог на дверях, и я вышел за ним на лестницу. Контраст между ярким светом на улице и мраком в доме, должно быть, поразил его не меньше, чем меня, так как он на миг приостановился на верхней ступени и посмотрел поверх каменной стены забора на сверкающую водную гладь залива. Корабль Бодругана стоял на якоре, паруса были убраны, какой-то парень в маленькой лодке крутился вокруг кормы, пытаясь, видимо, поймать рыбу. Юные члены семьи спустились к подножью холма и рассматривали судно. Генри, сын Бодругана, что-то показывал своему кузену Уильяму, вокруг них с лаем прыгали собаки.
В этот момент я особенно отчетливо осознал, насколько все это фантастично, я бы сказал даже, жутковато, — то, что я находился среди них, никем не видимый, еще не родившийся — некий выродок вне времени, свидетель событий многовековой давности, которые бесследно канули в лету. Странное дело, стоя вот здесь, на этой лестнице, все видя, но сам невидимый, я чувствовал себя соучастником всего происходящего, искренне переживая чужие любовные страсти и кончины. Как будто это умирал мой близкий родственник из давно ушедшего мира моего детства или даже мой отец, который тоже умер весной, когда мне было приблизительно столько же, сколько юному Уильяму там внизу. Телеграмма о том, что он погиб в бою с японцами, пришла в тот момент, когда мы с мамой, только что отобедав, вышли из ресторана гостиницы в Уэльсе, где мы жили во время пасхальных каникул. Мама поднялась наверх в свой номер и заперла дверь, а я слонялся вокруг гостиницы и понимал, что случилось непоправимое, но не мог заплакать — боялся войти в гостиницу и поймать на себе участливый взгляд дежурной.
Роджер со свертком, в котором лежала посуда, еще хранившая следы от настоев трав, спустился во двор и прошел под аркой в дальнем его конце к конюшням. Здесь собралась, по-видимому, вся челядь, но при виде управляющего они тут же прекратили сплетничать и быстро разошлись. Остался только один паренек, которого я видел в первый день, и по его сходству с проводником еще тогда догадался, что это брат Роджера. Роджер кивком головы подозвал его к себе.
— Все кончено, — сказал он. — Поезжай сейчас же в монастырь и сообщи об этом приору, чтобы он распорядился звонить в колокол — пусть крестьяне прекращают работы, уходят с полей и собираются на лугу. Как только переговоришь с приором, сразу поезжай домой, спрячь этот мешок в подвале и дожидайся моего возвращения. У меня много дел. Возможно, я приеду только завтра.
Мальчик кивнул и исчез в конюшне. Роджер снова вернулся во двор. У входа в дом стоял Отто Бодруган. Немного поколебавшись, Роджер направился к нему.
— Моя госпожа просит подняться к ней, — сказал он. — И вас, и сэра Уильяма, и леди Феррерс, и леди Изольду. Я пойду кликну Уильяма и детей.
— Сэру Генри хуже? — спросил Бодруган.
— Он умер, сэр Отто. Всего несколько минут назад, не приходя в сознание — почил тихо, во сне.
— Жаль его, — сказал Бодруган, — но хорошо хоть он не мучился. Дай Бог, чтобы и мы с вами, когда пробьет наш час, ушли бы так же тихо, хотя, наверное, мы этого не заслуживаем.
Оба перекрестились. Машинально перекрестился и я.
— Пойду сообщу остальным, — добавил он. — У леди Феррерс может случиться истерика, но ничего не поделаешь. Как сестра?
— Сохраняет спокойствие, сэр Отто.
— Так я и предполагал. — Бодруган еще секунду помедлил, прежде чем войти в дом, и как-то неуверенно сказал: — Ты знаешь, что Уильям, поскольку он несовершеннолетний, лишен права пользоваться своими землями — они временно конфискуются в пользу короля?
— Да, сэр Бодруган, знаю.
— На этот раз конфискация не будет простой формальностью, как при обычных обстоятельствах, — продолжал Бодруган. — Поскольку я дядя Уильяма по матери и, соответственно, его законный опекун, меня должны были бы назначить управлять его поместьем — при этом король, естественно, останется нашим сюзереном. Но все дело как раз в том, что обстоятельства необычные, ведь я принимал участие в так называемом бунте.
Управляющий благоразумно хранил молчание. Его лицо было непроницаемо.
— Поэтому, — говорил Бодруган, — управление поместьем от имени несовершеннолетнего владельца и самого короля, скорее всего, будет поручено кому-нибудь более достойному, чем я — по всей вероятности, его двоюродному дяде сэру Джону Карминоу. И я не сомневаюсь, что для моей сестры он все уладит наилучшим образом.
В его голосе звучала неприкрытая ирония. Роджер не произнес ни слова, лишь слегка склонил голову, а Бодруган вошел в дом. Довольная улыбка, появившаяся было на лице управляющего, мгновенно исчезла, как только юные Шампернуны и их кузен Генри вошли во двор, смеясь и болтая, на какое-то время забыв, что в дом стучится смерть. Генри, старший в этой компании, первым интуитивно почувствовал что-то неладное. Он велел малышам замолчать и подтолкнул Уильяма вперед. Я увидел, как изменилось лицо мальчика: от беззаботного смеха не осталось и следа, а в глазах — предчувствие чего-то ужасного. И я мог представить, как от страха у него подвело живот.
— Отец? — спросил он.
Роджер кивнул.
— Возьми брата и сестру, — сказал он, — и ступай к матери. Помни, ты теперь за старшего: она сейчас нуждается в твоей поддержке.
Мальчик сжал руку управляющего.
— Ты ведь останешься с нами, правда? — спросил он. — И дядя Отто тоже?
— Посмотрим, — ответил Роджер. — Но не забывай, ты теперь глава семьи.
Видно было, что Уильяму стоило большого труда взять себя в руки. Он повернулся к брату и сестре и сказал:
— Наш отец умер. Прошу следовать за мной.
И он вошел в дом — очень бледный, но с высоко поднятой головой. Перепуганные дети безропотно повиновались и, взяв за руки своего кузена Генри, молча пошли за Уильямом. Взглянув на Роджера, я впервые увидел на его лице что-то похожее на жалость и одновременно — гордость: мальчик, которого он, вероятно, знал с колыбели, достойно выдержал испытание. Он постоял немного и последовал за ними.
В зале никого не было. Занавес, висевший на противоположной стене у очага, был отогнут, открывая проход к узкой лестнице, ведущей в верхние покои — видимо, по ней Отто Бодруган, Феррерсы и дети поднялись наверх. Я слышал звуки шагов наверху, затем все стихло, и послышался тихий голос монаха, бормотавшего молитву: «Requiem aeternam dona eis Domine: et lux perpetua luceat eis».[4]
Я сказал, что в зале никого не было — так мне показалось в первую минуту, но затем я различил изящную фигуру в лиловом: Изольда единственная из всех не поднялась наверх. Увидев ее, Роджер остановился на пороге, а затем с почтительным поклоном сделал шаг вперед.
— Леди Карминоу не желает отдать последнюю дань уважения покойному вместе со всей семьей? — спросил он.
Изольда не сразу заметила, что он стоит у входа, но когда он заговорил, она повернула голову и посмотрела на него в упор. В ее глазах было столько холода, что даже я, стоя рядом с управляющим, почувствовал на себе все презрение, которое она вложила в этот взгляд.
— Не в моих правилах устраивать из смерти фарс, — сказала она.
Если Роджер и был удивлен, он не показал вида, и с прежним почтением сказал:
— Сэр Генри был бы рад, если бы вы помолились за него.
— Я всегда молилась за него, много лет, — ответила она, — а в последние недели я делала это с особым усердием.
Я уловил оттенок раздражения в ее голосе, и, уверен, это не ускользнуло от управляющего.
— Сэр Генри заболел сразу, как вернулся из паломничества в Компостелу, — сказал он. — Говорят, сэр Ральф де Бопре сейчас страдает от того же недуга. Это изнурительная лихорадка, от которой нет спасения. Сэр Генри так мало беспокоился о своем здоровье, что ухаживать за ним было нелегко. Но смею вас заверить, сделано все возможное.
— Насколько мне известно, никакой угрозы для жизни сэра Ральфа нет, несмотря на приступы лихорадки, — сказала Изольда. — Болезнь кузена была совсем иного свойства. Целый месяц, или даже более того, он никого не узнавал, хотя жара не было.
— Все переносят болезнь по-разному, — ответил Роджер. — Что на пользу одному, другому может повредить. Если у сэра Генри помутился разум, таков был, значит, его печальный удел.
— Усиленный тем снадобьем, которое ему давали, — сказала она. — У моей бабки, Изольды де Кардингем, имелся трактат о травах, написанный одним ученым лекарем, который участвовал в крестовых походах, и после своей смерти она завещала его мне, поскольку мы с ней были тезки. Так что я имею некоторое представление о семенах черного и белого мака, болотного болиголова и мандрагоры — я знаю, каким сном может уснуть человек, если его этим потчевать.
Роджер на миг забыл о всяком почтении и не сразу нашелся, что ответить. Затем он сказал:
— Эти травы используются всеми аптекарями для снятия боли. Монах Жан де Мераль учился в лучшей школе в Анже и достиг большого искусства в этой области. Сэр Генри сам чрезвычайно доверял ему.
— Я не сомневаюсь ни в доверительном отношении сэра Генри, ни в искусстве монаха, ни в его стремлении с пользой употребить свое искусство, но любое целебное растение может стать и зловредным, стоит лишь чуть увеличить дозу.
Она бросила вызов, и он это понял. Я вспомнил тот стол на козлах в ногах кровати и чаши, которые теперь тщательно завернуты в мешковину и увезены прочь.
— В доме траур, — сказал Роджер, — и он будет продолжаться несколько дней. Советую вам поговорить с моей госпожой. Меня все это не касается.
— Меня тоже, — ответила она. — Я это говорю только из любви к своему брату и еще — чтобы вы знали: меня не так просто одурачить. Запомните это.
Наверху заплакал кто-то из детей, и голоса, бормотавшие молитву, внезапно смолкли, послышалось какое-то движение и стремительные шаги по лестнице вниз. В комнату вбежала дочь хозяйки дома — лет десяти, не старше — и бросилась прямо в объятия Изольды.
— Они сказали, что он умер, — прорыдала она, — а он взял и открыл глаза и посмотрел на меня, всего один раз, и снова закрыл. Никто не видел, кроме меня, они все читали молитву. Неужели он хотел сказать, что я тоже должна пойти за ним в могилу?
Изольда прижала к себе ребенка и, не спуская глаз с Роджера, произнесла:
— Если сегодня или вчера свершилось злодеяние, ты ответишь за все вместе с остальными. Пусть не на этом свете — ведь мы ничего не сможем доказать, — так на том, перед Богом.
Роджер сделал шаг вперед — наверное, хотел заставить ее замолчать или забрать у нее ребенка, — а я рванулся вперед, чтобы помешать ему, но споткнулся о камень. И вдруг все исчезло, вокруг меня были лишь кучи земли, холмы, поросшие травой, кусты утесника и корни засохшего дерева. Позади себя я увидел огромную яму, круглую, как карьер, в которой валялись старые консервные банки и битый шифер. Я схватился за корявую ветку высохшего утесника — меня жутко рвало: издалека донесся гудок паровоза, который с грохотом проходил внизу, в долине.
Глава седьмая
Крутые стены карьера, вырытого в склоне холма, поросли остролистом и плющом, повсюду на земле между камнями валялся разный хлам, скопившийся здесь за многие годы. Из карьера тропа вела в небольшую впадину, затем в другую, в третью. Все вокруг было в кочках, рвах, ямах.
Утесник, распространившийся повсюду, основательно все это замаскировал, а поскольку у меня было страшное головокружение, я не видел, куда ступаю, и спотыкался на каждом шагу. В голове билась одна-единственная мысль: необходимо выбраться из этого проклятого места и найти машину.
Я ухватился за какое-то колючее растение и, держась за него, попытался хоть как-то восстановить равновесие: под ногами валялись старые консервные банки, сломанный остов от кровати и кругом — все тот же плющ и остролист. Наконец я начал ощущать свои конечности, но когда попробовал одолеть очередной бугор, головокружение и тошнота усилились, и я, поскользнувшись, съехал в яму. Я лежал там, тяжело дыша и корчась от приступов рвоты. Потом меня вывернуло, и на какой-то миг я почувствовал облегчение. Я встал и полез на другой бугор. С него я увидел, что нахожусь всего в нескольких сотнях ярдов от той изгороди, возле которой сидел и курил сигарету: все эти бугры и ямы были скрыты тогда от меня насыпью и сломанными воротами. Я снова посмотрел вниз на долину и увидел хвост исчезающего за поворотом поезда — он торопился в Пар. Затем я пролез сквозь дыру в ограде и побрел через поле к тому месту, где оставил машину.
Когда я подошел к стоянке у обочины дороги, у меня вновь началась сильная тошнота. Шатаясь, я отошел в сторону к груде камней и досок, и меня снова вырвало. Земля и небо поплыли у меня перед глазами. Головокружение, от которого я страдал в первый день в патио, было ничто по сравнению с тем, что я испытывал сегодня, и, присев у груды мусора в ожидании, когда же наконец это пройдет, я все время повторял — с пылом и бессильной злобой больного, страдающего после тяжелого наркоза и потерявшего уже всякое самообладание: «Чтоб я еще раз… Никогда!»
В перерыве между приступами рвоты я успел заметить, правда, довольно смутно, что неподалеку от моей машины припаркована еще одна. Когда же тошнота и головокружение наконец прошли — мне казалось, это длилось целую вечность, — и я сидел, сморкаясь и откашливаясь, то услышал, как хлопнула дверца машины, и вдруг совсем рядом увидел ее владельца; он пристально смотрел на меня:
— С вами все в порядке? — спросил он.
— Да, — ответил я, — думаю, что да.
Я с трудом поднялся на ноги, и он протянул руку, чтобы я мог опереться на нее. Он был приблизительно моего возраста, чуть за сорок; у него было приятное лицо и удивительно крепкое рукопожатие.
— Ключи при вас?
— Ключи…
Я пошарил у себя в кармане. Боже! А что, если я уронил их в карьере, или в какой-нибудь яме — ищи их потом. Но они оказались в верхнем кармане вместе с фляжкой: я почувствовал такое облегчение, что мне сразу же стало лучше, и я подошел к машине уже без посторонней помощи. Но тут меня ждало очередное испытание: я никак не мог попасть ключом в замок.
— Позвольте мне — я помогу, — сказал мой благодетель.
— Вы очень любезны. Извините меня, пожалуйста, — пробормотал я.
— Это в некотором роде моя обязанность. Ведь я врач, — ответил он.
Я почувствовал, что мое лицо будто окаменело, но уже в следующую секунду я выдавил из себя учтивую улыбку. Одно дело — любезность, оказанная случайным автомобилистом, другое — профессиональное внимание со стороны врача. Тем временем он продолжал смотреть на меня с большим интересом — и немудрено. Мне стало любопытно, что же он обо мне подумал.
— Наверное, я слишком быстро поднимался в гору. Когда дошел до верха, почувствовал головокружение и меня начало тошнить. Никак не мог сдержаться.
— Ничего страшного, — сказал он. — Здесь давно уже все изгажено. На мой взгляд, если приспичило, то обочина дороги ничуть не хуже любого другого места. Вы и представить себе не можете, что здесь творится в туристский сезон.
Однако провести его мне не удалось, это было ясно. Он не спускал с меня глаз. Интересно, заметил ли он фляжку, которая оттопыривала верхний карман моего пиджака.
— Вам далеко ехать? — спросил он.
— Нет, — ответил я, — отсюда мили две, не больше.
— Тогда вот что, — предложил он, — по-моему, будет разумнее, если вы оставите машину здесь, а я отвезу вас домой. За машиной можно потом кого-нибудь прислать.
— Спасибо, вы очень добры, — сказал я. — Но поверьте, мне сейчас гораздо лучше. Это так, я думаю, ничего серьезного.
— М-да… Похоже все-таки на что-то серьезное, — сказал он.
— Нет, нет, поверьте, — настаивал я, — я себя уже нормально чувствую. Наверное, что-то не то съел за обедом, а потом еще в гору полез…
— Послушайте, — прервал он меня, — вы не мой пациент, и я не собираюсь навязывать вам свои врачебные услуги. Я просто хочу вас предупредить, что в таком состоянии вести машину опасно.
— Да, понимаю. Я вам очень благодарен, спасибо за заботу.
Может быть, он и прав. Вчера я съездил в Сент-Остелл и вернулся домой без всяких проблем. Но сегодня все может быть иначе: вдруг у меня снова начнется головокружение? Я думаю, он заметил мою нерешительность.
— Хотите, я поеду за вами, — предложил он, — на всякий случай, просто убедиться, что все в порядке?
Отказываться было глупо — тогда он действительно мог заподозрить неладное.
— Не знаю, как вас и благодарить, — сказал я. — Мне тут недалеко — только заехать наверх на Полмиарский холм.
— Значит, нам по пути, — улыбнулся он. — Я живу в Фауи.
Я не без труда залез в машину и вырулил на дорогу. Он следовал за мной вплотную, и я подумал, что если вдруг я сейчас въеду в изгородь, мне конец. Но, к своему удивлению, я лихо одолел узкую проселочную дорогу, и, вздохнув с большим облегчением, выехал на главную трассу и повернул к Полмиарскому холму. Свернув затем вправо, уже на Килмарт, я решил, что он, вероятно, намерен провожать меня до самого дома, но он помахал мне рукой и поехал дальше в Фауи. Что ж, очень тактично с его стороны. Он, наверно, подумал, что я остановился в Полкеррисе или в одной из близлежащих ферм. Я въехал в ворота, поставил машину в гараж и вошел в дом. Меня снова стало тошнить.
Первое, что я сделал, когда пришел в себя, хотя меня еще здорово колотило, — сполоснул фляжку. Затем я спустился в лабораторию и поставил ее в раковину отмокать. Здесь она привлечет меньше внимания, чем на кухне. Затем я снова поднялся наверх в музыкальный салон и рухнул в кресло совершенно без сил. И вдруг я вспомнил про посуду, завернутую в мешковину. Неужели я оставил сверток в машине?
Я уже готов был вскочить, бежать в гараж, чтобы срочно отыскать сверток — нужно как следует все вымыть, даже более тщательно, чем фляжку, и спрятать под замок, — но затем я с ужасом осознал, что перепутал настоящее и прошлое: мои мозги, видимо, были вывернуты так же, как и желудок. Ведь Роджер отдал посуду своему брату, а не мне.
Я сидел в кресле в полном оцепенении, сердце колотилось как бешеное. Раньше я никогда не путал эти два мира. Они существовали каждый сам по себе. Может, прошлое и настоящее смешалось у меня в голове только из-за того, что приступ рвоты и головокружения был на этот раз таким сильным? А может, я переборщил с дозировкой, и поэтому состав оказал на меня более мощное воздействие? Кто знает. Я сжал подлокотники кресла. Оно было такое крепкое, настоящее. Все вокруг меня было настоящее. Путь домой, врач, карьер со сваленными в него пустыми консервными банками и битым шифером — это все тоже было настоящее. Это, и только это, а не дом на берегу, со всеми его обитателями, не умирающий, не монах и не плошки в мешковине, потому что все это лишь результат воздействия препарата — средства, которое превращает здоровые мозги в больные.
Я не на шутку рассердился, не столько на себя, хоть я сам добровольно согласился стать подопытным кроликом, сколько на Магнуса. Он ведь ничего толком не знал о своем открытии. Он еще не разобрался в том, что именно он создал. Не зря же он просил прислать ему пузырек с пометкой В, чтобы испытать его на лабораторной обезьяне. Видно, подозревал, что не все ладно, но теперь я и сам могу объяснить ему, что не так — и дело тут не в возбуждении и не в депрессии, а в полной путанице, которая возникает в голове. Происходит смешение двух миров. Нет, с меня довольно. Сыт по горло. Пусть испытывает свои препараты хоть на десяти обезьянах сразу. А меня увольте.
Зазвонил телефон. Я так и подскочил — вбежал в библиотеку и схватил трубку. Черт бы побрал его телепатические способности. Он, конечно, скажет, что ему известно, где я был, и что он прекрасно знает этот дом на берегу, и беспокоиться мне не о чем: опасности никакой нет, если только ни до кого не дотрагиваться. А если мне плохо или у меня в голове какая-то мешанина, то опять же ничего страшного в этом нет — просто побочное явление, не дающее никаких серьезных последствий. Ну ничего, сейчас я ему выдам.
Я схватил телефонную трубку и услышал:
— Подождите, пожалуйста, соединяю.
Я услышал щелчок — Магнус взял трубку.
— Черт бы тебя подрал! — начал я. — Учти, последний раз я изображал из себя дрессированного тюленя.
На другом конце провода раздался возглас изумления, затем смех:
— Ну что ж, дорогой, спасибо за теплые слова — так-то ты приветствуешь меня!
Это была Вита. Я остолбенел с трубкой в руке. Может быть, ее голос тоже был порожден путаницей в моих мозгах?
— Дорогой, куда ты подевался? — сказала она. — Что-нибудь случилось?
— Нет, — ответил я, — у меня ничего не случилось. А что у тебя? Откуда ты звонишь?
— Из Лондона, из аэропорта, — ответила она. — Мне удалось купить билет на другой рейс, и я прилетела раньше, вот и все. Меня встречают Билл с Дианой, и мы сразу едем ужинать. Я просто подумала, вдруг ты будешь вечером звонить домой и удивишься, что я не отвечаю. Извини, если застала тебя врасплох.
— Да уж. Ну ладно, — сказал я. — Как дела?
— Отлично, просто отлично. Ты-то как? Интересно, кого ты ожидал услышать, когда снял трубку? Мне кажется, ты был не очень-то любезен.
— Я думал, это Магнус. Он тут мне поручил кое-что для него сделать… Я тебе все подробно написал; правда, письмо ты получишь только завтра утром.
Она рассмеялась. Я прекрасно знал этот смех, который словно говорил: «Так я и думала».
— Значит, профессор заставил тебя поработать на него, — сказала она. — Ну, это меня не удивляет. И что же за дела могли превратить тебя в дрессированного тюленя?
— Да всего не перечислишь. Пришлось разгребать разный хлам. Подробнее расскажу при встрече. Когда мальчики приезжают?
— Завтра, — сказала она. — Поезд приходит ни свет ни заря. Так что, думаю, посажу их в машину, и мы сразу двинем к тебе. Долго туда добираться?
— Погоди, — сказал я. — Понимаешь, я еще не совсем готов принять вас. Я обо всем написал в письме. Лучше приезжайте в начале следующей недели.
На другом конце провода воцарилось гробовое молчание. Вечно я не то говорю.
— Не готов? — переспросила она. — Но ведь ты там уже пять дней? Разве ты не договорился с какой-то женщиной, что она будет приходить — готовить, убирать и тому подобное. Она что — отказалась?
— Да нет, не в том дело, — сказал я. — Она просто клад, лучше не найти. Послушай, дорогая, я не могу все это объяснять по телефону. Прочтешь в письме. Если честно, мы никак не ждали вас раньше понедельника.
— Мы? — сказала она. — Надеюсь, ты не хочешь сказать, что профессор тоже там?
— Да нет же, нет… — Я чувствовал, как мы оба начинаем заводиться. — Я имел в виду миссис Коллинз и себя. Она приходит только по утрам, приезжает на велосипеде из Полкерриса — это маленькая деревушка у подножья горы. Она еще не успела проветрить постели и всякое такое и очень расстроится, если не сумеет как следует подготовить дом. А ты же знаешь себя: в доме все должно блестеть и сверкать.
— Что за чушь, — сказала она, — я готова к спартанской обстановке, да и мальчики тоже. Мы можем привезти с собой продукты, если тебя это волнует. И одеяла. Одеял там достаточно?
— Одеял полно, — сказал я, — и еды навалом. Дорогая, ну не усложняй все. Не надо сейчас приезжать, понимаешь? Это не совсем удобно. Говорю как есть. Извини.
— О'кей.
Ох уж этот нарочито веселый тон, как он мне хорошо знаком! Можно было не сомневаться, что она не смирится с поражением и с лихвой компенсирует свою вынужденную уступку победой в решающем бою.
— Что ж, надевай фартук и бери в руки метлу, — добавила она на прощание. — Я сообщу Биллу и Диане, что у тебя новое увлечение — заниматься домашним хозяйством, и сегодняшний вечер ты проведешь с половой тряпкой в руках. Они будут в восторге.
— Послушай, дорогая, не подумай только, что я не хочу тебя видеть, — начал я, но тут же услышал: «Пока!» — все тем же нарочито веселым тоном — и понял, что опять все сделал не так. Она повесила трубку и, наверно, уже направлялась в ресторан аэропорта, чтобы заказать себе виски со льдом и выкурить три сигареты подряд в ожидании своих друзей.
Вот так… Что же теперь делать? Мой гнев против Магнуса перекинулся на Виту: откуда мне было знать, что она прилетит раньше времени и неожиданно позвонит мне? Любой в подобной ситуации вел бы себя не лучшим образом. Но тут была одна загвоздка: моя ситуация ни на чью больше не похожа — она уникальна. Менее часа назад, благодаря препарату, я жил в совершенно другом мире, в другом времени и пошел на это сам, по собственному желанию.
Я начал слоняться по дому: из библиотеки в столовую, оттуда в музыкальный салон и обратно — как турист, вышагивающий по палубе корабля, — и мне стало казаться, что я теперь больше вообще ни в чем не уверен. Ни в себе, ни в Магнусе, ни в Вите, ни в том мире, который меня окружал. Да и кто мог сказать, к какому миру я на самом деле принадлежал: к тому, где был этот дом, который мне предоставили во временное пользование, лондонская квартира, контора, которую я покинул, уйдя с работы, — или к тому, где остался убранный в траур дом, такой реальный в моем сознании, хотя он давным-давно погребен под многовековым слоем камней и мусора. Почему же, если я решил больше никогда не видеть тот дом, я так упорно отговаривал Виту приехать завтра? Я сказал первое, что пришло в голову — это была чисто рефлекторная реакция. Головокружение и тошнота прошли? Прошли. Но они могут возобновиться в любую минуту. Могут. Препарат представляет опасность: его воздействие и побочные явления неизвестны. И это — факт. Я люблю Виту, но я не хочу, чтобы она была здесь, рядом со мной. Почему?
Я снова бросился к телефону и позвонил Магнусу. Никто не отвечал. Как никто не мог ответить на вопрос, который мучил меня. Возможно, ответ знал тот врач с умными глазами. Что бы он мне сказал? Что наркотические препараты, обладающие галлюцинирующим эффектом, могут сыграть злую шутку с подсознанием, извлекая из глубин нашей психики все, что накопилось там на протяжении жизни, и поэтому лучше держаться от них подальше? Дельный совет, но меня он не устраивал. Я ведь совершал путешествия не к призракам собственного детства. Все эти люди — не тени из моего прошлого. Роджер, управляющий, — отнюдь не мое второе «я», а Изольда — не плод моей фантазии, не какой-то выдуманный идеал. Или я ошибаюсь?
Снова и снова пытался я связаться с Магнусом, но у него по-прежнему никто не отвечал. Так я промаялся весь вечер: не мог ни читать, ни слушать пластинки, ни смотреть телевизор. Наконец, когда я уже сам себе осточертел, и мне надоело ломать голову над этой проблемой, которая казалась неразрешимой, я отправился спать и на следующее утро с большим удивлением осознал, что спал я просто прекрасно.
Утром я первым делом позвонил в Лондон и поймал Виту уже в последнюю минуту: она убегала встречать мальчиков.
— Дорогая, прости, я вчера… — начал я, но она прервала меня — не было времени для объяснений, поскольку она уже и так опаздывала.
— Хорошо, я позвоню позже. Когда ты будешь дома? — спросил я.
— Не могу точно сказать, — ответила она. — Все зависит от мальчиков: что они захотят делать, придется ли заезжать в магазины. Может, нужно будет купить им джинсы, плавки, не знаю что еще. Да, кстати, спасибо за письмо. Твой профессор действительно нагрузил тебя будь здоров.
— Черт с ним, с Магнусом… Как прошел ужин с Биллом с Дианой?
— Прекрасно. Порассказали всяких сплетен. Но я должна бежать, а то мальчики будут томиться на вокзале.
— Передай им привет от меня, — прокричал я, но она уже повесила трубку.
Ладно хоть голос ее звучал вполне нормально. Вероятно, вечер с друзьями и хороший сон благотворно на нее повлияли, да и письмо сыграло свою роль: кажется, она мне поверила. Слава Богу… Теперь можно немного расслабиться. В дверь постучали, и вошла миссис Коллинз — в руках у нее был поднос с завтраком.
— Вы меня балуете, — сказал я, — мне следовало встать на час раньше.
— У вас же отпуск, — сказала она, — а значит, вставать рано незачем, разве не так?
Я пил кофе и обдумывал ее слова. Точно подмечено: незачем рано вставать… Мне не придется больше нырять в метро, чтобы добраться из Западного Кенсингтона до Ковент-Гардена, не будет больше окна родной конторы, неизбежной повседневной текучки, споров о рекламе, о суперобложках, не будет никаких новых авторов, старых авторов. Я ушел с работы. Со всем этим покончено. Незачем больше рано вставать. Но Вита хочет, чтобы я начал все сначала — только по ту сторону Атлантического океана. И значит — снова метро, толчея в чужой уличной толпе, офис в тридцатиэтажном здании, неизбежная повседневная текучка, споры о рекламе, о суперобложках, новые авторы, старые авторы. Есть ради чего рано вставать…
На подносе с завтраком лежали два письма. Одно было от матери из Шропшира, в котором она писала, что в Корнуолле, должно быть, сейчас очень мило и что она мне страшно завидует: там у меня, небось, светит солнце. А ее снова замучил артрит, а бедняга Добси стареет просто на глазах и стал совсем глухой. (Добси — мой отчим, и ничего удивительного в том, что он оглох: скорее всего, это защитная реакция — мать говорит без умолку.) И так далее, и тому подобное — восемь страниц, исписанных ее крупным, округлым почерком. Я почувствовал угрызения совести, поскольку уже год не навещал ее, хотя — надо отдать ей должное — она никогда не упрекала меня, была очень рада, когда я женился на Вите, и всегда поздравляла мальчиков с Рождеством, присылая им в качестве подарка слишком крупные, на мой взгляд, суммы денег.
Другой конверт был длинный и тонкий. Внутри я обнаружил два листа, отпечатанных на машинке, и записку, нацарапанную рукой Магнуса.
«Дорогой Дик, — писал он, — один длинноволосый друг моего ученика, проводящий все дни напролет в Британском музее и Государственном архиве, откопал сии бумаги, которые лежат сейчас перед твоими глазами. Придя сегодня утром на работу, я обнаружил их на своем письменном столе. В Переписной книге содержится довольно любопытная информация, да и другой документ, мне кажется, может тебя развлечь: там упомянут небезызвестный тебе лорд Шампернун — какая-то скандальная история, связанная с перезахоронением его останков.
Я сегодня буду думать о тебе: мне интересно, куда Виргилий ведет своего Данте. Только помни, что прикасаться к нему нельзя: последствия могут быть самые неприятные. Держись на расстоянии, и все будет отлично. Я бы посоветовал тебе следующее „путешествие" совершить не выходя из дома.
Твой Магнус.»
Я взял в руки документы. Студент, нашедший все это, нацарапал в верхнем углу первого листка: «От епископа Грандиссона Эксетерского. Оригинал на латыни. Извините за корявый перевод». Далее следовало:
«Грандиссон, после Рождества Христова 1329, Тайуордретский монастырь.
Джону и проч., и всем его возлюбленным детям, всем достопочтенным братьям ордена, а также лордам, приору и Тайуордретской обители — мое приветствие и проч. Всем нам хорошо известно, что согласно уложениям священного канона, тела благочестивых верующих, погребенных однажды церковью, не могут быть эксгумированы, за исключением особых случаев, оговоренных каноном. До нашего слуха недавно дошло известие, что тело лорда Генри Шампернуна, рыцаря, преданное земле, покоится в вашем освященном храме. Однако, как нам кажется, определенные лица, погрязшие в мирской суете и соблазненные мишурой земного бытия, пекущиеся более о своей корысти, нежели о благоденствии вечной души вышеназванного рыцаря, презрев обряды святой церкви, отягощены заботою о том, чтобы достать из земли прах названного рыцаря при обстоятельствах, не допускаемых нашими законами, и перенести его в другое место без нашего на то соизволения. Дабы воспротивиться совершению оного бесчинства, мы призываем вспомнить о христианском повиновении и повелеваем пресечь подобную греховную дерзость и не допустить эксгумации вышеназванного тела или какого-либо его перезахоронения, ибо на то не было испрошено наше соизволение — никакие доводы и причины не должны приниматься во внимание и обсуждаться, ибо оные противны воле Божьей и нашей. Мы же со своей стороны налагаем строжайший запрет под страхом отлучения от церкви на всех наших подданных до единого (включая и тех, с помощью которых это преступное деяние рассчитывают совершить) каким бы то ни было образом, будь то содействие, совет, либо услуга, способствовать извлечению погребенного тела из земли или любому другому его незаконному перемещению. Писано в Пейнтоне 27 августа.»
Внизу Магнус приписал: «Мне нравится прямолинейность епископа Грандиссона. Но я абсолютно не понимаю — о чем речь? Семейная свара или что-нибудь похуже, о чем епископ и сам не очень осведомлен?»
Второй документ представлял собой именной список под заглавием «Переписная книга, год 1327, приход Тайуордрет. Подушная подать в 1/20 движимого имущества… взимаемая со всех граждан податного сословия, владеющих имуществом стоимостью в десять шиллингов и более». Всего в списке было сорок имен, и возглавлял его Генри де Шампернун. Я пробежал глазами остальные имена. Под номером двадцать три шел Роджер Килмерт. Значит, это не галлюцинация — такой человек действительно существовал.
Глава восьмая
Я оделся, сел в машину и, обогнув Тайуордрет, взял курс в Тризмилл. Я намеренно не стал останавливаться на знакомой стоянке у обочины, а съехал вниз с горы прямо в долину. Парень, живший в доме под названием «Нижняя часовня», мыл свой фургон. Увидев меня, он помахал рукой. То же самое произошло и когда я притормозил за мостом около фермы Тризмилл. Фермер, которого я встретил вчера утром, гнал своих коров через дорогу и остановился перекинуться словечком. Я поблагодарил Бога за то, что ни тот, ни другой не видели меня вчера вечером на стоянке.
— Ну как, нашли усадьбу? — спросил он.
— Да нет, — ответил я, — думаю, нужно еще раз осмотреть все вокруг. Тут недалеко, на полпути вверх по холму, есть довольно странное место — все заросло утесником. Случайно не знаете, как оно называется?
Из-за моста мне плохо были видны окрестности, поэтому я наобум махнул рукой примерно в направлении карьера: там вчера, оказавшись совсем в другом веке, следуя за Роджером, я попал в дом, где умирал сэр Генри Шампернун.
— Вы имеете в виду Граттен? — спросил он. — Сомневаюсь, чтобы там было что-нибудь интересное для вас — кроме битого шифера да камней, ничего нет. Когда-то было полно сланца. А сейчас один мусор. Говорят, при строительстве дома в Тайуордрете в прошлом веке камень и сланец в основном брали оттуда. Похоже на то.
— А почему такое название — Граттен? — спросил я.
— Точно не знаю. Так называется тот участок, где сейчас распаханное поле. Оно принадлежит ферме Маунт-Беннет. Мне кажется, это старое слово, обозначавшее что-то горящее. Напротив поворота на Стоунибридж есть тропинка, она выведет вас прямо к месту. Но только ничего интересного вы там не найдете.
— Скорее всего, вы правы, — ответил я, — но хотя бы полюбуюсь видом.
— Оттуда разве только поезда увидишь, — засмеялся он, — да и они теперь редко ходят.
Оставив машину на полпути к вершине горы, напротив проселочной дороги, как он и советовал, я направился через поле к Граттену. Подо мною лежала долина и проходила железная дорога, направо местность резко шла под уклон к железнодорожной насыпи, а за насыпью склон становился более отлогим и внизу переходил в болотистые заросли. Вчера в том, другом, мире на этом самом месте между нынешней насыпью и болотом, в самом центре лесистой долины, где кустарник и деревья теперь особенно густы, находилась пристань. Посередине узкого залива Отто Бодруган поставил на якорь свое судно, развернув нос корабля навстречу приливу.
Я прошел мимо того места, где накануне сидел и курил. Затем прошел в сломанные ворота и остановился среди знакомых ям и бугров. Но сегодня, когда я не страдал ни от головокружения, ни от тошноты, я отчетливо увидел, что все кочки были не природного происхождения — вероятнее всего, здесь когда-то стояли стены дома, которые давно разрушились, ушли в землю и заросли, а углубления, которые я принял за ямы, возникли на месте бывших комнат.
Люди, бравшие отсюда камни и сланец для строительства своих домов, знали, что делали. Сняв лопатой пласт земли, покрывавший, должно быть, фундамент здания, они находили в большом количестве весь необходимый материал, и карьер позади возник в результате таких же раскопок. Теперь местные жители утратили к этому месту всякий практический интерес. Карьер стал использоваться как свалка для разного хлама и старых консервных банок, проржавевших от времени и зимних дождей.
Что ж, кто-то утратил интерес к этому месту, а я только начал его ощущать, хотя фермер там, внизу, в Тризмилле, и заверял меня, что ничего достойного внимания я здесь не найду. Пока что мне было известно только одно: вчера, в другом времени, я стоял в сводчатом зале, занимавшем основную часть давно разрушенного дома, затем по наружной лестнице поднялся в верхнюю комнату и видел, как умирал его хозяин. Теперь здесь нет ни двора, ни стен, ни зала, ни конюшен за домом — ничего, кроме поросших травой холмиков и вьющейся между ними узкой грязной тропинки.
Один участок был совершенно ровный, с гладкой зеленой травой — возможно, когда-то именно здесь находился двор. Я сел и стал смотреть вниз на долину — туда же смотрел Бодруган, когда он подошел к окошку в зале. Тайуордрай, дом на берегу… Я думал о том, какой голубой была вода в извивающемся морском рукаве в те далекие времена и как отливали золотом на солнце песчаные отмели по обоим его берегам во время отлива. Если воды в заливе тогда было достаточно, Бодруган мог поднять якорь в ту же ночь и отплыть в море, если же нет, он все равно мог вернуться на борт и переночевать там со своей командой, а на рассвете, быть может, вышел на палубу, потянулся после сна и, подняв голову, долго смотрел на погруженный в траур дом.
Документы, которые я получил сегодня утром по почте, лежали у меня в кармане, и теперь я вынул их и перечитал еще раз.
Послание епископа Грандиссона, отправленное приору, было датировано августом 1329 года. Сэр Генри Шампернун умер в конце апреля — начале мая. Несомненно, попытку извлечь его прах из монастырской могилы предприняла чета Феррерсов, и конечно же, главным вдохновителем этой авантюры была миссис Феррерс. Интересно, кто же все-таки донес епископу, сыграв, с одной стороны, на амбициях церковного служителя, а с другой — полностью застраховав себя от угрозы возможного разоблачения. Скорее всего, это дело рук сэра Джона Карминоу — не без участия Джоанны, с которой он, будьте уверены, к тому времени уже не раз переспал.
Я вновь взглянул на список из Переписной книги, мысленно отмечая тех, чьи имена совпадали с местными названиями на моей дорожной карте, которую я прихватил с собой из машины. Рик Тривинор, Рик Тривайриан, Рик Тринателон, Джулиан Полпи, Джон Полорман, Джеффри Лампетоу… все эти имена с небольшими изменениями в написании сохранились в названиях ферм, отмеченных на моей карте. Люди, которые здесь когда-то жили, умерли более шестисот лет тому назад, но свои имена передали памяти потомков, тогда как Генри Шампернун, владелец этих земель, оставил после себя лишь огромное количество бугров и ям, чтобы я, нарушитель временных границ, спотыкался и ломал себе ноги. Все они спят вечным сном уже почти семь веков, Роджер Килмерт и Изольда Карминоу в их числе. О чем они мечтали, думали, что им удалось свершить — теперь это ни для кого не имеет никакого значения. Все давно забыто.
Я встал и попытался определить среди всех этих колдобин, где же находился зал, в котором вчера сидела Изольда, обвиняя Роджера в попустительстве преступлению. Но у меня ничего не вышло. Природа поработала на совесть — и здесь, на склоне холма, и внизу, в долине, где когда-то сверкали воды морского залива. Море отступило и обнажило землю, стены поросли травой, мужчины и женщины, которые ступали по этой земле, глядя вниз на голубые воды, давно обратились в прах.
Я пошел прочь тем же путем, через поле. Настроение было унылое, рассудок говорил, что приключение подошло к концу. Но чувства не желали мириться с разумом, они не позволяли душе обрести покой и, к счастью или к несчастью, но я понимал, что меня здорово затянуло. Я не мог забыть, что стоит мне только повернуть ключ в дверях лаборатории, как все свершится снова. Вот оно, извечное искушение рода человеческого — вновь и вновь стоять перед выбором: вкусить ли запретный плод с древа познания. Я сел в машину и отправился в Килмарт.
Несколько часов я составлял Магнусу подробный отчет о том, что случилось со мной вчера, а заодно упомянул о приезде Виты в Лондон. Затем я поехал в Фауи, чтобы отправить письмо и договориться насчет проката парусной лодки на следующую неделю, когда Вита с мальчиками уже будут здесь. Конечно, это не залив у Лонг-Айленда, всегда спокойный и гладкий, как зеркало, и яхта не такая роскошная, как та, что нанял ее братец Джо, но она все же должна оценить мои усилия, да и мальчики, я думаю, будут довольны.
В этот вечер я никому не звонил, и мне тоже никто не звонил, и вот результат: спал я отвратительно, все время просыпался и вслушивался в тишину. Роджер Килмерт не выходил у меня из головы — я так живо представлял его в спальне над кухней в старом доме, и, кроме того, мне было интересно, удалось ли его брату шестьсот сорок лет назад надежно припрятать посуду. Наверное, удалось, если они хотели, чтобы Генри Шампернун лежал спокойно в своей могиле в монастырской часовне, пока сама часовня тоже не обратится в прах.
На следующее утро у меня не было никакого настроения завтракать в постели — я слишком нервничал. Я пил кофе, сидя на террасе у входа в библиотеку, когда позвонил телефон. Это был Магнус.
— Как себя чувствуешь? — первым делом спросил он.
— Отвратительно. Я плохо спал.
— Это ничего, еще успеешь выспаться. Можешь прилечь днем на свежем воздухе в патио. В кладовке есть надувные матрасы, так что я просто тебе завидую. Мы тут в Лондоне все умираем от жары.
— А мы в Корнуолле нет, — ответил я. — К тому же в этом твоем патио я страдаю от клаустрофобии. Ты получил мое письмо?
— Да, — сказал он. — Поэтому и звоню. Поздравляю с третьим «путешествием». Что касается твоего самочувствия, так ничего страшного в этом нет. В конце концов сам виноват.
— Да, возможно, если говорить о тошноте и головокружении, — ответил я, — но как ты объяснишь путаницу во времени?
— Ты прав, — согласился он. — Для меня самого это неожиданность. И разрыв во времени тоже. Шесть месяцев или даже больше между вторым и третьим «путешествием». Знаешь что? У меня есть идея: я постараюсь через недельку освободиться и приехать к тебе, и мы отправимся вместе.
Сначала я пришел от этой идеи просто в восторг. Но очень быстро вернулся на землю.
— Исключено. К этому времени здесь уже будет Вита с мальчиками.
— Мы как-нибудь избавимся от них. Отправим куда-нибудь на Лендс-Энд или на острова Силли[5] на весь день, пусть лопают там бананы. За это время мы все успеем.
— Боюсь, ничего не получится, — сказал я, — уж поверь мне. — (Он просто плохо знает Виту. Представляю ее реакцию.)
— Ну, это пока не горит, — сказал он, — хотя было бы забавно. Ко всему прочему мне хотелось бы взглянуть на Изольду Карминоу.
Его шутливый тон несколько успокоил мои издерганные нервы. Я даже улыбнулся.
— Она девушка Бодругана, так что нам с тобой ничего не светит.
— Кто знает? — возразил он. — В те времена часто меняли любовников. Правда, я до сих пор не совсем понимаю, кто она и как она связана с остальными.
— Она и Уильям Феррерс вроде бы приходятся кузенами Шампернунам, — пояснил я.
— А муж Изольды, Оливер Карминоу, которого не было вчера у смертного одра, — брат Матильды и сэра Джона?
— Видимо.
— Я должен это записать и попросить своего ассистента все как следует проверить. Ну что? Я оказался прав: это Джоанна — порядочная сучка, — сказал он и затем уже совсем другим тоном добавил: — Итак, ты теперь убедился, что все это — действие препарата и никакого отношения к галлюцинациям не имеет.
— Ну, почти, — ответил я осторожно.
— Почти? Тебя что — и документы не убеждают?
— Документы, конечно, помогают мне в это поверить, — признал я, — но не забывай, что ты познакомился с ними раньше, чем я. Поэтому все равно остается вероятность того, что ты мог оказать на меня какое-то телепатическое воздействие. А кстати, как поживает обезьяна?
— Обезьяна-то? — он немного помолчал. — Обезьяна умерла.
— Спасибо тебе большое, — сказал я.
— Да ты не беспокойся, препарат тут ни при чем. Я специально усыпил ее. Мне нужно сделать анализ ее мозговых клеток. Это потребует некоторого времени, потерпи чуть-чуть.
— Я и так терплю, — ответил я, — только, знаешь, мне как-то не по себе — по-моему, ты решил рискнуть моими собственными мозгами, а?
— Твой мозг совсем другое дело, — сказал он. — Он может выдержать и не такую нагрузку. И потом, сам подумай, как же ты без Изольды? Такое замечательное противоядие против Виты. Как знать, может ты еще…
Я оборвал его, прекрасно понимая, что он собирается сказать:
— Оставь мою личную жизнь в покое. Тебя она не касается.
— Я только хотел заметить, что путешествия между мирами очень стимулируют. Это, по сути, то же самое, что происходит сплошь и рядом и без всякого препарата — за углом любовница, дома жена… Кстати, твоя главная находка — это карьер над Тризмиллской долиной. Когда мы с тобой завершим наш эксперимент, я попрошу своих друзей археологов покопать там.
Слушая его, я подумал, как по-разному мы подходим к эксперименту. Его отношение было чисто научным, лишенным какой-либо эмоциональной окраски: ему было все равно, что произойдет с теми, кто участвует в его опыте, главное — успешно завершить эксперимент и доказать правильность своей гипотезы, в то время как меня полностью захватила история; люди, к которым он относился, как к старым куклам, для меня были живыми. Я представил вдруг, что этот давно разрушенный дом реконструирован из цементных, блоков, входная плата — два шиллинга, в Нижней часовне стоянка автомашин…
— Значит, Роджер никогда тебя туда не водил? — спросил я.
— В Тризмиллскую долину? Никогда, — ответил он, — я выходил из Килмарта всего один раз — в монастырь, я тебе уже об этом рассказывал. Я предпочитаю оставаться на своей территории. Когда приеду, расскажу обо всем подробно. На конец недели уезжаю в Кембридж, а ты не забудь, что суббота и воскресенье в твоем полном распоряжении и не упусти случая доставить себе удовольствие. Можешь чуть-чуть увеличить дозу — ничего страшного.
Он повесил трубку, и я, конечно, не успел спросить у него номера телефона, если вдруг мне понадобится дополнительно связаться с ним. И в ту же минуту телефон зазвонил снова. На сей раз это была Вита.
— У тебя все время занято, — сказала она. — С профессором беседовал, угадала?
— Да, а что? — ответил я.
— Еще работы подкинул? Смотри, милый, не надорвись.
Да, она явно была сегодня не в духе. Небось выместит все на мальчишках, и ничем не поможешь.
— Какие планы на сегодня? — спросил я, оставляя без внимания ее колкость.
— Мальчики собираются в бассейн к Биллу в клуб. Что еще делать? В Лондоне страшная жара. А как там у тебя?
— Все небо в тучах, — ответил я, даже не взглянув в окно. — Циклон движется через Атлантику и ночью достигнет Корнуолла.
— Звучит заманчиво. Надеюсь, твоя миссис Коллинз уже заканчивает проветривать постели.
— Не волнуйся, все будет в порядке, — заверил я ее. — Она очень обязательный человек. Я договорился насчет парусной лодки на следующую неделю — целая яхта, и ее хозяин сам нас повезет. Надеюсь, мальчики будут довольны.
— А их мамочка?
— И мамочка тоже, если только запасется таблетками от морской болезни. И потом тут недалеко за утесами хороший пляж — всего-то пройти два поля и спуститься вниз. Не бойся, быков нет.
— Дорогой, — язвительный тон сменился на милостивый или, во всяком случае, стал гораздо мягче. — Надеюсь, ты все-таки хочешь, чтобы мы приехали.
— Конечно, — сказал я. — Что ты такое говоришь?
— Я никогда не знаю, чего ожидать, после того как ты пообщаешься со своим профессором. Когда он рядом, это как проклятье… А вот и мальчики, — продолжала она совсем другим голосом. — Они хотят поздороваться с тобой.
Голоса моих пасынков, как и их лица, невозможно было различить, хотя Тедди было двенадцать, а Микки десять. Все говорили, что они похожи на отца, погибшего в авиакатастрофе за два года до нашего с Витой знакомства. Судя по фотографии, которую они повсюду таскали с собой, это действительно так. У него — и у них — был классический тевтонский череп под коротко стрижеными волосами, как у многих молодых американцев.
Голубые простодушные глаза, широкое лицо. Симпатичные ребята. Но я спокойно мог бы прожить и без них.
— Хай, Дик, — сказали они по очереди.
— Хай, — повторил я это их американское приветствие, настолько же чуждое моему уху, как если бы они говорили на каком-нибудь африканском диалекте.
— Как дела? — спросил я.
— Нормально, — ответил один.
Наступила долгая пауза. Они никак не могли придумать, что бы еще сказать. Я тоже.
— Я вас жду. На следующей неделе увидимся, — сказал я.
Я слышал, как они долго перешептывались на другом конце провода, затем трубку снова взяла Вита.
— Им не терпится искупаться. Нужно идти. Береги себя, дорогой, и, пожалуйста, не очень переутомляйся.
Я пошел в летнюю беседку, которую построила еще мать Магнуса, и стал смотреть на залив. Здесь было просто замечательно: тихо, спокойно — беседка была защищена от всех ветров, кроме юго-западного. Я подумал, что с удовольствием провел бы здесь все лето, если бы только удалось отвертеться от игры в крикет с мальчиками. Они обязательно притащат с собой все необходимое для игры: стойки, биты и мяч, который бесконечно будет улетать через стену в поле. «Теперь твоя очередь бежать за ним!» «Нет, твоя, нет, твоя!»
Затем из-за кустов гортензии раздастся голос Виты: «Тише, тише! Будете ссориться, не разрешу больше играть в крикет. Так и знайте». И в конце — обязательно призыв ко мне: «Дорогой, ну сделай же что-нибудь. Ты ведь у нас единственный мужчина».
Ладно, по крайней мере, сегодня, сидя в беседке и глядя на залив, над которым висел солнечный диск, я радовался покою, царившему в Килмарте, в Килмерте… Я мысленно и абсолютно бессознательно произнес это слово так, как оно звучало тогда. Неужели путаница со временем входит уже в привычку? Но я чувствовал себя слишком усталым, чтобы думать сейчас об этом. Я снова встал и принялся бесцельно бродить по участку, подравнивая кусты живой изгороди старым секатором, который нашел в котельной. Магнус не соврал насчет матрасов. Их было целых три. Надувались они «лягушкой». Пожалуй, если будут силы, займусь ими в течение дня.
— У вас нет аппетита? — спросила миссис Коллинз, когда я с трудом справился с обедом и попросил кофе.
— Извините, — сказал я. — Все было очень вкусно. Просто я сегодня что-то не в себе.
— Я и то подумала — какой-то у вас усталый вид. Это все из-за погоды. Такие скачки.
Погода была ни при чем. Просто я не мог взять себя в руки: меня охватило непонятное беспокойство, хотелось бежать, куда глаза глядят. Я отправился через поле к морю. И зря: оно выглядело точно так же, как из беседки — спокойное, серое, неподвижное. Затем пришлось тащиться обратно, в гору. День тянулся невыносимо медленно. Я настрочил письмо матери, во всех подробностях описав дом, — просто для того, чтобы хоть чем-то заполнить страницы. Оно напомнило мне те письма, которые я обязан был писать домой из школы: «В этом семестре меня перевели в другую комнату. В ней пятнадцать мальчиков». Окончательно измученный и физически и душевно, я в половине восьмого пошел наверх, не раздеваясь, повалился в постель и мгновенно уснул.
Меня разбудил дождь. Не очень даже сильный — он тихо стучал в открытое окно, занавески развевались. Было темно. Я зажег свет. Половина пятого. Я проспал целых девять часов. Усталость прошла, но я был очень голоден, поскольку вечером лег без ужина.
Вот оно, преимущество одинокой жизни: можно есть и спать когда вздумается. Я спустился вниз в кухню, приготовил сосиски и яичницу с беконом, заварил чай. Я чувствовал, что готов начать новый день, но что делать в такую рань, да еще когда на улице так серо и безрадостно? Конечно, только одно. Тем более что впереди — суббота и воскресенье. Как раз достаточно, чтобы прийти в себя, если потребуется…
Насвистывая, я спустился по черной лестнице в полуподвал и включил все лампочки. При свете здесь было гораздо приятнее — не так мрачно, даже лаборатория не напоминала больше обитель алхимика. Я отмерил нужное количество капель в мензурку (это было для меня теперь так просто — как зубы почистить).
— Ну же, Роджер, — сказал я, — выходи. Давай-ка встретимся с глазу на глаз.
Я сел на край умывальника и стал ждать. Прошло довольно много времени. Но ничего не происходило. Я все сидел и смотрел на эмбрионов в банках, а между тем за решетчатым окном уже начало светать. Прошло, должно быть, около получаса. Какое ужасное надувательство! Затем я вспомнил, что Магнус предложил увеличить дозу. Я взял пузырек и очень осторожно накапал прямо себе на язык еще две или три капли и проглотил их. Мне показалось, а может быть не только показалось, что на этот раз появился какой-то не то горьковатый, не то кисловатый привкус.
Я вышел из лаборатории и направился по коридору в старую кухню. Там я выключил свет, поскольку бледный рассвет уже осветил внутренний дворик, и было не так темно. Затем я услышал, как скрипнула дверь — она всегда скрипела, задевая за каменную плиту в полу, — и вдруг широко распахнулась от сквозняка. Послышались шаги и чей-то голос.
— О Боже, — подумал я, — миссис Коллинз уже пришла! Она ведь действительно что-то говорила: вроде ее муж сегодня собирается с утра подстригать траву на лужайке.
В дверь ввалился мужчина, таща за собой мальчика, и это был вовсе не муж миссис Коллинз, а Роджер Килмерт. За ним следом вошли еще пятеро с факелами в руках — за окном вместо рассвета стояла темная ночь.
Глава девятая
Я стоял, прислонившись к кухонному буфету, но теперь за моей спиной была только каменная стена. Сама же кухня превратилась в жилую комнату старого дома: в противоположном конце ее находился очаг и рядом — лестница, ведущая наверх в спальню. На звук шагов вниз сбежала девочка, та самая, которую я видел в первый день стоящей на коленях у очага. Роджер прикрикнул на нее:
— Тебя кто звал? Ну-ка, брысь отсюда! Тебя это все не касается.
Она застыла в нерешительности, с ней был подросток, ее брат, выглядывавший из-за ее плеча.
— Кому говорят, уходите — вы оба! — кивнул снова Роджер, и они бросились вверх по лестнице, но мне было видно, как они притаились там, наверху, у самой лестницы так, чтобы их никто не видел.
Роджер укрепил свой факел на скамье, и в комнате стало светло. Я сразу узнал мальчика, которого он тащил за собой — это был тот самый юный послушник, которого во время моего первого посещения монастыря, развлекаясь, гоняли по двору братья монахи и который позже плакал во время молитвы в монастырской часовне.
— Я заставлю его говорить, раз никому из вас это не под силу, — сказал Роджер. — Я ему такое устрою, что у него быстро развяжется язык!
Не спеша, словно растягивая удовольствие, он закатал рукава, не спуская при этом ни на секунду глаз с послушника, который, пятясь от скамьи, пытался найти защиту у остальных собравшихся здесь, но они со смехом выталкивали его на середину. Он подрос с тех пор, как я его видел в последний раз, но ошибки быть не могло — это был тот же самый паренек, а выражение ужаса в его глазах говорило о том, что он прекрасно понимает: эти люди собрались здесь не для развлечения.
Роджер схватил его за рясу и рывком поставил на колени рядом со скамьей.
— А ну-ка, говори все, что знаешь, — сказал он, — или я спалю на твоей голове все волосы.
— Я ничего не знаю, — заплакал послушник. — Клянусь Пресвятой Божьей матерью…
— Не богохульствуй, — сказал Роджер, — а то я сейчас и рясу тебе подпалю. Ты давно уже шпионишь! Давай выкладывай все начистоту.
Он схватил факел и поднес его совсем близко к голове мальчика. Тот прижался к полу и начал пронзительно кричать. Роджер ударил его по лицу.
— А ну, кончай визжать, — сказал он.
Брат и сестра, как завороженные, наблюдали за всем этим с лестницы, а пятеро мужчин подошли вплотную к скамейке: один из них, достав нож, поднес его к уху мальчика.
— Может, сделать ему кровопускание? — предложил он. — А потом подпалим ему макушку — кожица там тонкая, нежная, а?
Послушник умоляюще воздел руки.
— Я все расскажу, все, что хотите, — плакал он, — но я ничего не знаю, ничего… только то, что я подслушал, когда господин Блойю, посланник епископа, разговаривал с приором.
Роджер убрал факел и вновь закрепил его на скамье.
— И что же он сказал?
Перепуганный послушник посмотрел сначала на Роджера, потом на остальных.
— Говорил, что епископ недоволен поведением некоторых монахов, в особенности брата Жана. Дескать, он и ему подобные не повинуются приору и ведут беспутный образ жизни, пуская на ветер все монастырское добро. Мол, это позор для ордена и дурной пример всем остальным. И епископ не может больше закрывать на все это глаза и поэтому наделяет господина Блойю всей полнотою власти с целью навести порядок в монастыре согласно канонам церкви, и сэр Джон Карминоу должен оказать ему в этом содействие.
Он перевел дыхание и обвел взглядом лица окружающих, ища в них сочувствия, и один — не тот, что был с ножом, а другой — отошел в сторону.
— Клянусь честью, все это сущая правда, — пробормотал он, — кто же будет отрицать? Все мы прекрасно знаем, что монастырь и вся монастырская братия давно пользуется дурной славой. Если бы французские монахи убрались отсюда восвояси, нам бы было только лучше.
Остальные одобрительно зашумели, а тот, что с ножом, огромный неуклюжий парень, потеряв всякий интерес к послушнику, повернулся к Роджеру.
— Трифренджи дело говорит, — произнес он угрюмо. — Всем же ясно, что мы, жители долины по эту сторону от Тайуордрета, только выиграем, если монастырь прикроют. У нас свои притязания на эту территорию: хватит уж им жиреть на наших землях, пора гнать их отсюда, мы бы лучше пасли наш скот там, а не на болоте.
Роджер, сложив на груди руки, пнул ногой до смерти напуганного послушника.
— Кто это тут собрался закрывать монастырь? — спросил он. — Епископ Эксетерский может высказываться только от имени епархии — порекомендовать приору навести порядок и призвать монахов к дисциплине, но не более того. Есть власть повыше: наш сюзерен — сам король, как вы все отлично знаете, и нам не так уж плохо живется на землях Шампернунов, да и от монастыря мы имеем немалый доход. К тому же все вы охотно торгуете с французскими кораблями, когда они бросают якорь в заливе. Ну-ка, кто из вас не набил свои подвалы всяким добром с кораблей?
Никто не отвечал. Послушник, решив, что опасность миновала, начал тихо отползать назад, но Роджер схватил его и вернул на место.
— Куда это ты собрался? — спросил он. — Я с тобой еще не закончил. Что еще господин Генри Блойю сообщил приору?
— Я вам уже все сказал, — заикаясь, пролепетал мальчик.
— А насчет положения в королевстве он ничего не говорил?
Роджер сделал движение, будто снова хотел схватить со скамьи факел, и послушник, дрожа от страха, умоляюще воздел руки.
— Он еще сказал, что с севера ползут слухи, — запинаясь выдавил он, — будто между королем и его матерью, королевой Изабеллой, продолжаются распри, и, может статься, она в ближайшее время вступит с ним в открытую борьбу. И господин Блойю хотел узнать, кто здесь, на западе, будет хранить верность молодому королю, а кто пойдет за королевой и ее любовником Мортимером, если дело все-таки дойдет до войны.
— Я так и думал, — сказал Роджер. — А теперь ползи в тот угол, и чтоб я тебя не слышал. Сболтнешь хоть слово, когда выйдешь отсюда, отрежу язык, так и знай!
Он повернулся к остальным — все пятеро смотрели на него в полном замешательстве: казалось, последнее сообщение лишило их дара речи.
— Ну, — сказал Роджер, — как вам это нравится? Вы что, язык проглотили?
Человек по имени Трифренджи покачал головой.
— Это все нас не касается, — сказал он. — Король может ссориться со своей матерью сколько ему влезет. Не нашего это ума дело.
— Ты так считаешь? — спросил Роджер. — Даже если королева с Мортимером возьмут власть в свои руки? Кое-кто в наших краях был бы этому рад. Их-то, несомненно, щедро наградят, когда вся эта заварушка закончится. Да и все те, кто примкнут к ним, тоже в накладе не останутся.
— Только не Шампернун-младший, — сказал человек с ножом. — Он еще несовершеннолетний и держится за материну юбку. Да и ты сам, Роджер, при том положении, которое занимаешь, никогда ведь не пойдешь бунтовать против законного короля.
Он ехидно засмеялся, и все остальные тоже, однако управляющий, окидывая взглядом всех по очереди, оставался невозмутимым.
— Чтобы победить, нужно действовать внезапно и стремительно: сменить власть в одну ночь, — сказал он. — Если именно так и планируют действовать королева и Монтимер, то у нас, конечно, есть резон поддерживать их друзей. Кто знает, может, будет даже перераспределение поместных земель. И тогда, Джеффри Лампетоу, глядишь, у тебя появится возможность пасти свой скот не на болоте, а на настоящих лугах.
Тот, с ножом, пожал плечами.
— Легко сказать, — заметил он, — но кто же эти друзья королевы, столь скорые на обещания? Я лично ни одного не знаю.
— Ну, скажем, Отто Бодруган, — спокойно сказал Роджер.
Присутствующие зашумели, повторяя имя Бодругана, а Генри Трифренджи, выступавший против французских монахов, снова покачал головой.
— Он, конечно, хороший человек, ничего не скажешь, но в тот раз, когда он участвовал в бунте против короля в 1322 году, он проиграл и вместо награды получил штраф в тысячу марок.
— Зато спустя четыре года ему воздали сторицею: королева сделала его правителем острова Ланди, — ответил Роджер. — Остров Ланди — прекрасное место для стоянки кораблей, перевозящих оружие, да и людей тоже: они там в полной безопасности, а по первому требованию могут быть доставлены на большую землю. Бодруган не дурак. Посудите сами — у него земли в Корнуолле и Девоне, плюс остров Ланди, где он сам себе хозяин. Что ему стоит по зову королевы поднять своих людей и снарядить корабли?
Его доводы, изложенные так просто и убедительно, по-видимому, подействовали, особенно на Лампетоу.
— Если мы от этого что-нибудь выгадаем, то я желаю ему успеха, — изрек он, — и окажу ему посильную поддержку, когда дело завершится. Но ни ради Бодругана, ни ради кого другого я не собираюсь пересекать Теймар,[6] так ему и передай.
— Вот сам это ему и передай, — сказал Роджер. — Его судно стоит на якоре внизу, и мы договорились, что я буду ждать его здесь. Поверьте мне, друзья: королева Изабелла сумеет отблагодарить его самого и всех тех, кто вовремя понял, чью сторону защищать.
Он подошел к лестнице.
— Робби, спускайся, — позвал он. — Возьми факел и выйди в поле. Посмотри, не идет ли сэр Отто. — Затем, поворачиваясь к остальным, добавил: — Вы как хотите, а я готов выступить вместе с ним.
Его брат Робби спустился с лестницы и, схватив факел, выбежал во двор за кухней.
Генри Трифренджи, самый осмотрительный из собравшихся, сказал, поглаживая подбородок:
— Роджер, а что ты все-таки с этого будешь иметь, если пойдешь за Бодруганом? Думаешь, леди Джоанна присоединится к своему брату и выступит против короля?
— Моя госпожа в этом деле не участвует, — отозвался Роджер. — Сейчас она вообще в отъезде: поехала с детьми в свое второе поместье Трилаун, и с ней жена и дети Бодругана. Никто из них не в курсе того, что происходит.
— Думаю, она тебя не похвалит, когда все узнает, — добавил Трифренджи, — да и сэр Джон Карминоу навряд ли будет в восторге. Всем известно, что, как только жена сэра Джона умрет, они поженятся.
— Жена сэра Джона пребывает в полном здравии и не собирается в ближайшее время расставаться с жизнью, — сказал Роджер. — А когда королева сделает Бодругана смотрителем Рестормельского замка и главным управляющим всеми землями графства Корнуолл, моя госпожа, быть может, потеряет всякий интерес к сэру Джону и начнет относиться к своему брату с большей любовью. Так что не сомневаюсь, в конце концов Бодруган неплохо меня отблагодарит, а госпожа — простит. — Он улыбнулся и почесал за ухом.
— Готов поклясться, мы все тебя прекрасно знаем, — сказал Лампетоу, — ты всегда делаешь только то, что тебе выгодно. И кто бы там ни победил, уж ты-то в накладе не останешься. Неважно, кому достанется Рестормельский замок — Бодругану или сэру Джону, — ты в любом случае будешь стоять у подъемного моста с туго набитым кошельком.
— Не спорю, — сказал Роджер, продолжая улыбаться. — Если бы и у вас с мозгами все было в порядке, вы бы стояли там вместе со мной.
Со двора послышались шаги, и он подошел к двери и широко ее распахнул. На пороге стоял Отто Бодруган, а за ним Робби.
— Добро пожаловать, сэр, проходите, ждем вас. Здесь все свои, — сказал Роджер.
Бодруган прошел в кухню. Он внимательно оглядел всех, не ожидая, как мне показалось, встретить здесь этих людей, которые, в свою очередь, смутились при его внезапном появлении и отступили к стене. Его туника была зашнурована до горла, поверх нее был кожаный жилет, подпоясанный ремнем, с которого свисали кошелек и кинжал, а на плечи был наброшен подбитый мехом плащ. Он резко отличался от всех остальных, одетых в домотканые платья с капюшонами. Его уверенная манера говорила о том, что он привык командовать людьми.
— Рад всех вас видеть, — сказал он и стал подходить к каждому по очереди. — Генри Трифренджи, не так ли? А это Мартин Пенелек. Джона Беддинга я тоже знаю — твой дядюшка вместе со мной в двадцать втором был на севере. С остальными я не знаком.
— Джеффри Лампетоу, сэр, и его брат Филип, — представил Роджер, — у них ферма в долине, рядом с наделом Джулиана Полпи, чуть ниже монастырских земель.
— Джулиана, значит, здесь нет?
— Он ждет нас у себя.
Взгляд Бодругана упал на послушника, который все еще сидел на полу у скамьи.
— А что тут у вас делает монах?
— Он принес нам интересные новости, — сказал Роджер. — В монастыре неприятности — это связано с поведением монахов и нас совершенно не касается. Но тревогу вызывает другое известие: на днях епископ прислал из Эксетера господина Блойю, чтобы тот досконально изучил обстановку в наших краях.
— Генри Блойю? Это ведь близкий друг сэра Джона Карминоу и сэра Уильяма Феррерса. Он и сейчас еще в монастыре?
Послушник, желая услужить, притронулся к колену Бодругана.
— Нет, сэр, он уже уехал. Он вчера отбыл в Эксетер, но обещал скоро вернуться.
— Ладно, ладно, поднимись с пола. Тебя здесь никто не обидит. — Бодруган повернулся к Роджеру. — Ты напугал его?
— Да я его пальцем не тронул, — запротестовал Роджер. — Он просто боится, как бы приор не узнал, что он здесь был, хоть я и обещал сохранить все в тайне.
Роджер знаком подозвал Робби и велел увести послушника наверх. Вскоре они оба исчезли. Поспешно взбираясь по лестнице, послушник имел вид самый жалкий, точь-в-точь как побитая собака. Затем Бодруган, стоя у очага, испытующе посмотрел на каждого из присутствующих.
— Я не знаю, что Роджер тут вам говорил о наших шансах на успех, — сказал он. — Сам я могу обещать вам гораздо лучшую жизнь в случае, если король будет отстранен от власти.
Все молчали.
— Скажите, Роджер сообщил уже вам, что практически вся страна в ближайшие дни присягнет королеве Изабелле? — спросил он.
Генри Трифренджи, который был, по-видимому, в этой компании главным оратором, осмелился произнести:
— Да, что-то в этом роде говорил, но только в общих чертах.
— Это лишь вопрос времени, — сказал Бодруган. — Сейчас в Ноттингеме заседает парламент. Уже есть решение арестовать короля — разумеется, с гарантией его полной безопасности — и отстранить его от трона до его совершеннолетия. А пока страной будет править королева Изабелла, которую назначат регентшей, и помогать ей будет Мортимер. Многим, я знаю, он не очень нравится, но это сильная личность и человек дела. В Корнуолле у него немало друзей — я сам считаюсь его другом и горжусь этим.
Все молчали. Затем вперед вышел Джеффри Лампетоу.
— А что требуется от нас? — спросил он.
— Если есть на то ваша добрая воля, можете отправиться со мной на север, — ответил Бодруган. — Ну, а если нет, — Бог видит, я не могу вас заставить, — тогда, по крайней мере, обещайте присягнуть на верность королеве, как только придет известие из Ноттингема, что король у нас в руках.
— Ну, что ж, разговор откровенный, — сказал Роджер. — И я первый говорю с радостью: да, я еду с вами.
— И я тоже, — сказал Пенелек.
— И я, — крикнул третий, по имени Джон Беддинг.
Только братья Лампетоу и Трифренджи молчали.
— Мы присягнем королеве, когда наступит час, — сказал Джеффри Лампетоу, — но сделаем это здесь, у себя, а не на чужом берегу Теймара.
— Тоже откровенно, — сказал Бодруган. — Если король останется у власти, то не пройдет и десяти лет, как мы будем втянуты в войну с Францией, и тогда нам придется воевать по ту сторону Английского канала. Поддержать сейчас королеву — это значит попытаться сохранить мир. Я уже заручился согласием по крайней мере ста человек, проживающих на моих землях в Бодругане, Тригреане и дальше к западу, а также в Девоне. А теперь, я думаю, пора к Джулиану Полпи — узнаем, что он думает по этому поводу.
Все сразу зашевелились и направились к двери.
— Сейчас прилив, через брод не пройти, — сказал Роджер. — Нужно ехать через долину мимо Трифренджи и Лампетоу. Я дам вам пони, сэр. Робби! — крикнул он наверх брату. — Ты оседлал пони для сэра Отто? И моего тоже? Поторопись тогда…
Когда мальчик спустился вниз, он шепнул ему на ухо:
— Брат Жан пришлет за послушником позже. Никуда его до тех пор не отпускай. Что до меня, когда вернусь — не знаю.
И вот мы уже в конюшне, все вместе — и пони, и люди, — и я знал, что должен буду идти за ними, поскольку Роджер уже садился верхом на пони, а куда бы он ни направлялся, моя участь следовать за ним. По небу бежали облака, дул ветер, и в ушах у меня звучало цоканье копыт и позвякивание сбруи. Никогда прежде, ни в моем мире, ни в этом, где я побывал уже не один раз, я не испытывал такого чувства единения с другими. Я был среди них, одним из них, но они не знали об этом. Я был заодно с ними, а они не знали! Именно в этом, как мне кажется, и была для меня прелесть всего происходящего. Быть связанным с кем-то — и одновременно быть свободным. Быть одному — и в то же самое время среди людей. Родиться в одном времени — и жить, невидимым, в другом.
Проехав через небольшую рощицу на подступах к Килмарту, они поднялись на вершину горы и вместо того, чтобы следовать по тому пути, где в моем времени проходит столь хорошо мне известная дорога, они перевалили через вершину и затем стремительно начали спускаться по крутому склону прямо в долину. Дорога была неровная, извилистая, и пони постоянно спотыкались. Склон напоминал мне отвесную скалу, но поскольку я не ощущал своего тела, то не мог верно судить ни о высоте, ни о крутизне спуска, и моим единственным ориентиром были фигуры всадников. Затем в темноте я разглядел блеск воды, и мы тотчас же оказались в лощине. Всадники подъехали к деревянному мосту, по которому пони благополучно перебрались на другой берег, и затем свернули на тропу, тянувшуюся вдоль ручья, и шли по ней, пока ручей не стал шире и превратился в широкий поток, впадающий там далеко в море. Я знал, что нахожусь, должно быть, на противоположной от Полмиарского холма стороне долины. Но так как в их мире я был не дома, а в гостях, и была ночь, определить расстояние не представлялось возможным. Мне оставалось только покорно следовать за пони, и я не спускал глаз с Роджера и Бодругана.
Тропа привела нас к фермерским строениям, возле которых братья Лампетоу спешились. Старший, Джеффри, прокричал, что он догонит нас позже, и мы продолжили свой путь. Дорога пошла вверх, но по-прежнему тянулась вдоль ручья. Впереди над песчаными дюнами виднелись другие фермерские постройки, и там уже ручей впадал в море. Даже в темноте мне видны были белые барашки волн, которые, разбиваясь, накатывали на берег. Впереди кто-то вышел нам навстречу, залаяли собаки, появились факелы, и мы снова оказались на конном дворе, похожем на тот, что был в Килмарте; вокруг него располагались службы.
Пока все спешивались, дверь в доме отворилась, и на пороге показался человек: я сразу его узнал. Это был приятель Роджера, который сопровождал его в тот день, когда в монастырь приезжал епископ. Это с ним Роджер затем отправился на деревенский луг.
Роджер первый слез с пони и подошел к своему другу. Даже при тусклом свете фонаря, освещавшего вход в дом, я заметил, как изменилось выражение его лица, когда хозяин дома стал что-то торопливо шептать ему на ухо, указывая на дальний конец двора.
Это не ускользнуло от внимания Бодругана, и, спрыгнув с пони, он крикнул:
— Джулиан, в чем дело? Ты успел передумать с тех пор, как мы с тобой виделись?
Роджер стремительно обернулся.
— Плохие новости, сэр. Никто, кроме вас, не должен знать.
Бодруган помедлил немного, затем быстро сказал:
— Можешь не говорить, если не хочешь, — и протянул руку хозяину дома. — Джулиан, я надеюсь, что мы соберем в Полпи достаточно оружия и людей. Мой корабль стоит на якоре у Килмерта — ты, вероятно, уже видел его. На борту мои люди, все готово.
Джулиан Полпи покачал головой.
— Мне очень жаль, сэр Отто, но никто не понадобится, да и вы тоже. Десять минут назад пришло известие, что дело проиграно, не успев начаться. Известие доставлено вам одной особой, которая — если мне будет позволено сказать мое слово — подвергает себя огромной опасности.
Я услышал, как Роджер велел остальным седлать пони и возвращаться в Лампетоу, где он обещал их нагнать. Затем, передав поводья стоявшему рядом слуге, он подошел к Полпи и Бодругану, которые в это время, минуя службы, направлялись к дальнему концу дома.
— Эта особа — леди Карминоу, — сказал Бодруган Роджеру. В нем уже не чувствовалось прежней уверенности, а лицо выражало сильное беспокойство. — Это она принесла нам плохие вести.
— Леди Карминоу! — воскликнул Роджер изумленно, и тут же, сообразив, что к чему, тихо спросил: — Вы имеете в виду леди Изольду?
— Она держит путь в Карминоу, — сказал Бодруган, — и, догадавшись, что я могу появиться в Полпи, специально свернула сюда.
Мы подошли к другой стороне дома, которая выходила на небольшую дорогу, ведущую в Тайуордрет. Крытый экипаж, похожий на те, что я видел в Мартынов день в монастыре, только чуть меньше и запряженный двумя лошадьми, стоял у ворот.
Когда мы приблизились, занавеска на маленьком окошке раздвинулась, и из него выглянула Изольда. Темный капюшон, покрывавший ее голову, съехал ей на спину.
— Слава Богу, я успела вовремя, — сказала она. — Я еду прямо из Бокенода. Джон и Оливер оба там, но я не сомневаюсь, что сейчас они уже выехали в Карминоу, чтобы забрать детей. Случилось самое худшее. Я уже собралась уезжать, когда стало известно, что королеву и Монтимера схватили и заточили в Ноттингемский замок. Власть полностью в руках короля. Мортимера собираются везти в Лондон, чтобы предать суду. Это конец, Отто, конец всем твоим надеждам.
Роджер и Джулиан Полпи переглянулись. Полпи тактично отошел в сторону и встал в тень, и я увидел лицо Роджера, на котором отражались все чувства, бушевавшие в нем в ту минуту. Нетрудно было догадаться, о чем он думал. Честолюбивые устремления сбили его с толку, и он поддержал обреченное дело. Ему теперь необходимо хотя бы убедить Бодругана как можно скорей вернуться на корабль и распустить людей, затем поторопить Изольду продолжить свое путешествие, а самому, как-нибудь объяснив столь крутую перемену в планах Лампетоу, Трифренджи и всем остальным, вновь вернуться к роли управляющего Джоанны Карминоу.
— Ты очень рискуешь — вдруг раскроется, что ты была здесь? — сказал Бодруган Изольде.
Сам он сохранял полное самообладание — никто не мог бы прочесть на его лице, как много он сейчас потерял.
— Ты знаешь, почему я на это решилась, — ответила она.
Я видел, как они смотрели друг на друга. Мы с Роджером были единственными свидетелями. Бодруган наклонился и поцеловал ей руку, и в ту же секунду я услышал шум колес на дороге. «Все-таки она опоздала предупредить его, — подумал я. — Ее муж Оливер и сэр Джон, должно быть, ехали за ней следом».
Мне показалось странным, почему никто из них ничего не слышит. И вдруг я увидел, что их больше нет рядом со мной. Экипажа тоже не было, а по проселочной дороге катила почтовая машина из Пара. Доехав до ворот, она остановилась.
Было утро. Я стоял посреди проезда к небольшому дому, в противоположном от Полмиарского холма конце долины. Я хотел спрятаться за кустами, растущими по обе стороны дороги, но почтальон уже вышел из машины и входил в ворота. Было ясно, что он не только узнал меня, но и крайне удивился. Перехватив его взгляд, я опустил глаза и посмотрел на свои ноги. Они были по щиколотку мокрые: должно быть, я влез в какое-нибудь болото. В ботинках хлюпала вода, брюки порваны. Я выдавил из себя жалкое подобие улыбки.
Он выглядел озадаченным.
— Где ж вас так угораздило? — сказал он. — Вы, если не ошибаюсь, остановились в Килмарте?
— Да, — ответил я.
— А это Полпи, дом мистера Грэхема. Но я не думаю, чтобы они уже встали, еще только семь часов. Вы собирались зайти к мистеру Грэхему?
— Нет, нет, что вы! Сегодня я просто очень рано встал, пошел прогуляться и вот — сбился с дороги.
Это была ничем не прикрытая ложь. Однако он как будто поверил.
— Я сейчас отнесу эти письма и потом поеду наверх, как раз в ваши края, — сказал он. — Не желаете воспользоваться моим транспортом? Все же лучше, чем идти пешком.
— Огромное спасибо, — сказал я. — С удовольствием воспользуюсь.
Он пошел вперед, а я залез в машину и посмотрел на часы. Он оказался прав: пять минут восьмого. Миссис Коллинз должна была прийти через полтора часа, не раньше, так что у меня еще достаточно времени, чтобы принять ванну и переодеться.
Я попытался сообразить, где я на этот раз побывал. Вероятно, на вершине холма я пересек шоссе, а затем пошел вниз напрямик, не разбирая дороги, и в низине влез в болото. А ведь раньше я даже не знал, что этот дом носит название Полпи.
Слава Богу, ни тошноты, ни головокружения не было. Пока я сидел и ждал, когда вернется почтальон, до меня дошло, что я весь промок: и пиджак, и волосы — шел дождь, и, возможно, он начался еще тогда, когда я вышел из Килмарта, почти полтора часа назад. Я подумал, стоит ли продолжать вранье или лучше помалкивать. Пожалуй, лучше помалкивать.
Он вернулся и сел в машину.
— Не самое удачное утро для прогулок, — сказал он. — В полночь как зарядил дождь, так и льет все утро.
Тут я вспомнил, что именно дождь-то меня и разбудил, а ветер раздувал занавески в спальне.
— Я люблю дождь, — сказал я. — В Лондоне у меня совсем нет возможности гулять.
— У меня тоже, — весело сказал он, — все время в машине. Хотя в такую погоду я бы предпочел поваляться в постели, а не разгуливать по болоту. Но, с другой стороны, было бы неинтересно, если бы люди были одинаковыми.
Он заехал в гостиницу у подножья горы, затем в один из близлежащих домов, а уж после этого фургон выехал на шоссе, и я оглянулся через левое плечо на долину, но высокая изгородь закрывала весь вид. Одному Богу известно, через какие болота и топи я, должно быть, прошагал. От моих ботинок в машине натекла целая лужа воды.
Мы свернули направо, прямо на проезд к Килмарту.
— Смотрите-ка, не один вы тут ранняя пташка, — сказал он, когда показался дом. — Одно из двух: либо миссис Коллинз приехала так рано из Полкерриса, либо у вас гости.
Я увидел бьюик с открытым багажником, до верха набитым вещами. Сигнал гудел без перерыва, и два мальчика, держа над головой плащи, бежали через сад по ступенькам к дому.
Я не мог поверить своим глазам, но вскоре с тоской понял неотвратимость судьбы.
— Это не миссис Коллинз, — сказал я, — это моя жена и дети. Они приехали из Лондона — вероятно, всю ночь провели в пути.
Глава десятая
Проехать к черному ходу мимо гаража было невозможно. Почтальон, улыбаясь во весь рот, остановил машину и открыл мне дверцу, к тому же дети меня все равно уже увидели и махали мне руками.
— Спасибо, что подвезли, — сказал я ему, — правда, я не совсем готов к торжественному приему.
Я взял письмо, которое он мне протянул, пошел навстречу своей судьбе.
— Хай, Дик! — закричали мальчики, сбегая по ступенькам. — Мы тебе звонили, звонили, а ты все не отвечал. Мама ужасно сердится.
— И я тоже. Я вас не ждал сегодня.
— Это сюрприз, — сказал Тедди. — Мама думала, что так будет интереснее. Микки спал на заднем сиденье всю дорогу, а я нет. Я был штурманом.
Машина перестала сигналить. Из бьюика вылезла Вита, одетая, как всегда, безукоризненно — хоть сейчас на Лонг-Айленд. У нее была новая прическа: то ли завивка помельче, то ли еще что-то — в общем неплохо, правда, лицо из-за этого казалось полнее.
Лучшая форма защиты — нападение, решил я. Ну что ж, приступим.
— Ей-богу, — начал я. — Надо же предупреждать!
— Я не виновата, — сказала она. — Это все мальчики — просто извели меня. Во всем вини их.
Мы поцеловались, а затем, отстранившись немного, стали настороженно разглядывать друг друга, точно боксеры на ринге, выбирающие удобный момент, чтобы нанести обманный удар.
— И сколько же времени вы здесь торчите? — спросил я.
— Почти полчаса. Обошли все кругом, но так и не смогли попасть в дом. Мальчики уже отчаялись дозвониться и даже пробовали бросать в окно комки земли. А в чем дело? Ты промок до нитки.
— Просто я очень рано проснулся и пошел прогуляться, — сказал я.
— Что? В такой дождь? Ты, наверное, спятил. Да ты посмотри на себя: брюки порваны, на пиджаке дыра. — Она схватила меня за руку, а мальчики подбежали к нам и стояли, вытаращив глаза. Вита засмеялась. — Откуда это ты в таком виде? — спросила она.
Я отстранился от нее.
— Послушай, — сказал я, — давай лучше разгружать вещи. Но здесь не место: парадная дверь заперта. Садись в машину, надо объехать вокруг — к черному ходу.
Мы с мальчиками пошли вперед, а она следовала за нами в машине. Когда мы подошли к черному ходу, я вдруг вспомнил, что дверь закрыта изнутри: я ведь выходил из дома через дворик-патио.
— Подожди здесь, — сказал я, — сейчас открою дверь.
Вместе с мальчиками, которые неотступно следовали за мной, я обошел вокруг и проник во двор. Дверь в котельную была распахнута настежь — через нее, видимо, я и вышел, следуя за Роджером и остальными заговорщиками. Я все время уговаривал себя не волноваться и, главное, ничего не путать. Если в голове начнется путаница со временем, я пропал.
— Какой старый, смешной двор! А что в нем делают? — спросил Микки.
— Сидят и загорают, — ответил я. — Когда солнце выглянет.
— На месте профессора Лейна я бы устроил здесь бассейн, — сказал Тедди.
Они потопали за мной в дом, и через старую кухню мы вышли к черному ходу. Я отпер дверь. Вита уже нетерпеливо ждала снаружи.
— Входи, не стой под дождем, — сказал я. — А мы с мальчиками пока перетащим вещи.
— Сначала покажи дом, — произнесла она мрачно. — Вещи подождут. Я хочу сама все осмотреть. Только не говори, что вот это — кухня.
— Конечно, нет, — сказал я. — Когда-то здесь в подвале была кухня, но ею давно уже не пользуются.
Все дело в том, что я не собирался показывать им дом с этой стороны. Начало было явно неудачным. Если бы они приехали в понедельник, все было бы в полном порядке: я встречал бы их на крыльце у главного входа, шторы были бы раздвинуты, окна открыты. Но неугомонные мальчишки уже мчались по лестнице наверх.
— А где наша комната? — кричали они. — Где мы будем спать?
О Боже, молил я, дай мне терпения. Я повергнулся к Вите, с улыбкой наблюдавшей за мной.
— Извини, дорогая, — начал я, — но, честно говоря…
— Честно говоря — что? — спросила она. — Я сгораю от любопытства не меньше их. Что ты так нервничаешь?
Она еще спрашивает! Я вдруг совершенно бессознательно подумал, что Роджер, если бы он показывал Изольде Карминоу какую-нибудь усадьбу, справился бы с этим намного лучше, чем я сейчас.
— Нет, ничего, — сказал я, — пошли…
Первое, что заметила Вита, войдя в настоящую кухню, это остатки моего ужина. На углу стола стояла грязная сковорода, на тарелке недоеденная яичница с колбасой. Везде горел свет.
— О Господи! — воскликнула она. — Ты сам себе готовил завтрак перед тем как отправиться на прогулку? Это что-то новенькое.
— Я хотел есть, — сказал я. — Не обращай внимания на беспорядок. Миссис Коллинз все уберет. Идем дальше.
Я быстро прошел вперед и повел ее в музыкальный салон — там раздвинул шторы, поднял жалюзи, — затем через холл, в малую столовую, оттуда — в библиотеку. Но piece de resistnce[7] — вид на залив из окна — мне показать не удалось: все было скрыто завесой моросящего дождя.
— В хорошую погоду все выглядит гораздо лучше, — заверил я.
— Здесь очень мило, — сказала Вита. — Не думала, что у твоего профессора такой хороший вкус. Правда, было бы лучше, если бы диван стоял у стены, а на том, что у окна, лежали бы подушечки. Но это легко исправить.
— Ну вот, на первом этаже — все, — сказал я. — Пошли наверх.
Я чувствовал себя словно агент по недвижимости, который изо всех сил старается всучить съемщикам малопригодное жилье. Мальчики уже взбежали вверх по лестнице и перекликались друг с другом, проносясь через комнаты. Мы с Витой поднялись следом. Все в этом доме уже изменилось! Тишина и покой покинули его. Не осталось ничего от того, что связывало меня с Магнусом; с его родителями — в не столь уж давние времена моего студенчества — и с Роджером Килмертом шесть столетий назад. Теперь так будет всегда.
Экскурсия по второму этажу завершилась, и началась работа по выгрузке многочисленного багажа. Было уже почти половина девятого, когда наконец мы закончили, и на велосипеде подъехала миссис Коллинз. Сердечно поприветствовав Виту и мальчиков, она приступила к своим обязанностям. Все удалились в кухню. Я пошел наверх и налил воды в ванну: сейчас бы лечь и утопиться!
Приблизительно через полчаса в спальню вошла Вита.
— Ее сам Бог послал, не иначе, — сказала она. — Мне ничего не придется делать: она превосходно со всем справляется. И возраст подходящий — ей, вероятно, не меньше шестидесяти. Наконец я могу вздохнуть свободно.
— Вздохнуть свободно? Ты о чем? — спросил я из ванной.
— Когда ты так упорно пытался удержать нас в Лондоне, я уже вообразила нечто юное и кокетливое, — сказала она и вошла в ванную, как раз когда я вытирался. — Я ни на йоту не верю твоему профессору, но по крайней мере теперь мне ясно, что дело не в прислуге. Ну а сейчас, когда ты такой чистый, можешь еще разок поцеловать меня, а потом наполни мне ванну. Я чуть жива — семь часов за рулем!
Я и сам, но в другом смысле, был мертв для того мира, в котором жила она. Да, я мог механически двигаться и слышал, будто сквозь сон, как она сняла с себя одежду, бросила ее на кровать, надела халат, расставила на туалетном столике все свои кремы и лосьоны — и попутно болтала без умолку: о дороге, о том, как она провела день в Лондоне и какие события происходили в Нью-Йорке, о делах ее брата, и о многом другом, что и составляло, в сущности, ее жизнь, нашу жизнь. Но ко мне все это не имело никакого отношения. Что-то вроде музыкального фона, если тихонько включить радио. Я хотел вернуть ощущение прошедшей ночи: кромешная тьма, ветер с долины, шум прибоя под горой, где стоял дом Полпи, глаза Изольды, когда она смотрела на Бодругана из окна экипажа…
— …но даже если они все-таки сольются в одну компанию, то, во-первых, это произойдет не раньше осени и, во-вторых, никак не повлияет на твою работу.
— Да, конечно.
Я отвечал машинально — просто реагировал на интонации ее голоса. Но внезапно она обернулась: на лице у нее была маска из крема, на голове — тюрбан.
— Ты меня совсем не слушаешь! — сказала она.
Ее тон заставил меня сосредоточиться.
— Почему? — возразил я.
— Хорошо, тогда о чем я только что говорила? — с вызовом спросила она.
Я вынимал из шкафа в спальне свои вещи, чтобы освободить место для ее тряпок.
— Ты что-то говорила о фирме твоего брата, — ответил я, — о слиянии компаний. Извини, дорогая, я сейчас уйду и не буду тебе больше мешать.
Она выхватила из моих рук вешалку, на которой висел мой лучший летний костюм, и швырнула ее на пол.
— Я вовсе не хочу, чтобы ты уходил! — крикнула она, и ее голос достиг той тональности, которой я так боялся. — Я хочу, чтобы ты был здесь и внимательно меня слушал, а не стоял как истукан. Что с тобой происходит? У меня такое ощущение, будто я разговариваю с пришельцем, из другого мира.
Если бы она знала, как она права! Я понимал, что бессмысленно отражать ее атаку. Нужно было смириться и терпеливо ждать, когда ее совершенно справедливый гнев пройдет сам собой.
— Дорогая, — сказал я, опускаясь на кровать и усаживая ее рядом, — давай постараемся не омрачать этот день. Ты устала, и я устал. Если мы начнем ссориться, мы еще больше устанем и испортим настроение мальчикам. Если я рассеян и невнимателен, это все только из-за переутомления. У меня была бессонница, и я решил прогуляться сегодня утром, а в результате я не только не пришел в себя, но, кажется, еще больше раскис.
— Потому что надо быть полным идиотом, чтоб согласиться… Ты должен был наперед знать… А кстати, почему у тебя бессонница?
— Все, хватит! Давай прекратим, ладно?
Я встал с постели, захватил с собой сколько мог своего белья и, толкнув дверь ногой, вышел в гардеробную. Она осталась в спальне. Я слышал, как она выключила воду и залезла в ванну, при этом раздался громкий плеск — вода явно перелилась через край.
Прошло несколько часов. Вита не появлялась. Я тихо приоткрыл дверь в спальню — она лежала в кровати и крепко спала. Тогда я снова закрыл дверь и отправился вниз обедать с мальчиками. Они болтали без остановки: мои «да» и «посмотрим» их вполне устраивали. Без Виты они были очень непритязательны. Дождь лил не переставая, и о крикете или пляже не могло быть и речи. Поэтому я повез их в Фауи и там дал им насладиться вволю: накормил мороженым, мятными леденцами, накупил вестернов в ярких обложках и картинок-загадок.
Около четырех дождь прекратился, и на небе сквозь серую пелену едва проглядывало тусклое солнце, но мальчикам и этого было достаточно — они бросились к городскому причалу и потребовали боевого крещения на море. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, к тому же и я сам был непрочь оттянуть возвращение домой, и поэтому нанял маленькую лодку с подвесным мотором, и мы, тарахтя, прокатились по заливу. Лодка прыгала на волнах, мальчики хватали в воде все, что попадалось под руку, и мы все вымокли с головы до ног.
Домой мы вернулись около шести, и ребята сразу уселись пить чай со всевозможными сладостями, которые приготовила для них заботливая миссис Коллинз. Я поплелся в библиотеку, чтобы налить себе виски, и нашел там ожившую улыбающуюся Виту собственной персоной — слава Богу, от её утреннего настроения не осталось и следа. Вся мебель в комнате была переставлена.
— Знаешь, дорогой, — сказала она, — мне начинает здесь нравиться. Я уже чувствую себя почти как дома.
Я рухнул в кресло (в руках у меня был стакан с виски) и стал вполглаза наблюдать, как она переставляет горшки с гортензией, которые с таким старанием расставляла миссис Коллинз. Отныне моя стратегия должна была заключаться в том, чтобы все одобрять, а когда нужно — молчать, в общем, все время подыгрывать и, главное, не допускать ссоры.
Я уже пил вторую порцию виски


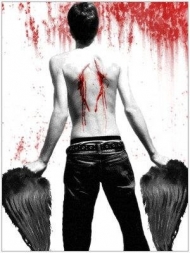


1 комментарий