Урса Илав
Железнодорожный
Аннотация
Эта история о тех, кто так и не смог смириться с потерей.

Я живу в маленьком «живописном» поселке с уникальным названием Железнодорожный. Мне 19 и я - … тсссс! Тихо. Сейчас ты шепотом произнесешь слово «гей», а к вечеру… Даже представить страшно.
Пару лет назад главной новостью нашего поселка был Петька, нормальный такой парнишка семнадцати лет, который совершил камин-аут перед своими одноклассниками накануне Последнего звонка, а через два дня его нашли мертвым под мостами. Несмотря на зверское убийство, никакого разделения нашего маленького общества не произошло – никто Петю не поддержал. И хотя ему уже было глубоко фиолетово на чью-то там поддержку, ведь, будем считать, что он сейчас с наслаждением проводит вечность в Рае для геев, все же были те, кто с общественным мнением был не согласен. Не крайне, разумеется, и даже не вслух, а втихомолку, полувзглядами и полушепотом за плотно закрытыми дверьми, чтобы не навлечь на себя – тьху-тьху-тьху! – ни гнев людской, ни заразу голубую.
- Жалко Петьку-то! – раздался шепот в полумраке. – Отличником ведь был. И просто нормальным парнем.
- Это ты так думаешь, - послышалось в ответ. – А был бы умнее, потерпел бы до института, до города. И там бы признавался, сколько влезет.
- Ох! – вздохнули из тишины. – Все равно жалко.
Но когда что-то вдруг слишком заболевшие и срочно занятые следователи с кислым лицом лениво звонили по квартирам, чтобы найти хоть какую-то информацию, все молчали. Как под копирку твердили одно и то же:
- Ну, да, знал, конечно. Соседи же.
- Я знаю, что он хорошо учился.
- Нет, про орин… орутра… э-э-э, короче, не знали мы, что он… э-э-э, такой!
- Не знала, не знаю и знать не хочу. Развелось тут ***, всю страну испоганили своими ***.
Следователи уныло кивали головами, не менее уныло водили огрызками карандашей в блокнотиках и тухло улыбались на особенно агрессивные выпады жителей Железнодорожного.
- Ну-ну, - едва ворочали они языками в ответ. – Не положено!
***
Моей семье в свое время сказочно повезло: нам выделили "двушку" в сталинском доме на последнем этаже. Помню, как мать радовалась высоким потолкам, окну аркой в большой комнате, колоннам, украшающим балкон, и ничего не хотела слышать о водопроводе, находившемся в аварийном состоянии, и воде, капающей с потолка. Конечно, после нашей хибарки, почти развалившегося маленького домика на самой окраине поселка, любая кирпичная стенка казалась крепостью, что уж говорить о туалете в доме и воде из крана? Сам дом располагался на центральной заасфальтированной улице, в пяти минутах от школы, и уже одним этим поднимал в наших бывших соседях волны черной зависти и ненависти к жизни в целом. Но родителям было откровенно наплевать, они эту квартиру пятнадцать лет ждали. А еще они очень были довольны тем, что вместо тридцати минут грязной дороги до работы теперь будет всего пятнадцать.
Мать работала старшим оператором на ж/д станции «Южная», а отца я уже не видел лет пять. Спился. Пропал. Но до того как он оставил мою мать в покое, а также вот это, с позволения сказать, жилье, он все же успел изрядно попортить ей, и мне заодно, нервы. Мама пила «Корвалол» и закрашивала седину в модную «медь», тщетно втирала в кожу лица всякие новинки от морщин и искала счастье своей второй молодости в вечерних сериалах и развлекательных шоу. Отец же в педагогическом плане никогда со мной не справлялся, но «дыры» в моем воспитании исправно заделывал хорошей зарплатой и абсолютным нежеланием лезть в мой дневник.
Учился я неважно, хотя все учителя твердили моей матери, что я могу гораздо лучше. Наверное, я и, правда, мог, но все, что они находили в моих тетрадях, - это либо стерильную чистоту, состоящую из клеточек и линеечек, либо полностью изрисованные листы. Честно говоря, я уже и сам не помню, что появилось раньше - мое осознание себя как человека вообще или ворохи каких угодно листов с моими каракулями. Я исписывал любую чистую поверхность, начиная от новеньких тетрадей и альбомов, купленных к началу учебного года, и заканчивая чистыми книжными разворотами. Мать ругалась, иногда в приступе ужасного настроения била по рукам, выбрасывала мои рисунки, которые едва помещались в мусорное ведро, забирала ручки и карандаши, обвиняла меня в очередном «-изме» и хлопала дверью. Кстати сказать, корень и степень, как я их называю, «-измов» тоже зависела от многочисленных факторов, которые нужно было учесть.
Помню, друг мой все время меня хвалил за рисунки, чем немало смущал, уж больно непривычно было слышать, что кому-то это нравится, особенно, то, что было тщательно спрятано под матрас и никому, даже сестре, не показывалось. Другу я тоже не показывал, это вышло случайно.
- Курить есть? - спросил он, глядя на то, как я, сгорбившись над очередным «шедевром», практически прилип лицом к столу.
- Вон там, под матрасом, - пробубнил я, даже не поворачиваясь. Я был слишком увлечен, чтобы сразу сообразить, почему вдруг стало так тихо. Когда до меня все же дошло, я подскочил на ноги и подлетел к нему, но он ловко увернулся и, спрятав рисунки за спиной, тут же спросил:
- Это ты нарисовал?
Я молчал, лихорадочно перебирая варианты появления подобных рисунков под моей кроватью, но ничего толкового в голову не приходило, да и смотрел он как-то... не злобно, а скорее, вопросительно, как будто изучая мое поведение и меня самого. И тогда я кивнул.
Я ожидал чего угодно, но только не спокойного «Мне нравится вот этот».
- Они здесь такие, - он замолчал, внимательно рассматривая персонажей моих ночных сказок, - счастливые...
Он отдал мне рисунки, и я снова спрятал их там, где и прежде. Он не стал устраивать допросов с пристрастием, просто прикурил в открытую форточку, а потом, попрощавшись, ушел домой. Самого страшного не случилось, но я об этом еще не знал.
Всю ночь я провертелся без сна, без конца бегал то на кухню попить воды, то в туалет, весь взмок и, кажется, даже дрожал. В итоге, мать не выдержала и зашла в комнату.
- Сава! Чего ты бегаешь?
- Не бегаю, - проворчал я, натягивая на себя одеяло, - уже все, сплю...
Утром я только сделал вид, что встаю, умываюсь и одеваюсь, но как только за мамой закрылась дверь, я сразу вернулся в постель. Школу я прогулял намеренно. Я очень боялся того, что он мог рассказать про рисунки и... я думаю, что он все прекрасно понял. С такими тяжелыми мыслями я провалился в неглубокий мучительный сон, из которого меня вырвал долгий звонок в дверь. Убедившись, что на лестничной площадке не стоит разъяренная толпа местных борцов за нравственную чистоту, а только он один, до сих пор мой друг, я открыл дверь. Он зашел и, не здороваясь, протянул мне диск, как полагается, не подписанный и запиленный по всей поверхности. Я догадывался, что на диске не сборник популярных песен, но когда я открыл видео, я... кажется, я сидел с открытым от удивления ртом и первую минуту даже боялся пошевелиться, и уж тем более повернуть голову и посмотреть на своего товарища. Но происходящие действия на экране моего пыльного 15-дюймового монитора открывали мне мой мир заново. Все, что там происходило, буквальным образом оказалось ожившими персонажами моих рисунков.
Он встал, не спрашивая разрешения, достал тот рисунок, который ему вчера особенно понравился и положил его передо мной на стол. Потом он перемотал фильм вперед, и, найдя какой-то момент, поставил на паузу. На экране в той же позе, что и на моем наброске, застыли двое очень красивых парней.
- Видишь, - сказал он, указывая на них, - у тебя все правильно, даже освещение такое же, но вот здесь тени легче, а рука вот здесь... мышцы более рельефные, видишь?
Я смотрел на него во все глаза, пытаясь понять, что он делает и кто он такой, но чтобы ответить на его вопрос, мне пришлось вновь взглянуть на монитор.
- Вижу, - кивнул я.
- Потому что мышцы напряжены, он крепко обнимает его...
Наверное, я сплю, и мне снится сон, но верить в происходящее было очень сложно. И, наверное, я слишком резко поднялся, чем заставил его сделать шаг назад и замолчать.
- Это твой диск? Где ты достал это?
- Знакомый записал, - просто ответил он.
- Он... он... - я даже боялся спросить его прямо.
- Да.
Я снова опустился на стул и уставился на свой рисунок. В моей голове все перемешалось, закрутилось с бешеной скоростью, я старался понять увиденное, услышанное, узнанное и додуманное.
- Я пойду, - то ли сказал, то ли спросил он. - Диск оставлю, если хочешь.
Я догнал его уже возле дверей.
- Стой, - я отдышался и собрался с духом. - А ты?
- Что я? - улыбнулся он, глядя мне в глаза.
- Ты знаешь что! Ты... ты тоже?
Мы стояли в темном коридоре и смотрели друг на друга, каждый из нас пытался понять, можно ли доверять другому настолько, чтобы поведать то, что в других странах карается смертной казнью. Он улыбался, а я ждал ответ. Я очень хотел услышать его «да», ведь это означало бы, что я, по крайней мере, буду не один. Но с другой стороны, было что-то еще, отчего становилось страшно...
- Ответь.
- Так же, как и ты.
***
- Теть Тань, это я, - сказал я в трубку телефона.
- Здравствуй, Савочка. Ты хочешь прийти сегодня?
- Если вы не против.
- Не против, - голос на том конце провода замолчал, всхлипнул. - Просто я уже немного того... накатила, ты же понимаешь.
- Конечно. Не волнуйтесь, теть Тань, я скоро приду.
Я уже был одет, пакет со спиртным и нарезкой готов с вечера. Надо перейти на другую сторону улицы, пройти в арку, подняться на третий, последний, этаж такого же дома, как и тот, в котором жил я, и позвонить в такую же квартиру, чьи окна всегда были напротив моих. Дверь открыла пожилая женщина, на сгорбленных плечах висела старая шаль непонятного цвета, поседевшие волосы были собраны в уже растрепавшийся пучок на затылке. Изобразив подобие улыбки, тем самым отдавая дань приличиям, Татьяна Николаевна, впустив меня за порог, закрыла дверь. Я протянул пакет.
- Вот, - промямлил я, - это чтобы типа по-цивилизованному.
- Хы, - усмехнулась она, - сыночка моя, о какой цивилизации ты говоришь? Но спасибо. Проходи, не стой.
Я разулся и прошел за ней на кухню, прикурил. Тетя Таня раскладывала прикупленные мною закуски на крохотном обеденном столе, достала три граненых стакана. Открытую ею до моего звонка чекушку я убрал в холодильник.
- Не надо, теть Тань, - ответил я на ее пристальный, слегка недовольный взгляд. - Вот хорошее вино. С него будет завтра чуть легче.
- Ладно, - кивнула она. - А ты молодец... вон как повзрослел...
- Да ладно вам, - отмахнулся я, разливая красную жидкость в стаканы. - Хлеб положите.
Один стакан я поставил перед ней, второй оставил перед собой, а третий - отставил в сторону, на который Татьяна Николаевна сверху положила кусок хлеба. Мы выпили без слов и без пышных тостов. Я разлил еще.
- Пойдем сегодня?
- Только если ты меня потащишь, - усмехнулась женщина в ответ.
- Потащу, - утвердительно кивнул я. - Отчего не потащить?
Мы снова выпили, никто не закусывал.
- Роскошь вся эта, - она указала вилкой на колбасу, - ни к чему. Мы - люди простые, нам под водочку только хлеб и соленый огурчик надо.
- Неверно рассуждаете, Татьяна Николаевна. Вот именно с таких мыслей и начинается путь к дикарству. А любой дикарь - потенциальный убийца.
- Да что ты мне тут городишь, умник?! - ее глаза сверкнули, и я инстинктивно отклонился назад. - Люди убивают не потому, что они дикари, а потому что они ненавидят всех, кто хоть как-то от них отличается! Не пойму, почему тебя до сих пор не тронули.
Я не знал, как правильно растолковать ее слова, то ли как упрек, то ли как искреннее недоумение, но в любом случае, приятного в них было мало. И не зная, как ответить на это, я, сначала предложив сигареты Татьяне Николаевне, снова закурил.
- Давай по третьему, и пойдем, наверное, - сказала она, взглядом показывая мне на бутылку. - Что тут рассиживать-то...
Я разлил, мельком глянул на пустое пространство за нетронутым стаканом с хлебушком и, пытаясь прогнать горькие мысли, выпил залпом до дна. Пока тетя Таня одевалась в своей комнате, я решил еще раз напоследок вдохнуть почти исчезнувший родной запах.
В его комнате ничего не изменилось. Она все оставила так, как было. Кровать только заправила, но простынь не меняла, это я еще тогда проверил. Я подошел к столу и, не прикасаясь к вещам, провел ладонью над поверхностью. Все эти вещи, его вещи, его учебники, тетради, стаканчик с ручками и карандашами, старенький компьютер, диски стопочкой, кактус на подоконнике и настольная лампа, мною разрисованная, до сих пор хранили какие-то невидимые частицы его самого. Я глубоко вдохнул, стараясь заполнить себя до самых краев в самый последний раз. Присев на край кровати, я схватил подушку и, уткнувшись в нее, повторял одни и те же слова...
- Сава, - голос тети Тани, послышался откуда-то совсем издалека, хотя на самом деле она стояла рядом со мной. - Пойдем, мой хороший. Пойдем, - тихо всхлипнула она, мягким движением забирая у меня подушку.
Я отдал подушку, быстро встал и направился к выходу.
- Савушка, - позвала она, - ты возьми себе что-нибудь.
Я непонимающе смотрел на нее.
- Уезжаю я, квартиру продаю. Поэтому, - она обвела комнату взглядом, - бери все, что хочешь.
Немного подумав, я все же заставил себя сделать несколько шагов к шкафу и, открыв дверцы, стянул с красных пластиковых плечиков его любимую серую толстовку. Она ему очень шла и, кажется, до сих пор пахла им. Я вопросительно глянул на его мать, она кивнула в знак согласия, и мы вместе вышли в солнечный, зеленый май.
***
Сегодня 27 мая 2006 года.
Татьяна Николаевна воткнула белоснежные искусственные лилии в поросшую молодой зеленой травой землю и смахнула пару сосновых иголок с темного полированного гранита. Сели на узкую лавку, разлив по пластиковым стаканчикам ту самую чекушку, которую я спрятал в холодильник в надежде на то, что там про нее забудут.
- А куда вы поедете?
- К сестре своей, - ответила она и осушила стаканчик, затем, зажмурившись и прикрыв рот тыльной стороной ладони, продолжила: - В Курганской области живет. Муж у нее помер, дети давно взрослые, старшая сестра она мне. Что нам поодиночке горе свое лелеять? Решили вот вместе годы свои дожить.
Я слушал ее и отчетливо понимал, что все то малое, что останется у меня от моего Петьки, скоро исчезнет навсегда. Даже вот эта тонкая, почти невидимая ниточка, его мать, которая связывала нас, теперь тоже оборвется. Я смотрел на гранитный камень и чувствовал, что страх, горечь и ненависть, которые я испытывал в то утро, ни на каплю не уменьшились! В ушах снова стучала кровь, горло перекрыл этот несносный ком...
- Почему ты не остановил его? - прошептала она. - Ты должен был остановить его. Не нужно было открываться…
Ее слезы рекой из потухших голубых глаз. Высохшие руки, обхватившие поседевшую голову. И худые плечи, содрогавшиеся в такт рыданиям. И я должен был что-то сказать, чтобы утешить ее, но все, на что я был способен, - это встать и попрощаться с ней. Вернувшись домой, я буквально сорвал с себя темно-синюю рубашку и брюки, влез в свои старые джинсы и достал из пакета его толстовку. Надев ее, провалившись в родной запах с головой, я обнял самого себя, пытаясь спрятать слезы в рукава.
Все это со стороны выглядело крайне нелепым, но именно таким меня застала моя мать, когда зашла в комнату.
- Сав, тебе плохо? - осторожно спросила она.
- Да.
- Вы сходили?
- Да.
- А это, - кивнула она на толстовку, - его?
- Да.
- Сава... Савушка мой, - она хотела обнять меня, но я уже шел к двери. - Ты куда?
- Гулять.
В отличие от многих здешних жителей, я всегда любил поезда. Мне нравится ритмичный стук колес, запах железа, и вид убегающих рельсов вдаль, куда-то все время вперед. Нравится вид синих сигнальных фонарей на путях. Мы с Петькой здесь очень часто гуляли поздними вечерами. Вот здесь, стоя на пешеходном мосту, когда под нами грохотал очередной грузовой состав, он брал мою руку и водил пальцами по ладони. Сколько закатов мы встретили здесь. Сколько раз глубокими ночами мы осмеливались целоваться здесь, сидя на холодных железных перилах...
А сейчас я один. Время самого длинного состава с углем, который проходит через нашу станцию без остановки.
«Я живу в маленьком рабочем поселке Железнодорожный. Меня зовут Савелий, мне 19, и я - гей. Я умер два года назад, когда умер мой любимый человек.
27 мая 2006»


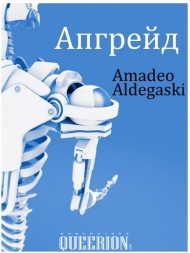

4 комментария